|
 lj_varandej
Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка) lj_varandej
Среда, 11 Января 2023 г. 20:25 (ссылка)

"В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна" - помните эту фразу, услышанную ещё в дошкольном возрасте как невероятный, удивительный факт? К тому времени, когда приходит знание, что этот случай как раз сверхтипичен, гидрография Восточной Сибири успевает принять вид легенды про старого царя Байкала и его дочь-красавицу Ангару, против воли отца бежавшую к богатырю Енисею. Бежавшую уже взрослой и сильной: если Байкал (ледовым красотам которого была посвящена прошлая часть) - самое объёмное озеро планеты, то немудрено, что у вытекающей из него реки самый мощный исток. Ловить беглянку же древнему царю помогли советские госпланщики, заковавшие Ангару в кандалы четырёх гигантских гидроэлектростанций. Не приспособленные для прохода судов, они разделили реку на 5 полностью изолированных водоёмов, по двум из которых, однако, может проехать и пассажир. Прежде я показывал виды Ангары с борта "Метеора" от Братска и Иркутска до Балаганска на полпути между ними, а теперь подимемся по Ангаре в Байкал и пройдём широчайший в мире исток. На двух судах с разницей в год - скоростном "Восходе" и самобытном "Баргузине" из моего недавнего обзора.
Географически Ангара вытекает, конечно же, непосредственно из Байкала, но фактически её исток - это Иркутская ГЭС (1950-58), первенец Ангаро-Енисейского каскада и всей Большой Гидроэнергетики в Сибири. Её плотина длиной 1615 метров и высотой 55 метров от дна реки высится на окраине Иркутска, при взгляде из центра вверх по течению замыкая перспективу реки. С обратной стороны же впечатляет провал, хорошо заметный за плотиной. О ГЭС, её районе и остатках Кругобайкальской железной дороги я когда-то писал отдельный пост. И опять же формально (правильно, а по сути издевательство) крупнейшее в мире водохранилище - не Братское и даже не Кариба, а именно Иркутское: его частью считается целый Байкал, уровень которого с постройкой ГЭС поднялся примерно на метр. Фактически Ангара потеряла 60 километров своей протяжённости, выше плотины превратившись в самый длинный залив озера-моря:
2.

А потому совсем не мудрено, что речных вокзалов в Иркутске два и даже правила на них, хотя оба принадлежат Восточно-Сибирскому речному пароходству, разные. Вниз по Ангаре от дебаркадера в самом центре Иркутска 2-3 раза в неделю отправляется "Метеор" до Братска - суровый и вполне обыденный транспорт, по сочетанию цены, скорости, удобства и доступности превосходящий и автобус, и поезд, и самолёт. На него с утра грузится угрюмый таёжный люд с большими сумками, крепкие парни из лесоповальных вахт, возвращающиеся с курортов семейства... Даже онлайн-продажа билетов на "Братский Метеор" появилась лишь в прошлом году, и только до конечных пунктов. Но река - линейна, да и крупных притоков выше Братска у неё нет, так что на сотни километров вниз по Ангаре хватает одного крупного быстрого судна. Байкал же обслуживается фактическим ещё одним речным вокзалом "Ракета" в самом богатом и благоустроенном иркутском микрорайоне Солнечный. Отсюда расходится пяток чисто экскурсионных маршрутов от Кругобайкалке до Ольхона и пара рейсовых - "Восход" в село Большие Коты и "Баргузин" в Песчаную бухту. Раньше была ещё и "Комета" до Северобайкальска, но её отменили в конце 2010-х, и я прокатиться на ней не успел. Что же до оставшихся рейсов, то в Котах гостиниц больше, чем жилых домов, в Песчанке и вовсе из жилья только турбазы да палаточный лагерь, так что по факту и на этих двух линиях подавляющее большинство пассажиров - туристы. Трафик, однако, они вполне обеспечивают - билеты на байкальские рейсы лучше брать заранее, благо что уже много лет это можно сделать онлайн. Ну а я уезжал отсюда и на "Восходе", и на "Баргузине" с разницей в год. Кадры двух поездок можно отличить по погоде: в Большие Коты в 2021-м мы ехали при ярком Солнце и возвращались на закате, в Песчаную бухту в 2022-м - под фактурными рельефными тучами, а на обратном пути в сумерках я почти ничего не снимал.
3.

Сами "Восход", "Баргузин" и новенький речной вокзал "Ракеты", я показывал недавно в обзоре байкальских судов. Как и их патриарха - старинный ледокол "Ангара" (1898-1900), в 1990 году ставший музеем. Он стоит минутах в десяти ходьбы от "Ракеты", в заливчике у окончания плотины ГЭС, на фоне многочисленных новостроек и советских серых цехов Иркуткого релейного завода (1963):
4.

Всё это быстро остаётся за кормой:
5.

Но Ангара в своих верховьях широкая (2,5-3,5км) и почти прямая, а потому город ещё долго стоит в перспективе русла:
6.

Первые полсотни километров от ГЭС берега Ангары прозаичны. На них видно множество турбаз и селений, но вряд ли найдётся хоть одна историческая постройка. В отличие от Лены или Амура с их мощными паводками, питаемая озёрной водой Ангара всегда отличалась стабильностью, а потому её бесчисленные старожильческие сёла, основанные по большей части ещё во времена острогов, шерти и ясака, стояли прямо у берега. Ещё на Ангаре были мощные пороги в узких ущельях, во всех века мешавшие судоходству, но давшие уникальный потенциал для строительства ГЭС. В итоге красавица-река превратилась в каскад водохранилищ, а судьбу старожильческих сёл прекрасно описал Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой".
7.

Матёра - образ собирательный, и пожалуй самой яркой её особенностью было расположение на острове. На Средней Ангаре, мир своего детства на которой показывал писатель, таких селений не было. Зато в 12 километрах выше Иркутской ГЭС стояло островное село Грудинино, основанное в 17 веке ещё первопоселенцами-челдонами и до советских времён примечательное Петропавловской церковью (1842). Именно здесь в 1843-44 годах ростов-ярославский купец Никита Мясников собрал из уральских деталей и местного леса первые в Восточной Сибири пароходы "Император Николай I" и "Наследние Цесаревич", тягавшие баржи на Селенгу и Баргузин до конца 1850-х. Теперь скоростные суда, яхты, лодки и редкие баржи ходят прямо над бывшим селом мимо деревеньки Новогрудинино.
7а.
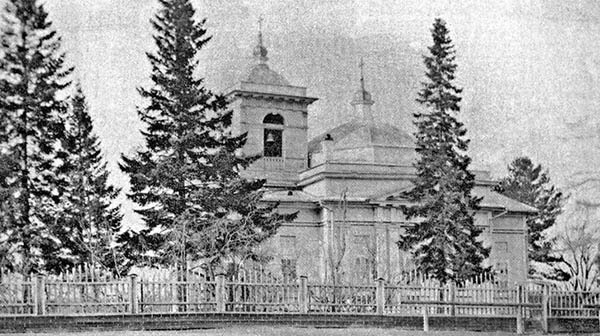
В основном людей отселили буквально на несколько километров, и если бы ГЭС строились в эпоху первых пятилеток - крестьяне наверняка перебрались бы вместе с избами. Но в 1950-60-х деревня была слишком обескровлена коллективизацией, урбанизацией и войной: старые избы за редким исключением пошли под огонь, а их обитатели получили взамен типовые дома из бруса. Ушли под воду и скалы, так что берега не впечатляют и природной красотой:
8.

Однако в ясный день полукурортная атмосфера на борту и на фарватере совершенно не располагает к мыслям о былом:
9.

Вот по левую руку (то есть по правому берегу) у села Бурдугуз вдруг видишь одинокий док и белоснежуню яхту, издали кажущуюся совсем небольшой. Это не круизное судно, вставшее на зелёную стоянку в тёплой бухте, а та самая Яхта Олигарха, за которую, как известно, народ не пойдёт умирать. В длину она 50 метров - чуть меньше ледокола "Ангара", а изнутри спланирована так, чтобы пассажиры и команда не дай бог не столкнулись в одном коридоре. Конечно же, в краю самой дешёвой в России электроэнергии и самых мощных в мире алюминиевых заводов не трудно догадаться, кто хозяин этого чуда техники - конечно, Олег Дерипаска. Став алюминиевым королём, он обнаружил в своих владения почти настоящее море, но дальше столкнулся с тем, что заказав яхту где-нибудь в Голландии или Японии, пригнать сюда он её не сумеет никак. Презрев понты, в 2007 году магнат заказал "ласточку" Улан-Удэнскому судозаводу, и даже назвал её совсем не пафосно - по месту производства, "Селенга". Более того, тут и проект отечественный: совсем не очевидно, что один из ведущих в мире дизайнер люксовых яхт, своего рода судовой архитектор - Игорь Лобанов родом из Уфы. С перерывами на два кризиса стройка затянулась до 2014 года, причём в комплекте к судну был построен док для транспортировки и обслуживания. Среди океанских яхт отечественных богачей "Селенга" была бы по размеру лишь где-то в третьей десятке, но думается, это самая крупная яхта российских внутренних вод и самое роскошное судно, когда-либо построенное отечественной верфью.
10.

Почти напротив - залив Змеиная (падь) с небольших кладбищем ржавых катеров и буксиров, брошенных тут лет 30 назад:
11.

"Селенга" - хороший ориентир: через 10-15 минут на правом берегу вдруг ненадолго появляется Сказочный город, и в силуэтах его башен с распластанными двуглавыми орлами как-то неуловимо считывается подлинность. Конечно же, это Тальцы - музей деревянного зодчества, собранный в 1969-80 годах из построек в зоне затопления не Иркутской (тогда о музеях не думали) и даже не Братской (у той свой музей - Ангарская деревня), а Усть-Илимской ГЭС. Я был в этом музее в 2012 году, но - в -43 градуса, когда к иным секторам (например, эвенкийскому и тофаларскому) просто не натоптано троп. Да и приросли за 10 лет Тальцы множеством новых построек и даже целых секторов. Однако сердце скансена осталось неизменным - это Илимский острог, аутентичные Спасская башня (1667) и на её фоне старейшая уцелевшая в Сибири Казанская церковь (1679), дополненные тыном и репликами угловых башен.
12.

На фоне башен на кадре выше можно различить избы Волостного села, старейшая из которых построена казаком в 18 веке, а ниже Деревня-малодворка с тремя усадьбами (Непомилуева рубежа 18-19 веков, Серышева середины 19 века и Прокопьева конца столетия) спускается к странному, явно не музеефицированному дому барачного вида.
13.

Музей Тальцы стоит на мысу, нависающем над одноимённой деревней, и кадр выше снят чуть позже, чем три кадра ниже: лучший вид скансена открывается с его пристани для прогулочных катеров:
14.

Слева - бурятский улус-летник из нескольких деревянных юрт: эти основные жилища бурят Прибайкалья я прежде показывал в Усть-Орде и Баяндае. Войлочная юрта поодаль - подарок из братской Монголии: в "островных" степях и предгорьях к западу от Байкала буряты в таких не жили. Справа на кадре выше видна пара станов: у воды - бурятских рыбаков с Малого моря, выше - русских старателей с глухих таёжных рек.
15.

Последних, кажется, в 2012 году ещё не было. Как и самого заметного с реки сектора Московский тракт, разросшегося у Троицкой церкви (1914) из села Дядино Жигаловского района. Там другая река - Лена, эта сводная сестра Ангары и приёмная дочь Байкала, берущая начало за горой в 8 километрах от Славного моря. Холодная, вспыльчивая и безжалостная, она вольно ушла до самой Арктики, в трёх спутниках (Витим, Алдан и Вилюй) и спутнице (Олёкма) не найдя себя ровню. И что ещё важнее в нашем контексте - никогда не знала гидростроя. Церковь была перевезена в музей в 1992 году на средства японских кинематографистов, снимавших фильм "Сны о России" про удивительное вынужденное путешествие своих соотечественников в 18 веке (см. здесь). Поставили её покрасивше, как придётся, и лишь в 2018-м перевезли на нынешнее место - канонически, алтарём на восток. А заодно - соорудили целый новый сектор: в кадре, по мере удаления от нас, этапная тюрьма, почтовая станция, трактир и жилой дом Воинова:
16.

Другая сторона тракта из нескольких частных домов ещё строится. А за дереьвями - всамделишный Байкальский тракт из Иркутска в Листвянку:
17.

Все эти виды открываются дай бог на несколько секунд, а дальше коттеджи деревни Тальцы закрывают постройки музея. В следующие полчаса, однако, интересно смотреть не столько на берега, сколько на фарватер:
18.

Выше - вид с "Баргузина" на "Восход", а ниже - на "Баргузин" с "Восхода": последний отправляется на полчаса позже, однако движется в полтора раза быстрее, и где-то за Тальцами происходит встреча двух судов.
19.

Здесь (кадр снят на обратном пути) легко подумать, что от Иркутска до Листвянки путь не вверх, а вниз по реке - на левом берегу (для нас он справа) встают грузные сопки Олхинского плато, зато правый (для нас левый) берег разглаживается:
20.

Там привлекает взгляд золотой купол Казанской церкви, с 2008 года строящейся в ПГТ (2,7 тыс. жителей) Большая Речка:
21.

За которой шлейфом кометы тянутся Ангарские хутора - иркутская Рублёвка. Даже с резиденцией президента (на фото не она), которую особенно любил Борис Ельцин и в 1993 году проводил тут встречу с канцлером ФРГ Гельмутом Колем:
22.

Там же - заправочная станция для моторных лодок и, на всякий случай, земснаряд:
23.

В небе, между тем, всё чаще появляются бакланы:
24а.

А по воде стелется холодный туман. Это - не что иное, как дыхание Байкала, до которого десяток километров через крутой, но очень плавный поворот:
24.

Здесь интереснее снова перевести взгляд на левый (для нас - правый) берег - видите под горой железнодорожную насыпь?!
25.

Думаю, не меня одного удивляло, что КРУГОбайкальской железной дорогой называют абсолютно линейный тупик от Слюдянки на Транссибе до истока Ангары. История этой, пожалуй, самой красивой в России железной дороги куда как менее линейна: в технологиях 1890-х годов Олхинское плато казалось непреодолимой преградой для паровозов. Не найдя альтернатив (дальше на запад начинались ещё более сложные хребты Восточного Саяна), в 1898-1905 годах Транссиб проложили по самому подножью Олхинского плато. Конечно же, не только со стороны Байкала, но и со стороны Ангары:
25а.
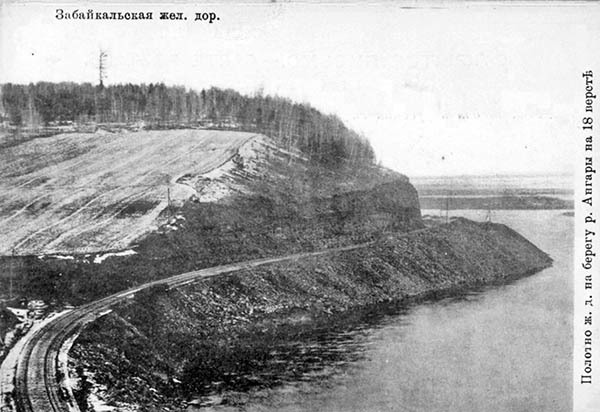
Этим карнизом и ходили поезда следующие полвека, однако Большая Гидроэнергетика полностью изменила путь. ИрГЭС дала дешёвый ток электровозам, взбиравшимся на плато по новой Перевальной линии, но затопила старую линию вдоль Ангары. Фактически осталось два участка - в черте города от платформы Академическая до Иркутской ГЭС и у самого истока, где поднимается над уровнем воды изначально довольно высокая насыпь.
26.

Впрочем, живописностью и сложностью Байкальского участка КБЖД Ангарский участок не обладал никогда (его живой аналог - линия на Сретенск вдоль Шилки). Глаз цепляется разве что за старые дренажи и развалины мостиков через ручьи:
27.

Напротив, даже чуть выше - посёлок Никола (120 жителей). Дутые корпуса за деревянной Никольской часовней (2010) скрывают летний каток и зимний бассейн... вот только не для отдыха скучающих туристов, а для тренировок МЧС, которое будет их выручать.
28.

И где-то здесь, может чуть выше, может чуть ниже, прямо по курсу открывается вот такой вид с далёкими горами Хамар-Дабана. Это и есть исток Ангары, куда больше похожий на устье. Самый широкий в мире речной исток: ведь Лукуга из Танганьики (300м), Нева из Ладоги (400м), Белый Нил из озера Виктория (450м) и даже река Святого Лаврентия из американских Великих озёр (650м) - все рождаются меньшими. Ангара - сама по себе могучая река масштабов Камы или Печоры, среди рек-притоков России вторая по водности после Алдана, а название её не зря возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"). От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье.
29.

По правому (который для нас левый) берегу тянутся уже первые дома Листвянки:
30.

А на их фоне виднеется Шаман-камень - одинокий валун посреди реки, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - её дух-хранитель. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Камень - отличный водомер: в особо многоводные годы его верхушка едва торчит из воды, в сухие рядом показывается второй камень Шаманёнок, а при нормальном уровне воды должно быть видно, что валун раздвоен.
30а.

Теперь снова смотрим направо. Чуть до Шаман-камня открывается деревенька Молчаново в одноимённой пади, кажущейся доступной только с воды:
31.

В следующем посёлочке Дёмино примечательно здание откровенно путейского вида - типовая насосная станция времён строительства КБЖД, качавшая воду для паровозов:
32.

Меж избами и лодочными гаражами виднеется рельсовая колея:
33.

Минута - и станция Байкал встречает на мысу Малый Баранчик, так же известном как просто Устьянский. На путях ждёт турпоезд из электрички и маневрового тепловоза - отправление таких я позже наблюдал в Слюдянке:
34.

У берега - ещё одна насосная станция (белая) и паровоз-"лебедянка", построенный в 1935 году в Луганске и в 2007 поставленный здесь словно в вечном ожидании тургруппы. Поодаль - деревянный вокзал, фактически просто музей Кругобайкалки, реконструированный в 2005-06 годах со сносом.
35.

Над всем этим - металлический маяк, сделанный в 1898 году на заводах Армстронга в британском Ньюкасле в том же заказе, что паром "Байкал", ледокол "Ангара" и ещё пара таких же маяков в забайкальских Танхое и Бабушкине.
35а.

Переправа была налажена в 1898-1900 годах как временное решение на период строительство КБЖД и её подстраховка в дальнейшем. Под неприступными ярами Олхинского плато линия уходит на 89 километров, и примерно 12% её длины приходится на 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В 2020 году мы прошли большую её часть пешком (оглавление в конце поста) - плотность кругобайкальских красот такова, что сполна насладиться ими не позволит ни один турпоезд. А наименее зрелищные первые 30 километров мы проехали на рейсовой "мотане".
36.

Секунды - и во всю ширину раскрывается Порт-Байкал - посёлок (400 жителей) в тупике линии. Отсюда хорошо видно, что большая часть его стоит дальше по берегу моря, в стороне от порта и станции, зажатых на узком карнизе мыса.
37.

Над полуразрушенными причалами Байкальской переправы, у которых швартуются буксиры и переделанные из буксиров же круизные суда, висит деревянная Преображенская церковь (2007-11):
38.

Выйдя в Байкал вдоль левого берега Ангары, судно торжественно, словно манёвром почёта, проходит вдоль всего истока:
39.

Зимой там, откуда снят кадр выше, вполне надёжный лёд. Однако сам исток Ангары не замерзает, согреваясь чуть более тёплой глубинной водой. Здесь работает уникальная для внутренних водоёмов России круглогодичная паромная переправа, которую обслуживает небольшой автопаром "Байкальские воды", построенный в 1991 году в Архангельске. Проехать на нём мне так и не случилось - в 2020-м, когда мы переправлялись в Порт-Байкал, паром был на ремонте и его подменял "Восход". Однако вот он попал мне в кадр со стороны Порт-Байкала:
40.

Со стороны Листвянки паром подходит к причалу Рогатка, название и архаичный облик которого наводят на мысль, что сложили его в 1861 году для учреждённой тогда таможенной службы. Но как убедимся мы в следующей части, на самом деле эта кладка - всего лишь обточенный льдами бетон.
41.

На кадре выше - ещё одна примета этих берегов: целые стайки прогулочных катеров и лодок. От правого берега истока Ангары на 5 километров вдоль моря вытянулась Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), не случайно прозванный Байкальским Сочи:
42.

Рядом с Рогаткой - ультрасовременный музей Байкала и тропа на Камень Черского, с которого открывается отличный вид на исток Ангары. Их я осмотрел в 2012 году, попав сюда впервые, а дальше до заката мне оставалось лишь поймать маршрутку да возвращаться в Иркутск. Санаторий "Байкал" в том же районе хорошо виден только с воды - он был основан в 1960 году как правительственная резиденция. Да не просто резиденция, а место встречи Никиты Хрущёва с Дуайтом Эйзенхауэром, выбраное потому, что в 1919-20 годах будущий американский президент, а тогда молодой офицер, охранял представительство Соединённых Штатов в колчаковском Иркутске. Для той же встречи был заасфальтирован Байкальский тракт и доставлена на Ангару первая "Ракета" (старейший отечественный тип скоростных судов), по которой и прозвали наш сегодняшний причал. Но дальше над Уралом был сбит шпион Пауэрс, встреча глав двух сверхдержав не состоялось, а социалистический дворец у моря надо было куда-то девать. К 1963 году он был перестроен в элитный по советский меркам санаторий и байкальский конференц-зал, где бывали политики уровня Броза Тито или Индиры Ганди, космонавты вроде Алексея Леонова или Валентины Терешковой, а уж артистов, здесь гостивших, и вовсе не пересчитать. С 1960-х, как я понимаю, остались боковые корпуса, а основное здание возвели на рубеже 1970-80-х для начальства строителей Байкало-Амурской магистрали и её высоких гостей.
43.

Вот так в основном выглядит Листвянка - бетонная набережная, коттеджи и мини-отели вдоль единственной улицы Горького и боковые улицы, уходящие вверх по распадкам. Рядом с бутафорским маячком - здоровенная чёрная баржа №2501, у которой "Восход" делает единственную остановку. Увы, с борта я забыл её заснять, однако её фото с "Восходом" есть в другом моём посте о Порт-Байкале.
44.

Чья-то придомовая часовня (1999-2001) отмечает самую крупную в Листвянке Крестовая падь, в закоулках которой скрываются церковь, музей и театр:
45.

Ещё одна Байкальская часовня (2017) стоит поодаль, и посвящение её означает Байкальскую икону Божьей Матери, написанную в 2015 году в курской Букреевке для борьбы с обмелением Славного моря. Самое интересное тут то, что в последние годы верховья Ангары балансируют на грани наводнения.
46.

Сама Листвянка начиналась в 1725 году с заимки Романа Кислицина из Николы, а в 1726 русский посол Савва Владиславич-Рагузинский по пути в Китай упоминал в своих заметках Лиственничную пристань у истока Ангары. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, а в 1860 крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал здесь промысловую пристань. Понемногу сюда начала смещаться основная переправа через Байкал вместо наработанной ещё монгольскими караванами переправы в Большом Голоустном. Наконец, в 1898 здесь появилась верфь для сборки "Ангары" и "Байкала", продолжившая работать и позже: в 1934 году село Лиственничное стало ПГТ Листвянкой.
47.

Теперь из посёлка корабелов и учёных Листвянка превратилась в посёлок отельеров и турагентов. Следующую падь речки Малой Черемшанки отмечают обелиски героям Великой Отечественной и Гражданской да похожий на подводную лодку научный аквариум и реабилитационный центр байкальских нерп:
48.

Почти такой же, только развлекательный нерпинарий стоит в следующей пади Большой Черемшанки. Между ними - центр посёлка с силикатной школой между отелями "Маяк" (башня) и "Прибой" (с синей крышей) и кишащими на их фоне лодочками:
49.

Ещё дальше, за Большой Черемшанкой, осталось и несколько деревянных зданий дореволюционного Лиственничного села вроде той самой таможни. Но с реки их толком и не разглядишь:
50.

Листвянская судоверфь имени Емельяна Ярославского же исчезла практически без следа - ни с реки, ни с берега я не смог понять даже где она находилась. Вроде бы на её месте стоит теперь колесо обозрения, замыкающее перспективу Листвянки вдоль Байкала. Стоит так, будто было там всегда, а на самом деле появилось лишь в 2021 году, причём - без разрешения администрации! Но хотя бы место для самостроя выбрано правильно: синие деревянные корпуса принадлежат поселковой больнице.
51.

На кадре выше обратите внимание на цвет воды с разных сторон Лиственничного (Берёзового) мыса. Берег Байкала тут поворачивает почти под прямым углом, с юго-востока на северо-восток, а потому воду с обеих сторон редко мутит один и тот же ветер. На мысу же за десятки километров виднеется белый треугольник:
52.

Это Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца. Слово "вакуумный" же не случайно: разогретый солнцем воздух в его трубе может создавать искажения, а потому для наблюдений откачивается. Первые годы телескоп работал непрерывно при подобающих условиях, но с 2005 штатное наблюдение за солнцем ведут обычные мелкие телескопы ниже по склону, а "главный калибр" открывают лишь для особых событий вроде затмений и вспышек. В остальное же время на телескоп водят экскурсии (причём для этого есть своя контора "Солнечный ветер"), и можно представить, какой фантастический вид открывается с башни в 220 метрах выше байкальских волн!
53.

За мысом начинаются дикие скалистые берега. До Больших Котов ещё минут 20 ходу, до Песчаной бухты - часа 3.
54.

Но прежде, чем продолжить путь, осмотрим спустя 10 лет вторую половину Листвянки.
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Приморский хребет. Листвянка (2012). Запад. Листвянка (2022). Восток. Виды с Байкала. Большие Коты Большое Голоустное. Бугульдейка и Тежеранская степь.
Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма. Ольхон. Тажеранская степь. Ольхонские ворота (лето) Вдоль Малого моря. Хужир - столица Ольхона. Хужир и Огой (зима) Северный Ольхон (лето) Северный Ольхон (зима). Тайлган бурятских шаманов. https://varandej.livejournal.com/1145821.html
 lj_varandej
Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:55 (ссылка) lj_varandej
Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:55 (ссылка)

Не секрет, что новости о строительстве рельсовых путей мы читаем в основном про заграницу. В 21 веке у Российских железных дорог заметно развитие "вглубь", но развитие "вширь" - явно самое медленное за всю их историю. Ну а Республика Саха, по которой мы гуляли прошлые три десятка постов, и тут демонстрирует свою потрясающую самобытность: в самом большом регионе России есть собственная компания "Железные дороги Якутии", а большая часть этих дорог (808 километров) была проложена уже после распада Союза. Конечно, я говорю про Амуро-Якутскую магистраль, протянувшуюся на 1239 километров по вечной мерзлоте от Транссиба до Якутской переправы. Треть её построили ещё в СССР, но и дальше стройка не прервалась, а медленно и упрямо, с долгими остановками и громкими разоблачения, продолжила ползти через тайгу на север. Я много лет следил за этой стройкой, и покидая Якутию на поезде, ожидал найти что-то подобное величественной Байкало-Амурской магистрали.
В итоге Амуро-Якутская магистраль напомнила второй сезон полюбившегося сериала: вроде и про то же, но без столь крутых поворотов, перевалов и петель, да визуальный ряд банален и даже где-то пошловат, да местами проскакивает американщина, а конец сыроват и скомкан. О БАМе я написал полтора десятка постов, на АЯМ хватило одного, не считая показанных в прошлых частях Нерюнгри и Алдана. Впрочем, зачем привередничать - линия строилась не для ублажения взора туристов, а для удобства местных жителей, и тут она справляется вполне.
Якутск - крупнейший в постсоветских странах город без железной дороги, но в далёком районе Марха, у аэропорта, длинная площадь пока ещё зарезервирована под ЖД-станцию Якутск-Пассажирский. Она вполне могла бы уже принимать поезда на вокзале в виде, например, огромной стеклянной урасы: в 2014 году у Табагинского мыса начиналось строительства моста через Лену, однако дальше мостострой срочно отправился на Керченский пролив. Главными воротами Якутска во внешний мир так и остался Речной порт - ведь все дороги за пределы Республики расходятся на правом берегу от Нижнего Бестяха, а значит и посадка на поезд тут начинается в порту. Помимо автопаромов, через Лену ходят по заполнению "Марлины" (моторные лодки с крытой палубой) и по расписанию четырежды в день речной трамвайчик "Виктор Рукавишников". Самый важный его рейс отбывает из Якутска в 12 - не всем на нём хватает сидячих мест, а многие едут с большим багажом.
2.

Вот так, за неимением моста, выглядит теперь конечная АЯМа, и не ищете здесь вагонов и путей. Нижний Бестях-пристань - как бы не единственная в России железнодорожная станция без рельс:
3.

Зато с вокзалом, законченным после 2020 года. Внутри - уютный зал ожидания с панорамным окном на Текущее море:
4.

В поезде (если едешь в Якутск) или на "Рукавишникове" (если из Якутска) можно купить за 500 рублей Единый билет, который включает переправу и автобусный трансфер:
4а.

Альтернатива - 500 рублей за "Марлин" и как минимум не меньше за такси: не очень понимаю логику, но свои вокзалы "Железные дороги Якутии" размещают далеко. Ни рельеф, ни зоны отчуждения не мешали сделать станцию Нижний Бестях на окраине посёлка, однако в итоге ехать до неё 12 километров через поворот с трассы "Амга":
5.

На дальней стороне привокзальной площади среди чахлой якутской тайги - закладной камень от 2018 года с посланием в 2068 год и схема не АЯМа, а ЖДЯ отсюда до Нерюнгри.
6.

АЯМ можно разделить на 3 участка, строившихся в разные эпохи и в разных условиях. Последний из них, длиной 439 километров, тянули с 2006 года строго с юга на север, а на конечной станции в 2011 году было уложено и "золотое звено":
6а.

Ещё два года ушло на доводку линии до того состояния, когда по ней смогут ходить хотя бы товарняки, и вот с 2013 года доставка тяжёлых грузов в Якутию впервые в истории перестала зависеть от сезонов. А в кабинетах явно шла борьба между "эффективными менеджерами", которые сочли, что этого достаточно, и "государственниками", мечтавшими о стройке до победного конца. В том же 2013 году в Нижнем Бестяхе сдали огромный вокзал под старину...
7.

...но долгих 6 лет ему пришлось ждать пассажирского поезда - впервые таковой отправился отсюда 27 июля 2019 года. Якутяне к такому способу передвижения не привыкли до сих пор - в каком ещё регионе России увидишь рекламу "комфортного и безопасного транспорта" по ТВ?
8.

Если БАМ строился в эпоху социалистического модернизма и облик его футуристических вокзалов не перепутать ни с чем, то АЯМу достался "капиталистический романтизм" и вся эта нездоровая обращённость нынешней России в славные былые времена. Часовая башня, закругленные окна и классицистические арки странно смотрятся в сочетании с мерзлотными сваями, а довершает картину паровоз. На железной дороге, законченной в эпоху "Сапсанов" и "Ласточек", это лишь декоративный элемент, как чучело медведя в ресторане:
9.

Большая часть огромного здания - служебная, а двухъярусный пассажирский зал наполняется народом раз в день и ненадолго: по Единому билету автобусы приезжают сюда примерно за час до отхода поезда.
10.

В интерьере - балясины и якутские узоры:
10а.

Да макет станции под стеклом:
11.

Ведь вокзал - ещё не конец магистрали: примерно в километре севернее раскинулось гигантское депо, к которому и направился я для фотоохоты на локомотивы.
12.

"Железные дороги Якутии" были учреждены в 1995 году пополам на федеральные и региональные деньги - теперь это акции во владении РЖД и Республики. По обособленности, однако, ЖДЯ вполне сравнимы с железными дорогами иных постсоветских стран - различий с РЖД тут поменьше, чем в Казахстане или Узбекистане, но побольше, чем в Киргизии или Армении. Самое наглядное из них - локомотивы, и я сейчас даже не про палитру якутского флага: дело в том, что на большинстве машин тут американские моторы. Вот например маневровый ТЭМ2МК - вроде и обычный ТЭМ2 из тех "рабочих лошадок", что делались в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске, а вроде и не совсем: в 2010 году он был модернизирован в Кирове, получив новую просторную кабину и двигатель от General Electrics.
13.

Лицо ЖДЯ - это 2ТЭ10МПGE с непривычно впалыми боками. В их кабине с характерным "нахмуренным лбом" опознаются очертания 2ТЭ10, строившихся в 1958-2007 годах в Харькове, однако в том же 2010-м они были переделаны в Полтаве под куда более компактный американский дизель.
14.

Более того, тут есть даже пара чисто американских машин SD42ACe, собранных на заводе "Progress Rail" компании ""Сaterpillar" в Чикаго и доставленных 2021 году через Владивосток в Якутию, где они получили название 2ТЭ3250. С абсолютно непривычной в России американской "капотной" кабиной, с максимально автоматизированным управлением, с уникальным по своей экономичности двигателем на смеси (20/80) дизеля и газа, который может работать 5-6 тыс. км без дозаправки, на чужих фотографиях "американцы" смотрятся среди Якутии как космические корабли. Однако есть мнение, что не стоит тут усматривать признаки сепаратизма: американские машины попали в Россию не только потому, что они совершеннее, но и потому, что этот опыт можно перенять. Но если для гигантской РЖД покупка пары локомотивов выглядит как слишком уж открытый техношпионаж, то ЖДЯ, проходящие к тому же по сложному рельефу в условиях экстремального климата, могут такой финт провернуть без подозрений. И мне, конечно, очень хотелось случайно увидеть заморское чудо техники на ходу, но в итоге все мои фототрофеи - на двух прошлых кадрах.
15.

Ряд отличий ЖДЯ имеет и при взгляде из вагона. Самое, пожалуй, важное из них - торговля: проводницам тут запрещено что-либо продавать пассажирам, а в вагоне-ресторане для этих целей есть специальный буфет. Туда, как я понимаю, надо идти даже за чаем и сахаром - на месте лишь бесплатные стаканы и кипяток:
16.

Для пассажиров это чуть менее удобно, а вот проводников избавляет от всяких уродливых ситуаций типа "не продашь весь чай - сама покупай из зарплаты".
17.

На кадре выше - интерьер вагона-ресторана (удивительно, но без якутских мотивов!), а в последнем вагоне обнаружился огромный склад постельного белья:
18.

За этим складом я ткнулся в запертую дверь и ни с чем пошёл обратно. В том же 2013 году в поезде Москва - Нерюнгри нашёлся пьяный пассажир, который ухитрился выйти в одних трусах и тапочках в заднюю дверь вагона, а дальше бежал за поездом 7 километров по морозу и каким-то чудом не околел. Зная логику наших чиновников, могу предположить, что с доступом в задние тамбуры у ЖДЯ ещё долго будет очень строго, так что убегающие рельсы на ходу не поснимать. Вот кадр с переезда в районе Булууса, километрах в 70 от Бестяха: Центральноякутская равнина в нашей Стране Великих равнин определённо в пятёрке крупнейших, и вся проходящая по ней третья очередь АЯМа выглядят примерно так:
19.

Выделяются разве что мосты, да и те совсем типовые:
20.

Линия идёт через тайгу, и даже там, где рядом есть населённые пункты - порядком в стороне от них. Впрочем, сёла заканчиваются километрах в 100 от Бестяха, а на оставшиеся 3/4 пути до самого Томмота стоит лишь одна деревенька Улу, где АЯМ соприкасается с трассой "Лена". Вот совершенно типовой разъезд Ханиердах без признаков жилья - персонал завозят посменно. Причём так и не понял, рабочими поездами или тем же, на котором ехали мы. Пригородное движение у ЖДЯ отсутствуют как класс, а дальнее представлено по сути одним поездом, курсирующим через день то в Нерюнгри, то далее во внешний мир (в разные годы - на Владивосток и Благовещенск) с идентичным расписанием в пределах Якутии.
21.

Самая молодая пассажирская железная дорога России - и одна из самых невзрачных. Своей функциональностью, пустотой и однотипностью полустанков АЯМ похож на Новый Шёлковый путь в Казахстане, и пожалуй ярчайшая особенность этой его части - участки необычайно мощных насыпей на вечной мерзлоте:
22.

Последний кадр снят уже в Томмоте - маленьком городке (6,3 тыс. жителей) на берегу Алдана. Последнему я пел оды не раз: ведь это крупнейшая в России река, впадающая в другую реку. По длине (2273км) и среднегодовому расходу воды (5246 м³/с) Алдан где-то на 20% крупнее Ангары или Камы, а в первой половине лета, набрав 19 тыс. м³/с он вдвое превосходит Волгу. На карте он вычерчивает то ли серп, то ли знак вопроса, стекая с Алданского нагорья и прижимаясь к подножьям хребта Сунтар-Хаята у границы с Хабаровским краем. По прямой от Томмота до устья Алдана примерно 550 километров, а по течению - все 1500. По сути дела здесь верховья, но даже их хватило на пару самых длинных в Якутии мостов - ближний автомобильный (487м) сдан в 1987 году, дальний железнодорожный (500м) - в 2006-м, открыв возможность проложить пути в Бестях.
23.

На эти мосты мы и глядели большую часть дня в Томмоте. Дело в том, что отправляясь из Бестяха в 17 часов, а из Нерюнгри на север в 16, слишком много интересного поезда проходит ночью. Я сочинил маршрут, которому вскоре сам не обрадовался - он включал 4 ночи в вагонах. В пол-пятого мы приехали в Алдан, и погуляв там в душном рассвете, сдали автостопом 80 километров назад - к Томмоту, а поняв к полудню, что здесь больше нечего смотреть - поставили палатку в рощице на берегу.
24.

Вам тоже показалось странным, что от города Алдан до реки Алдан надо ехать ещё 80 километров? Это странно только если не знать здешней истории: не очевидно, что Алдан и Томмот - ни больше ни меньше первые города Советского Союза, как и то, что изначально Амуро-Якутская магистралью называлась колёсная дорога. Первую её попытку сделали в 1913-16 годах золотопромышленники с Амура, узнавшие о россыпях за Становым хребтом, и до революции успели пройти от транссибовской станции Большой Невер 293 километра (по другим данным - 327км). Но промышленники бежали в Китай, а золото в песках осталось, и вот в 1923 году якут-старатель Михаил Тарабукин и латыш на госслужбе Вольдемар Бертин нашли по-настоящему богатые россыпи на Незаметном ручье. По ручью назывался и выросший там посёлок, лишь в 1939 переименованный в Алдан - не по реке, а по всему промышленному району, освоение которого стало первой стройкой Красной Сибири. Со старателями, легально работавшими вплоть до отмены НЭПа, там уживались плановая индустриализация и труд ссыльнопоселенцев. Золотой Алдан в те годы давал СССР до 45% добычи, и воротами его сделалась обустроенная в 1925 году Укуланская пристань. Рядом заработала мощная радиостанция, а её строительством руководил Иван Папанин, которому в Якутии обязан своим основанием ещё и ленский Пеледуй. Водный путь на Укулан вниз по Лене и вверх по Алдану растягивался на 4 тыс. км, но вплоть до постройки железной дороги сюда никак иначе было не доставить сколько-нибудь тяжёлый груз. А по началу - и просто какой-либо: лишь в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина дорога из Большого Невера была восстановлена и продлена до Укуланской пристани, достигув длины 728км. Другая её ветка ушла за 250 километров от Незаметного на ленскую базу Чуран, образовав водно-автодорожное кольцо в Центральной Якутии.
24а.
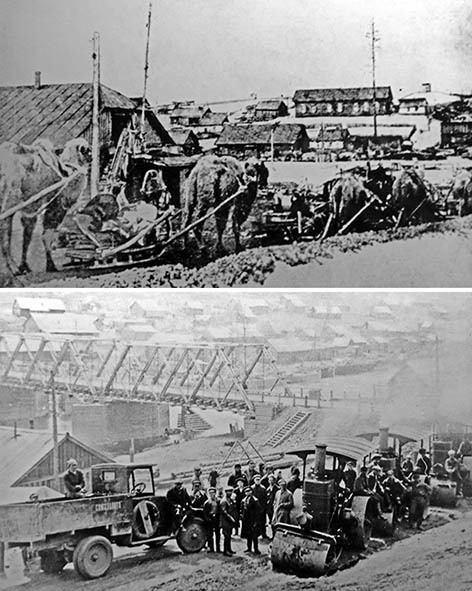
В 1930 году Укуланская пристань стала центром Томмотского района и по такому случаю сама была переименована в Томмот. С 1933 года он носит статус города, вот только где тут город - не так-то легко понять: 6-тысячный Томмот вытянут на 13 километров вдоль Алдана и уходит на 7 километров от реки. Проще говоря, он столь разреженный, что кажется прозрачным:
25.

Я бы даже назвал Томмот самым невзрачным городом России! Кроме двух мостов и Ильинской церкви (2015-20) в их прямой видимости глаз тут не то что не цепляется ни за что, а даже не воспринимает окрестное пространство как город.
26.

Впрочем, внешность обманчива, и впечатляющая стена тайги за рекой - на самом деле просто лесополка:
27.

В тени которой мы и коротали день и спускались купаться. Вода Алдана в конце июля в меру холодна, а на среднеазиатской жаре к ней тянется тут натурально всё живое. Нам приходилось искать пляж, не занятый пьяной компанией или стадом коров, а в воде увёртываться от гидроскутеров и моторных лодок.
28.

Ну а Папанин ещё не знал, что поставил радиостанцию буквально в сердце природных богатств Южной Якутии. В окрестностях Томмота добывают золото (Куранахское рудное поле на пару с Алданом), добывали слюду (богатейшие в мире залежи флогопита) и планируют добывать уран крупнейшего в России (а по некоторым данным и в мире) Эльконского месторождения. Речка Элькон, по которой оно названо, впадает в Алдан вон там за поворотом, а местные советовали нам подняться на скалу с крестом напротив устья.
29.

АвтоАЯМ же доводили до ума все 1930-е годы, попутно взрыв угольные пласты Нерюнгри, и дотянули к Нижнему Бестяху в 1949-53 годах. Впрочем, тогда это был скорее зимник: нынешнюю трасса "Лена" длиной 1157км приняли в эксплуатацию в 1962 году, однако ещё долго она слыла "дорогой в ад", по распутице выбрасывая в Рунет тонны поистине впечатляющих фоток. Всерьёз ей занялись лишь в 2010-е годы: грунтовки на "Лене" теперь не осталось совсем, щебёнки полтораста километров не подряд, а мы что от Якутска до Качикатцев, что от Алдана до Томмота видели только хороший асфальт. На въезде в Томмот в 4 километрах от моста - целый городок автосервисов и кафешек, среди которых каждый водитель знает столовую "Ника". Приобщились к ней и мы - средненько, но лучше чего-либо на сотни вёрст вокруг.
30.

Кадр выше снят от поворота к вокзалу. Не знаю точно, когда были построены пути в черте города, на высокой насыпи: Томмот в истории АЯМа - граница двух очередей. Южнее лежит самый сложный и отсталый (по крайней мере несколько лет назад тут даже стрелки переводились вручную) участок длиной 379 километров:
30а.

На север от Нерюнгри стройка пошла в 1985 году, и по плану уже в 1994 первый поезд должны были встречать даже не в Бестяхе, а в Якутске. Огромные списки заводов, закрывшихся в России в 21 веке, не учитывают того, что подавляющее большинство из них получили смертельные раны ещё в 1990-х: странно, что теперь приходится напоминать - то было мягко говоря не лучшее время для строительства железных дорог. И я не знаю, выжил бы АЯМ или повторил судьбу самой высокогорной и сложной в России Чинейской железной дороги, если бы тянули его не в национальную республику, которой к тому же руководил тогда амбициозный дархан президент Михаил Николаев. По разным причинам стройка останавливалась 17 (!) раз, и то, что она всё-таки завершилась - на самом деле подвиг, достойных всех бамовских романтиков: в подлое время АЯМовцы шли против течения. В 1997 году рельсы достигли Томмота, но первый поезд сюда прибыл лишь в 2004 году:
31а.

Томмоту выпала честь на 15 лет стать железнодорожными воротами Якутии, а потому ЖДЯ построила здесь пожалуй самый необычный вокзал постсоветской России - Три Урасы:
31.

Так называют якутские летние жилища, похожие на большие чумы с чуть выпуклыми стенами. Уже в 19 веке они стали редки, вытесненные не столь совершенными, но более простыми деревянными юртами, оставшись символом Якутии примерно как для Руси вычурные деревянные терема. Без урасы тут не обходится ни один музей под открытым небом: аутентичную постройку я показывал в Соттинцах, научные реплики - в Черкехе и Ытык-Кюеле, и уж конечно без урас немыслимы поля для Ысыаха. Не знаю, есть ли таковое в Томмоте - мы видели здесь только русских людей:
32.

Интереснее всего вокзал смотрится с платформы, а рядом с ним - опять же чисто здесь декоративный паровоз:
33.

Совсем небольшой, внутри вокзал - "цветок" пассажирских и службеных помещений. На втором этаже, у кольца из сэргэ (такие обычно стоят в основании урас) мы коротали последние часы до поезда в Нерюнгри - по расписанию он тут в 2 часа ночи, но ещё и опоздал на час.
33а.

В основном на станции тихо и пусто - здесь уже не город, да и большая часть грузового движения начнётся лишь после Алдана. Местные советовали не ждать на перроне - порой сюда захаживает медведь:
34.

Едем дальше на юг. Пересечение двух АЯМов:
35.

Трасса вьётся по тайге, минуя деревеньку Якокит и посёлок Нижний Куранах - нынешний центр якутской золотодобычи. Там живут русские, и нас подвозил колоритный тракторист на советском драндулете, в котором какая-то тяжёлая музыка играла так громко, что кажется, на ходу вышибала болты. В другом месте, до поворота к далёкой национальной деревне, нас подвёз эвенк из старого (помнил свою родословную до 18 века) рода, что не мешало ему работать на одном из приисков электриком. И совсем иные виды открываются с поезда - в падях и речных долинах изувеченная промывками золотых песков земля тянется на километры:
35а.

Гораздо больше сюжетов золотодобычи наснимал в своё время  mikka - мы на самом деле малость опоздали, ведь до декабря 2020 года поезда по этому участку ходили днём. mikka - мы на самом деле малость опоздали, ведь до декабря 2020 года поезда по этому участку ходили днём.
35б.

Обратите внимание на рельеф: плоская и тоскливая Центральноякутская равнина сменилась невысокими (1-1,5км) пологими сопками Алданского нагорья, среди которых и стоит Алдан - столица АЯМа и первый город Советского Союза. Последнее не очевидно: в 1920-х годах десятки разросшихся до городского уровня селений просто обрели этот статус де-юре, ряд молодых посёлков доросли до городов лишь спустя десятилетия, а очевидные Шатура и Волхов создавались в советской России ещё до провозглашения СССР. Здесь же мы имеем идеальный случай: посёлок Незаметный зародился в чистом поле в 1923 году и 1932-м сделался городом. Столицей АЯМа же Алдан можно назвать потому, что здесь находится управление "Железных дорог Якутии", и даже чикагские зверь-машины, хоть на глаза мне не попадались, обитают вон в том депо.
36.

Железную дорогу в Алдан дотянули в 1992-м, и это, кажется, всероссийский *анти)рекорд - движение лишь через 12 лет. Вокзал под старину - совсем маленький изнутри и снаружи, но для пассажиров открыт почти весь. Мы расчитывали оставить рюкзаки в камере хранения, но не тут-то было - хотя тарифы на эту услугу у ЖДЯ остались в районе 150 рублей, сама камера имеет перерыв с 5 до 14. Понимая, что мы осмотрим Алдан часам к 9-10, я долго уговаривал охранника приглядеть за рюкзаками. Но тот упорно отказывался, и в конце концов мы просто сбросили их на втором этаже за стойкой не работавшего буфета.
37.

Осмотрев всё показанное на прошлых 15 кадрах, едем дальше на юг. С утра я проснулся среди живописной тайги, переходящей порой в лесотундру:
38.

Алданское нагорье - по сути скорее плато, но гольцы его доходят до 2309м, и за ночь мы забрались высоко:
39.

В сериале "Расступись, тайга!" это, пожалуй, самые удачные серии второго сезона:
40.

А по долинам снова язвы то ли золотой лихорадки, то ли угольного бума - на нашем пути жёлтое золото сменяется чёрным:
41.

Дорога поднимается вдоль речки Большой Нимныр, а разойдясь с ней, минует высшую точку АЯМа (1260м) - безымянный и невзрачный перевал.
42.

Он ниже БАМовского перевала Мурурин (1323м), высшей точки действующих железных дорог России, однако здесь другой рекорд: на спуске встречает разъезд Таёжная - самая высокогорная в России (1240м). Обратите внимание на её внешний вид: если от Томмота до Бестяха - царство сайдинга, то здесь, как и на Чине, правит гофрированный металл:
43.

Линия спускается вдоль реки Чульман, 5 раз её пересекая:
44.

Этот участок АЯМа может потягаться красотой с БАМом:
45.

А гораздо больше фоток тут опять же сделал Михаил Крайнов.
46.

Станции же всё такие же мелкие, невзрачные и стандартно-гофрированные. Мы незаметно миновали Чульбас - крайнюю точку, куда путь успели дотянуть при Советах, и Чульман, с которого начиналось освоение Южно-Якутского угольного бассейна. Оттуда выходили геологические экспедиции, открывавшие сказочные богатства угля и железа, золота и самоцветов, слюды и урана. С опорой на Чульман и в ожидании БАМа с 1975 года строился Нерюнгри - южная и русская столица Якутии. Станция Нерюнгри-Пассажирская, сданная в 1984 году - место встречи ЖДЯ с РЖД.
47.

Увы, хозяин тут именно РЖД, а потому я оскоромился сдачей рюкзаков в "камеру хранения нового типа" - это которая автоматическая и по цене хостела: за 6 часов на две ячейки мы отдали 700 с чем-то рублей. Станция находится не за городом, но на самом его краю, плотно прижатая к зелёной сопке. Усайдингованный фасад вокзала с милым северным панно и жуткой цифрой на термометре - на заглавном кадре, а внутри - основательные советский интерьеры со встречей Матери Руси с Матерью Якутией. Да и герой прославлен - на площади с 2007 года стоит памятник молодому машинисту Владимиру Бочкарёву. 6 сентября 1987 года он на маневровом тепловозе вёл небольшой порожний состав, когда узнал, что к станции катятся с горы оторвавшиеся вагоны с углем. Приказав коллегам по бригаде прыгать, он стал пятиться навстречу неуправляемому составу и в итоге действительно смог его задержать... но ценой своей жизни: удар смял и порожние вагоны, и тепловоз.
48.

Вокруг Нерюнгри расходится целый куст промышленных веток. Севернее по АЯМу на восток ведут подъездные пути к угольному разрезу Денисовский, а на западе прикасается к магистрали своей горловиной станция Нерюнгри-Грузовая, от которой 10 километров до Угольной, чьи пути у подножья ЦОФ мы видели с городских сопок в прошлой части. От пассажирской станции отходят ветки на гранитный карьер и в Серебряный Бор с его ГРЭС. А вот так выглядел первый состав с местным углем, ушедший на юг по рельсам:
48а.

От Нерюнгри-Пассажирской всего 7 километров отделяют Беркакит - ПГТ (3,5 тыс. жителей) в конце первой очереди АЯМа. Южнее Амуро-Якутская магистраль даже старше Байкало-Амурской - ведь первым во всей этой системе был Малый БАМ, в 1972-74 протянутый от Сковородино (вернее, разъезда Бамовский рядом с ним) до Тынды (186км) и далее от Тынды (вернее, разъезда Бестужево) к углям Нерюнгри (ещё 246км). Другое название этой линии (общая длина 439км) - Южный АЯМ: раньше, чем поезда пошли с запада на восток по перевалам Удокана, предгорьям Кодара и тоннелям Дабана, открылось движение с севера на юг.
49а.

Первый поезд прибыл в Беркакит в 1978 году, но вокзал конечной станции до обидного невзрачен. Я бы даже подумал, будто его поставили не той стороной - судя по чужим фото, обращённый к посёлку фасад куда интереснее.
49.

У вокзала чёрный камень, положенный в 1977 году вместе с последними путями, а поезда по ним пошли так странно скоро - через год:
49б.

С железной дороги видна церковь Иоанна Кронштадтского (1999-2007) на другой стороне Беркакита. Он состоит из двух посёлков - севернее Временный, а прямо у станции - Постоянный. Схема, для БАМа абсолютно типичная - времянки строились вместе со станциями и даже до них, и именно там цвела вся бамовская романтика.
50а.

Затем для тех бамстроевцев, что решали остаться, а больше для презренных эксплуатационщиков возводились постоянные посёлки с капитальными вокзалами, и именно их в первую очередь касалось знаменитое шефство: большинство станций Байкало-Амурской магистрали строил какой-нибудь регион или республика (см. Куанда). В угольном краю постаралась Кемеровская область:
50.

За низиной, по которой тянется Южно-Якутский угольный бассейн, АЯМ снова набирает высоту: впереди Становой хребет, последняя преграда перед БАМом.
51.

Последней станцией, до которой мне хватило сил не уснуть, стала Золотинка (500 жит.). Разбираясь в БАМовском шефстве, многие восхищаются розовым туфом армянских Звёздной и Кюхельбекерской, узорами таджикской Солони, мозаиками украинского Нового Ургала, и в итоге резонно задаются вопросом - а где же Беларусь? БССР строила Северомуйск, но это по сути временный посёлок тоннельщиков, не примечательный ни интересной архитектурой, ни красивым вокзалом. На самом деле потерянное звено - это Золотинка, хотя вспоминая нетривиальность советской архитектуры в городах Синеокой, могу сказать, что здесь белорусы явно были не в ударе.
52.

Хотя не их ли разработка ( darriuss, ау!) вот эти пятиэтажки со скруглёнными углами и пирамидальными трубами, попадающиеся по всему Малому БАМу? darriuss, ау!) вот эти пятиэтажки со скруглёнными углами и пирамидальными трубами, попадающиеся по всему Малому БАМу?
53.

В Золотинке стоянка всего 2 минуты, и я решил сбегать вперёд по составу, чтобы удачнее заснять вокзал. Путь мне аж в нескольких вагонах преградила просто грандиозная посадка десятков женщин азиатской внешности с огромными баулами. Что это была за кочёвка, мне не очень понятно, но кочевали, видимо, эвенки - в 5 километрах от Золотинки стоит Иенгра, которую в наши дни можно считать столицей этого небольшого (38 тыс. жителей) народа, рассеянного на пространстве размером с Австралию. Нигде не составляя большинства, эвенки почти всюду утратили язык, и лишь где-то, как на севере Якутии, пытаются возрождать своё самосознание через декоративно-прикладное искусство, песни и танцы. И только на стыке Якутии, Забайкалья и Амурской области ещё есть места, где в тайге кочуют оленеводы, в сёлах по-эвенкийски говорят люди среднего возраста, а понимает их даже молодёжь. Иенгра - самое крупное из таких сёл (900 жителей), а в 2013 году там умер Савей (Семён Васильев) - последний из великих эвенкийских шаманов. Впрочем, даже Иенгра - это последние лучи заката подлинной эвенкийской культуры, так что больше надежд я возлагаю теперь на рассвет неоэвенкийской культуры севера Якутии.
54.

Между тем, мы уже где-то на широте Москвы, так что в конце июля нет смысла надеяться на белые ночи. Замешкавшись, я упустил Нагорный тоннель (1353м), пробитый в 1978 году с помощью японского проходочного щита "Фурукава". Позже на БАМе появились куда более длинные и сложные Кодарский, Дабанский, Северо-Муйский тоннели, но Нагорный стал первым в мире тоннелем такого масштаба в условиях вечной мерзлоты:
54а.

Он разделяет притоки Тимптона, текущего в Лену, и притоки речки Якут, текущей не в Якутию, однако, а в Амур. Но за перевалом - ровно те же пейзажи. Тайга, да озёра и речки, да великие стройки вдали:
55.

Вот так Якутия встречала первый поезд в своей истории - 2 ноября 1976 года на разъезде Якутском:
55а.

Дальше есть ещё станция Могот, которую строили Ярославская область, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а на открытии пассажирского движения в 1979-м выступал Дин Рид - американский певец, друг Сальвадора Альенда и Ясира Арафата, к тому времени переселившийся в ГДР. Но мы проезжали её в темноте, как и хорошо мне знакомую Тынду, а проснулись уже на Транссибе. Три часа ожидания на перроне Сковородино - и вот мы вошли в прохладный вагон "России": четвёртую ночь в поезде подряд я заложил лишь потому, что знал - там будет душ. Поезд вёз нас в Улан-Удэ, но это другая история.
На этом заканчиваю рассказ и о Якутии-2022 (куда наверняка вернусь в другие годы), и обо всей системе Байкало-Амурской магистрали по итогам 3 лет знакомства.
ОБЗОРЫ ПОЕЗДОК И ОГЛАВЛЕНИЯ
Байкало-Амурский маршрут (2020)
Второй путь БАМа (2021)
Верхняя Лена и Центральная Якутия (2022)
Нижняя Лена и АЯМ (2022) https://varandej.livejournal.com/1144102.html
 lj_varandej
Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка) lj_varandej
Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка)

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.
Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:
2.

Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):
2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:
3.

На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:
3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.
4.

Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.
5.

Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.
6.

...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:
7.

Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.
8.

За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.
9.

Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.
10.

Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:
11.

Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.
12.

Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:
13.

За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:
14.

В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:
15.

Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:
16.

Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:
17.

Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:
18.

Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:
19.

Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:
20.

Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:
21.

Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:
22.

На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):
23.

Мозаика на торце школы №13 (1978):
24.

И Донской казак с пушкой (1986):
25.

26.

От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):
27.

Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:
27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":
28.

К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:
29.

Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):
30.

Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":
31.

Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.
32.

Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):
33.
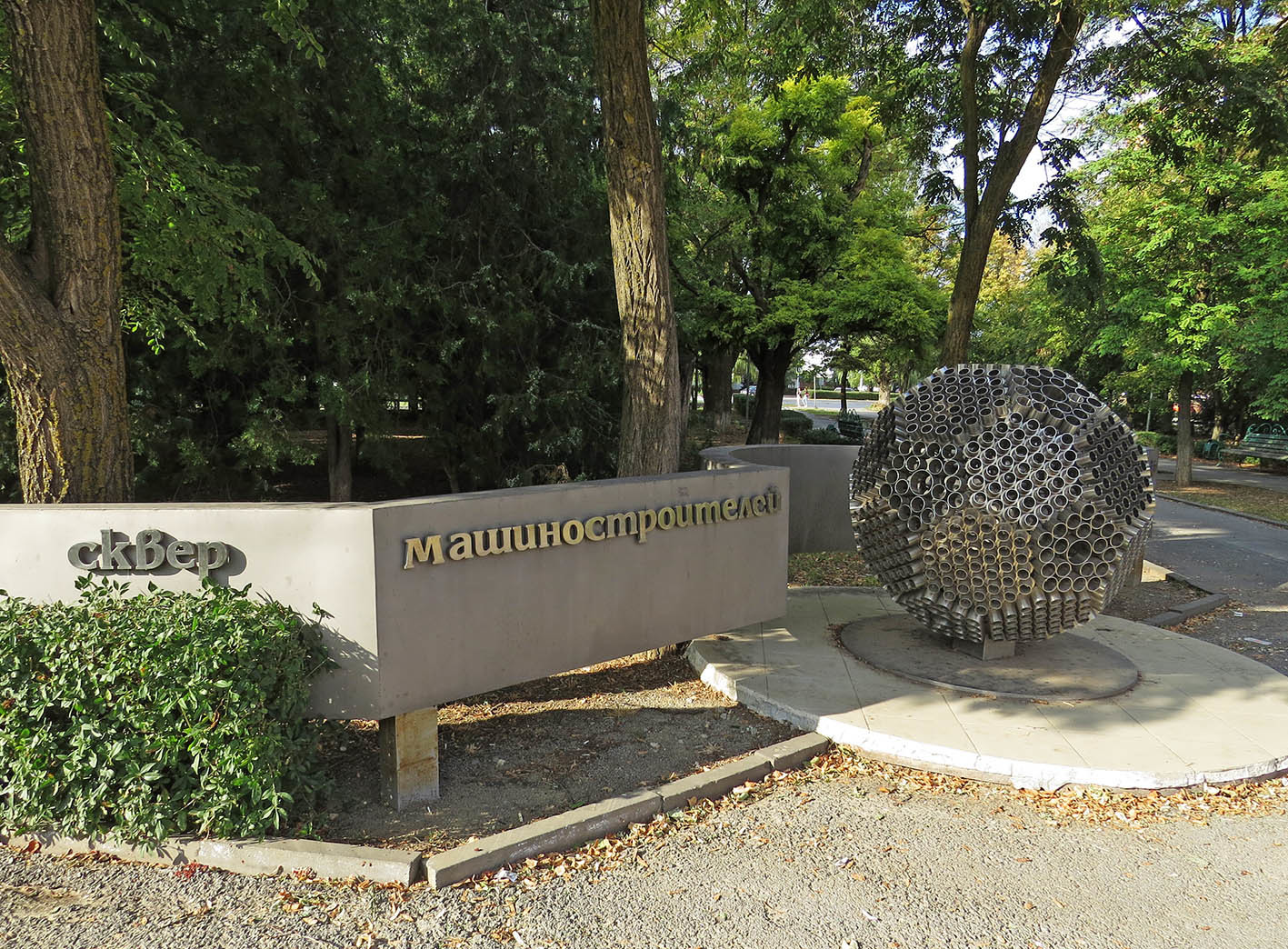
Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:
34.

Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:
35.

Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:
36.

Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.
37.

Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.
38.

Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:
39.

Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:
40.

Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.
41.

Ну а откуда я знаю подробности? Двое возрастных мужиков, культурно выпивавших рядом на лавочке, сперва довольно агрессивно потребовали меня подойти, а дальше мы хорошо разговорились. Один воевал в Первой Чеченской, другой - во Второй. Один жил в той зелёной многоэтажке, что на кадре выше обращена к нам торцом: хотя тогда она была закрыта от взрыва секциями ближнего (ныне красного) дома, сотрясение земли перевернуло всю квартиру и разбило оконные стёкла. Другой товарищ оказался пенсионером "из органов", в расследовании теракта принимал самое непосредственное участие, а позже, по странной иронии, и квартиру в том же красном доме получил. Рассказать они успели многое, причём не только страшного. За спинкой лавочки был забор РУВД, и вот в ту ночь один коллега рассказчика нёс ночную смену, а под утро не удержался и лёг на диван подремать под вентилятором из кабинета начальника. Проснулся он от грохота и тряски, обнаружив себя уже не в кабинете, а в коридоре, среди обломков и пыли. Первая мысль его была "Нифига себе вентилятор бахнул!", а вторая - где его табельный пистолет?! Найдя ствол, вылетевший вместе с обладателем чуть дальше, милиционер успокоился, а выйдя на улицу, увидел, ЧТО на самом деле произошло. Из всех служб мужики больше всего хвалили пожарных, объявившихся на месте взрыва буквально через несколько минут: спасли они, наверное, многих, так как в повреждённой части дома многие квартиры были охвачены огнём. Больше всего же из всех жертв теракта мои собеседники вспоминали самую младшую, 17-летнюю Юлю Ананьеву, которая вообще из другого района приехала, а в ту злополучную ночь осталась в гостях у подруги...
42.

Дальше Михалыч (так звали того мужика, что из органов) позвал меня в гости: в восстановлено доме теперь ТСЖ, строгая консьержка и идеальная чистота в подъездах. В просторной холостяцкой квартире с пушистым котом он показал мне китель и награды да плёночные фотографии с Чеченской войны. Там были горные пейзажи, вертолёты в мутном небе, обветренные лица сослуживцев, тела двух боевиков на снегу, окрасившемся неестественно красной кровью, да всяческие суровые ребята из чеченцев пророссийских тейпов и дагестанских силовиков, один из которых был Михалычу столь близкий друг, что не смог отказать, когда тот попросил разрешения "хазануть" (ни за что б не догадался, что это значит "поцеловать"!) его жену в губы. Михалыч заварил чрезвычайно вкусный чай из смеси зелёного и каркаде, да положил туда домашнего мёда, а на мои намёки, чтобы пора бы мне уже идти, отмахивался "не тарахти, мы, казаки, такое не любим!". Наконец, мы всё-таки вышли во двор и в компании беженки из Чернигова стали ждать такси, которое он заказал мне до вокзала.
43а.

Напоследок - несколько видов Ростовской АЭС через простор водохранилища со стороны Цимлянска. Как на ладони все четыре энергоблока и колоссальные градирни по 171 метр высотой - наряду с такими же градирнями строящейся Нововоронежской АЭС-2 они крупнейшие в России.
43.

С завтрашнего дня Ростовская АЭС будет уже не 2-й в России (после Ленинградской), а третьей - у Запорожской АЭС мощность 5700 МВт. И с другого берега Днепра последняя выглядит так же...
44.

Так что слова "в следующей части" пока не рискну написать.
Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш. https://varandej.livejournal.com/1131325.html
 lj_varandej
Среда, 07 Сентября 2022 г. 19:26 (ссылка) lj_varandej
Среда, 07 Сентября 2022 г. 19:26 (ссылка)

Георгиевск, старейший русский город Кавказа и "пятый элемент" Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей системой станиц и посёлков. Если в самом городе живёт лишь 65 тысяч человек, то в агломерации - 120 тысяч. И я бы сказал, окрестности Георгиевска как бы не более интересны, чем сам показанный в прошлой части город: тут есть деревянные церкви, старинные усадьбы, заброшенная железная дорога, крупнейшее и старейшее дерево всея Руси и одно жутковатое заведение из стереотипов тёмного Средневековья.
Наш сегодняшний маршрут образует кольцо, южная сторона которого - 30-километровая трасса, ведущая в Георгиевск из Пятигорска. По улицам она проходит как бы не больше, чем по полям, но предместья двух городов разделяет Лысая гора - самый плоский и невзрачный из 17 КавМинВодских лакколитов. Я даже толком её не заснял, как и куда более эффектные виды - за Лысой горой маршрутка буквально пикирует в долину Подкумка, вдоль которого лежит станица Лысогорская (12 тыс. жителей). В отличие от большинства станиц, расставленных по степи волей императоров и атаманов, Лысогорка возникла спонтанно и не от хорошей жизни: в 1836 году кабардинцы из аула Бабуков внезапно устроили ночной набег на станицы Александрию и Подгорную, где пожгли хутора и околицы. Станицы к тому времени разрослись, многие казаки имели наделы поодаль, а потому и отстроились к ним поближе - против Лысой горы на левом берегу Подкумка. К 1860 году станичникам стало тесно и там, а кто-то заметил, что на правом берегу под горой гораздо больше воды в колодцах, и вот к началу ХХ века Лысогорская почти полностью переползла на правый берег. Историю наглядно отражает планировка - в отличие от большинства станиц, планы которых напоминают тетрадный лист в клеточку, улицы Лысогорской извилисты, как в среднеазиатских кишлаках. Станица вытянулась вдоль реки на 9 километров, однако трасса пересекает её поперёк. У маршруток в сторону Георгиевска в Лысогорской долгие стоянки и посадка как бы не больше, чем в Пятигорске - станичники едут в райцентр:
2.

В сотне метров от остановки - и основная достопримечательность станицы: деревянная церковь Рождества Богородицы, срубленная в 1875-77 годах воронежским мастерами:
3.

Местная легенда гласит, что атаман был против самовольного переселения казаков даже между соседних станиц, и когда те пришли к нему с прошением построить церковь, поставил условие - уместить её "на шкуре барана", которого ему привезли. В результате шкуру нарезали на тонкие ремни и выложили ими периметр храма... но это явно пересказ каких-то горских архетипов: с русскими чиновниками в 19 веке дела так не делались.
3а.

А может быть, под "атаманом" скрывается турецкий паша, а под "казаками" - болгары или армяне? Вполне вероятно, что легенду пересказал кто-то вернувшийся с русско-турецкой войны: строили церковь проштрафившиеся казаки, а отличившиеся - увековечены в её зале.
4а.

Где лишь в 1937-42 годах не проводились службы. Открыл храм председатель колхоза Архип Пискарёв в полгода немецкой оккупации. Позже он отправился под суд как коллаборационист (тем более это могло быть не единственным его деянием под фрицем), но вновь закрывать храм не стали.
4.

А в качестве альтернативы воздвигли рядом монументальный Дворец культуры (1961):
5.

Где-то в полях вокруг Лысогорской остались заброшенные бюветы: прежде из под Лысой горы сочились нарзан и термальные воды, вот только я узнал об этом лишь при написании поста. От Лысогорской всего 7 километров до следующей станицы Незлобной, а на полпути между станиц до недавнего времени путника ждал "Автобус". Как-то в нулевых годах армяне из Незлобной поехали в Пятигорск торговать шашлыком, да только между станицами их микроавтобус сломался. День был знойный, с помощью вышла какая-то накладка, и от безнадёги армяне поставили мангал и начали готовить шашлыки прямо на обочине дороги. Делали они это явно в ударе, цену занизили, чтобы хоть что-то продать... и в общем зашло дело так хорошо, что на следующий день отремонтированный микроавтобус приехал не в Пятигорск, а сюда же. "Шашлыки из автобуса" стали настоящей достопримечательностью дороги в Георгиевск, и "автобусом" местные по старинке называли павильон, построенный всё на том же месте через несколько лет успешной торговле. Ну а в итоге дорогу сделали скоростной и оснастили физическим разделением, да и шашлык, скорее всего, успел стать "не тот" - теперь от "Автобуса" даже следа не осталась. Последнее напоминание - тропка в лес, на высокий берег невидимого в своей пойме Подкумка, где прежде народ отдыхал за шампурами.
6.

Чуть дальше начинается сама Незлобная - гигантская (20 тыс. жителей) станица, другим концом фактически приросшая к окраинам Георгиевска. История её сошлась в 1862 году из двух линий, начинавшихся в 1780-х годах. В 1783 году под стены Георгиевской крепости перекочевал с Чегема целый кабардинский аул Бабуков, основным населением которого, впрочем, быстро сделались абазины - северокавказские абхазы, ещё в 10 и 15 веках двумя волнами заселившие предгорья нынешней Карачаево-Черкесии. Они и по сей день живут там, помнят язык и происхождение, но культура и быт их за века полностью унифицировались с черкесскими. В 1821 году Бабуков аул был преобразован в станицу, а горцы приняты в казаки, но как показала история о появлении Лысогорской, соседство их с русскими казаками оказалось отнюдь не мирным. В 1861 году бабуковцы вернулись в Кабарду и Абазинию, а на их места переехала из Кабарды станица Незлобная, зародившаяся в 1786 году на реке Золке. Первопоселенцы поняли это название как "злюка", а так как злюкой быть нехорошо, село своё нарекли Незлобным. Переселенцами этими были в первую очередь однодворцы - так называлось то ли упразднённое в 1866 году сословие, то ли ещё живой по курским и воронежским сёлам субэтнос. Потомки служилых дворян, охранявших границы Русского царства, с концу 17 века они обеднели настолько, что в хозяйстве и быту не отличались от крестьян, однако имели право владеть не то что землёй, а теми же крестьянами. И, конечно же, держались особняком, стараясь не родниться с мужиками. С покорением Кавказа власти вспомнили, что однодворцы были стражами границ, и активно приглашали их на новые границы с перспективой перехода в казаки. В 1833 году Незлобное село стало станицей Волгского полка Кавказского линейского казачьего войска, а в 1862 его жители перебрались на Подкумок.
7.

С собой казаки перевезли деревянную церковь Михаила Архангела, но её фотографий, кажется, не сохранилось в природе. Новый Михайло-Архангельский храм освятили в 2009 году:
8.

И вышел он, я бы сказал, просто неожиданно удачным - легко принять его за памятник "кирпичного стиля" 1860-х:
8а.

Сам Михаил Архангел во дворе присматривает за порядком:
8б.

В основном Незлобная - это море частного сектора с высокими заборами, аляповатыми фасадами и кислотными цветами крыш. Кабардинцы и абазины сюда не вернулись, а вот армяне - без малого четверть жителей. В бескрайнем пространстве станицы есть и несколько старых зданий - вот, скажем, школа:
9.

А это больше похоже на станичное правление, отмеченное в списке памятников архитектуры по другому адресу:
10.

И в общем, как и всё незлобное, была станица эта небольшой и бедной, но жизнь изменилась в 1875 году - сюда пришла железная дорога. Была это одна из самых прибыльных в России частных линий Ростов - Владикавказ. Ну а значение Незлобной переоценить было трудно: окружённая плодородными полями, станица сделалась воротами Ессентуков, Пятигорска и Кисловодска. По сути дела она заняла то же место, что сейчас Минеральные Воды, где действует крупнейший аэропорт Северного Кавказа. Незлобная сделалась главной промежуточной станцией Ростов-Владикавказской магистрали, по объёмам пассажирского трафика и перевалки грузов уступавшей лишь самому Ростову. Коммерсанты везли сюда товары всей страны на ярмарку к станичникам и горцам, курортники пересаживались на фаэтоны, и без преувеличения для нескольких народов (!) Незлобная сделалась главным окном в мир. И при взгляде с объездной, выныривающей из Георгиевска по северным околицам станицы, над Незлобной старый элеватор высится как кафедральный собор:
11.

Одну из самых современных в тогдашней России механическую мельницу построил в 1908 году торговый дом "Кащенко и сыновья", основатель которого Василий начал торговать хлебом в 1860-х годах в воронежской Бутурлиновке, а здесь дело отца продолжил младший сын Александр. Тут стоит заметить, что магнаты из народа всегда по особому смотрели на народ, то убегая от него как безжалостные эксплуататоры, то воздавая долг как меценаты. Кащенко были из вторых, а потому Незлобную Александр Васильевич обогатил школой с кадра №9 и больницей практически в ограде мелькомбината:
12.

Теперь здесь что-то административное - больницу в огромном селении явно построили и поновее. Александр Кащенко после революции бежал в Иран, но там, где хлеб всему голова, мельница продолжила работать.
12а.

С возвращением капитализма, напротив, мелькомбинат с его устаревшим энергоёмким оборудованием оказался на грани закрытия. В 2009 году производство здесь остановилось, но дальше - Крым, санкции, обвал рубля, импортозамещение.... К 2016 году мелькомбинат прошёл модернизацию и заработал вновь:
13.

А в глубине его так и стоит старая мельница Кащенко:
14.

На комбинате заканчивается и железная дорога, чуть дальше образующая странный тупик, перпендикулярный основному направлению:
15.

Ржавые рельсы, бурьян между шпал, пасущиеся прямо на путях бараны - так выглядит теперь некогда крупнейшая станция Кавказа:
16.

В домах у насыпи ещё можно опознать если не вокзал, то какие-нибудь путейские казармы, товарные конторы, железнодорожные больницы:
17.

18.

Табличка на одном из дворовых сараев прямо извещает, что это Железнодорожные дома, а улицы вокруг - Узловая, Вокзальная, Станционная:
18а.
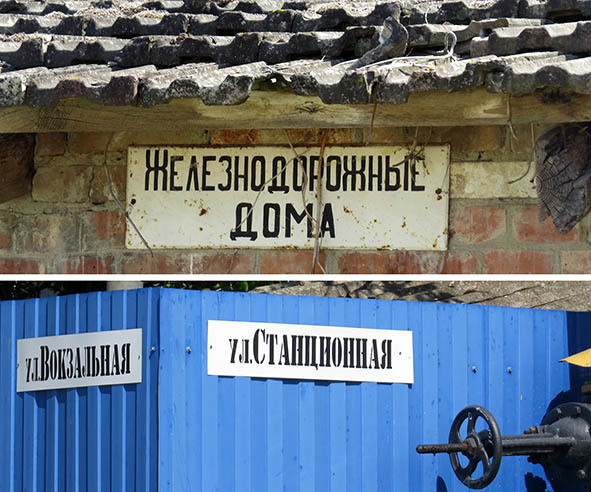
С улицы Ленина, ведущей в Георгиевск, хорошо видна путейская будка. В 1913-15 годах отсюда была проложена на север железная дорога - сперва 11 километров до дальней окраины Георгиевска, затем - ещё 94 километра до Святого Креста, что Советы переименовали в Будённовск. Вокзал в Георгиевске, где теперь останавливаются поезда что до Ростова, что до Владикавказа, я показывал в конце прошлой части: ветка от Незлобной к Георгиевску превратилась в ветку от Георгиевска до Незлобной, а магистраль в ХХ веке каким-то странным образом поменяла ход, сместившись буквально на несколько километров на север. Но распутать этот железнодорожный узел мне пока не удалось - рунет молчит о датах и обстоятельствах тех реконструкций.
19.

Станичная улица Ленина незаметно переходит в городскую улицу Калинина, приводящую на показанный в прошлой части автовокзал у центральной площади Победы. Теперь проедем Георгиевск насквозь, но чтобы он не выпадал из маршрута - покажу несколько фотографий утраченных зданий, не попавшие в прошлую часть. Вот например церковь Пантелеймона Целителя (1902-12), стоявшая на полпути до центра города от нынешнего Георгиевского собора:
20а.

Хуже, чем церквям, в Георгиевске не везёт кинотеатрам. Если "Аврора" просто стоит заброшенной на главной площади, то начинавшийся в 1912 году как синематограф Кривозубенко "Ударник" и вовсе исчез без следа - в 1985 году его собирались реконструировать со сносом, но осуществить успели только первую часть.
20б.

Дом культуры, построенный в 1930-е годы, из-за каких-то ошибок строительства сразу пошёл опасными трёщинами, и с его сносом Георгиевску пособили немцы.
20в.
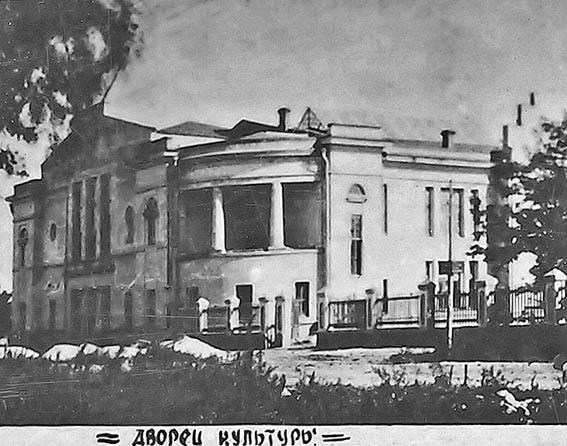
Самым же ценным, пожалуй, из утраченных памятников Георгиевска был Казённый мост (1853), к которому спускалась от Водяных ворот крепости Святого Георгия показанная в самом начале прошлой части Шоссейная улица. Тогдашний Подкумок был мощный шумной рекой, плеск волн которого был слышан даже в центре города. Крепость стерегла единственный брод, становившийся непроходимым в половодья и паводки. С упразднением крепости местные жители соорудили деревянный мост, но и на нём вода порой перехлёстывала через полотно, сбивая с него экипажи. Наконец, кавказский наместник граф Михаил Воронцов пошёл на радикальное решение проблемы, соорудив капитальный каменный мост длиной порядка 800 (!) метров - рискну предположить, крупнейший в тогдашней России за пределами Петербурга. В 1930-х годах он ещё стоял, а что сгубило его - Великая Отечественная война или плановая реконструкция дороги, - я опять же не смог разобраться.
20г.

Нынешний прозаичный бетонный мост выводит к двум прудам в пойме Подкумка:
20.

От прудов можно повернуть к Георгиевской бальнеолечебнице - пятым элементом КавМинВод я назвал этот город не только потому, что он ровесник Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска и даже старше их, но и потому, что здесь тоже есть минеральные воды. Текут они, правда, не из природных ключей, а из пробуренных в советскую эпоху скважин:
21.

Причём воды здесь не железистые, как в Железноводске, не сероводородные и радоновые, как в Пятигорске, не хлоридно-гидрокарбонатные, как в Ессентуках, и даже не сульфатно-гидрокарбонатные, как в Кисловодске, а йодобромистые. На российских курортах такой тип воды, кажется, самый редкий, да и пить их нельзя - только купаться. Вместе с Георгиевском получается, что на КавМинВоды оказались представлены как бы ли не все основные типы целебных вод. Однако что-то не сложилось - открывшаяся в 1976 году бальнеолечебница так и осталась на этом курорте единственной, и кажется, даже не менялась с той поры.
22.

Бальнеолечебница стоит в лесу, за которым в паре километров от моста дорога выводит к окраинам Георгиевской станицы. Сам этот лес некогда был крупнейшим на равнинах Предкавказья, и именно обилие дичи, грибов и ягод, дров и стройматериалов предопределили роль Крепости Святого Георгия как флагмана в колонизации Кавказа. Потихоньку лес свели, от чего и присмирел Подкумок, и всё же довольно крупный массив, частично восстановленный в советское время, тянется от Незлобной на 15 километров вниз вдоль реки. Вглубь этого леса мы и направились дальше, вернувшись в Георгиевск и проехав его по пыльным, полузаброшенным окраинам:
23.

В тенистую чащу здесь уходит грунтовка, по которой весной как ни в чём ни бывало гуляют фазаны. Самца с длинным хвостом я заснять не успел, но пусть хоть курочка будет в кадре:
23а.

Где-то в километре за опушкой от дороги ответвляется направо хорошо заметная, даже проезжая, тропа. И вот куда она приводит:
24.

Патриарх Георгиевского леса - серебристый тополь, возраст которого оценивается то ли в 400, то ли в 800 лет. Вроде бывают деревья и постарше, однако ствол его у основания достигает в обхвате 12 метров, и кора напоминает кожу космогонического слона. Это самое большое дерево как минимум Ставропольского края, а может - и всей нашей северной страны:
25.

Вернее, было таковым до 2014 года - в Крыму есть дубы и помощнее. Уверенно могу сказать, что это самое могучее дерево России из тех, которые видел я лично, хоть Чудо-тополю Георгиевска далеко до Стельмужского дуба в Литве и совсем уж колоссального, крупнейшего во всём бывшем Союзе, платан Тджре в Карабахе.
26.

Ещё километр, и лесная дорога выводит на Сафонову дачу - в лесу скрыт романтического вида:
27.

Изначально, впрочем, усадьбу называли Ильинкой: терем в глубине чащобы построил в 1895-99 годах генерал Илья Сафонов, выйдя здесь на покой. Был это потомственный казак и отчаянный вояка, прошедший все крупнейшие кампании Кавказской войны и под конец её командовавший дивизией. Дивизия это была вооружена не просто берданками, а сафоновскими берданками - генерал лично усовершенствовал конструкцию винтовки и добился её внедрения в войска. Принимая гостей в обличие светского графа, Илья Иваныч порой удивлял их, например, разрубая шашкой на лету кусок сукна или за считанные минуты разбирая и собирая пулемёт Максима. Обосновавшись близ КавМинВод, и их отставной генерал пытался улучшить, например проспонсировав (видимо, не единолично) новый курзал в Кисловодске. На коронации Николая II Илья Иванович нёс балдахин, а на похороны генерала в 1896 году приходил целый Чехов.
28.

Всё подготовив для безбедной старости, распорядиться Ильинкой старый Сафонов уже не успел, так что основным владельцем имения стал его сын Василий. Так Ильинка и сделалась Сафоновой дачей - пианист, дирижёр и преподаватель жил в основном в Петербурге, а сюда приезжал отдыхать. В 1905 году он "не принял демократических преобразований", а потому и вовсе махнул в цитадель демократии: в 1906-09 годах Wassily Safonoff был главным дирижёром филармонии в Нью-Йорке. В память о нём на башне усадебного дома начертаны ноты:
29.

Ну а третьей поколенье владельцев этой дачи было представлено Анной Васильевной, верной женой Верховного правителя России Александра Колчака. Более известна она как Анна Тимирева, но эта фамилия досталась Анне Сафоновой в 1911 году от первого мужа адмирала Сергея Тимирева, от которого у неё родился сын. Влюбившись в 1918 году в другого адмирала, Анной Колчак она так и не стала - в лихое время было не до свадеб. И хотя в январе 1920 года Тимирева добровольно пошла с Колчаком под арест, расстреливать её вместе с Верховным правителем не стали. Третий брак за инженером-строителем Книппером оказался у Анны Васильевны самым долгим (муж умер в 1942 году), и за это время она многое пережила. Например, тюрьмы Иркутска, Новониколаевска и Москвы, бараки Бамлага и Карлага, ссылки в Рыбинске и Вышнем Волочке, бесконечный поиск работы, а в 1938 - расстрел сына. Но воля к жизни у "мадам Колчак" (как знали её в бараках) оказалась потрясающей - она дожила до реабилитации, а умерла в 1975 году в квартире на Плющихе. Интеллигенция знала Анну Книппер как художницу и поэтессу, а на старости лет ещё и актрису, успевшую сыграть эпизодические роли дворянки на балу в "Войне и мире" Сергея Бондарчука и туристки на теплоходе в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.
30

Помнила ли она эту дачу? Хотела ли снова её посетить? С 1934 года терем стал главной усадьбой Подкумского лесничества, но сейчас его вид скорее заброшенный. Вокруг - мехбаза, на которой кипит уже другая, рабочая жизнь. На машине типа УАЗа можно было бы уехать ещё дальше в лес, где лесничество разводит маралов.
31.

Более короткий путь на Сафонову дачу - через Краснокумское, ещё одно огромное село (19 тыс. жителей), плотно приросшее к Георгиевску за железной дорогой и простирающееся аж до слияния Подкумка и Кумы. Как ни странно, оно даже чуть старше города - в 1776 году здесь был основан, как сказали бы в советскую эпоху, "временный посёлок строителей" крепости. Позже от него остался госпиталь, вокруг которого разрослась Госпитальная слободка, или Красная Слободка в 1919-34 годах. Вот только смотреть там особо не на что, кроме новодельной Троицкой церкви (2015), а к Сафоновой даче ведёт оттуда только пешеходный мост. На машине мы снова поехали по тенистой дороге в Георгиевск, на этот раз пересекая его практически через центр. И чтобы снова отметить присутствие в городе, покажу столь нетипичную для моего блога вещь, как магазин и музей антиквариата. Дело в том, что в гостях у человека, который меня встречал, я приметил всякие рогатины, кадки да тележное колесо, и он рассказал, что коллекционирует старые вещи. Часть из них он отдал другу, который держит антикварный магазин, и вот привёз меня туда показать вещи из своей коллекции. Надо сказать, в антикварных лавках я обычно не бываю, и даже сравнить-то толком мне "Георгиевского Антиквара" не с чем, но всё же пяток кадров я сделал и тут:
32.

33.

34.

Больше всего озадачил столбик с цитатой Дзержинского - присягу на нём чекисты дают, что ли?
35.

С вещами, которые можно купить, соседствует память, которая не продаётся:
36.

По Октябрьской улице, на которой старые домики из прошлой части заканчиваются довольно быстро, снова покидаем Георгиевск. Изначально проходившая через Александровские ворота крепости, которые вели на Москву, в дорогу к столице Октябрьская переходит и ныне. Георгиевск провожает руинами промзон, печальным даже по меркам остальной России:
37.

У перекрёста - станица Подгорная (6 тыс. жителей), примечательная тем, что каждый пятый житель в ней - цыган. Но искать что-то похожее на цыганские трущобы Румынии и Болгарии там не стоит - это цыгане оседлые, с участками, домами и работой сторонящиеся своих кочующих соплеменников, и разве что в праздники выдающие себя пышностью нарядов и танцев. На фоне Подгорной же видна нынешняя магистраль Северо-Кавказской железной дороги. Обратите внимание на кладку: судя по тому, что на карте 1918 года железные дороги имеют ещё старую конфигурацию, а на карте 1940 уже современную, этот участок был отстроен в 1920-е годы взамен разрушенного Гражданской войной.
38.

На кадре выше чернеют тоннели транзитной дороги, уходящей в бескрайние поля Ставрополья:
39.

...но мы сворачиваем в другую сторону и едем по тихой просёлке, загибая круг обратно к лакколитам КавМинВод:
40.

Здесь притаился крошечный после буйства окрестных станиц посёлочек Терский (700 жителей):
41.

Местами он не отличим от парка или пышного советского санатория для номенклатуры, и лишь явно конспиративное название (до Терека ещё целая Кабардино-Балкария!) смутно предупреждает, что здесь что-то не так. Дальней стороной посёлок упирается в заборы и подсобки, где стоит тоскливый запах лежалого белья и кислых щей.
42.

И объехав забор, невольно цепенеешь от иррационального, первобытного страха перед вывеской на неприметных воротах. От слова "лепрозорий" веет смрадными каменными улицами и докторами в птичьих масках, но здесь это слово значит то же самое, что значило и в Средние века. Сейчас проказу относят к так называемым "забытым болезням" - не исчезнувшим без следа, но отступившим куда-то на край человечества. В средневековой Европе существовали тысячи лепрозориев, а прокаженные, даром что отпеты и символически погребены, расхаживали по улицам укутанные в плотные одежды и увешанные трещотками. В СССР действовало 14 лепрозориев, ну а в нынешней России осталось 4 - научный в Сергиевом Посаде, тюремный в Астрахани и жилые в краснодарском Синегорске и здесь. Основанный в 1897 году неким батюшкой и названный по тогдашней губернии, Терский лепрозорий - крупнейший, и к тому же при нём находилась единственная в бывшем Союзе психбольница для лепробольных. Местные с мрачным юмором называют Терский "республикой прокажённых" - и сотня работников с семьями, и несколько десятков больных живут обособленно от внешнего мира, для которого на них клеймо. Жители, однако, не болеют лепрой: в отличие от другой "забытой болезни" чёрной оспы проказа отступила не под натиском медицины. Её возбудитель передаётся воздушно-капельным путём, но во-первых лишь при очень длительном контакте (вполне закономерном в тесных средневековых городах), а во-вторых - только тем, кто изначально генетически к ней расположен. Изоляция прокажённых в конечном счёте сделала своё дело - генетические линии лепроуязвимых в большинстве своём попросту пресеклись. Теоретически, современный прокажённых может жить в крупном городе, ездить в метро, ходить на работу, не опасаясь никого заразить... но не не зря выражение "убегать как от прокажённого" означает непреодолимый и панический бойкот. Лепрозорий защищает не здоровых от больных, а больных от здоровых - здесь они живут замкнутой общиной, иные по полвека и больше, и даже образуют семьи и рожают детей. Дети их в большинстве случаев здоровы, но детей этих мало: почти все пациенты лепрозория - старики. От старости здесь в основном и умирают: непрерывные профилактика и лечение позволяют не доводить лепру до знакомых по книгам симптомов. Мы заходить в лепрозорий не стали хотя бы по этическим соображениям (люди всё ж таки не живность в вольере), а в общем-то журналисты тут совсем не редкий гость: проникновенные тексты о Терском можно прочесть, например, здесь, здесь или здесь.
42а.

Чуть дальше дорога начинает закругляться уже к Лысогорской, и по правую руку отлично видны лакколиты Пятигорья, похожие на странный архитектурный ансамбль. В кадре, слева направо, Бештау (1400м) о 5 вершинах, миниатюрные лакколиты Железноводска (до 767м), лежащие с другой стороны от него Железная (853м) и Развалка (926м), перед которой - Змейка (994м) с её карьером во весь склон. Правее и поодаль видны Бык (817м) и Верблюд (885м), первыми встречающие со стороны Ставрополя:
43.

Особенно эффектна Змейка, нависающая голыми скалами над степью от Минеральных Вод до Георгиевска:
44.

На кадре выше, однако, обратите внимание на поросшие кустами полосы перерытой земли, которые пересекает и грунтовая дорога:
45.

Поравнявшись с ними, мы покинули машину и пошли в сторону Минеральных Вод по краю между кустами и полем. Жирный чернозём налип на ботинки тяжеленными калошами, в которых было сложно не то что не поскользнуться, а не упасть, потеряв равновесие. Шли долго, километр или около того, держа полосу кустов по правую руку, а над нами, словно приглядывая, кто влез на поле, пролетел небольшой вертолёт:
45а.

В какой-то момент я нашёл тропку в кустах, и тропка вывела меня на ровную поляну, с двух сторон обрывавшуюся отвесно. Чуть отойдя вбок, я понял, что это мост, или скорее дренажная арка: кусты - ни что иное, как насыпь железной дороги Ростов-Владикавказ, проходившей с 1875 года через тот тупик в Незлобной.
46.

С полей видно, как она спускается в предместья Минеральных Вод, по которым гремят поезда нынешней магистрали:
47.

И я надеюсь, что вновь увижу эти степи очень скоро - сегодня ночью я выезжаю на юг. В Волгодонск, Армавир, Адыгею и далее на Центральный Кавказ увидеть то, что весной (ОБЗОР и ОГЛАВЛЕНИЕ!) не увидел из-за погоды и отметить день рождения на склоне Эльбруса. https://varandej.livejournal.com/1130165.html
 lj_varandej
Вторник, 06 Сентября 2022 г. 23:39 (ссылка) lj_varandej
Вторник, 06 Сентября 2022 г. 23:39 (ссылка)

На Кавказских Минеральных Водах "5" - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5 гор-спутников и 5 гор-соседей, а среди Пятигорья люди построили Пятиградье. И столь устойчиво клише "пяти городов КавМинВод", что как-то даже и не задумываешься о математике: всего городов тут семь, а популярных курортов четыре (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск о пяти железнодорожных платформах). За пятого в большинстве рекламных проспектов и путевых заметок тут Минеральные Воды, аэропорт и вокзал которых видел почти каждый, кто бывал в этих краях. Вот только сам образ Кавказского Пятиградья старше, чем поезда, самолёты или городок Лермонтов на урановых рудниках. Скрытым Пятым элементом КМВ я бы назвал Георгиевск - довольно крупный (65 тыс. жителей, а в агломерации и все 120 тысяч) и довольно старый (тут присоединяли к России страну Georgia) город на Подкумке в 20-30 километрах от Минеральных Вод и Пятигорска, подобно Моздоку или показанному в прошлой части Екатеринограду имевший шанс стать столицей Кавказа.
Я расскажу о нём в двух частях - о городе и окрестностях, которые как бы не более интересны.
В предгорьях Центрального Кавказа за последнюю тысячу лет сменился ещё и пяток государств: "золотым веком" в памяти горцев осталась эпоха Алании, когда на плоскости под охраной лояльных кочевников колосились пышные поля. Затем пришли сюда кочевники нелояльные и втоптали Аланию в пыль веков - её уцелевшие жители скрылись в труднодоступных голодных ущельях, а предгорья взяла себе Золотая Орда. Недолговечная, как и все степные империи, в 15-16 веках и она начала слабеть и дробиться, и первыми из горцев на бесхозную равнину пришли черкесы. Никогда не бывшие частью Алании, они были кочевниками не привольных степей, а непроходимых лесов Западного Кавказа, и боевого клича их боялся ещё древний грек. Вот только как и подавляющее большинство лучших в мире воинов, адыги совершенно не умели договариваться между собой. Непобедимые для народов извне, черкесы истребляли друг друга в бесконечных войнах племён, ни одно из которых не могло взять всю власть над другим. Сами они порядком отличалась укладом, разделяясь на "аристократические" (где у власти стояли князья "пши") и "демократические" (где всё решались народные сходы и тлекотлеши - старейшины). И вот некоторые пши задумались о том, что не стоят жизни уорка (воина) и тфокотля (землевладельца) эти дождливые горы, когда рядом только и ждёт хозяев непаханный чернозём. Так и возникла где-то в 15-16 веках Кабарда - черкесская колония на плоскости, вскоре сцепившаяся с Крымским ханством и в 1561 году объединившаяся против него с покорившей другие татарские ханства Россией. То как часть Кабарды, то отдельно от неё в русских документах известны "пятигорские черкасы", сущность которых нынешним историкам так до конца и не ясна. Рискну предположить, что это были другие, возможно "демократические" племена адыгов, так же рвавшиеся в Кабарду, окопавшись среди лакколитов. Но в итоге организация всегда побеждает отвагу: в 1570 году Кабарда проиграла войну с Крымским ханством. На два века Северный Кавказ стал фактически окраиной Османской империи, её Дальним Востоком и Крайним Севером, где кабардинские князья, как встарь, воевали друг с другом и порой брали власть над племенами горцев. Так прошло два века, а затем на Кавказе уже не посланниками, а войсками объявилась Россия, которой не терпелось исполнить давние союзные обязательства перед Кабардой. А так как мнения самих кабардинцев на этот счёт особо не спрашивали, в 1777 году по краю их степей прошла Азово-Моздокская укреплённая линия, укомплектованная казаками с Волги, Хопра и Днепра. Ключевым её звеном стала крепость Святого Георгия:
2.

Надо сказать, что в большинстве своём крепости Кавказа не сохранились просто потому, что в них и нечему особо было сохраняться. Каменные стены и башни Назрани или Ведено были воздвигнуты позже, когда России пришлось буквально вгрызаться в глухие горы. Первоначальные же крепости предгорных линий, как тот же Грозный, представляли собой многогранники земляных валов с каменными воротами, за которыми что казармы солдат, что дом коменданта, что лазарет и арсенал, что полковая церковь представляли собой корявые турлучные хаты. Крепости Святого Георгия повезло куда больше - она стояла над единственным на много вёрст вокруг, да при том весьма тяжёлым бродом через Подкумок, вдоль которого тянулся крупнейший во всём Предкавказье равнинный лес. Ну а лес - это не только дичь, грибы и ягоды, лес - это в первую очередь стройматериал: из брёвен можно было делать срубы, а на древесном угле обжигать кирпич. Расположение практически напротив середины Кавказского хребта вкупе с возможностью соорудить комфортабельные и презентабельные здания предопределили значение Георгиевской крепости - именно она стала центром всей Азово-Моздокской укреплённой линии, резиденцией её командующего, внешне больше похожей на форты Дикого Запада из тогда ещё не снятых вестернов. В пятиграннике крепостных стен было трое ворот - Бештаугорские к Пятигорску, Александровские к далёкой Москве и Водяные к Подкумку. Через последние и ныне поднимается Шоссейная улица (кадр выше), представляющая в нынешнем Георгиевске пусть и второстепенный, но самый эффектный въезд. И если подлинность стен и ворот вдоль неё вызывает большие сомнения (я встречал разные мнения на этот счёт), то выше, на параллельной высоком берегу Красноармейской улице, остались и подлинные здания крепостного двора:
3.

В первую очередь это Никольская церковь, освящённая в 1780 году - старейшая русская постройка Ставрополья. На самом деле она может быть даже старше: большинство деревянных церквей в этих предгорьях когда-то стояли в станицах Хопра и Волги, но перебравшись к новой границе, казаки увезли свои храмы с собой. Конкретно в случае Георгиевска с его обилием леса это лишь предположение, ничем не опровергнутое и не подтверждённое. Ну а достоверно то, что казаки сюда действительно приехали с Хопра - там, на Червлёном Яру, ещё в 14 веке из народа бродников, куда входили и славяне, и татары, и чиги (зихи, то есть опять же черкесы) образовалось первое подобие казачьего войска, охранявшего границы Великого княжества Рязанского от набегов Великой Степи. На рубеже 16-17 столетий Хопёрское войско вошло в состав Донского войска, но всегда держалось особняком. Много людей с Червлёного Яра сражались и за Стеньку Разина, и за Кондратия Булавина, но в 1770-х, видя судьбу Запорожской Сечи, хопёрцы решили не ссориться с государством. В 1775 году Хопёрский полк вошёл в состав Астраханского казачьего войска и за несколько лет был переселён на Кавказ, со временем распределившись между Кубанским и Терским казачеством.
4.

В Красноармейскую улицу с годами сжалась Никольская площадь, начинавшаяся как крепостной плац. До советских времён его отмечала таинственная "колонна у гауптвахты", о которой никто толком не знал, когда и в честь чего она поставлена - молва, конечно, говорила про визит "матушки Екатерины", которая в реальности никогда не была на Кавказе. Вот здесь приводится дореволюционный текст с предположением о том, что колонна была возведена в 1816 году вместе с самой гауптвахтой, так как у обеих построек был одинаковый кирпич. В таком случае это мог быть, например, памятник 40-летию крепости. Но уже к началу ХХ века не знавший реставраций колонна была на грани обрушения, ну а конец её истории так же не ясен, как и начало.
5а.

На плац, площадь, улицу глядит суровый бревенчатый фасад в сотне метров от церкви - на самом деле главный исторический памятник города. Кое-где это здание называют даже домом наместника Кавказа, и может быть наместник правда жил здесь, под защитой мощных укреплений, выдержавших в 1779 году даже не набег, а месячную осаду кабардинцев, пока на Малке царские власти безуспешно строили Екатериноград. На самом деле тут располагался штаб Азово-Моздокской линии и резиденция её командующего, которого навещали порой то Суворов, то Потёмкин. В 1783 году же в Крепость Святого Георгия пожаловали посланники из Страны Святого Георгия, Картли-Кахетинского царства по ту сторону Кавказского хребта. Георгиевский трактат, о котором подробнее расскажу позже, так и остался черновиком русско-грузинских отношений и, на мой взгляд, сомнительным поводом для гордости.
5.

Но дом, где его подписали, вроде как стоит, хотя и здесь я слышал разные версии, сходящие в дате "1983": одни говорят, что Георгиевский штаб был разобран давно, и к 200-летию трактата его условно воссоздали, другие - что тут цел вполне себе подлинный сруб, отреставрированный тогда по вольной фантазии авторов. Вот так "предполагаемый дом наместника" выглядел на старом фото:
5а.

Ну а в бурном Подкумке за эти две сотни лет много воды утекло. К 1786 году приросшая несколькими слободами крепость стала городом Георгиевском, которому на тогдашнем Кавказе явно готовилась вторая роль после Екатеринограда. Тот 4 года числился столицей Кавказского наместничества, Георгиевск же в 1802-24 годах был центром вытянувшейся от Кубани и Лабы до Каспийского моря Кавказской губернии (в последние два года - области), пока в этом качестве его не сменил Ставрополь. Ещё на 6 лет Георгиевск остался уездным городом, что тоже было немало - вся губерния делилась тогда на 4 уезда. Однако под защитой Крепости Святого Георгия расцвёл ближний тыл, где на целебных водах лечились раненные в стычках с горцами солдаты и отдыхало богатое "водное общество" со всей необъятной страны. В 1830 году Георгиевский уезд стал Пятигорским уездом, а городу, откуда фактически присоединяли Кавказ, достался лишь заштатный статус. От крепостных валов к середине 19 века не осталось следа, однако шанс на реванш у выскочек-курортов Георгиевску дал другой инфраструктурный объект - пущенная в 1875 году Ростов-Владикавказская железная дорога. Фактически, Георгиевск тех лет занимал в Пятигорье то же место, что теперь Минеральные Воды - главные ворота в нарзанный рай. Здешние ярмарки не уступали прохладненским, а на бывшей эспланаде крепости швейцарский купец Рудольф Лейпцингер воздвиг в 1902 году пивзавод, солодоварня которого теперь перекликается с Никольским храмом:
6.

К 1894 году, однако, железная дорога от Илларионовской (нынешних Минеральных Вод) была проложена непосредственно до курортов, и догнать их в развитии Георгиевску было не суждено. В ХХ век он вступил крепким середняком (12 тысяч жителей в 1897 году), столь знакомой по окраинам Российской империи "купеческой республикой". Центр города разросся из Мещанской слободы, и открывает его просторная площадь Победы примерно в километре от бывшей крепости:
7.

Украшенная Ильичом (1980) и неказистой скульптурой Святого Георгия (2020) чуть ли не из папье-маше, в жаркий полдень она превращается в сковородку, а ближе к сумеркам обретает неповторимый южный уют:
8.

Застроенная в позднесоветское время, красотой окрестных зданий площадь не впечатляет, и лишь переливающаяся мозаика кинотеатра "Аврора" по сей день радует взгляд меж глазниц заброшенного здания. "Аврору" в Георгиевске действительно любили, а мечта о её восстановлении тянется в городских пабликах из года в год:
9.

Площадь Победы - это бывшая Базарная площадь, так и не застроенный участок крепостной эспланады, с приходом железной дороги превратившийся в крупнейший на Кавказе торг. На радостях от возрождения старого города тут построили в 1881-83 годах Вознесенский собор, который я бы назвал апофеозом русской эклектики. Даже сквозь время видно, что со своими фронтонами и окнами в духе то ли рококо, то ли маньеризма, с армянскими главками звонниц и луковичным куполом по центру это был китч и абсурд... но китч и абсурд абсолютный, а абсолют нельзя не уважать.
10а.

Его снесли в 1934 году, а в 1960-80-х и саму эту сторона площади поглотили многоэтажные кварталы. Примерное место, где стоял собор, теперь отмечает часовня, сооружённая "в год семисотлетия [2014] со дня рождения преподобного Сергия Радонежского как знак покаяния о разрушении храма". Она неплохо смотрится в паре с другим монументом, поставленным в 1983 году в конце короткой пешеходной Горийской улицы - и думаю, из даты и названия вполне понятно, что это за монумент:
10.

Православная Грузия, в Средние века долго и мучительно собиравшаяся воедино под властью Багратионов (см. Ардануч) и в 12 веке на равных сражавшаяся с сельджуками и персами, к концу Средневековья представляла собой россыпь небольших монархий - пешек в партии султана и шаха. Тем не менее, формально царства и княжества оставались независимыми, а затяжная смута в Иране и появление в Передней Азии войск ещё одного православного царства вселяли в сынов Сакартвело надежду. В 1762 году царь Ираклий II объединил Картлийское и Кахетинское царства, то есть больше половины нынешней Грузии, и всерьёз задумался о собирании земель, в котором были хороши все средства. Внутри страны он реформировал законы и суды, загонял в рамки продажную знать, и не забывал даже про такие удивительные в нынешних "странах западного выбора" вещи, как образование и промышленность, поднимать которую позвал в свои приделы греческих мастеров (см. Алаверди). Во внешнем мире же все действия Ираклия II имели одну цель - дать стране покой и выиграть время. 24 июля 1783 года в штабе крепости Святого Георгия встретились Григорий Потёмкин и грузинские посланники Иоанэ Мухранбатони и Герсеван Чавчавадзе. Они подписали Георгиевский трактат, условия которого казались для Грузии более чем выгодными: Россия размещала на её территории два батальона своих бесконечных войск, но при этом обещала не вмешиваться во внутригрузинскую политику. В тот же год в Моздоке началось строительство Военно-Грузинской дороги, затянувшееся, однако, на 16 лет. Которые для Грузии оказались фатальны: не имея желания жертвовать батальонами за непреодолимой горной стеной, Россия не заступилась за вассала ни в одном из его конфликтов с соседями, а в 1786 году и вовсе, под предлогом переговоров Ираклия II с протурецкой Самцхе-Джавахетией, отказалась от обязательств и вывела войска. В 1795 году Тбилиси утопили в крови персы, в 1798 умер Ираклий II, а в 1799 году открылась наконец Военно-Грузинская дорога, по которой картлийские послы отправились на север просить уже не протектората, а подданства. Дальше же Россия сделала то, чего не делали с гордыми картвелами никакие захватчики - низложила царя, оборвав тысячелетнюю династию Багратионов. С точки зрения Советов, впрочем, царя низложить - всегда благое дело, и уж точно не помеха для русско-грузинской дружбы. Георгиевск же так и остался местом, где дружба эта переросла в нечто большее, и по монументу видно, что построили его зодчие, приехавшие сюда из-за гор:
11.

Площадь Победы с окрестностями представляет собой фактически отдельный район, обособленный и от крепости, и от старого города. На Горийской мне запомнилось здание детского садика:
12.

Судя по скульптурам, также 1980-х годов:
13.

"Аврора" и лежащий за ней Головинский сквер отделяют от площади школу №1:
14.

В которой сложно признать бывшее Реальное училище (1911):
14а.

В спину же нынешней мэрии глядит с соседней улицы Калинина старая Городская дума, судя по каланче над крышей вмещавшая заодно полицию и пожарных:
15а.
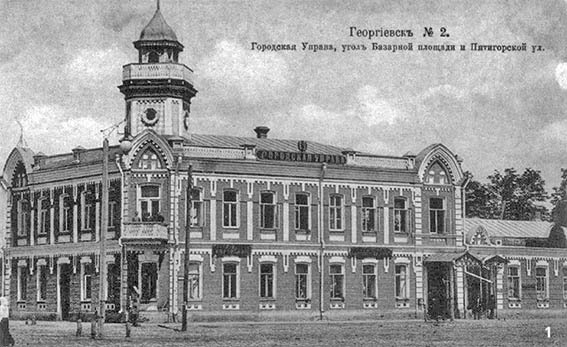
В итоге власть и торговля в Георгиевске поменялись местами: нынешняя мэрия стоит на месте лавок, а лавки (пардон, бутики) ждут посетителей в кабинетах дореволюционных чиновников. Здесь же - кафе "Лакомка" с очень вкусными пирожными и тем недостатком, что кроме пирожных там ничего и нет: с "перекусить" в Георгиевске туго.
15.

Улица Калинина же - преемница Бештаугорских ворот: здесь находится автовокзал, большую часть трафика которого составлют маршрутки в Пятигорск. К автостанции примыкают рынок и гостиница, а жилой 12-этажный Дом-с-Короной (1997), ставший символом постсоветского Георгиевска, довешает атмосферу делового центра:
16.

Исторический центр Георгиевска - даже в другой стороне, вытянутый вдоль улиц Лермонтова и Октябрьской вдаль от крепости и пятигорской дороги. На их первой перемычке по улице Луначарского стоит Народное собрание (1900), таблички на котором извещают, что в 1921 году тут выступал с речью Сергей Киров, а с 1961 года действует Народный драматический театр:
17.

Улица Луначарского ограничивает Армянский край - небольшой район частного сектора вдоль параллельной улицы Шаумяна. Не знаю, сколь армянский он в наши дни, однако именно купцы народа хай стали первыми селиться за эспланадой. Улица Шаумяна до революции была Армянской площадью - аж с 1793 года тут стояла деревянная церковка Сурб-Петер-Погос (Святых Петра и Павла), разрушенная в 1930-х годах. Надо заметить, Северный Кавказ в 19 веке был, натурально, заповедником такого оксюморона, как армянское деревянное зодчество - из дерева был и апостольский храм в Екатеринодаре, а в Моздоке такая церковь, хоть и переданная православным, даже уцелела до наших дней. В нынешнем Георгиевске армян по меркам Пятигорья немного - всего-то 11%, и куда как более типичный для своего зодчества собор Сурб-Геворк они построили к 2012 году далеко на окраине, у дороги на Ставрополь и Москву.
17а.
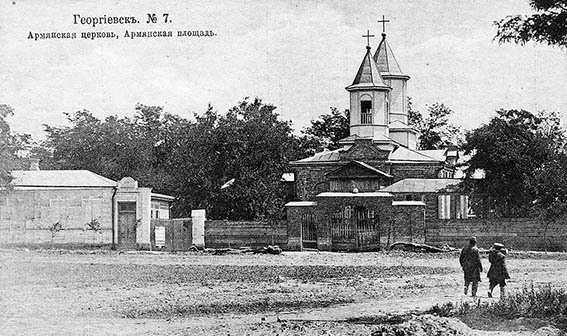
Впрочем, дорогами на Ставрополь и Москву были и две главные улицы Старого города: Октябрьская называлась Александровской по крепостным воротам, а улица Лермонтова и вовсе была Московской. Бульвары по ним проложил в начале ХХ века градоначальник Александр Головин, чей заброшенный дом и ныне стоит на Октябрьской:
18.

Октябрьской улица стала, видимо, в 1920 году, когда на ней похоронили останки 26 большевиков, расстрелянных белыми на 9-й версте Прикумской железной дороги. В 1922 над могилой поставили железную колонну в неповторимой земшарско-техногенной эстетике первых послереволюционных лет, а в 1976 году рядом зажгли ещё и вечный огонь в честь героев Великой Отечественной:
19.

С разных сторон от мемориала - пожалуй, самые красивые здания Георгиевска. Слева, если идти из центра - Общество взаимного кредита (1912), по факту первый городской ТРЦ, вмещавший также несколько кафе и магазинов:
20.

Ныне здесь Дом детского творчества:
20а.

Напротив, за узкой проезжей частью - Азово-Донской банк, ныне ставший ЗАГСом:
21.

Красивая лепнина у него, говорят, не только снаружи, но и внутри, однако я гулял здесь уже после закрытия:
21а.

Мемориал тянется по бульвару и дальше, продолжаясь аллеей героев, и лишь через квартал проезжая часть появляется и с другой стороны:
22.

Старая застройка тут теряет цельность, разбавленная советскими "коробками" и неказистым новостроем. Но кое-что есть - как например гостиница "Лувр":
23.

Или конструктивистская двухэтажка 1920-30-х годов. А вот домик на переднем плане я сфотографировал из-за его типичности - такие вот фронтончики с двумя арками внутри третьей я видел в Георгиевске не раз и не два:
24.

Вот Октябрьская пересекает тенистую улицу Гагарина - небогатую на старые дома, но остающуюся в Георгиевске одной из главных магистралей.
24а.

За ней раскинулся ещё один парк, на опушке которого встречает памятник Международной Солидарности. Так его назвали после реставрации в 2020 году (благо, то правда был год едва ли не последней на нашем веку всемирной солидарности), а прежде, с 1960-х годов, это был старый добрый монумент комсомольцам:
25.

Рядом в парке - ещё один мемориал Победы с тридцатьчетвёркой, пушками и стелой городов-героев:
26.

И тем обиднее знать, что парк и близлежащий стадион "Труд" располагаются на месте кладбища, где когда-то стояла весьма интересная внешне деревянная Покровская церковь (1841):
26а.
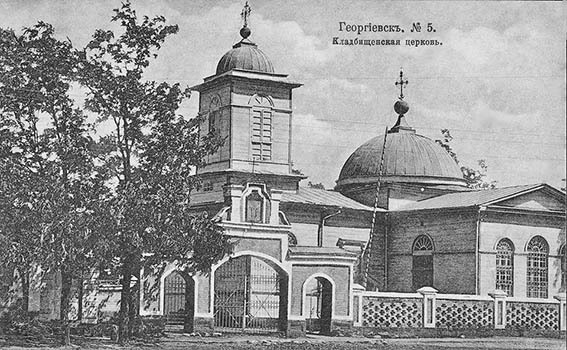
И было много именитых могил. Вот так например, покоился Дмитрий Лисаневич, который в 1806 году убил семью карабахского хана в Шуше, а в 1825 сам был застрелен чеченцем.
26б.

Рядом в улицу Гагарина упирается бывшая Московская, по которой пройдёмся в обратную сторону:
27.

Бульвар здесь не столь тенист, но куда более широк, а потому прохладным вечером особенно уютен. На аллее примечательны фонтан "Каменный цветок" (2018), воссозданный вместо предшественника 1950-х годов, доведённого в постсоветские времена до абсурда:
28.

И памятник Лермонтову, установленный и того позже - в 2020-м году. Что само по себе странно: в детстве, в 1820-25 годах, будущий поэт со своей властной бабушкой Елизаветой Арсеньевой проездом гостил здесь более дюжины раз, практически в каждой её поездке к своим кавказским родне и имениям.
29.

Вдоль бульвара - те же старые дома. Вот этот например, жителям известен как Дом со шпилем, а краеведам - под ещё более звучным названием Дом Дара. В данном случае имеется в виду деловитый грек Александр Дар, который торговал тут зерном и ставил любительские спектакли в Народном доме. С 2010 под шпилем обитает краеведческий музей, основанный в 1967 году энтузиастами и в 1983 утверждённый официально. Судя по чужим фото - туда стоило зайти, но я то ли не успел, то ли поленился. Что же до шпиля, то летом Дом Дара становиться вещью в себе - самый красивый вид с угла (см., например, здесь) скрыт непроницаемой зеленью:
30.

Дальше по бульвару - женская гимназия (1912), ныне обычная школа:
31.

Многоэтажка, похожая на ещё один подарок архитекторов солнечной Грузии:
32.

И дом Тумасова (1903), владельца галантерейных магазинов, куда в некоторых путеводителях "селят" уже знакомого нам Рудольфа Лейпцингера, на самом деле жившего в Пятигорске:
33.

Путаница вышла от того, что оба купца построили в разных городах два Дома со львами:
33а.

Люди на бульваре:
34.

С которого теперь сойдём. Среда старого Георгиевска продолжается и на других улицах, но за пределами бульваров она либо очень уж рядовая:
35.

Либо старых домиков не найти больше пары штук подряд:
36.

37.

Пожалуй, самое примечательное место за пределами двух бульваров - это перекрёсток улиц Ленина (перпендикулярная аллеям) и Пушкина (параллельна Октябрьской с другой, относительно улицы Лермонтова, стороны), в прошлом - Большой Мещанской и Великой княжны Ольги. На одной - особняк Тарасенко, в стенах которого многие георгиевцы потеряли родных: в 1942-43 годах его занимало гестапо.
38.

На другой - пара корпусов старой гостиницы "Лондон" (1910):
39.

Которые, вместе с внутренней частью квартала, в 1931 году занял Георгиевский винзавод. Не знаю, славился ли он вином в советское время, но спроса на алкоголь в подбрюшье всесоюзного курорта не могло не быть, а в 1986, говорят, здешние вино даже поставлялось для профилактики радиационных болезней в Чернобыль.
40.

С приходом дикого капитализма неизбежность спроса поняли и местные дельцы, которые свели в окрестностях большую часть виноградников - последние 30 лет гнали здесь ту неописуемую химическую дрянь на красителях, которую на волне своей эйфории незадачливые туристы возьмут да и купят где-нибудь на поляне Азау или склоне Мусса-Ачитары. Наконец, в 2021 году завод сгорел, и владельцы не стали его восстанавливать.
40а.

Надо сказать, и то был один из последних работавших в Георгиевске заводов. При Советах старинный город обзавёлся десятком предприятий от известного на весь Кавказ арматурного завода до маслозавода, начинавшегося ещё до революции, но постсоветская эпоха не пощадила почти ничего. Нынешний Георгиевск, особенно по контрасту с КавМинВодскими курортами - очень бедный и увядающий город. К северу от улицы Гагарина и Городского парка лежит тоскливая промзона, за которой, однако, начинается невзрачный на местности, но очень красивый на карте район частного сектора с правильной веерной планировкой. Веер расходится от уже третьего в моём рассказе монумента Победы (1974), у которого особенно красив "секретный" барельеф с обратной стороны ниже уровня площади:
41.

В густой зелени за ним скрывается вокзал, почти не видимый со стороны города:
42.

Но неожиданно красивый со стороны путей:
43.

Кадр выше снят с поезда, которым я ехал из Прохладного в Минеральные Воды по той самой магистрали Ростов-Владикавказ. Вот только станция её, в 1875 году давшая новый толчок Георгиевску, располагалась не здесь, а в продолжающей город на юге станице Незлобной. Этот вокзал открылся лишь в 1913 году на протянутой оттуда 11-километровой ветке, представлявшей собой отнюдь не тупик - к 1915 году заработала Прикумская железная дорога, уходившая на 94 километра в степь, к городу, который тогда назывался Святой Крест, а ныне - Будённовск. Не очень понимаю, куда эта линия, в историю вошедшая в первую очередь "белым террором" на 9-й версте, должна была вести в итоге - может, на Астрахань или Царицын? Она в любом случае осталась малодеятельным тупиком, а вот у станции Георгиевск судьба сложилась иначе: не знаю точно, когда был и как заброшен участок от Минеральных Вод до Незлобной, но ныне линия проходит буквально в нескольких километрах севернее, напрямую через Георгиевск.
44.

Железнодорожный узел Георгиевска мы попробуем распутать в следующей части, а пока для полноты картины наведаемся в микрорайоны, разросшиеся в направлении Незлобной от зародившейся ещё при крепости Тифлисской слободы. И внешне они в общем-то ничем не примечательны, но главная достопримечательность тут - топонимика. Каждый район в Георгиевске имеет народное, и вполне ходовое название - например, Магадан, Уругвай или Палестина. Происхождения этих названий в большинстве своём забыты, хотя можно предположить, что Шанхай прозвали так за трущобность, а Санта-Барбару - за богатство. Где-то народ припоминает, что Берёзка обзавелась своим именем по то ли магазину, то ли кинотеатру, а Минное Поле - по военным складам, на месте которых возведён. Прилегающий к центру район частного секторы Планы молва возводит к засилию наркоманов, хотя скорее речь идёт о генпланах царской ещё эпохи. Что соседняя Рязанка стала таковой потому, что там могли и зарезать - как-то больше верится. В Магадане, можно предположить, давали квартиры переселенцам с Крайнего Севера, а стройка Палестины выпала на очередной арабо-израильский конфликт. В другом месте пишут, что Палестину застроили, но не успели озеленить, и как результат - она напомнила георгиевцам знакомые по репортажам с ближневосточных войн пустыни. И лишь откуда в Предкавказье взялся Уругвай - никто даже версий не строит...
45.

Последняя достопримечательность сегодняшнего рассказа - между Планами и Берёзкой:
46.

Как ни странно, в дореволюционном Георгиевске не было храма Георгия Победоносца, и лишь с религиозным возрождением местные верующие решили это наверстать. В 1991-94 годах была возведена церковь-времянка, в 2017 году закрывшаяся для прихожан, но история самого этого места куда интереснее:
47.

Не секрет, что Ставропольский край сыграл свою роль в гибели СССР - из станицы Привольной на другом его конце был родом новопреставленный Михаил Горбачёв, а вот в Кисловодске появился на свет Александр Солженицын. Георгиевск, однако, в судьбе будущего диссидента сыграл особую роль - здесь упокоились его родители. В 1918 году в городской больнице умер отец Исаакий Семёнович, благополучно прошедшую Первую Мировую войну и павший жертвой несчастного случая на охоте. Его похоронили на том самом кладбище у Покровской церкви, где теперь воинский памятник и стадион. Мать Таисия Захаровна перебралась к своему брату Роману Щербаку в Георгиевск уже в старости, и умерла здесь в 1944 году. Её похоронили на советском кладбище, разбитом тогда ещё за городом, и в последний раз Солженицын ухаживал за материнской могилой в 1956 году. Дальше город вырос, кладбище закрыли для новых захоронений, и вернувшись на родину в 1994 году, Александр Исаевич понял, что могилу уже не найти. Конечно же, он не хотел, чтобы его мать покоилась на заброшенном кладбище, а потому сделал всё от него зависящее, чтобы в это место снова вернулась жизнь:
48.

Ну, или по крайней мере здешняя молва считает Солженицына главным... ну, не фундатором, конечно (денег у него столько не было), но инициатором строительства Георгиевского собора, заложённого в 2001 году и освящённого в 2012-м, через несколько лет после смерти диссидента. Теперь это один из самых удачных образцов церковного зодчества постсоветской России:
49.

А про окрестные станицы будет следующая часть.
Обзор поездки и (в перспективе) оглавление - ЗДЕСЬ.
https://varandej.livejournal.com/1129911.html
 lj_varandej
Понедельник, 05 Сентября 2022 г. 18:59 (ссылка) lj_varandej
Понедельник, 05 Сентября 2022 г. 18:59 (ссылка)

Екатериноград - крупный город (430 тыс. жителей, а с агломерацией раза в полтора побольше), центр Северо-Кавказского федерального округа у слияния Малки и Терека. Проспекты, дворцы и соборы в стиле высокого классицизма тут соседствуют с безмерным восточным колоритом Черкесской, Горской и Калмыцкой слобод, роскошные парки - со змеевиками и трубами старейшего в мире нефтезавода, а крупнейший на Северном Кавказе аэропорт - с вокзалом в Прохладной, где магистраль из Ростова-на-Дону разветвляется на Грозный, Астрахань и Баку. И мой рассказ о Екатеринограде будет аж в 7 частях... вернее, был бы, если бы история сложилась иначе: основанный на острие территориальной экспансии, столицей всея Кавказа этот город пробыл лишь 4 года, а затем превратился в небольшую станицу Екатериноградскую (3,3 тыс. жителей) в северо-восточном углу нынешней Кабардино-Балкарии. И лишь соседний Прохладный (55 тыс. жителей) не только в альтернативной истории узел железных дорог, второй по размеру и самый русский город кавказской республики. В весеннем путешествии по которой меня сюда и занесло.
Кабардино-Балкария состоит как бы из трёх огромный ступеней. Самая верхняя, самая малолюдная и самая знакомая туристам - это Балкария, головокружительные ущелья которой служат домом для тюркоязычных горцев. Ниже раскинулась Кабарда - перенаселённая равнина с ломанным краем кавказских гор на южном горизонте, по которой расселились потомки грозных черкесов, колонизировавших плодородную степь. Ну а третья ступень, откуда и гор-то уже не увидишь, звучного названия и вовсе не имеет, а живёт в ней по преимуществу третий народ Кабардино-Балкарии - русские, в более узком значении - терские казаки. Что хорошо видно и по контингенту в прохладненской маршрутке, отправляющейся из Нальчика по заполнению не с автостанции, а с площади у железнодорожного вокзала. Молодой водитель сразу признался, что на маршруте первый день, и пассажиры, с каким-то очень южным беззлобным ехидством, всю дорогу подсказывали ему, где и куда повернуть.
2.

От Нальчика до Прохладного полсотни километров по прямой, но в Кабарде густая сеть дорог, а маршрутка едет какой-то извилистой траекторией, словно тяготея к русским сёлам, так что даже не замечаешь момент, когда мусульманский культурный ландшафт сменяется на казачий. Путь пересекает речки Урвань, Чёрную и Черек, то сходясь, то расходясь с железной дорогой, ещё в 1913 протянутой к Нальчику от станции Котляревская на магистральной линии Ростов-Владикавказ. Из станции Докшукино на этой тихой ветке вырос к 1955 году городок Нарткала (30 тыс. жителей, 65% кабардинцы), а соседний Майский (26 тыс. жителей) в междуречье Черека и Терека - это и есть Котляревская, которую в 1925 году объединили со 101-летней станицей Пришибской. Именно Майский тогда имел все шансы стать центром русской части Кабардино-Балкарии, в 1925-28 годах выделенной в Казачий округ, где кабардинцев и балкарцев жило меньше, чем осетин. Но затем от национального деления внутри республики отказались, да и ветка к Нальчику не баловала обилием трафика, так что в итоге даже городом Майский сделался лишь в 1965 году. И тем не менее в Майском этнический состав уже иной: тут 75% населения - славяне.
3.

Из окна маршрутки я заснял тихий вокзал да какую-то сталинку близ него, а больше ни в Майском, ни в Нарткале взгляду зацепиться не за что.
4.

Перед Прохладным дорога пересекает Малку, небольшую в общем реку, для кабардинцев имеющую примерно то же значение, что для вайнахов Сунжа. На соседнем железнодорожном мосту вся история читается в облике: от изначального виадука (1875) Ростов-Владикавказской железной дороги после тяжелейших боёв Великой Отечественной остались лишь опоры да единственный пролёт, а остальные воссоздали в 1940-х годах из железобетона с эмблемами победителей:
5.

Вскоре я покинул маршрутку на восточном въезде в Прохладный, на развилке автомобильных и железных дорог. Здесь впечатлила меня диалектика памятников - с одной стороны тонкий обелиск Освободителям Кавказа (1965), с другой... ну вы сами понимаете, бойцам каких незримых войн.
6.

Прохладный вытянут на 12 километров вдоль Малки и железной дороги, разделяющейся надвое у его восточных окраин. Направо, к Тереку и вверх вдоль него, уходит старая Ростов-Владикавказская линия (1872-75) с ветками в Нальчик от Майского и в Назрань от Беслана. Последняя когда-то продолжалась к Гудермесу через Грозный, куда приехал по ней нефтяной бум, но так и не была восстановлена после Чеченских войн. Зато левая линия Прохладного, проложенная в 1915 году к тому же Гудермесу через Моздок, ныне стала частью магистрали из Москвы в Баку, по которой, глядишь, пойдут через несколько лет поезда из Ирана. Вдоль правой ветки я приехал, вдоль левой - продолжил путь:
7.

Впрочем, в эту сторону Прохладный обращён в основном промзонами, а потому куда актуальнее его объездная, пару километров до которой меня подвёз удалой русский дядька на джипе. На повороте почти сразу же притормозила "Лада" с большим багажником, в которой сидели двое весёлых кавказцев. Они пригласили в салон, но, смеясь, предупредили, что сейчас поедут обратно в Прохладный: обернувшись, чтобы прикинуть, куда посадить пассажира, они обнаружили, что забыли стремянку, и были рады мне хотя бы за то, что обнаружили пропажу не слишком далеко. Проехав Прохладный буквально насквозь, мы оказались в неожиданно симпатичных районе новеньких малоэтажек наподобие Немецкой деревни в Краснодаре и Американского городка в Южно-Сахалинске, где лишь широкий плац выдаёт гарнизонную сущность:
8.

Но затянувшаяся дорога даже обрадовала меня: спутники оказались интересными собеседниками. Ехали они в Серноводск, но не тот, что в Чечне, а тот, что в Ставропольском крае близ Моздока, и были они кабардинцам, да при том - кабардинцами неожиданно разговорчивыми. Что в Карачаево-Черкессии, что в Кабардино-Балкарии адыги запомнились мне людьми очень закрытыми и не склонными распространяться чужакам, тем более про свой народ. Здесь же только и было разговоров, что про Хабзу - национальную философию адыг. Сейчас от неё остался, как мне объясняли, в основном этикет, включающий базовые правила вроде уважения к старшим или ответственности за слова. Уорк-хабза, кодекс чести воина (да, воины у адыг - это уорки!), ушла в прошлое с тех пор, как непокорных черкесов царь изгнал в Османскую империю, а те, кто покорились, стали служить в регулярных войсках. От древней религии, так же бывшей частью Хабзы, осталось чуть больше - по словам моих попутчиков, близ их села есть старое, расщеплённое молнией дерево, которое старики иногда тайно кропят молоком, а в прошлом - и кровью жертвенных животных. Дальше пошли неизбежные по обе стороны Кавказа разговоры про тьму веков: если ингуши, не размениваясь по мелочам, возводят историю аж к шумерам, а чеченцы считают своей древней империей Урарту, то у адыг - хатты и хетты мелкие второстепенные племена с периферии. Под эти разговоры мы доехали до Екатериноградской - второй станицы от Прохладного и последней перед границей Северной Осетии. Отсюда 30 километров до Моздока и 15 до Новоосетинской: мой маршрут почти сомкнулся с прошлогодним.
9.

Что ж до адыгов, то родство с хаттами - вопрос, конечно, спорный, но факт в том, что жили они на Западном Кавказе неописуемо давно. В широколиственных горных лесах, похожих на джунгли Сайгона, они были непобедимы, и древние греки покупали у зихов рабов, а русские князья приглашали касогов на службу. Византийцы пытались обращать горцев в православие, а генуэзцы - в католичество. Они и прозвали адыг черкесами, но сами того не желая, привели и в ислам: с итальянцами черкесы всё чаще попадали в Средиземноморье, охотно служили мусульманским султанам как мамлюки, а в 1382 году и вовсе подняли восстание в Каире да сами стали династией Бурджитов во главе султаната. На родине госстроительство шло тяжелее: самым опасным врагом адыга был другой адыг, и в горах вели бесконечные войны многочисленных племена. Племена эти делились на "демократические" и "аристократические" - у первых всё решалось на народных сходах и советах старейшин, а вот у вторых во главе стоял пши (князь), чаще всего возводивший родословную к полулегендарному объединителю адыг Иналу Светлому. И вот, в 15-16 веках, когда цветущие при Алании и вытоптанные Золотой Ордой предгорья Центрального Кавказа оказались как бы ничьи, кто-то из этих князей придумал покинуть лесистые горы. Так возникла Кабарда, вскоре схлестнувшаяся с Крымским ханством, и по принципу "друг моего врага мой друг" уже в 1561 году объединившаяся с Россией, послав Ивану Грозному жену. К 1570 крымчаки и турки взяли верх, но - со всем уважением к братьям по вере: кабардинские пши роднились с Гиреями, а подчинённость их сводилась к небольшой дани и нейтралитету в войнах. Княжьи роды же ветвились, им делалось всё теснее, и порой гордые пши говорили друг другу "Выйдем?" - если на Малке стояла более-менее монолитная Большая Кабарда, до за Тереком на Сунже возникла Малая Кабарда, являвшая собой конгломерат враждующих княжеств. К 1739 году Кабарда сбросила крымское иго, но тут на Кавказе объявилась войско русского царя, с которым никто не разрывал подписанного два века назад договора. Проще говоря, Кабарду не собирались даже присоединять к России, а просто взяли как давно уже свою. В 1763 году была основана первая в Кабарде русская крепость Моздок, вскоре приросшая целой линией укреплений по Малке и Тереку. Близ устья двух рек появилась в 1777 году Екатерининская крепость, само название которой явно намекало на нетривиальную судьбу.

В 1781 году крепость была преобразована в город Екатериноград, в 1786 году ставший центром Кавказского наместничества. Границы его проходили, мягко говоря, не очевидно: на северо-запад наместничество простиралось до Таганрога и Хопёрска, на северо-восток - до Уральска и Гурьева (Атырау), разделяясь на Кавказскую и Астраханскую губернии и "жилища донских казаков". Екатериноград и Екатеринослав в своём созвучии названий стали центрами крупнейших регионов, покорённых при Екатерине II, и можно только представлять себе город, который бы здесь разросся. На Терек глядел бы колонными портиками Наместничий дворец со скульптурами по мотивам "Аргонавтики" и легенды о Прометее. Кто-нибудь из мэтров классицизма пытался бы совместить в соборе Святой Екатерины афинский Парфенон и римский Пантеон, но из-за вредности Павла I всё свелось бы к пятиглавию и шпилю над колоннами, которые успели завершить. Екатерининский проспект переходил бы в Военно-Грузинскую дорогу, у начала которой, на эспланаде бывшей крепости, выросла бы Осетинская слобода с церковью. Дальше вдоль дороги по правую сторону селились бы черкесы, по левую - чеченцы и ингуши, но тем и другим мечеть бы построил Синод. Поближе к центру обосновались бы вездесущие армяне, в православных церквях нередко звучала бы и грузинская речь, ну а кирха, костёл и синагога и так строились в любом крупном губернском городе. На западе к Екатеринограду примыкала бы Донская станица, а на востоке - Терская, с севера же шумел бы Калмыцкий базар с кибитками да деревянным хурулом, так что на улицах города запросто могли повстречаться священник, мулла и лама. Однако самые роскошные особняки Екатерининского проспекта, шедевры русского модерна и мавританского стиля, принадлежали бы не генералам и не горским князьям, а купцам ветвистой династии Дубининых, основатели которой, крепостные братья-смолокуры, построили в 1822 году в соседнем Моздоке первый в мире нефтеперегонный завод. Конечно, расцвет Екатеринограда к началу ХХ века был бы достоянием прошлого - никто не отменял Тифлиса, - и всё же тут мог быть хотя бы Владикавказ и Грозный в одном лице. Однако уже к концу 1780-х ВНЕЗАПНО выяснилось, что не все кабардинские пши рады быть вассалами царя гяуров, и набеги на строящуюся столицу не оставляли в ней актуальности ничему, кроме крепостных стен. К 1790 году у наместника лопнуло терпение: фельдмаршал Иван Салтыков, любитель роскошных балов, домашнего театра и славной охоты, перенёс свою резиденцию в Астрахань. Екатериноград остался уездным городом, к 1802 году был понижен в заштатный город Моздокского уезда, а к 1822 году окончательно превратился в станицу.
10.

Вот здесь приводится дореволюционный текст: "В Екатеринограде построен был Потемкиным дворец наместника с необыкновенной для Кавказа роскошью. В нем была целая амфилада комнат с залом, посреди которого величественно возвышался императорский трон, у ступеней последнего стояло кресло для наместника. Здесь Потемкин принимал при торжественной обстановке послов Шамхала Торковского и приводил их к присяге императрице Екатерине II". Но мне кажется, это скорее легенда - сомнительным выглядит и столь быстрое возведение дворца, и исчезновение его без остатка. Учитывая скоротечность столичной истории Екатеринограда, удивляться стоит не тому, как мало тут осталось, а тому, что вообще что-то есть: въезд в станицу от трассы упирается в Каменные ворота, как называют здесь самую что ни на есть Триумфальную арку. Построили её в 1782-83 годах по велению Григория Потёмкина, видимо как первый элемент Наместничьего города "под ключ". Воротам, однако, и в станице нашлось применение: в 1799 году они стали официальным началом Военно-Грузинской дороги, и надпись "Дорога въ Грузiю" полуметровыми медными буквами провисела на арке до 1847 года. Снял их при реставрации Михаил Воронцов - к его эпохе дорога в Грузию начиналась из Владикавказа.
10а.
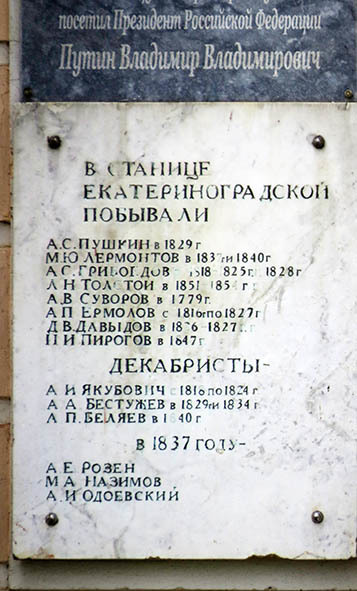
Теперь Каменные ворота - что-то вроде станичной реликвии: к моему удивлению, о былом величии тут знает даже детвора. Рядом - памятник с Вечным огнём:
11.

А вокруг Триумфальной арки - акации, заборы, хаты:
12.

По главной улице, близ Каменных ворот изгибающейся под прямым углом параллельно трассе, я направился в центр станицы:
13.

Где с покосившимися хатами перемежаются крепкие, даже если заброшенные, кирпичные дома:
14.

Не только в Сибири красивы наличники:
14а.

Пройдя около километра, я вышел к площади, где с одной стороны высится стела 200-летия станицы, а с другой - невзрачный ДК хрущёвских годов, напоминающие всем своим видом о том, что в 1920-92 годах станица называлась Красноградской. У ДК со мной заобщались мальчишки, проезжавшие мимо на великах. Потихоньку они уехали дальше, и лишь один, самый въедливый, расспрашивал меня о том о сём минут 20, но напоследок попросил сто рублей на шоколадку. Вспомнив все азиатские "мистергивмидоллар", я отказал ему, да добавил, что стыдно просить у чужих.
15.

В кустах по соседству испуганно съёжился Ленин:
16.

Напротив ДК - заброшенные стенды колхоза:
17.

Однако сам основанный в 1930 году колхоз имени Петровых пока живой, хоть дикие капиталисты капиталисты и стараются ликвидировать этот "последний очаг коммунизма в республике".
17а.

А за колхозной усадьбой высится храм Евфимия Нового, в абрисе которого чувствуется что-то совсем не станичное, а городское, губернское. В Екатериноград успели прислать из Петербурга деньги на строительство собора Святой Екатерины, которое, однако, не продвинулось дальше закладки. Тем не менее, об этом подарке был осведомлён Николай I, и посетив в 1837 году Кавказ да обнаружив в Екатериноградской типичную для станиц деревянную церковь, распорядился: деньги - отыскать, а храм - построить. После проверки и расследования, затянувшихся на несколько лет, удалось выяснить, что след екатерининской фундации обрывается в Астраханской епархии, которой и пришлось выполнять поручение прошлого века. Инфляция, конечно, была и в ту эпоху, да и столичных архитекторов никто беспокоить не стал, но всё же в 1845-50 годах в Екатериноградской станице возвели храм масштабов конечно не наместничьего, но твёрдого уездного города. Теперь это старейшая церковь во всей Кабардино-Балкарии:
18.

Хотя не покидает меня ощущение, что и проект тут тоже был времён Екатерины II, лишь при строительстве доработанный под "православие-самодержавие-народность". Редкое же посвящение скорее всего возникло просто по календарю (по крайней мере я не нашёл ничего о его появлении), однако оказалось весьма уместным в уже не наместничьем городе, но воротах Военно-Грузинской дороги: афонский монах Евфимий был из фамилии грузинских эриставов (феодалов-губернаторов) и прославился переводами священных писаний на родной язык.
19.

В соборе я застал одинокую смотрительницу, которая, конечно, приняла меня за странника-богомольца. Да поведала о том, что её сын когда-то уехал в Москву, закончился университет, занялся бизнесом и вроде даже неплохо в нём преуспевал... а потом надломился, запил горькую и потерял всё. Не владеющая интернетом, меня она попросила узнать, в каких церквях Подмосковья спасают людей "от недуга пьянства".
19а.

Выйдя из храма, первым делом я приметил слона - кажется, на территории местного детского садика:
20.

Поодаль обнаружились памятник Пушкину и музей, с 1987 года занимающий старую церковно-приходскую школу. Вроде как действительно неплохой, но увы - я попал на обеденный перерыв, окончание которого как раз совпадало с отъездом маршрутки в Прохладный:
21.

А на задворках усадьбы колхоза - обветшалый обелиск (1981), на постаменте которого упомянуты 11-я Армия (воевала за Кавказ в Гражданскую войну) и куда более загадочные "Балтийские рабочие". Я смог выяснить лишь то, что километрах в 15 от Екатериноградской есть посёлок Балтийский, совхоз в котором комплектовался с 1929 года рабочими с ленинградского Балтзавода, и видимо с колхозом связан некий знаковый для Екатериноградской эпизод битвы за Кавказ. Ну а под розовыми звёздами - те самые Петровы имени колхоза, убитые "кулаками" в 1930 году.
22.

Обойдя станицу, я сел на остановку с любовно выставленными кем-то креслами из ДК - до маршрутки оставалось около получаса, за которые, однако, со мной успел познакомиться и о чём-то побалакать пьяненький мужик.
23.

Маршрутка привезла меня в Прохладный по уже знакомой объездной - в длинный город с неё поворачиваешь буквально посередине. На въезде встречает невесть откуда взявшийся казахский Байтерек:
24.

Автовокзал Прохладного утоплен в рынок, но внутри сохранил интерьер с футуристическими окошками касс. В одном из них мне было сказано, что последний автобус на КавМинВоды отправляется через полтора часа (около 15), а уже сам я посмотрел, что после 17 будет ещё и поезд.
24а.

История Прохладного не столь яркая, как у Екатериноградской, но даже чуть более длинная: слобода Моздокской линии тут была основана уже в 1765 году. По легенде, конечно, Потёмкиным, ехавшему по знойной степи в Екатериноград закладывать Триумфальную арку да нашедшего прохладу в роще у реки, но в той же ситуации мог оказаться и безвестный офицер новой границы. В 1824 году слобода стала станицей, в 1875 пополнилась станцией, а на станцию, последнюю перед крутым поворотом магистрали на юг вдоль Терека, начал стекаться торговый народ - здешняя Воздвиженская ярмарка к началу ХХ века слыла чуть ли не крупнейшей на Кавказе.
25.

Теперь о торговом-станичном прошлом напоминают россыпь "уездных" домиков:
26.

27.

Современный памятник Терским казакам:
28.

И огромный белоснежный Никольский собор, нависающий над западной половиной города:
29.

На первый взгляд он выглядит удачным новоделом, однако - построен в 1882-86 годах. В 1901 к нему добавилась колокольня, в 1997 - крестильная церковь Иоанна Предтечи в каком-то прицерковном домике, а уж совсем недавно - памятники героям Первой Мировой войны и жертвам репрессий. Они стоят у входа в тесный переулок: школа напротив храма явно построена на месте станичной площади.
30.

А потому и кажется собор неописуемо огромным, хотя на самом деле в нём даже 30 метров нет:
31.

В трапезной обнаружились бутафорские куличи в человеческий рост и свойский батюшка в камуфляже:
32.

С благословения которого я заснял витражи - самую яркую деталь огромного зала собора:
33.

Выйдя из собора, я попробовал вызвать Яндекс-Такси, и машина откликнулась почти сразу, однако вместо того, чтобы ехать ко мне, начала словно писать мне некое тайное послание траекторией вокруг кварталов. Отменив заказ, я спросил женщину на остановке, как ехать в центр, а та, разговорившись, наглядно продемонстрировала мне, что в станичных домах по сей день живут казачьи потомки - буквально впихнула мне в карман 50 рублей. Я почти не отнекивался: не первый раз на моей памяти люди именно в казачьих регионах, увидев путника, не от зависти зеленеют, а пытаются дать денег в путь. Вскоре появилась и нужная маршрутка, на которой я вновь проехал мимо автовокзала в толчее рынка и мимо площади Ленина с Ильичом, коробкой администрации и сталинкой ДК - на ещё одну, безымянную площадь у самого крупного в городе старого дома:
34.

Ведь от собора дальше на запад тянутся лишь приземистые прямоугольные кварталы станицы, в итоге упирающиеся в "Кавказкабель" - крупнейший завод Кабардино-Балкарии, основанный в 1958 году и чуть не угробленный несколько лет назад. Он изначально был заложен на окраине: с превращением станицы в станцию на рубеже веков Прохладная потянулась на восток. В 1937 году, сменив окончание в названии, она сделалась городом, и я бы сказал, по своей атмосфере в нынешнем Прохладном больше рабочего, чем казачьего. О чём напоминает хотя бы памятник лихому комсомольцу, поставленный не абы когда, а в 2020 году, и не кем-нибудь, а местной комсомольской организацией:
35.

О том, что это Кавказ, напоминает Магомед Нурбагандов - милиционер из Дагестана, предсмертная фраза которого в плену у террористов в 2016 году ушла в народ:
35а.

На стыке же кавказского и советского - мозаика (1965) у подножья стелы 200-летия города:
36.

На другой стороне площади блестит стеклом кинотеатр "Маяк", основанный видимо в том же 1965-м, но недавно построенный с нуля на старом месте. Перед ним - неожиданно симпатичная скульптура "Преодоление" (2021):
37.

За "Маяком" скрыт небольшой парк, один из нескольких в Прохладном. Вход в него отмечен рамкой старых футбольных афиш:
37а.

А в подзапущенных глубинах скрыта ещё пара мозаик:
38.

В том же 1965 году был основан музей на одной из окрестных улиц, привлекающий взгляд необычным расположением вывески:
39а.

От площади 200-летия Прохладного я побрёл дальше на восток, пока ещё сохраняя надежду успеть на автобус. Станица тут сходит на нет окончательно, но пятиэтажки радуют тёплым уютном дворов:
39.

И артефактами былой эпохи:
39б.

Я шёл посмотреть на местный монумент Победы (1984), в свою казённую эпоху получившийся просто на редкость "с человеческим лицом":
40.

За лицам виднеются простенькие памятники наподобие мемориальных досок - чернобыльцам, милиционерам при исполнении, репрессированным Терским казакам и солдатам, павшим в Южной Осетии и Чечне. БТР чуть в стороне не просто так в камуфляже "пустыня": каждый валун рядом с ним - символическая могила земляка, не вернувшегося из Афганистана. Там тоже есть задел для продолжения - стенд у памятника повествует о Сирийской кампании. Ну а патриарх здешних монументов - увековеченный в 1965 году Арсений Головко, терский казак из Прохладной станицы, в войну возглавлявший Северный флот, а в 1950-52 годах руководивший Морским генштабом. Всё вместе же числится ни чем-нибудь, а кабардино-балкарским филиалом парка "Патриот".
41.

До автобуса оставалось порядка 20 минут, и я снова вызвал Яндекс-Такси. Машина нашлась почти сразу, но вновь не поехала ко мне, а принялась писать своей траекторией что-то вроде "иди на фиг". Отменив заказ, я повторил попытку - и увидел то же самое в третий раз. Уж не знаю, что тут за прохладная история, но стало ясно, что на автобус уже не успеваю. Напротив "Патриота" обнаружилось кафе с осетинскими пирогами, но в нём я в первый раз за 3 недели кавказской поездки не получил удовольствия от еды. Утолив голод, я побрёл невзрачными советскими районами в сторону вокзала. Обратите внимание на лица прохожих: русские тут составляют 80% населения, но пятая часть иных народов - это тоже немало. Причём состав этой пятой части впечатляет: 4,5% - кабардинцы, по 3,5% - армяне и турки, ещё 3% - корейцы и по 1% немцев и цыган.
42.

Топать предстояло километра 3, и на всё это расстояние я сделал всего несколько кадров. Вот у местного АТП, напротив весьма колоритных цехов, оказавшихся обычным заводом железобетона, нашёлся памятник воинам-автомобилистам:
43.

Привокзальный район открывает Покровская церковь (2013):
44.

За которой тянутся белые путейские дома:
45.

Я не успел дойти до Дома культуры железнодорожников - самой солидной в городе, хотя и полуразрушенной, сталинки. Рядом с ней - опять же впечатляющий человечностью лиц памятник юным братьям-подпольщикам Вичиркиным и Мельниковым. Но это всё примерно в километре дальше вокзала и столько же не доходя до обелиска Освободителям из начала поста. До поезда оставалось около получаса, и я решил, что рискую не успеть. Привокзальная площадь в Прохладном похожа на двор, отделённый от ближайшей улицы Головко пятиэтажками и магазинами:
46.

На фоне станционных зданий неясного возраста - парящий орёл. Это ещё один памятник основателям станицы (2018):
46а.

Приземистые и невзрачные станционные здания полны народа - не в тупиковом Нальчике, а именно здесь главная пассажирская станция Кабардино-Балкарии:
47.

На прошлом и следующем кадрах обратите внимание на синие горы вдали - это Терский и Сунженский хребты, предгорные гребни вайнахии, колыбель терских казаков, возводящих свою родословную к ушедшим на Каспий ушкуйникам. И очень забавно в одной поездке видеть издали места из другой.
48.

На этот раз мой путь - в другую сторону:
49.

В Георгиевск, о котором - в следующих двух частях перед новым отъездом в сторону Кавказа.
https://varandej.livejournal.com/1129517.html
|