Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://botinok.co.il.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://botinok.co.il/node/feed, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
5-й Международный литературный фестиваль в Иерусалиме |

Культурный центр «Мишканот Шаананим», 25-28 мая 2016 года: иранская специалистка по творчеству Набокова, китайский разведчик, любовь к птицам, Гарри Штейнгарт из «наших» в Америке, 90-летие Сами Михаэля, «Дон-Кихот» и опера для детей Этгара Керета. Это только завязка интригующего и интереснейшего литературного действа, которое произойдет в Иерусалиме в конце мая 2016-го.
Международный литературный фестиваль — это несколько дней встреч известных писателей с поклонниками литературы. Дискуссии, лекции, чествования, мероприятия для детей, литературные марафоны, музыкальные выступления, театральные чтения и мастер-классы — заметное событие в литературных кругах Израиля при участии израильских и зарубежных литераторов и писателей, чьи книги переведены на иврит. Посетителям фестиваля предлагается на выбор множество мероприятий разного рода, некоторые из которых проводятся на иврите, многие – на английском языке. На открытой площадке мельницы Мишкенот-Шаананим будет организована специальная программа для детей и родителей. В программу фестиваля также входят несколько бесплатных мероприятий.
5-й Международный литературный фестиваль откроется в культурном центре «Мишканот Шаананим» в Иерусалиме 25 мая 2016 года. Со среды по субботу гости фестиваля смогут посетить десятки культурных мероприятий: концертов, лекций, экскурсий, литературных мастер-классов, занятий для детей. В рамках фестиваля можно будет также встретиться и пообщаться с ведущими израильскими и зарубежными авторами.
Директор фестиваля – Моти Шварц, генеральный директор культурного центра «Мишканот Шаананим». Художественный руководитель – Лиран Голлод. Мероприятие проводится при поддержке фонда The Jerusalem Foundation и приурочено к пятидесятилетнему юбилею со дня основания этой благотворительной организации. В организации фестиваля также принимают участие Министерство просвещения и Министерство иностранных дел Израиля, Благотворительный фонд «Генезис» и другие частные фонды и спонсоры.
В этом году на литературный фестиваль в Иерусалим съедутся авторы со всего мира. Для некоторых из них это будет первый визит в Израиль. Среди участников фестиваля: наиболее известный на сегодняшний день ирландский писатель Колум Маккэнн; французо-иранская писательница, владеющая восьмью языками, специалистка по творчеству Набокова Лила Азам Зангане; талантливые мать и дочь – лауреатки множества литературных премий Анита и Киран Десаи из Индии, которые примут участие в программе «Резиденси»; Нелл Зинк – американская писательница, ныне проживающая в Германии, ученица Джонатана Франзена, знаменитая своей любовью к птицам; Мэй Джиа – бывший сотрудник китайской разведки, председатель Союза писателей в своей родной провинции Чжэцзян, один из известнейших современных писателей Китая, завоевавший в последнее время известность на Западе; новое имя в американской литературе, любимец критиков Энтони Марра; колумбиец Хуан Габриэль Васкес – восходящая звезда на литературном небосклоне Латинской Америки; испанец Хесус Карраско, автор бестселлера «Под открытым небом», по сюжету которого в эти дни снимается кинокартина; Гари Штейнгарт – Вуди Аллен литературного мира США, родившейся в Ленинграде; Шели Ория, американка израильского происхождения, живущая и работающая в Нью-Йорке, персональный коуч-консультант известных литераторов и деятелей искусства, чья первая книга, вышедшая по-английски, недавно увидела свет в переводе на иврит.
Зарубежные гости примут участие в мероприятиях фестиваля вместе с израильскими авторами и деятелями искусства – Давидом Гроссманом, Этгаром Керетом, Сами Михаэлем, Меиром Шалевом, Авраамом Б. Иегошуа, Дорит Рабиньян, Орли Кастель-Блюм, Широй Гефен, Дрором Борштейном, Яарой Шхори, Асафом Шором, Михаль Говрин, Цруей Шалев, Руби Нимдаром, Ногой Элбалах, Тамар Марин, Матаном Хермони, Шимоном Адафом, Ишайем Саридом, Леонидом Пекаровским, Дрором Мишани, Иманом Сихсахом, Эваном Фалленбергом, Сарой Блау, Ноа Ядлин, Ниром Барамом и Ассафом Гавроном.
На фестивале также выступят поэты Рони Сомек, Тагель Фрош, Ноам Партом и Шломи Хатука; актеры Лиор Ашкенази, Саша Демидов и Ури Гохман; музыканты Эхуд Банай, Аркадий Духин, Яали Соболь и Тамар Эйзенман; художники Яир Гарбуз и Гай Бен-Нер; раввин Бени Лау и многие другие.
Среди многочисленных мероприятий фестиваля особенно хочется отметить литературную встречу с музыкантом Эхудом Банаем; вечер в честь 90-летия писателя Сами Михаэля; встречи, посвященные культовому нью-йоркскому комедийному сериалу Happy Ending с участием писателей, музыкантов и артистов; встречи у мельницы Мишканот Шаананим с писателем Алексом Эпштейном, который обещает превратить своих гостей в героев новой книги, создающейся непосредственно во время фестиваля; мероприятие, посвященное роману «Дон Кихот», приуроченное к 400-летию со дня смерти Мигеля де Сервантеса; новую выставку художника Яира Гарбуза; торжественную премьеру оперы для детей «Безлунная ночь» по книге Этгара Керета и Ширы Гефен; творческие дуэты Тамар Марин и Матана Хермони, Яары Шхори и Гая Бен-Нера; творческие дуэты детских авторов с участием Меира Шалева и Аелет Саде, Этгара Керета и Ширы Гефен; литературный мастер-класс Галит Даган-Карлибах для подростков, посвященный супергероям; мастер-класс по кунг-фу от Асафа Шора и Дрора Мишани; экскурсии с писателями и беседы с авторами об искусстве в Музее Израиля. На протяжении всего фестиваля в центре «Мишканот Шаананим» будет действовать Библиотечный сад с библиотекой, магазином и кафетерием.
Биография каждого из участников фестиваля – уже сам по себе материал для книг, которые они как раз и пишут, но русскоязычная клавиатура обязывает назвать в первую очередь «своих»: Алекс Эпштейн, Саша–Исраэль Демидов, Леонид Пекаровский, Гари Штейнгарт. По знакомству «русской» израильской аудитории с израильскими писателями в этом же ряду стоит упомянуть Сами Михаэля, Этгара Керета, Меира Шалева, Авраам Б. Йегошуа, Цруйю Шалев. По степени заинтересованности приплюсуем сюда же встречу с переводчицей Набокова, экскурсии с писателями в Музее Израиля и оперу для детей.
И снова вернемся к программе, но прежде уделим внимание гостю из США – Гарри Штейнгарту, родившемуся в Ленинграде, подростком вместе с родителями переехавшему в США и пишущему по-английски. Его книги «Приключения русского дебютанта», «Супергрустная история о первой любви» и «Абсурдистан» переведены на иврит и на русский язык, отрывки из них печатали в журнале The New Yorker. За свою первую книгу «Приключения русского дебютанта» он получил сразу две премии — Stephen Crane Award for First Fiction and a National Jewish Book Award for fiction. В 2006-м «Абсурдистан» был объявлен книгой года сразу десятком американских изданий, а сам автор оказался в списке 20 лучших писателей младше 40 лет по версии журнала The New Yorker.
Алекс Эпштейн — автор «микро-рассказов» — также родился еще в Ленинграде. И также, как и Штейнгарт был увезен из СССР в возрасте 9 лет. Он – автор 15 книг – книг для детей, сборник поэзии и рассказов, трех романов, дигитальных книг. Он уже дважды удостаивался приза главы правительства в категории «Израильские писатели» Его проект на фестивале в Мишкенот Шеананим называется «Фото Нецах» – «Фотография на память». Посетители фестиваля смогут стать персонажами его новой книги, но для этого им надо будет встретиться с Алексом Эпштейном и в течение 10 минут рассказать ему о самом важном событии в жизни. Место для свиданий автора и будущих литературных героев — мельница Монтефьори. Рассказы будут публиковаться в дни фестиваля в Интернете и прообразы смогут опубликовать рядом с рассказами Эпштейна свои тексты.
Любители Набокова не смогут пропустить встречу с Лилой Азам Зангане, специалисткой по Набокову, автором переведенной на русский язык книги «Волшебник. Набоков и счастье». Лила родилась в Париже в семье выходцев из Ирана. Изучала литературу и философию в EcoleNormaleSup'erieure, затем преподавала литературу и романские языки в Гарварде в США, стала известной благодаря своим эссе и публикациям в ведущих мировых журналах. Ее книга «Волшебник. Набоков и счастье» вышла первоначально на английском и затем была переведена 9 языков. Лила Азам Зангане владеет 7 языками и сейчас живет в Нью-Йорке. Лауреат многих премий. В настоящее время заканчивает работу надо романом «A Tale for Lovers & Madmen».
Леонид Пекаровский – историк, писатель, искусствовед. Его книга «Метла и другие рассказы» вышла в переводе на иврит в издательстве «Сифрият ха-поалим» в переводе Тани Хазановски и Томера Сарига и стала бестселлером в Израиле. Леонид Пекаровский репатриировался из Киева в 1991 году в 44 года. Работал печатником, садовником, сторожем автомобильной стоянки в Тель-Авиве. Его профессиональные интересы — это творчество Дюрера, Набокова, древнеримская и древнегреческая философия, природа перевода и исследование рисунков Зеэва Жаботинского
Моти Шварц, гендиректор «Мишканот Шаананим» и руководитель фестиваля: «Подготовка к фестивалю подходят к концу, скоро открытие. Разумеется, я взволнован, ведь речь идет об одном из важнейших событий в литературной жизни страны, повторяющемся раз в два года. Каждый раз мы стараемся предложить постоянным гостям новые интересные встречи и привлечь новую публику. В этом году, помимо литературных встреч, запланированы беседы на социальные и другие насущные темы – у гостей будет возможность поделиться разными мнениями в располагающей к ведению дискуссий обстановке. «Мишканот Шаананим» – ведущий культурный центр в Иерусалиме. В этом центре проходят международные мероприятия и проекты, включая проект «Резиденси», в рамках которого деятели искусства со всего мира приезжают творить в Израиль».
Лиран Голлод, художественный руководитель фестиваля: «В этом году мы подготовили разноплановую неординарную программу. Планируются совместные международные проекты, встречи и обсуждение тем, касающихся не только самой литературы, но и жизни писателей, формирующих многогранность их творчества. Помимо этого, запланированы специально подготовленные для фестиваля мероприятия с участием израильских и зарубежных авторов. У гостей фестиваля будет возможность встретиться с полюбившимися авторами и услышать новые голоса».
С полной программой V Международного фестиваля писателей можно ознакомиться здесь: http://mishkenot.org.il/writersfestival/program/
Страница в фэйсбуке — www.facebook.com/mishkenot
Билеты в кассах фирмы «Бимот» по телефону *6226 или на сайте www.bimot.co.il
Фотографии предоставленны пресс-службой фестиваля (заглавная фотограия - Наама Ноах)
|
|
Новый мировой беспорядок – отражение в документальном кино. 110 кинолент за 10 дней |
|
|
Парад планет за «Занавесом» |

В мае 2016 нас ожидает Парад Планет : на фестивале «Русский Занавес» будут представлены театры из Швеции, Германии, России, Украины и Израиля.
Публикуем интервью Севиль Велиевой с главным организатором фестиваля Олегом Родовильским – основателем израильского театра «Zero» , существующего более 13 лет.
— Олег, не сочтите начало беседы меркантильным, но начать ее хочется с финансого вопроса. Как известно, Театр «Zero» под вашим руководством получил финансовую поддержку от Министерства абсорбции, на проведение Первого международного фестиваля русскоязычных театров мира «Русский Занавес -2016». Театр, у которого нет даже собственного помещения, принимает решение организовать в масштабах целой страны не имевший аналогов международный театральный фестиваль – зачем?! Что за этим стоит – режиссерские амбиции или идея выгодной инвестиции?
Помните, Портос говорил — «я дерусь, потому что дерусь»? Наша логика была абсолютно схожей. Это не вопрос финансового профита! Нам интересно и важно представить израильской публике современные спектакли, связанные с русской театральной традицией во всем мире, поэтому мы и решились на проведение такого масштабного мероприятия. Кроме того, нам показалось, что фестиваль — это отличный шанс начать. Ведь мы приезжаем на международные фестивали — за творческой индикацией. Следовательно, организуя фестиваль здесь — мы создаем эту индикацию у нас дома.
Как вы решились продолжать фестиваль целый месяц, если ресурсы, в том числе и финансовые, весьма ограничены?
Мы имеем богатый опыт участия в фестивалях различных международных театральных организаций, и знаем, что обыкновенно формат подобных мероприятий строится по следующей схеме: фестиваль привязан к театру устроителей фестиваля как к основной сценической площадке, и захватывает еще несколько сценических помещений, если это требуется. И соответственно, программа любого фестиваля максимально сжата: в день идет по нескольку спектаклей, часто на параллельных площадках. Это обычная, общепринятая форма проведения фестивалей. При этом существуют исключения, например, знаменитый Международный театральный фестиваль им. Чехова, который продолжается полтора месяца и объединяет совершенно разные спектакли, на разную тематику, на разных сценах.
Для нас решение проводить фестиваль нетипичного формата было связано с тем, что, во-первых, на сегодняшний день у нас нет одной сценической площадки, к которой можно было бы привязать фестиваль. Будем надеяться, пока. Во-вторых, специфика современного «театрального рынка» в Израиле заключается в том, что количество продуктов, предлагаемых этим «рынком» так велико, что израильская публика просто не в состоянии переварить все — настолько он насыщен. Поэтому невозможно провести весь фестиваль в рамках одного театра и одного города. И мы приняли решение раздвинуть эти рамки – и во времени, и в отношении географии. Израиль – настолько маленькая страна, что здесь все театры, в общем-то, бродячие ,кочевые. Театру любого размера легче собрать весь скарб и приехать в Димону, чем вытаскивать зрителя к себе.
Таким образом, Фестиваль будет длиться целый месяц?
Да, ровно месяц, с 1 по 30 мая, и охватит 7 городов: Петах Тикву, Реховот, Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Беэр-Шеву, Ашдод, Хайфу .
Сколько участников объединит фестиваль?
Восемь. Среди них – три израильских коллектива, два совместных проекта и три зарубежных театра.
Давайте поговорим о них подробнее?
«Русский Занавес-2016» открывается 1-го мая спектаклем театра «Zero», который является инициатором и главным организатором фестиваля. Наш театр представляет спектакль «Тойбеле и ее демон», Исаака Башевис Зингера. Это премьера спектакля и одновременно открытие фестиваля.
А что будет после?
Следующий участник – творческое объединение под названием Независимый Актерский Проект представляет спектакль «Мгновения». Поскольку Фестиваль состоится в мае, одной из идей было сделать представление по прозе, поэзии и драматургии военных лет. Проект приурочен к 9 мая. Нам удалось создать не совсем традиционную постановку, получилось этакое ассоциативное движение, тему которого можно было бы охарактеризовать как «Женщина и Война». О женщинах на войне, о военной и послевоенной любви, о материнской любви. Спектакль очень символический, он включает в себя живое пение и видеоряд.
Есть еще израильские проекты?
У нас есть замечательный коллектив – «РутХат», русская труппа Хайфского театра, которая представлет свой спектакль по известной пьесе Марии Ладо «Очень простая история». Это уже вторая работа молодого интересного коллектива.
А дальше стоит упомянуть два совместных проекта. Первый – результат сотрудничества шведского театра KEF и тромбониста с мировым именем Элиаса Файнгерша. Мы назвали его международным проектом, потому что израильтянин Элиас живет и работает в Мальме. Спектакль по текстам К. Климовски называется «Соло из оркестровой ямы (голос второго трамбона)» и представляет собой некий музыкальный иронический стенд-ап, в котором собраны истории о жизни второго тромбона «Метрополитан Опера» .В спектакле звучит музыка Бизе, Верди, Пуччини и Глюка в аранжировках Файнгерша. Знакомые всем арии звучат в исполнении тромбона и «живой электроники», создающей впечатление целого оркестра. Это необычное представление состоиться в Ашдоде 18 мая в зале «Дюна».
Кроме того, есть еще один совместный театральный проект. Уже 17 лет в Израиле существует «Ивритский театр» (
|
|
Без брони на Чиланзар |
Недавним Первомаем навеяло. Было мне лет 18-19. Училась я тогда в ростовском медучилице и работала в больнице МВД, медсестрой, в отделении физиотерапии и в кабинете рефлексотерапии. Это такая даже не белая, а золотая кость. Сидим в кабинете, заветы обмываем чистым и стерильным. Домой прихожу навеселе. Звонит папа. Тоже навеселе, у него День Трудящихся киноиндустрии. Говорит:
- Дочь, скучаю, приезжай. – Папа живет в Ташкенте, на трамвае не доедешь.
- Па, как я приеду?
- Самолетом.
- Так мы же не заказывали, ты же понимаешь, без брони не продадут. - На Ташкент никогда свободных билетов не было, у них, у узбеков, там Чиланзар, магазин Ганга, снабжение даже лучше чем в Грузии и Честерфилд на прилавках открыто продавался. Тетя моя говорит, завтра мол, позвоню, и будет тебе билет. И тут папа произносит сакраментальную фразу:
- Ты же грузинка, не можешь пойти и взять один простой билет к родному отцу? – Не знаю, что именно сработало в тот момент? То ли эго? То ли дурь? То ли первомайский эликсир? А может жгучая смесь и выговоры тетки: - Не пущу в таком виде, никуда не пущу. Чтобы совсем было понятно, это самый расцвет деятельности учителя Чикатило в Ростове.
После бурных, но непродолжительных споров, мне вызвали такси, снабдили деньгами и отправили в аэропорт. Все домашние, были уверены в моем скором возвращении.
В аэропорту к кассам не пробраться. Весь Ростов летит в Ташкент. А у меня первомайский отходняк. Я девочка (в те годы) домашняя и трусливая. Колотит меня, лихорадит. Не пейте никогда спирт с персиковым конфитюром. Вдруг (агония, а может, открылось второе дыхание, спортсмены и алкоголики знают), неожиданно для себя, начинаю продвигаться к кассе, по пути локтями распихиваю народ и выпаливаю кассирше: - Я от Бурмистрова, у меня бронь на Ташкент (Бурмистров – бывший зек валютчик, отбывал «химию» в больнице ВМД. Первая фамилия пришедшая на память). Она начинает искать, нет меня. Я настаиваю. Народ шумит. Тут кассирша подзывает мента и просит проводить меня к начальнику аэровокзала. Все думаю, Наташа Гудавадзе, допрыгалась - «мы грузины такие, мы грузины…».
Заходим. Милиционер докладывает, что и как, и на мое счастье уходит. Обливаясь слезами, говорю:
- Я грузинка из Тбилиси, учусь в Ростове, папа живет в Ташкенте, он сказал, что грузины все могут, мне очень надо. Я не могу не полететь.
- А кто у нас папа, кроме того что грузин? Цехавик небось?
- Нет, папа оператор, кино снимает на Узбекфильме.
- Ну, раз так, грузиночка, повезло тебе, ты сегодня полетишь в Ташкент к отцу. Но больше так не рискуй.
|
|
Американцы, прав автор? |

Натолкнулась на интереснейшую побликацию в ФБ.
Американская Цивилизация #7
Административное деление.
Сегодня, разбирался с избирательной системой США и случайно, пришёл к выводу на чём базируется административная система этой страны. Вы может скажете - кому это интересно и что за роль оно играет? Отвечу - правильно заложенная и тщательно разработанная административная система - залог свободы и даже демократии в стране.Начну издалека с основ и откуда. Как это не покажется вам странным, но система административного деления в США, не английская по своей логике и порядку работы, а из Франции и частично из имперского Китая. И состоит, базируется она на полной, окончательной и не подлежащей никаким исправлениям горизонтальной системе власти. В чём основная её фишка можно понять только если вспомнить из курса по средневековой истории Франции знаменитый принцип: Вассал моего вассала, не мой вассал. То есть если вам, как правителю или правительству подчинена какая то территория А с её правительством, то это одно. Однако если внутри этой, подчинённой вам территории А, есть автономные образования Б, В, Г, Д и т.д., которые подчинены правительству территории А, то вы как правитель всей страны, не имеете над ними никакой власти. Таким образом, вертикальная линия ломается в первой же попытке провести централизацию над всеми своими субъектами сверху донизу, включая под-подчинённые территории.
И это выражается на практике в очень простых решениях. Например, губернатор любого штата выбирается жителями данного штата и его не интересовало и не интересует мнение действующего президента по поводу проводимой им политики в штате. Может доходить до того, что губернатор, может отказаться встречаться с президентом или даже пожимать ему руку при встрече. И президент страны по этому поводу может быть абсолютно бессилен. Так как и губернатор, так и президент - избраны, каждый в своей "епархии" и каждый со своими полномочиями, которые идут параллельно, часто никогда не пересекаясь. Там уровень федеральный, а тут уровень штата.
Дальше ещё смешнее и непонятнее. Штат (от голландского слова: место или stadt) делится на графства или как их правильно/неправильно переводят как округа. Руководитель графства имеет титул фрихолдер и тоже избирается в независимом от губернатора или президента всенародном голосовании. И точно также не зависит ни от того, ни от другого. Может и проводит, ту политику и деятельность, что считает нужным.
Наконец на самом нижнем уровне идёт город / посёлок / деревня и другие образования (каждое из них имеет свои плюсы и минусы в смысле муниципальных прав и обязанностей). Этот город выбирает мэра, который в свою очередь не зависит ни от кого из вышестоящих и мною перечисленных административных ответственных лиц.
Таким образом мы имеет 4 административных деления и каждое из них не управляется никем из вышестоящих административных лиц. Таким образом в Американской системе присутствует полностью горизонтальная, а не вертикальная система власти.
Надо учесть несколько моментов, почему такая система настолько хорошо работает.
1. У каждого из этих избранных лиц, есть совершенно чётко расписанные полномочия и обязанности. Которые поменять вышестоящий руководитель, для нижестоящих - не может, без того, чтобы нижестоящий орган управления, в свою очередь утвердил эти предложенные изменения набрав 3/4 голосов "за" нижестоящего законодательного органа. То есть, если, например, губернатор штата, решит в каком то отдельном графстве или городе штата, ввести новые и дополнительные правила бизнеса и налогов, которые даже обусловлены конкретной ситуацией данного графства или города, он это сделать не может пока законодательные органы графства или города, не примут эти правила 3/4 своих законодательных органов.
2. Бывают исключения, когда штат может взять контроль над городом. Такие исключения, тоже чётко расписаны и как правило связаны с форс мажорными обстоятельствами, стихийными бедствиями, войной и т.д. Как пример - недавно на какое то время город Детройт был взят под контроль штата, минуя власть мэра города. Сделано это было ввиду того, что Детройт официально объявил банкротство и по суду вошёл в процедуру реорганизации города. В такой ситуации губернатор штата республиканец, назначил специального адвоката-легиста, с опытом работы по крупным банкротством, который достаточно мастерски в течении 6 месяцев, провёл процедуру банкротства и реорганизации администрации города и его финансов. В связи с данной процедурой мэр города, утратил свои полномочия, и его управление было передано временно назначенному комитету лиц, которые в такой ситуации назначаются, а не выбираются. После окончания процедуры банкротства, были проведены новые выборы и избран другой мэр города. Такие же процедуры продуманы и для целого штата, на какие то непредвиденные случаи и проблемы. Любые несогласия по данным процедурам решаются в независимом суде со своей процедурой и целым рядом возможных апелляций.
3. В имперском Китае, для лучшего контроля над провинциями, губернатор всегда назначался из другого региона, как правило не знавший и не понимавший тот регион, куда его назначили. Мало того, он назначался всего на два года и не говорил на языке данного региона. Таким образом достигалась максимальная защита от коррупции. Но это не конец - губернатор, не мог править чисто указами, своим желанием. У него была куча ограничений и правил, которым он обязан был подчиняться. Потому первым действием нового губернатора, была процедура или церемония чаепития с местными старейшинами. Они степенно общались через переводчика, и в ходе этого общения достигался компромисс и план действий для всего региона. Однако исполнение данного плана отдавалось в руки этих самых старейшин, которые исполняли его в реалии. При этом губернатор не мог вмешиваться в данный процесс исполнения и лишь играл роль свадебного генерала. Единственная возможность вмешаться для него была, если жители какой то деревни, рассерженные нерадивым исполнением плана и действиями старейшин, напрямую обращались к губернатору с жалобой. Жалоба рассматривалась в специальном органе, где основой решений была не воля губернатора или старейшим, а этика поведения и правильность данного плана. Таким образом, несмотря на централизованную власть в Китае, имело место параллельное горизонтальное управление провинциями, что давало наилучшие результаты на протяжении почти 2000 лет. Даже европейцы в 19м веке признавали, что Китай имеет лучшее административное управление по сравнению с Европой. Нечто подобное, в смысле исполнения решений федерального и даже штатовского уровня имеет место в США, где вышестоящие решения, совершенно не абсолютны в своей правильности, могут быть обжалованы и оспорены, могут быть отвергнуты и пересмотрены, могут быть возвращены на доработку, или вообще похоронены.
Всё это может показаться очередным занудством с моей стороны и копанием в деталях, никому и никак не интересных. Однако, я считаю, что это очень важно. Если правитель ограничен не только конституцией, судом и законодательным органом на высшем уровне, но ещё и имеет кучу ограничений на уровне штата, графства, города, то его власть при большой нужности и желании, полностью парализуется, пока он не найдёт компромисс с местными жителями и органами власти. Система эта настолько продумана и строго расписана с чёткими правилами, что споры, хоть и возникают, но почти всегда решаются в пользу местных властей местных жителей. Эта система супер-независимых местных земель-штатов, доведена до такого уровня независимости только в одной стране на всей планете Земля и это США. В Германии, после войны Американцы сделали нечто похожее, но земли Германии всё равно не имеют таких свобод, конституций и возможностей как американские штаты. А так как жители страны это прежде всего каждый отдельный человек, в данном конкретном месте, то его воля куда интереснее, чем воля общего президента. Только поощряя и сохраняя такую систему можно создать единственно правильно управляемую империю нового времени.
P.S.
Дополнение!Почему США пришло к такой системе? Ведь есть и очень успешная модель построения империи - Древняя Персия, но тем не менее в США, отцы основатели, отвергли эту идею и намеренно создали де-централизованное государство. Тому несколько причин.
1. Несмотря на то, что США не пыталось включить огромные завоёванные людские массы с разными культурами в свою структуру, однако надо ясно понять, что США сложилось как страна эмигрантов, говорящих на разных языках, с разными традициями и разными пожиманиями поиска счастья. То есть, это какой то новый вид сверх-империи, где нет ни одной титульной нации и нет общей истории их связывающей. И наиболее логичная и понятная схема, для такой страны, именно вертикально управляемая централизованная страна с целыми набором общих атрибутов и государственных институтов.
Но в Америке отвергают эту простую и понятную модель, потому что именно не пытаются построить новое королевство с более счастливыми подданными. В Америке основная идея, это стать землёй обетованной для толп обиженных и угнетённых, которые со всего мира бегут в Новый Свет, для того чтобы построить страну, где они будут не подданные какого то, даже очень доброго у уважаемого царя, а граждане страны, уважающей их выбор. Потому важная деталь Американской политической системы, не в сверх правительстве, супер умных и заботливых, отцов нации, а в самоуправлении на местном уровне. От деревни, до графства, до штата, до страны в целом. Прежде всего - снизу вверх, а не наоборот. И лишь избрав общие федеральные власти, система начинает работать сверху вниз.
При этом небольшая деталь для понимания - каждый конгрессмен и сенатор, имеет просто немыслимое, даже по нашим временам, расписание. Он как минимум раз в неделю на день или два летает в свой штат-округ для выслушивания просьб и жалоб населения, исполняя свои прямые обязанности - избранного представителя данного местного народа из этого конкретного места в общем федеральном собрании. Потому нижняя палата Конгресса США и называется - Палата представителей.
Для наших заокеанских русских коллег, которые регулярно заявляют, что демократии нигде в мире не существует, могу сказать следующее. Демократия в прямом виде была только в Древней Греции или на сегодня в виде постоянных референдумов в Швейцарии. Демократия на сегодня может работать только в форме передачи полномочий народа, её избранному представителю в общем законодательном органе. В прямую, в виде каких то постоянных собраний и трений, обсуждений и петиций, это неработающая модель - хотя бы потому, что количество обязанностей и правил таково, что нужно не есть, не пить, не спать, не жить, а только заниматься выяснением всех этих задач. Потому компромиссное решение - это избрать нанятого за деньги представителя данного населения, который как правило сам по себе адвокат-легист, а то и даже учёный по гражданскому и экономическому, правам, который сможет за них выполнять эту работу 24/7. Насколько будет хорош этот представитель - вопрос сложный. Все мы люди. Но так как избирается он на определённый срок, то есть постоянная возможность, не избирать некоего представителя заново, если он оказался плох.
2. В Америке, я уже несколько раз писал, нет титульной нации и нет государственного языка всей страны. Государственные языки определяет для себя каждый штат в отдельности. И сделано это потому, что хотя бы учтён вот такой курьёз, что в Америке основная народность - немцы. И они имеют 53 миллиона человек жителей. Вторые ирландцы с 42 миллиона человек. Третье - итальянцы с 18 миллионов жителей. Все остальные этнические группы идут позади. Потому выбор английского языка как основного, фактически случайность.
Та же ситуация с религиями. Основная масса, первоначальных эмигрантов, были белые христиане протестанты из Европы. Однако, потом к ним добавились католики, евреи, православные, индуисты, буддисты и другие религии. Кто из них главный? Никто и именно поэтому ни одна из религий, не принята, как основная.
Каждый штат имеет свою конституцию, столицу, флаг, гимн, символ, дерево, птицу, автомобильные права, правила дорожного движения. Каждый штат имеет свою местную законодательную ассамблею, которая издаёт законы штата и занимается бюджетом. Каждый штат имеет свой Верховный суд. Каждый штат выдаёт сугубо свои профессиональные лицензии на работу. Например врач из Нью Джерси не может работать, всего лишь через мост над Гудзоном, в штате Нью Йорк, потому что не имеет лицензию оттуда. Или если врач хочет, он может получить лицензию из двух и больше штатов, сразу - но это дополнительные экзамены и деньги.
3. Отцы основатели, были очень дальновидные люди. Они понимали, что в тот момент, все вместе, только что победив Англию, они близкие друзья и соратники и всегда договорятся. Но, что будет после них? Потому их мысли и мечты были прежде всего, построить общественно-политическую модель, которая будет работать после них. Тогда когда придут люди не прошедшие тягот и невзгод войны с Англией и которые не будут так же близко понимать, ситуацию, что все отцы основатели США, были предателями Родины, короля и короны, как их величали в Англии. Потому они чётко разделили полномочия разных ветвей власти и создали горизонтальную систему власти, чтобы ни один президент, не смог сделать себя новым королём или императором.
И тут всё чётко. Никаких понятий. Только закон, ясно написанный и исполняющийся. В случае неясности или отсутствия закона на какой то конкретный случай, всегда есть законодательная ветка, могущая написать новый закон или есть суд, который может создать закон, методом судебного прецедента.
Часто приходит на ум знаменитая ситуация, где закон схлёстывается с понятиями. Вот ты идёшь мимо пруда и видишь, что в нём тонет женщина. Ты кидаешься в воду и вытаскиваешь её на берег. Но вытаскивая её, с помощью захвата, ты не будучи профессионалом, случайно задушил её. И тебя будут судить, как самый минимум, за убийство третьей степени - по случайности. И вот в чём дилемма? Дать ли женщине утонуть и остаться негодяем, который наблюдал это и ничего не сделал. Или рискнуть и попытаться спасти её, но в результате есть возможность сесть на 7-10 лет в тюрьму.
Зная это, в этой стране, предпочитают создать правильные законы и регулирование, на любой, даже самый смешной случай, нежели дать возможность понятиям решить это за тебя.
Многабукаф, согласна, но мне лично очень понравилось и исполнение и содержание!
|
|
Станок. Продолжение 3. |

“ Не сейчас, - стандартно ответил мне Манкаль , - положение на заводе очень тяжелое “.
Что- то я не помню, что когда оно было прекрасное, он позвал меня и добавил денег.
“ Хорошо “ , - сказал я с интонацией графа Монте- Кристо , перед тем как он собирался разделаться со своими врагами и пошел работать.
Станок без проблем отработал целый день, но перед концом смены произошло непредвиденное.
А именно - путаница с инструментами. Дело в том, что у каждого инструмента в станке есть свой номер и под этим номером в компьютере записаны его длина и диаметр.
Представьте, что левая фреза диаметром 16 мм. стала работать вместо правого сверла диаметром 3 мм.
Что останется от детали? Правильно , ничего не останется, она превратится в стружку. От инструмента тоже ничего не останется, кроме жалкого обломка.
Я открыл огромный шкаф- магазин инструмента, там был полный салат из перепутанных ячеек ( они справа, черные, похожие на соты) и зависшего робота (он слева), который не понимал, что надо делать.
Что надо делать не знал и я. Надо просто пойти и доложить начальству и пусть у них голова болит, пусть вызывают наших, японцев, кого хотят. Работать так дальше было невозможно.
“А все эти поломки не связаны, случайно, с нашим вчерашнем разговором о зарплате ?” - ядовито спросил Манкаль.
Вот так, да ?
“ А давай-ка ты мне письмо , пойду-ка я домой, а ты трахайся с этим станком сам ! “ - ответил я.
“ Да без проблем, незаменимых у нас нет “ - сказал Манкаль.
Через час мне позвонила секретарша, я забрал письмо, собрал , как в американских фильмах, в картонную коробку свои вещи и поехал домой. Месячная отработка , как мне сказали, была отменена. Ну и пусть катятся ко всем чертям !
Не так все просто. Какой-то идиот перегородил выезд. Ну что за день такой!
|
|
Поверхность. Видит блог — стотысячпятьсот лайков за прочтение |

Ботинок. Начало
Когда-то, в начале 2000-х, когда мы начинали Ботинок, мне довольно быстро удалось сформулировать основную идею ресурса — «любому есть о чем написать, любой имеет право высказать своё мнение по тому или иному вопросу». В то время блоги только начинались и движение только набирало обороты. Подавляющее большинство пользователей в сети являлись исключительно потребителями и дальше чем оставить отзыв в «гостевой книге» (помните, были такие?) не продвигалось.
Это объясняется двумя причинами. Во-первых, не было технических возможностей. И чтобы создать свой ресурс следовало очень сильно постараться. Во-вторых, форма осмысленного общения между людьми принятая в обычной, офф-лайн жизни, другим словом — этикет, ещё не претерпела значительных изменений. Т.е. личный самоконтроль пользователя не позволял вседозволенности. Скорее наоборот. В этом и была задача Ботинка, предоставить людям площадку без претензии, на которой они смогут не стесняясь выразить, показать, рассказать. Каждый новый блоггер был звездой, кладезем, проводником для следующего. Так и сформировалась первая версия сообщества Ботинка.
Ссылка в тему: Все публикации серии "Поверхность"
О проекте
Я назову этот проект «Поверхность». Этому две причины. Первая — я ничего не знаю так глубоко, как следует знать, прежде чем что-либо утверждать. Второе следует из первого и суть в том, что спроса будет меньше.
Блоггинг. Цвет интернета
Пожалуй это была самая интересная пора. Появились технологии позволяющие пользователям вести блоги. Пользователи к тому времени уже осознали уровень некой свободы в сети. С другой стороны технологии не были систематизированны и настолько автоматизированны как в наше время. Ещё не было компаний в распоряжении которых глобальный контролем над интернетом. И большинство из нас думало — вот, интернет — это настоящая демократия.
Важен тот факт, что ведение блога подразумевало под собой нечто большее чем «котики-собачки» и так называемые «хомячки» (личные страницы) пользовались дурной славой на фоне блогов. На ту пору пришёл и расцвет Ботинка, тогда и сформировалась самая сильная версия сообщества, яркие представители которой и по сей день пишут здесь, в ЖЖ и на других площадках. Люди, которых узнают на улице, те, кто дал и даёт другим нечто большее чем собственные мысли.
Нашествие. Социальные сети
С появлением таких социальных сетей как Facebook, Twiter и Одноклассники произошёл довольно большой «предел» интернета. Множество площадок занимающихся блоггингом или работой с социальными связями, попросту исчезли. Я пропускаю период MySpace и пр., он был довольно незначительный, хотя и громкий.
Микроблоггинг. Закат блоггинга
Социальные сети ввели новый формат «микроблоггинг» и в течение пары лет он практически поглотил классический блоггинг. Многие, как обычные пользователи так и звёзды, осознали тот факт, что для того чтобы выразить своё мнение, теперь необязательно писать статью, обосновывать, приводить факты, ссылаться на авторитетные источники. Всего этого можно избежать в микроформате на 140 символов. И как следствие, это повлекло за собой бурное развитие таких негативных явлений как троллинг, шейминг и пр. Также, это привело к радикализации пользователей интернета, деление на четко выраженые крайние течения. Расстояния между мнениями увеличились, и самое неприятное — изменить собственное мнение теперь стало гораздо тяжелее. Именно в этот период интернет повлиял на историю человечества больше всего, вызвав несколько революций и войн в арабских странах.
На полях
Если на минуту отойти от темы и понять природу человека, на многое из того, что я рассказываю и к чему вас веду станет понятно. У нас, людей, в нашей природе, есть три основных отличия перед другими животными. Первое — мы можем объединяться в большие группы управляемые некими правилами. Второе — мы умеем очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Третье — мы умеем создавать то, чего на самом деле нет в природе, т.е. у нас есть воображение.Вот на третьем отличии я бы хотел заострить ваше внимание. Религии, деньги, границы государств, национальности — всё это несуществующие в природе понятия. Это наш виртуальный мир, который мы создали для взаимодействия друг с другом, выживания и размножения.
Сегодня. Что перед нами
Микроблоггинг вытеснил блоггинг, произошла общая радикализация: арабы — израильтяне, русские — украинцы и т.п. яркие примеры этого в сети. Наши показатели — это лайки, просмотры и количество комментариев. Но, в действительности, являются ли они реальными показателями чего-либо? Завтра на любой публикации в сети можно достичь любых цифр, и что это значит? Изменит ли своё мнение человек увидев под статусом тысячи лайков или просмотров? А если изменит, стоит ли это изменение чего-то?
Вам не кажется, что мы что-то теряем на этом скоростном пути? Вам не задумывались о том, что мы стали меньше слушать, размышлять, и, стали больше утверждать и изрекать? Я уверен, именно это и происходит.
Конечно всё происходящее в сети повлияло и на Ботинок. К давнему вопросу о том, что изменилось в сообществе — изменилась окружающая среда, изменилось всё. И как оно было в момент расцвета блоггинга уже не будет, будет по-другому. Но, вся эта кажущаяся простота использования технологий, возможность окружить себя исключительно лояльными мнениями и пр., всё это временная слабость для думающего человека.
Всё меняется очень быстро и даже мы, наделённые природой феноменальной способностью быстрой адаптации в новой среде, не всегда успеваем. В конце концов, каждый из нас поймёт где мишура, а где настоящее. В итоге, каждый начнёт задавать себе вопросы. У нас есть воображение, тяга к знаниям, к новому. И нам мало удобств, напротив, нам жизненно необходимы препятствия, иначе мы испытываем голод. Голод во время кажущегося изобилия.
Итого. Так о чем я?
Вся суть этой публикации в том, что, как вы знаете, все новое — хорошо забытое старое. И пока это старое в новой обертке не появилось — будьте внимательны к себе. Размышляйте о том, что действительно заставляет вас думать и переживать, что действительно разговор, а что пустой треп. В чем действительно вы, а где погоня за лайками и просмотрами, которые мало что значат.
Пишите в Ботинке, пишите на других площадках. Пишите там, где у вас будут не только сторонники, но и оппоненты. Там, где вы можете научиться, а не только получить «стотысячпятьсот» одобрительных комментариев. Оттачивайте свои навыки в продуктивном общении, в работе с собственными эмоциями, учитесь, помогайте другим. Не бойтесь менять свое мнение, это нормально для человека, это хорошо для вас и окружающих. Отбросьте нарциссизм свойственный новому поколению интернета. Помните — эту реальность мы сами создаём. И вы в ней можете жить по своим правилам.
|
|
Тяжелый песок... |
Читаю и не могу остановиться, мурашки... Все-таки рада и благодарна отцу за то что растил нас в "теплице" домашней, уберег от диссиденства, не скрывая при этом свое отношение, повторяя "только молчать и никому никогда". Булгаков, Рыбаков и прочие самые "мягкие" самиздаты попали в дом родителей уже от меня после замужества, то есть в восьмидесятых, родители их читали "за ночь"...
Виктор Давыдов: «Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”»
АД СОВЕТСКОЙ КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДИССИДЕНТА 1970-Х — 1980-Х ГОДОВтекст: Глеб Морев
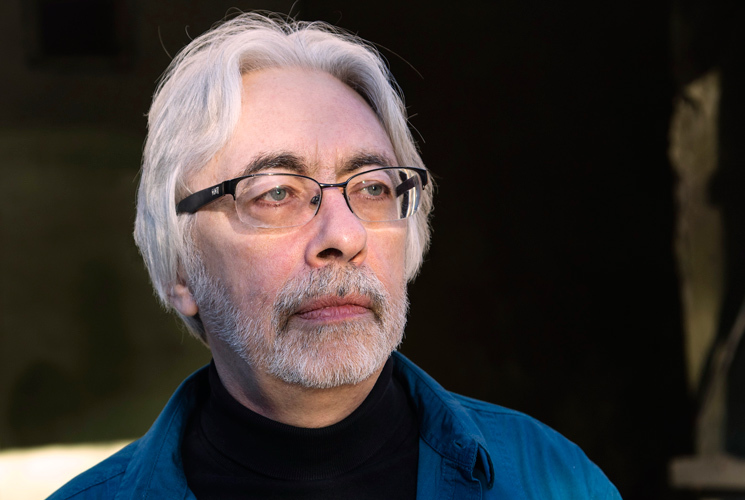 © Ирина Парошина
© Ирина Парошина
Виктор Викторович Давыдов (Рыжов; род. 1 августа 1956 г., Куйбышев) — журналист, правозащитник. В 1973—1975 годах учился в Куйбышевском техническом университете, в 1975 году поступил на исторический факультет Куйбышевского университета. С 1974 года занимался изданием и распространением самиздата, по поводу чего в сентябре 1975 года допрашивался в КГБ. С 1975 года стал членом диссидентских кружков в Куйбышеве, 1 апреля 1976 года был среди организаторов шествия-монстрации, за что был арестован на 10 суток и «профилактирован» КГБ с исключением из университета.
В 1976—1979 годах учился на Оренбургском факультете Всесоюзного заочного юридического института. Принудительно госпитализировался в клинику Куйбышевского мединститута весной 1979 года. Сотрудничал с «Хроникой текущих событий», стал автором двух самиздатовских работ, за которые был арестован 28 ноября 1979 года по статье 190-1. Признан невменяемым экспертизой Института им. Сербского с диагнозом «вялотекущая шизофрения». 19 сентября 1980 года определением Куйбышевского областного суда направлен на принудительное лечение в Казанскую специальную психиатрическую больницу МВД, откуда переведен в Благовещенскую СПБ в Амурской области. В СПБ подвергался «лечению» сильными дозами нейролептиков.
Освободился в июле 1983 года, после освобождения участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным и их семьям (Фонд Солженицына). 28 октября 1984 года эмигрировал из СССР.
Сотрудничал с «Радио Свобода» и «Голосом Америки», публиковался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово», журнале «Страна и мир». В 1986—1988 годах работал в Центре за демократию в СССР (Center for Democracy in the USSR) Владимира Буковского и Юрия Ярым-Агаева. В 1988—1991 годах работал программистом в американских компаниях. В октябре 1991 года вернулся в СССР.
В 1991—1993 годах был членом политсовета Свободной демократической партии России, которой руководила Марина Салье. В 1993 году основал Пресс-синдикат «Глобус» — независимое информационное агентство, работавшее до 2005 года.
В настоящее время — главный редактор интернет-издания «Новая Хроника текущих событий». С 2015 года живет в Тбилиси.
— Расскажите, пожалуйста: как вы, живя в Куйбышеве, оказались причастны к диссидентскому движению?
Как сказал Эдуард Кузнецов в одном своем интервью, «система сама создавала себе врагов». Одно только пионерское детство очень сильно било по мозгам. Шаг вправо, шаг влево, пионерские линейки, где надо стоять и периодически орать «всегда готовы», ленинские уроки, сборы металлолома, демонстрации на 7 ноября и 1 мая, где в обязательном порядке приходилось бегать по холоду с раннего утра… Все это давило, от всего этого было противно.
А в подростковом возрасте давление системы стало ощущаться еще болезненнее. В нашей школе — а это была английская школа, такой самарский Итон — завуч стояла в дверях и отслеживала ширину брюк, длину юбок, длину волос. Дважды она отправляла меня от дверей школы стричься, однажды даже 50 копеек свои дала, потому что я пытался отмазаться, говорил: «У меня денег нет» — так она выдала свои 50 копеек.
И вот ты сидишь на каком-нибудь уроке по гениальной книге Брежнева «Целина» и знаешь при этом — поскольку «железный занавес» уже дырявый и информация просачивается, — что где-то есть мир, где школьникам ничего этого делать не надо. Где их никто насильно не стрижет, где они могут слушать музыку, которую хотят, а здесь все под запретом и всех выстраивают. Это было разительным контрастом и вызывало вопрос: «Почему так?» В первую очередь, по этой причине я стал интересоваться альтернативами, слушать западные «голоса».
Впрочем, не без подсказки. Мой отец был деканом Куйбышевского факультета того, что сейчас называется Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Отец был ветераном войны, вступил в партию еще на фронте, был членом президиума всех областных партийных конференций. При этом его можно отнести к тем, кого позднее стали называть «партийные либералы». Однажды ему предлагали перейти на работу в обком, он отказался, а еще раньше, в 1947 году, ему предлагали служить в НКВД, и он тоже отказался — а тогда это вообще-то считалось предложением, от которого нельзя отказаться.
Дома и в узком кругу отец скептически высказывался о режиме и слушал Радио Франции, отчасти поэтому я тоже стал слушать западное радио. Впрочем, Радио Франции я не слушал, стал слушать «Голос Америки», когда еще был мальчиком, в 13—14 лет, как раз в момент такого духовного созревания.
Поэтому к 14 годам, когда все вступали в комсомол, я отказался, сказав себе: «На черта мне нужны еще и комсомольские собрания?»
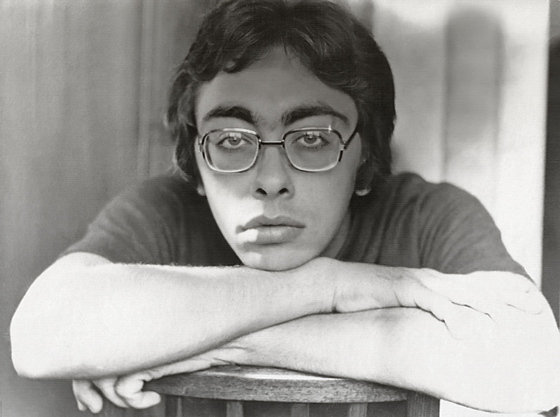 Лето 1979 года, Куйбышев
Лето 1979 года, Куйбышев— Это вызвало какой-то скандал?
— Как ни странно, нет. Когда я уже учился в университете, меня только удивленно спрашивали: «Ты не член комсомола? Ты, наверное, баптист?» Это на тему мифа, который и тогда, и сейчас уже затвержен, что будто бы поступить в вуз некомсомольцу было нельзя. В элитные московские вузы, конечно, нельзя, но в целом по России особо никто не требовал.
— Глушили тогда «голоса» или нет?
— Конечно, глушили. В городе слушать было сложно, разве что поздно ночью и рано утром, но летом на даче можно было легко. «Радио Свобода» — сложнее, но «Немецкая волна» проходила, и она была самая радикальная политически, за ней уже шел «Голос Америки». Собственно, поворот произошел в конце 1973-го — начале 1974 года, когда я был на первом курсе химического факультета в Техническом университете — том самом, где учился Черномырдин, — и тогда записал на магнитофон текст «Архипелага ГУЛАГ», который читали по «Немецкой волне».
В это время все газеты писали: «Солженицын — литературный власовец» — и так далее в том же духе. И только от этого уже становилось интересно, что же он там написал.
Я записал текст первого тома «Архипелага ГУЛАГ» на магнитофон и с него перепечатал на машинке. Естественно, после этого мне захотелось с кем-то поделиться впечатлениями. «Поделиться» закончилось очень плохо, потому что я дал текст своему лучшему другу под честное слово никому не давать, он дал своему другу, тот дал третьему, а дальше непонятно — то ли третий устроил чтения в аудитории, то ли он сам был стукач, я так это и не выяснил.
В общем, после этого мой «Архипелаг» попал в поле зрения КГБ, они потянули за ниточку, и я стал объектом ДОРа — дела оперативной разработки. Они завербовали того самого моего друга, который стучал ровно год на меня: мы с ним выпивали, вместе крутились с девушками, после чего он ходил в КГБ и стучал. И КГБ тянул больше года, до осени 1975 года, по той причине, что не были уверены в происхождении этого «Архипелага». Поскольку текст был записан синтаксически чисто, они решили, что он попал в Самару из Москвы или из-за границы. Как известно, все чекисты — параноики, и им уже привиделся большой заговор, который они долго пытались раскрыть.
В 1975 году я ушел из Технического университета, поступил в Самарский университет, на отделение истории. И это было 19 сентября, когда мне просто позвонили и вызвали в КГБ. Собственно, сначала позвонили отцу, отец потребовал, чтобы я сдал им весь самиздат, а у меня к тому времени его было уже больше: были записи текстов Владимира Максимова, Андрея Амальрика, что-то еще. Четыре копии я положил в портфель и пошел в КГБ, а пятая все-таки осталась. Далее были очень неприятные три дня. Первый раз это всегда очень неприятно.
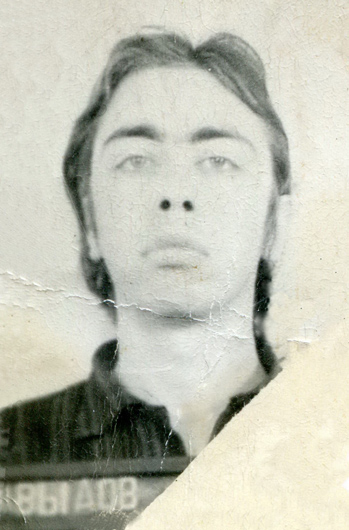 Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года
Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года— А почему три дня? Три дня вы ходили туда, вас допрашивали?
— Сначала там по-хамски угрожали: «Мы можем тебя прямо сейчас отправить в камеру…», потом все же догадались посадить оперативника, который играл «доброго копа». В итоге я написал многостраничную объяснительную, и закончилось тем, что капитан Валерий Дымин из «Пятерки» — политического управления — сказал открытым текстом: «На первый раз мы тебя сажать не будем, можешь учиться, но имей в виду, что ты у нас под колпаком». Кроме того, допрашивали по разным непонятным делам и упоминали некоторых людей. Большую часть их я не знал, но одного знал, пусть тогда и шапочно. Это была довольно известная личность в городе, отчасти хиппи, отчасти диссидент, — Слава Бебко. Ровно на другой день я с ним встретился и рассказал про всю эту историю. То есть фактически КГБ нас познакомил.
К тому времени — осень 1975 года — вокруг Бебко уже сложился неформальный кружок молодежи. Собирались у него дома, разговаривали, слушали музыку, между делом слегка выпивали, и я довольно плавно вошел в него, как бы на роль «идеолога». У этого кружка было две оболочки — несколько человек было таких же, как мы, очень политически настроенных, большинство же были просто ребята, которые приходили послушать музыку, поболтать, потусоваться. Мой самиздат был пущен в оборот в «политическом кругу», потому что мы догадывались, что среди «широкого круга» обязательно есть стукач, а возможно, и не один. С остальными мы занимались только тем, что на языке КГБ называлось «устной антисоветской пропагандой».
К началу 1976 года мы уже начали думать, что нам реально делать. Были разные планы, листовки, например, в конце концов решили сделать политическую демонстрацию — как на Пушкинской площади, всего лишь с лозунгами из конституции. Потом все-таки догадались, что даже на нее народу не наберем, потому что сделать такой шаг в Самаре людям было страшно.
И тут появляется студент мединститута по имени Володя Фунтиков и говорит: «А знаете, в Одессе делают “Юморину” на 1 апреля, давайте сделаем у нас хэппенинг». (Сейчас это называется «монстрация», но точно то же раньше называлось «хэппенинг».) И мы устроили на 1 апреля монстрацию. Собрали человек сорок. Лозунг был только один — «Make love, not war», у нас были карнавальные костюмы, и мы смогли пройти шесть кварталов.
На конечной точке нас встретила милиция, всех задержали, посадили в автобус, отвезли в РОВД. И первый человек, которого я там увидел в коридоре, был чекист, допрашивавший меня еще осенью. С ним была целая команда чекистов, они допросили всех задержанных по одному, потом оставили нас троих — Бебко, Фунтикова и меня. Нам дали по 10 суток, а Славе, который был старше, ибо ему было уже 24 года, дали 15.
На сутках пять дней нас выводили на работу, и вдруг с утра мент командует: «Демонстрантов не выводить». И нас через какое-то время начинают дергать на допросы чекисты. Явилась целая команда — человек пять, они заняли кабинет начальника КПЗ, даже менты были в шоке, мент ведет меня по коридору — руки за спину, как положено, — и спрашивает: «Кто это такие?» А я ему в шутку говорю: «Родственники». Мент есть мент — легко поверил, и как нас после этого зауважали...
Неприятно удивило, что чекисты допрашивали не про демонстрацию, а про самиздат. Прямых улик у них не было, но о чем-то они догадывались. А кроме моего самиздата у Славы были записи передач «голосов» на магнитофон. И после этого нас отсаживают во вторую половину КПЗ: одна половина была для «суточников», а вторая — уже для подследственных. Там мы сидим уже с уголовниками и не знаем, что дальше будет, потому что две статьи налицо: 190-1 за самиздат («Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») и 190-3 за организацию шествия («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Сидим и гадаем, что будет дальше: выйдем мы по окончании суток или нас отвезут в СИЗО.
Однако в итоге дело не получилось, и есть две версии почему, я думаю, обе они верные. Одна из них заключалась в том, что это был самый либеральный период — 1975—1976 годы. С хрущевских времен визу на арест по политическому делу КГБ надо было получать в обкоме, а обком всегда держал нос по ветру. И вторым фактором был начальник КГБ, генерал Кинаров, не кадровый чекист, его туда кинули в хрущевское время из комсомола, когда вычищали сталинских извергов. Кинаров был относительно либеральным человеком — за все его время в Куйбышеве было только два политических дела. Я лично видел Кинарова, даже с ним здоровался, потому что отец был с ним знаком, генерал всегда был на премьерах во всех самарских театрах, вполне интеллигентный человек. Думаю, что «замочить в сортире» он бы просто не смог выговорить.
Видимо, произошло так, что Кинаров не мог не дать этому делу ход, но он его так составил, что первый секретарь обкома не дал визу, и обоих это устраивало. В период «разрядки международной напряженности» групповое политическое дело первому секретарю обкома было совершенно ни к чему, только минус в карьере.
В итоге дело перевели на профилактику. «Профилактика» — это отдельная тема, о ней мало сейчас известно. Обычно пишут, что «профилактику» изобрел Андропов. Это не так, КГБ стал применять ее еще при Хрущеве. Однако именно Андропов довел «профилактику» до масштабов, сравнимых с теми, в каких осуществлялись сталинские репрессии. Уже в конце 1960-х годов «профилактировали» по 14,5 тысячи человек в год.
По сути, «профилактика» была внесудебной репрессией, и жестокой, причем била она не только по активным участникам движения, но и вообще по всему кругу людей, которые сочувствовали диссидентам. Это как раз и было андроповским «ноу-хау» — разрушать «питательную среду» протестного движения, из которой рекрутировались его новые участники.
Особенно эффективно «профилактика» работала в провинции. Тут стоит отметить разницу между положением диссидентов в Москве и в регионах. Не было таких точек «кристаллизации» вроде ЦДЛ, или известных интеллигенции «салонов», или просто людных квартир, где люди, принадлежавшие диссидентской субкультуре, могли бы знакомиться и общаться.
В провинции ничего такого не было. В домах творчества проводились только официозные мероприятия. В 1976 году в Самаре открыли так называемый Клуб любителей кино. Показали фильм Тарковского «Зеркало», который не был в открытом показе. После этого состоялась дискуссия, я там выступил, выступило еще несколько «неблагонадежных» человек — на этом все закончилось, и уже никакого клуба больше не было.
Почти в каждом вузе был свой клуб самодеятельной, то есть бардовской, песни (КСП), но во главе ставили отъявленных комсомольцев и давали им строгое указание никого из «посторонних» петь песни и слушать не допускать. Это было комичное зрелище, когда каэспэшники отправлялись петь куда-нибудь в лес, но перед этим бегали от электрички к электричке, чтобы так замести следы и не дать другим желающим с ними уехать.
Провинциальная интеллигенция в целом была очень пуганой. Наш круг почти полностью состоял из молодежи, людей за 30 там было буквально человека три-четыре.
Также не было еврейских отказников, которые в Москве и на Украине, например, всегда поддерживали диссидентов и становились диссидентами сами — уже хотя бы потому, что им было нечего терять. Точнее, было несколько семей отказников, но они, наоборот, старались сидеть тихо в кустах, надеясь, что за хорошее поведение им дадут визы. Так в кустах они и просидели до самой перестройки.
Критической массы диссента в провинции не было, действовали одиночки, вокруг которых собирался круг друзей и интересующихся людей. И вот когда КГБ брался за дело, то он начинал весь этот круг «профилактировать».
Профилактика всегда начиналась с ДОРа, не всякий ДОР заканчивался профилактикой, но профилактики без ДОРа не бывало. Сначала КГБ собирал информацию, причем очень скрупулезно — в моем деле они дошли даже до школы, опрашивали директора школы, одноклассников. Естественно, в делах студентов допрашивали однокурсников, у работавших — коллег, опрашивали даже соседей по подъезду.
И это имело двойное значение, потому что это был не только сбор информации, но еще и запугивание. Каждый допрошенный уже знал, что на всякий случай с таким человеком лучше не общаться. Будущий писатель Юрий Малецкий в бытность студентом как-то прочел в общежитии университета лекцию о «Дневниках» Достоевского — кто-то стукнул в КГБ, где сразу нашли в выступлении Малецкого «сионизм». После этого друзей и однокурсников начали дергать в КГБ (допрашивали там и нынешнего филолога Юру Орлицкого). После этого студенты начали от Малецкого просто шарахаться.
Следующий номер — слежка, прослушивание телефона, жучки. У меня были жучки в квартире, и это абсолютно точно. Обычно проводили еще тайные обыски. Не знаю насчет себя, но это детально описывается в мемуарах чекистов. Являлись домой, когда там заведомо никого не было — а закрытых дверей для КГБ на всем пространстве от Калининграда до Чукотки не существовало, да и сейчас нет, — аккуратно просматривали вещи и бумаги, не оставляя следов. Обычно на таких обысках ничего не изымалось, ибо легализовать это потом в ходе уголовного дела было невозможно, но изучали, что есть и где лежит.
Затем слежка, которая была двух видов. В одном случае следят тайно — где-то за тобой идут сотрудники «наружки», службы наружного наблюдения: обычно они работали на машинах, одна или две, там в каждой три-четыре человека. В другом случае это был уже прием психологического давления, и тогда они шли, не скрываясь, буквально по пятам, случалось, что втискивались даже в телефонную будку, когда «объект» куда-то собирался звонить. Тогда (обычно это бывало перед советскими праздниками) у меня они просто сидели на лавочке у подъезда и, когда я выходил, поднимались и вдвоем шагали в нескольких метрах сзади.
Конечно же, внедряли агентов. Вдруг и как будто случайно появлялся какой-нибудь малознакомый человек, который всячески набивался в друзья, приглашал в рестораны или просто приносил выпивку сумками. Вербовали — или пытались вербовать — друзей более близких.
И только уже после того, как вся информация была собрана — а КГБ нужно было знать все, вплоть до того, кто с кем спит, — начинали вызывать непосредственно на допросы.
С суток я освободился в субботу вечером, а в понедельник с утра — звонок из КГБ, вызывают немедленно, к дому подъезжает черная «Волга» и везет в управление. После этого всю неделю — каждый день в КГБ как на службу, с 9 до 5, там даже кормили. За это время перезнакомился с половиной самарской «Пятерки», включая ее начальника — подполковника Василия Лашманкина. Это было довольно мерзкое существо, похожее на какого-то доисторического ящера; на меня он очень зло смотрел своими маленькими глазками и, не размыкая губ, что-то сипел.
В последний день заставили подписать «Предупреждение по Указу» — секретному Указу от 25 декабря 1972 года. Это был документ прямо от Кафки: в нем говорилось, что я совершил некие неназванные «антиобщественные действия», которые противоречат интересам государственной безопасности СССР. При этом уголовной ответственности эти действия не подлежат, но все равно почему-то недопустимы и при повторении уже будут подлежать.
За этим произошло неизбежное исключение из университета, но не простое исключение, а с собраниями студентов, «пятиминутками ненависти». Причем меня исключали в два приема: на историческом отделении меня знали, несколько человек пусть осторожно, но все же осмелилось выступить в мою защиту. Тогда собрали студентов уже всего гуманитарного факультета, хорошо отрежиссировали это действо, причем в аудитории во втором ряду «почетные места» занимали трое чекистов. Исключили за «профессиональную непригодность», ибо советский историк не быть марксистом не может, а тот, кто читает Солженицына, точно не марксист.
В процедуре исключения была одна ставшая позднее анекдотической деталь. Одним из самых активных обвинителей на собрании был нынешний завкафедрой российской истории СамГУ Петр Кабытов. Где-то лет 10 назад Кабытов стал редактором сборника «Солженицын в Самаре». Хороший сборник, там все замечательно, но только нет одного факта — ничего не говорится о том, как редактор этого сборника исключил в свое время студента только за то, что тот был первым человеком в Самаре, прочитавшим «Архипелаг ГУЛАГ».
«Профилактировали» не только нас самих, но в какой-то степени и родителей. Отцу занесли выговор в партбилет «за недостатки в политическом воспитании сына». Попытка «профилактики» отца одного из участников нашего кружка, Михаила Богомолова, закончилась трагедией. Мишин отец был полковником и служил в штабе военного округа. Там его, видимо, затравили до такой степени, что даже крепкие офицерские нервы не выдержали, и он бросился под поезд. И уже не вмещается в уме, что у чекистов хватило наглости явиться на похороны…
В результате «профилактики» к своему двадцатилетию я оказался как будто в безвоздушном пространстве. Из университета исключен, профессии нет, работы нет, друзья как-то стали исчезать, телефон не звонил днями. Сцена на улице: лето, навстречу идет мой бывший одноклассник, я уже поднимаю руку ему помахать, и вдруг он перебегает на другую сторону улицы. Причем я его даже не мог осуждать: стоило бывшей однокурснице пригласить меня на день рождения своей подруги, как через неделю ту вызывает «куратор» университета от КГБ и начинает допрашивать: «Кто его пригласил?»
Вот все это и была «профилактика», которую сегодня иногда даже ставят Андропову в заслугу: он, дескать, был «гуманист», диссидентов меньше сажал, но больше «профилактировал». Исключили тогда из вузов всех, кто участвовал в демонстрации, — даже девочек из педагогического училища. Парни попали сразу в армию, меня чекисты тоже возили на машине в военкомат, но военком посмотрел на военный билет — по зрению я не подпадал под призыв — и отправил восвояси. По выражению его лица я понял, что желания чекистов военные уважать особо не собирались, им антисоветчики в армии были не нужны.
 Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 год
Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 годА еще была психиатрия, которая тоже часто входила в «профилактику». Надо признаться, что в том случае, в 1976 году, я сам ее накликал на свою голову, пусть не без помощи родителей. Они все-таки были советские люди, полжизни прожили при Сталине, отчего боялись страшно и даже после «Предупреждения» не верили, что этим закончится. И, как обычные советские люди, стали настаивать, чтобы на всякий случай я лег в психушку. Они о политической психиатрии не догадывались, я тоже тогда только краем уха что-то слышал. Зато после КПЗ и допросов чувствовал себя очень подавленным, так что особо сопротивляться не стал.
Мы с мамой пошли в психдиспансер, где врачи со мной не очень вежливо побеседовали и выгнали, как бухгалтера Берлагу и симулянта. Вдруг на следующее утро оттуда же звонок — и уже вежливо приглашают. Там врач за пять минут написала направление в областную больницу, где я пролежал месяц.
Уже на второй день в отделение явился главврач Ян Абрамович Вулис со мной побеседовать. Это вообще был интересный персонаж: в начале 1950-х годов он был исключен из мединститута по какому-то «сионистскому» делу, но потом восстановился — и, думаю, не без сделки с ГБ. По крайней мере, он, еврей, много лет был главврачом областной психбольницы и главным психиатром области. Приказы КГБ по госпитализации неблагонадежных он выполнял честно. Знаю, что на праздники дежурному врачу на стол под стекло клали приказ Вулиса «В случае доставки милицией госпитализировать независимо от состояния» — и далее список имен, который давался КГБ.
С другой стороны, Вулис отлично понимал, что делает, и был достаточно хитрым, чтобы суметь сыграть в обе стороны. Уже позднее, когда меня арестовали и Вулис должен был проводить судебно-психиатрическую экспертизу, он написал в КГБ, что не может «обеспечить безопасность» в своем судебном отделении — что было чистым враньем, сбежать оттуда было невозможно. Но КГБ пришлось согласиться, и таким очень техничным способом от моего дела Вулис отстранился.
Госпитализированным принудительно Вулис обычно создавал вполне приличные условия, лекарств особо не назначал. Так было и в моем случае: Вулис со мной побеседовал — вывел на улицу, ибо, видимо, боялся прослушек, — все быстро понял, и весь месяц я фактически был как в санатории. Выписали меня с каким-то смешным диагнозом типа «психастеническое состояние».
Зато через несколько лет политическая психиатрия меня все-таки догнала. В 1976 году после «профилактик» кружок Бебко распался, но осенью собрались снова уже вокруг другого человека, Анатолия Сарбаева. Он был рабочим, но когда-то учился в Питере, по убеждениям считался «еврокоммунистом». Сейчас это уже забытая теория, ее некогда развивали лидеры европейских компартий, которые хотели как-то отстраниться в глазах избирателей от своих советских «соратников по борьбе» и их безобразий. Называлось это «социализм с человеческим лицом» и, конечно, было чистой утопией.
Мы же почти поголовно были социал-демократами. Сейчас почему-то считается, что диссиденты были либералами, но на самом деле либералов среди них можно пересчитать по пальцам. Даже «программа Сахарова», изложенная им в книге «О стране и мире», была по сути чисто социал-демократической. Все были советскими людьми по образованию, с молоком матери впитали бациллу марксизма, и произнести «свободный рынок» нам было так же жутко, как сегодня Зюганову. Идеалом считали «скандинавский социализм», о котором имели самые смутные понятия, но на этой почве шла полемика и «идеологическая борьба». Сарбаев написал работу с апологией «еврокоммунизма», я ему оппонировал, все это бурно обсуждалось — иногда ночи напролет.
В 1977 году мы с тем же Славой Бебко напечатали листовки под обсуждение новой, брежневской, конституции. Сделали где-то 70 штук фотоспособом, рассовали по почтовым ящикам, и до сих пор не могу понять, как мы на этом не попались. Обычно 80 процентов антисоветских листовок сограждане сами несли в КГБ. Не столько из «комплекса Павлика Морозова», сколько из страха: статья о недонесении об «особо опасном государственном преступлении» держалась в кодексе еще со Сталина, так что были причины бояться. Правда, недонесение об «антисоветской агитации» под нее не подпадало, но эти юридические нюансы мало кто знал. Почему-то наши листовки ни разу ни на одном из допросов не всплыли, так что даже нет уверенности, знали ли о них в КГБ.
И каждый год на 1 апреля пытались повторить демонстрацию — уже в политическом формате, с лозунгами из конституции. Подписывалось под это три-пять человек, кому особо было нечего терять. Писали лозунги на ватмане, выходили — все заканчивалось очень быстро задержаниями, еще на подходе к намеченной точке. Кого-то потом отпускали, кого-то сажали на сутки.
В 1977 и в 1978 годах я не участвовал, потому что не был в городе, но в 1979 году собирался. И вот 31 марта 1979 года утром в дверь звонок — а там бригада «чумовозки» из психдиспансера с участковым милиционером. Отвезли в диспансер и, ничего особо не объясняя, отправили наверх, в клинику. Врачами там работали, как правило, преподаватели мединститута, они все тоже хорошо понимали, лекарства назначили чисто символические — легкие транквилизаторы, но весь апрель пришлось там просидеть. Главной неприятностью было только ежедневно смотреть на тяжелых сумасшедших, а это удовольствие ниже среднего. Сарбаева точно так же госпитализировали, только не в клинику, а в больницу, хотя выпустили даже раньше.
К этому времени мне удалось поступить во Всесоюзный юридический заочный институт, но не на Куйбышевский факультет, куда путь был заказан, а на Оренбургский. Выезд на вступительные экзамены и на сессии был конспиративным процессом и начинался задолго до отхода поезда с того, чтобы «обрубить хвосты» и отвязаться от «наружки». Более часа я пересаживался с автобуса на автобус, перебегал через проходные дворы и лишь убедившись, что вроде бы «хвоста» за мной нет — а на 100 процентов сказать это никогда нельзя, — ехал на ближайшую станцию и только там садился на поезд.
Как ни странно, это работало, КГБ о чем-то догадывался, вызываемых на допрос обязательно спрашивали: «Где он учится?» — но примерно год удавалось водить их за нос. Потом, конечно, узнали, но тогда уже, видимо, собрались сажать, так что исключением из института заниматься не стали.
Тут возникает тема знакомства с московскими диссидентами. Началось с того, что в октябре 1978 года у порога Октябрьского военкомата в Самаре взорвалась бомба. Это была глухая ночь, никого не задело, только вышибло дверь. Через две недели там же находят еще одну неразорвавшуюся бомбу.
А 4 ноября снова взрыв — взрывается памятник министру обороны Дмитрию Устинову. Только что Устинову по случаю юбилея дали вторую Звезду Героя Советского Союза, а по закону дважды Героям Советского Союза должен быть установлен памятник на родине. 30 октября памятник открывают, а через 5 дней кто-то его взрывает. От памятника откололся кусок, сам постамент развернуло. Я ехал в тот день на работу и вижу, что все обнесено там забором, ничего не понимаю, только потом кто-то шепотом рассказывает. Потому что, естественно, ничего не освещается в прессе, это СССР, и только слухи.
«Диверсантов» позднее, конечно, нашли. Ими оказались инженер Технического университета Андрей Калишин и только что призванный солдат Иван Извеков. Извекову дали 8 лет, Калишина признали невменяемым, оба они вышли уже при Горбачеве.
Но это было позднее, а осенью подозреваемыми по умолчанию сразу стали все «неблагонадежные». На 7 ноября вместо обычных трех чекистов — я жил около главной площади, где проходили демонстрации, — в тот год было пятеро. По этому поводу я даже не стал вечером выходить, сидел дома. А Слава Бебко, к сожалению, не усидел.
Он со своей девушкой и парой друзей сидел за столом, отмечал — пусть советский, но праздник. Вечером выяснили, что выпить им не хватает, а чтобы купить в СССР в 10 часов вечера, надо было знать места и далеко идти. Втроем отправились в поход, вино купили, но на обратном пути, к несчастью, им на глаза попался праздничный кумачовый плакат. Слава со злости его резанул крест-накрест перочинным ножом — у него был такой брелок. За ними, конечно, шла «наружка», и через пару кварталов всех задержали.
Уже через два часа у Славы провели обыск. Искали, конечно, все взрывоопасное, ничего такого не было, нашли только строительные патроны. Зато нашли массу самиздата — машинописного, рукописного — и магнитозаписи с «голосов». Так Слава попал под две статьи — 190-1 и «хулиганство» за плакат: для убедительности чекисты еще сломали раму плаката, что тоже приписали Славе.
Славе надо было как-то помочь, хотя бы найти приличного адвоката. Никто из адвокатов в городе браться за политическое дело не хотел, все боялись, это не Москва. Так по необходимости стали искать помощи московских диссидентов. Нашли их по методу «шести рукопожатий»: Сарбаев некогда шапочно знал поэта-смогиста Владимира Алейникова, тот привел нас в Москве к Петру Якиру, сам Якир к тому времени от движения отошел, но от него мы попали к его дочери Ирине (Якирке), которая занималась «Хроникой текущих событий», и потом уже к редакторам — Юрию Шихановичу (Шиху) и Татьяне Михайловне Великановой. Великанова прозвища не имела, ее все диссиденты называли только по имени-отчеству, это была очень строгого вида дама, типичная учительница математики, кем она, собственно, и была.
Через диссидентов нам удалось подписать на дело Бебко адвоката из Луганска Нелли Нимиринскую, которая защищала многих диссидентов, она приезжала на суд. Помочь Славе ей особо не удалось, ему дали три года. У выхода из суда, куда подогнали воронок, мы Славу встречали с цветами, кинули их ему, он кинул через голову конвойных солдат свое обвинительное заключение. Кто-то его подхватил, к нему бросился солдат, но бумаги перекинули мне, мне с ними удалось убежать, потом передали их в «Хронику». Что называется, почувствуйте разницу: сегодня любой приговор по политическому делу — в интернете, а тогда приходилось заниматься даже спортом.
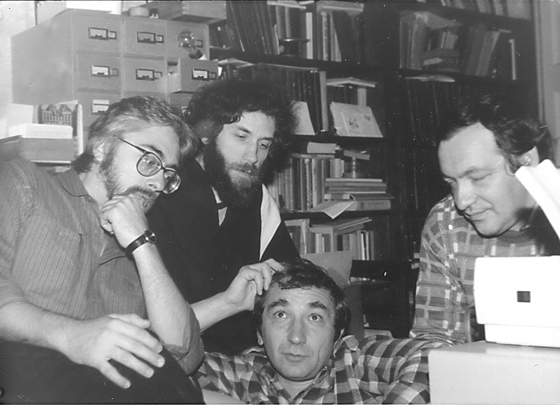 С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 года
С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 годаВ Москву регулярно ездил кто-то из наших и привозил оттуда тамиздат и самиздат, в первую очередь, «Хронику текущих событий». Мы ее потом перепечатывали. В Москве этим занимались профессиональные машинистки, но предлагать печатать такое в Самаре было безумием, так что делали это сами. Печатали вчетвером, делили выпуск на части, процесс занимал довольно долгое время, потом все копии отвозили назад в Москву и привозили новый выпуск. Так отпечатали два выпуска, третий уже не успели закончить, с ним меня арестовали.
Посадили бы меня, конечно, и без «Хроники». Осенью 1979 года Политбюро в процессе подготовки к Олимпиаде приняло решение об очередном «уничтожении диссидентского движения». Первого ноября — точно по календарю — в Москве арестовали отца Глеба Якунина и Татьяну Великанову. С этого началось то, что диссиденты назвали «предолимпийским погромом», пошел он и по другим городам.
К тому времени я написал работу в жанре сравнительного правоведения — сравнение правовых систем фашистской Италии, нацистской Германии и сталинского СССР. Там все получалось в елочку, полное совпадение вплоть до формулировок. Работа называлась «Феномен тоталитаризма», ее я собирался запустить в самиздат, но пока только обсуждал с близкими по духу и надежными людьми. У одного из таких людей рукопись при обыске и забрал КГБ. Обыск был не случайным: знали о «Феномене» от одного из стукачей. На допросе человеку сказали прямо: «Кто автор “Феномена”? Говорите — если не скажете, то будем считать, что это вы, и тогда статья 190-1 и три года». Через какое-то время он раскололся.
 Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 год
Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 годЯ этого еще не знал, но после обыска уже было понятно, что рано или поздно меня вычислят. Тогда мы поженились с моей девушкой Любаней, в первую очередь, для того, чтобы в случае ареста она, как жена, могла меня навещать, переписываться и передавать информацию правозащитникам. Ведь это сейчас любой может написать письмо даже подследственному, а тогда была полная изоляция, и даже адвокаты на предварительное следствие не допускались.
— Вы, кстати, взяли фамилию жены. Почему?
— Собственно, по просьбе отца. Он не хотел, чтобы его фамилия фигурировала.
— Предполагая последствия, ближайшее будущее?
— Да-да. Ровно через 30 дней после свадьбы меня арестовали, и по этому поводу я чекистов даже чуточку зауважал. Ведь могли же арестовать и на другой день — так нет, дали провести вместе весь медовый месяц, так что зря говорят «кровавая гэбня».
Впрочем, свой медовый месяц я провел не совсем традиционно, а съездил тайком в Москву, чтобы посоветоваться с диссидентами. Особенно меня беспокоила угроза психиатрии. Тогда существовала Рабочая комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, основанная Сашей Подрабинеком. Сам Подрабинек к тому времени уже сидел, но руководил комиссией Слава Бахмин, который отправил меня к врачу-консультанту комиссии Александру Волошановичу. Два дня подряд я ездил в нему в Долгопрудный, прошел обследование, результаты которого остались в комиссии.
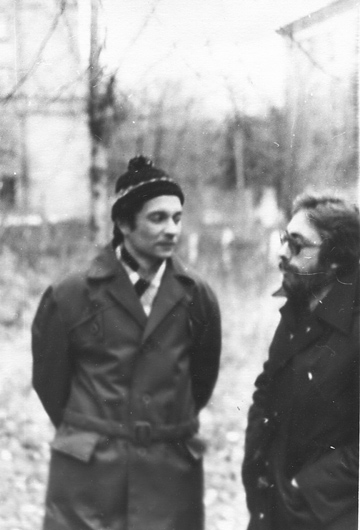 С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 года
С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 годаА утром 28 ноября Любаня собиралась в институт (она училась на архитектурном), в дверь позвонили, она спросила, кто там, ответили: «Соседи». Любаня наших соседей не знала и открыла дверь. Тут в дверь вламывается целая команда — оперативник КГБ, два следователя прокуратуры, следователь угрозыска и «понятой», которого они привели с собой (как оказалось позднее, студент-юрист).
Я еще лежал в постели и заметался: рядом на столе лежала «Вторая книга» Надежды Мандельштам, которую мы с Любаней читали на ночь, — я сунул ее под подушку (и там ее не нашли). Один из следователей увез Любаню на допрос — ее им просто надо было убрать из квартиры на время обыска. Продолжался он до пяти часов вечера.
Как назло (и это было чистое совпадение), предыдущим вечером я принес часть своего архива из тайника домой. В тот день я собирался эту часть перепрятать в другое, более надежное, место. Все было в одном портфеле: копии «Феномена», недопечатанный выпуск «Хроники» № 50. Так что радости чекистов не было предела, набрали еще бумаг и книжек, положили в картонный ящик, забрали пишущую машинку и вместе со всем этим добром меня увели.
Московским диссидентам везло: после ареста их сразу везли в «Лефортово», где надзиратели разговаривали на «вы», где давали серый хлеб, а заключенные спали на обычных кроватях. В провинции после ареста сначала запирали в КПЗ. Самарская КПЗ — это были грязь, холод, темень, спать приходилось на деревянных досках во всей одежде, даже завязывая шапку, иначе мерзли уши. Ни бани, ни даже толком умыться, потому что мыла нет.
Обвинение предъявил следователь прокуратуры Григорий Иновлоцкий. Сейчас Иновлоцкий — адвокат в Самаре, его брат — довольно известный классический композитор в Санкт-Петербурге. Ситуация сложилась слегка дурацкая. Дело в том, что, во-первых, Иновлоцкий был студентом моих родителей, а во-вторых, отец Иновлоцкого был другом моего деда, по профессии Иновлоцкий-старший был портной и даже шил мне костюм, когда я был еще в школе. Теперь его сын «шил» мне дело.
 На конференции Международного общества за права человека. Юрий Кублановский, основатель Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Валерий Фефелов, переводчица. Франкфурт-на-Майне, март 1985 года
На конференции Международного общества за права человека. Юрий Кублановский, основатель Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Валерий Фефелов, переводчица. Франкфурт-на-Майне, март 1985 годаОднако чувствовал он себя явно некомфортно. Большей частью смотрел в пол и надувал усы. В КПЗ меня продержали десять дней, потом отправили в СИЗО и заперли в подвальном карцере вместо одиночки, пока решали, куда посадить. Там те же грязь, холод и темнота, вдобавок еще и то, что называется «сенсорной депривацией»: полная тишина, из-за чего потерялось ощущение времени, а через несколько дней даже стало казаться, что слышу какие-то голоса, пение. (Потом оказалось, что да, пел сосед.) А на стене — оптимистические надписи типа «Рыжий. Тольятти. Ст. 102. Расстрел»: в карцеры сажали сразу после суда еще и приговоренных к смертной казни.
После этого, когда подняли уже в нормальную камеру, она мне показалась просто раем: белый потолок, свет, газеты дают, радио работает. Правда, включалось оно всегда ровно в 6 часов утра советским гимном, и с тех пор, как и все зеки, я эту музыку ненавижу.
Сидели мы вдвоем с «наседкой». Это был бывший капитан милиции, уже получивший 6 лет за взятки. Он ежедневно стращал меня рассказами о зонах — кого-то там перепилили циркулярной пилой, кого-то утопили в бочке с бензином, кого-то сожгли живьем в печке. Наверное, все это была правда, но подтекст был такой: колись, иначе попадешь на зону и живым оттуда не выйдешь.
На следствии я не давал показаний и не подписал ни одного протокола. Теоретически в политических делах это лучшая тактика: приговор и так заранее известен. Где-то через месяц, видя, что Иновлоцкий дело не тянет, КГБ применил свой обычный прием. По закону дела по статье 190-1 подлежали расследованию прокуратурой, но при необходимости включали такую схему: «в связи со сложностью дела» создавалась следственная группа, где формально старшим оставался следователь прокуратуры, но реально дело вели уже следователи КГБ.
Моим следователем был майор КГБ Юрий Соколов. Утром, часов в 9, забирали из камеры, сажали в «Волгу», которая везла через весь город в здание управления КГБ. Там Соколов усаживал меня на табуретку подследственного, заправлял в машинку лист бумаги. Я говорил ему: «Юрий Васильевич, зачем вы это делаете? Знаете же, что ничего я не подпишу…» Но Соколов все равно выстукивал там свои вопросы — и говорил. Говорил он без остановки, о чем угодно, даже о рыбалке, каждую фразу заканчивал вопросительно в расчете ввязать меня в разговор. А я понимал, что делать это нельзя, потому что стоит только ему установить психологический контакт — и дальше говорить уже придется мне, а надо молчать, чтобы ни в чем не проговориться. В какие-то моменты я даже демонстративно клал голову на столик, который стоял перед табуреткой, вроде бы как дремал — только чтобы остановить этот психологический напор.
Был только один момент, когда я вступил в диалог. Это было, когда Соколов сказал: «Расскажите о своих связях с московскими диссидентами» (это его явно интересовало больше всего). Мне тоже стало интересно, что они знают, я спросил: «А кто такие диссиденты? Это вроде не должность и не воинское звание». Соколов поддался: «Ну вот конкретно — Ирина Якир, Бахмин, Шиханович…» На этом диалог и закончился.
Вообще политическое следствие велось методом прямого и довольно циничного торга. Следователь сразу делал предложение: признание своей вины, и сразу из зала суда — домой. Домой очень хотелось, но я уже знал, что заключить честный контракт будет невозможно. Вслед за этим чекисты потребуют публичного покаяния — диссиденты называли его «покаюхой» — для газеты, а то и покажут по телевидению. А самое плохое, что следующим требованием будет дать показания на третьих лиц и легко могут потребовать выступить у кого-нибудь на суде. Это уже было за гранью морально допустимого. Славу Бахмина как раз в то время арестовали, чего я, правда, не знал, но почему-то представил себя свидетелем обвинения у него на суде и сразу понял, что сделать это не смогу.
Было крайне отвратительное ощущение: понимаешь, что летишь в пропасть, а зацепиться не за что — из скалы торчат только какие-то острые крюки. Уже сам лагерный срок в три года мне тогда, как свежему зеку, казался громадным, но висела еще и психиатрия. В наш последний допрос с Соколовым тот прямо сказал, что если я буду продолжать так «странно» вести себя на следствии, то он должен будет провести психиатрическую экспертизу. Намек я понял и стал обдумывать какую-нибудь более гибкую линию поведения, но додумать не успел: через несколько дней меня отправили на экспертизу в Челябинск.
Судебно-психиатрическая экспертиза в СССР строилась в три этажа. Внизу были судебные отделения областных больниц, над ними — региональные экспертизы, на самом верху стоял Институт Сербского. Вулис от меня отбился, так что меня отправили, как и других подследственных из Куйбышевской области, в Челябинск. Это был первый круг психиатрического ада, куда я попал.
 Институт Сербского. Маленькая палата Четвертого отделения — второе окно слева на втором этаже, 1984 год© В. Давыдов
Институт Сербского. Маленькая палата Четвертого отделения — второе окно слева на втором этаже, 1984 год© В. ДавыдовСудебное отделение в Челябинске находится на первом этаже здания областной больницы. Там меня заперли буквально в стенной шкаф. Это были шесть квадратных метров — без окна и без форточки, глухая дверь, свет исходит от лампочки за стальным листом, в нем проделаны мелкие дырки, так что из-за интерференции по камере расходятся тусклые круги, и ничего толком не видно. В камере на полу помещаются ровно три матраса, их мы раскладывали на ночь, а днем сворачивали и тупо на них сидели, потому что делать было абсолютно нечего. Ни газет, ни радио, ни игр — ничего, только темнота.
Мы сделали самодельные шашки: выпросили у медсестры зеленку, слепили из хлеба шашки, их раскрасили, собрали доску из клочков газеты, которую выдавали на туалет. Играли с соседом пару дней, пока на обыске все это не отмели. Где-то за несколько дней до окончания экспертизы мне удалось все-таки выпросить книгу, Генрика Сенкевича. Ее я читал одним глазом без очков, потому что иначе в темноте ничего не было видно.
Одним соседом был гопник из Кыштыма, севший за грабеж, вторым — душевнобольной мальчишка шестнадцати лет, который удушил отчима за то, что тот бил его мать. Душевнобольной каждую ночь просыпался и страшно орал. Гопник подскакивал и через меня бил его в живот, чтобы тот замолчал: это работало. И так продолжалось ровно четыре недели.
Меня удивляло, что после первой беседы с психиатром больше меня вообще не вызвали. Один раз только вывели в другой корпус в наручниках на рентген легких. На самом деле там уже был туберкулез, очаги позднее сами зарубцевались, и в каждой тюрьме после флюорографии врачи спрашивали: «Когда вы переболели туберкулезом?» — а я не знал, что ответить. Но психиатры вызвали только на комиссию в последний день.
Там сидела большая комиссия, человек двенадцать, и задали только два вопроса. Один стандартный — «Как вы себя чувствуете?» и второй — «У кого из психиатров вы обследовались в частном порядке?» И тут я сразу все понимаю. Позднее узнал, что единственный из оставшихся на свободе к тому времени член Рабочей комиссии Леонард Терновский написал в Челябинск письмо, в котором говорилось, что врач-консультант комиссии меня обследовал и не нашел признаков душевного заболевания. Документ этот был совершенно неформальным, но в подпольной типографии адвентистов для комиссии отпечатали типографские бланки, так что выглядел он почти официально.
— Эти бумаги производили какое-то впечатление на советских врачей?
— Советские психиатры попадали в ситуацию когнитивного диссонанса: когда вроде бы и понятно, что человека требуется признать невменяемым, но, с другой стороны, есть какой-то непонятный документ на бланке, и его тоже надо как-то принимать во внимание.
В итоге челябинские психиатры сделали примерно то же, что и Вулис: умыли руки, написали, что сделать заключение они не могут, и отправили в Институт Сербского в Москву.
Там я проходил экспертизу в Четвертом («политическом») отделении. В нем было четыре палаты: три открытые и одна на замке для заключенных из «Лефортово». В самой маленькой палате нас было четверо, все с политическими историями. Там был Виктор Гончаров из Кировограда, ранее он учился в Одессе и был в кружке Вячеслава Игрунова. Виктор сидел за классическое «словопреступление»: на вечеринке 7 ноября он произнес тост: «Выпьем за день национальной трагедии русского народа!» Все выпили, и ничего бы не было, но где-то через пару недель Виктор расстался со своей любимой женщиной и объяснил ей, что обещание на ней жениться было просто шуткой. Женщины таких вещей не прощают, но его любимая женщина пошла прямо в КГБ и рассказала там, какой он антисоветчик.
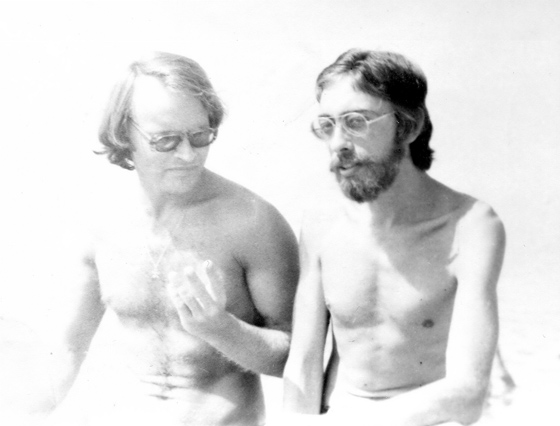 С сокамерником Виктором Гончаровым на волжском пляже. Лето 1983 года
С сокамерником Виктором Гончаровым на волжском пляже. Лето 1983 годаВсе дело так и строилось только на ее показаниях, потому что присутствовавшие на вечеринке все твердо отрицали, причем с пуленепробиваемым алиби: «Пьян был, не помню». Виктор прошел две экспертизы, в итоге его признали вменяемым, он получил три года — как потом мы шутили, по пять месяцев за каждое слово своего неудачного тоста.
Другим был «свидетель Иеговы» Виктор Незнанов. Он родился в семье, принадлежавшей к Истинно православной церкви, отец его погиб в лагерях, мать отказалась от мужа, чтобы воспитать сына. Потом каким-то образом Незнанов стал «свидетелем Иеговы». В Институте Сербского сначала он вел себя тихо, потом занялся обычной для «Свидетелей» проповедью, его начали колоть аминазином. Когда я уезжал и с ним прощался, от уколов он был уже совсем невменяемый. Его отправили в спецпсихбольницу в Могилев, где он просидел до самой перестройки.
Четвертым соседом был «отец русского антисемитизма» Валерий Емельянов.
— Который зарезал жену?
— Именно он. Емельянов был автором книги «Десионизация», которую рассылал по ЦК КПСС. Это был совершенно жуткий тип, и я ни на секунду не сомневаюсь, что жену убил он. Все-таки его и поймали в тот момент, когда он сжигал ее останки на пустыре. Но с ним мы особо не общались, потому что один день как-то поговорили, а потом он вдруг перестал со мной разговаривать. Я Гончарова спрашиваю: «Слушай, в чем дело?» Гончаров был православный, он с ним общался и объяснил: «Он на тебя посмотрел, говорит: нос у него неправильный».
Самое смешное насчет Емельянова — это был обход. Во время обхода все садились, и в палату заходят врачи: завотделением Яков Лазаревич Ландау, за ним Маргарита Феликсовна Тальце… А у Ландау классическая семитская внешность, там даже не надо измерять нос. И бедный Емельянов краснеет, потом зеленеет, смотрит в пол, в ответ на вопросы что-то бурчит. Такое ощущение, что боится, что они тут же начнут пить из него кровь, как из христианского младенца.
Про Институт Сербского рассказывают страшное, на самом деле это довольно цивильное место, максимально приближенное по условиям к обычной психбольнице. Мягкий режим, открытые палаты, из которых днем можно переходить в любую другую, чистые постели, неплохая еда, не хуже, чем в столовой самарского КГБ. Надо только понимать, что надзор — все 24 часа, даже ночью, и все разговоры между собой и с вроде бы добрыми нянечками будут потом записаны в акте экспертизы.
Известно, что в Освенциме, чтобы не шокировать новоприбывший «контингент», была построена копия обычного вокзала. Институт Сербского является точно таким же «освенцимским вокзалом». После тюрьмы там расслабляешься, поддаешься на вроде бы человеческое отношение врачей и забываешь, что каждое сказанное тобой слово не только может быть, но обязательно будет использовано против тебя.
Ну и, например, такая деталь: в Четвертом отделении была полная информационная изоляция — ни радио, ни газет. Вдруг как-то по возвращении с прогулки мы у себя в палате видим на столе газету «Вечерняя Москва». Разворачиваем в недоумении — а там «покаянное письмо» недавно арестованного православного диссидента о. Дмитрия Дудко. Тот плачется, что, «поддавшись влиянию зарубежных антисоветских центров», он совершил преступление против народа и государства. Тут мы посмотрели друг на друга с Гончаровым и оба поняли, почему и зачем газета здесь оказалась.
Моя экспертиза проходила довольно странно. Первое время было ощущение, что Ландау и те, кто за ним стоял, ждали какой-то реакции от диссидентов. Как выяснилось позднее, реакции не было: уже и Леонард Терновский к тому времени сидел, так что написать в Институт Сербского было некому. Дальше все пошло уже по отработанному сценарию.
Вела меня врач Светлана Герасимова, которая была классическим типом советского психиатра. На меня она не взглянула ни разу, смотрела только в журнал и много писала. Писала, писала, писала… Что она там писала, мне было даже жутковато думать. Были, например, такие вопросы: «Как вы вообще видите свое будущее?» Я отвечаю: «Вижу его в черном цвете». Она спрашивает: «А цвет у вас какой — черный ровный или с оттенками?» На этом я понимаю, что она ищет паранойю — это же про зрительные галлюцинации. И все остальное было на том же уровне. В итоге, когда я попадаю в Бутырку, я уже понимаю, что у меня диагноз; он оказался, правда, «диссидентский классический» — вялотекущая шизофрения.
В заключении экспертизы было сказано, что шизофрения проявлялась симптомами «склонности к резонерству, расстройства критических способностей и эмоционально-волевых расстройств». Кто ничего такого за собой не замечал, пусть поднимет руку.
После заключения из Сербского я сразу стал тем, кого у Оруэлла называли non-person. Никакие следственные документы уже не давали подписывать, даже обвинительное заключение, суд проходил без меня. Он определил отправить меня в специальную психиатрическую больницу МВД (СПБ).
Политическая психиатрия возникла еще при Сталине, но до и после него у этого вида репрессии были разные функции. Лучше всех преимущества карательной психиатрии понимал Андропов, который ее всячески расширял: так, известен даже проект целого «психиатрического ГУЛАГа», который Андропов продавил через Политбюро в конце 1970-х годов. Проект предполагал создание еще шести СПБ и значительное увеличение числа коек в психиатрических больницах — на 60 тысяч. Проект, правда, остался неосуществленным: Андропов предпочитал делать гадости чужими руками — в данном случае руками Минздрава и МВД, а там понимали, что в случае чего крайними окажутся они, так что не горели энтузиазмом, особенно министр внутренних дел Щелоков, который лично терпеть Андропова не мог.
Применение психиатрии как политической репрессии было удобно КГБ сразу по нескольким причинам. Во-первых, диссидента, признанного невменяемым, уже не выводили на суд. Никаких политических речей, чисто формальная процедура: заслушали — определили.
Во-вторых, дискредитация диссидентов как душевнобольных. В записках для Политбюро Андропов всего любил указывать: «Есенин-Вольпин, признанный душевнобольным», «душевнобольной Петр Григоренко».
В-третьих, у заключенных СПБ не было фиксированного срока, и он никак не коррелировался со сроком статьи. Я видел людей, у которых по статье было максимумом три года, а сидели они и по восемь, и по двадцать лет.
Ну и, наконец, самое главное — это нейролептики. В лагерях политзеки тоже сидели в жутких условиях, там были и ледяные карцеры, и голод, но всему этому можно сопротивляться, собрав силу воли. А нейролептики волю и сознание разрушают в нуль. В политлагерях постоянно проводились голодовки, в СПБ голодовка известна только одна, и то потому, что о ней вовремя смогли сообщить на волю и за границу. Попытки были. Тогда голодающего привязывали к койке и кололи аминазином и галоперидолом. И через неделю он уже делает все, что ему говорят, потому что вообще не соображает, что делает. Был человек — и нету, хотя физически вроде бы и существует, ну разве слюна течет.
В конце октября 1980 года меня привезли в СИЗО-2 Казани, где находится психиатрическое отделение. Там зеки сидели уже после суда, ожидая перевода собственно в Казанскую СПБ. Отделение было рассчитано примерно на 200 человек, сколько сидело в реальности, трудно сказать, потому что камеры были забиты, как в 1937 году, заняты были даже все места под нарами.
Это был следующий круг ада. Зеки находились там круглый год в одном белье — в холщовых рубахах и в кальсонах, только на прогулку им выдавали халаты. В коридорах с ключами ходили не менты, а санитары — отбывающие срок уголовники. Там в первый же день меня избили в бане. Сначала всех новоприбывших завели в предбанник и стали стричь — одной машинкой и под мышками, и лобок, и волосы на голове. Я отказался, потому что недавно стригся, волосы были короткие, меньше сантиметра, а по тюремным правилам до двух сантиметров разрешалось не стричь. Но это в обычной тюрьме, а здесь, как оказалось, были свои правила.
Санитары вроде согласились, потом вызвали уже голого из бани назад в предбанник и тут же, ни слова не говоря, вшестером начали бить. Я, голый, мокрый, без очков, как-то пытался отбиться, меня, конечно, сбили на пол, один встал на ноги, кто-то другой бил сапогами в лицо и под ребра. Выручили менты, которые прибежали на сигнал тревоги. Санитары начали оправдываться: «Да он нас всех тут кидал…» — шестерых. Все же подстригли — и это было не самое страшное, потому что сразу так же, голого, подняли на верхний этаж в процедурку, где у медсестры уже лежало два шприца: большой с аминазином и маленький с галоперидолом.
После уколов разрешили надеть белье, дали матрас и отправили в камеру. Мест там не было, нашлось только под столом, я бросил туда матрас, упал и уже не смог натянуть на себя одеяло, потому что аминазин начал действовать моментально.
Следующий день был самым страшным в жизни. Он весь прошел в бреду: снились какие-то кошмары, близкие к галлюцинациям. Я проталкивался через какую-то темную узкую пещеру, обдирая локти, выходил в пустыню, где падал в горячий песок, который тут же забивал рот, отчего становилось невозможно дышать. Я возвращался в реальность и чувствовал, что какой-то предмет мне действительно не дает дышать, заполняя рот. Я трогаю его рукой и понимаю, что это мой собственный вывалившийся язык, нечувствительный и совершенно сухой от жажды. Все горло жутко болит от сухости, каждый вдох — как ожог. Камера почему-то пустая, без единого человека. Я выползаю из-под стола и ползу к крану. Доползти на четвереньках до него я смог, но там было цементное возвышение сантиметров на тридцать, на которое я уже не смог подняться. Я сделал несколько попыток, в конце концов упал и так остался лежать. Не знаю, сколько времени я пролежал, но тут открылась дверь, зеки вернулись с прогулки.
Они подняли меня, отволокли назад под стол, налили кружку холодной воды. Я выпил, хотел попросить еще одну, но снова отключился. А вечером снова выволокли в процедурку, где сделали еще два укола, после чего я провалился в новый кошмар.
Неожиданно наутро выволокли в коридор, заставили одеться — в процессе одевания я пару раз сползал по стенке — и на ментовском «уазике» отвезли в СПБ. Как стало ясно позднее, этим днем пытки я купил себе, возможно, целый год жизни. Срок принудлечения считается только с доставки в СПБ. Так что и время, проведенное под следствием в СИЗО, и время, проведенное в психотделении в ожидании очереди, все равно обнуляется. Тот же «диверсант» Андрей Калишин сидел в СИЗО-2 больше года, ожидая, пока его отправят в СПБ; мне удалось проскочить его всего за сутки. Это я говорю на тему о пользе сопротивления и о том, что часто самый сложный и болезненный путь оказывается самым коротким. Поэтому я так уважаю людей, которые это тоже понимают, вроде Петра Павленского.
Когда говорят о СПБ, то часто их тоже называют «психушками», равняя с обычными психбольницами. На самом деле разница примерно такая, как между лагерем бойскаутов и колонией для малолетних преступников. Спецпсихбольница МВД — это тюрьма. Тюрьма внешне: высокая стена, за ней запретная зона, потом еще одна стена, наверху — колючая проволока и провода сигнализации. Внутри это тоже тюрьма: камеры, которые заперты круглые сутки, в двери камеры — только глазок и откидывающееся квадратное окошко, «кормушка»: через нее в камеру подают еду.
В камерах заключенные проводят 23 часа в сутки, на час выводят на прогулку, пять раз в день все отделение разом выводят в туалет. Там грязь, нет места, курить разрешается только в туалете, от дыма в глазах сразу начинается резь. На этом я быстро бросил курить, и сразу по двум причинам. Во-первых, решил, что если могу курить только пять раз в день, то могу и вообще не курить. А во-вторых, хотелось все-таки проверить диагноз Сербского. Ведь когда тебе ставят диагноз «шизофрения», то пусть умом и понимаешь, что это не про психиатрию, а про политику, но все равно невольно начинаешь себя ощупывать — а вдруг что-то есть? Бросив курить, я успокоился, потому что в картину «эмоционально-волевого расстройства» это никак не вписывается.
В самих камерах — теснота, койки поставлены так, что для того, чтобы добраться до места, заключенному надо перескакивать через спинку койки, а то и вообще шагать по соседу. Свободного пространства — примерно пять шагов. Одеты заключенные в легкие хлопковые пижамы, древние и латанные многократно. Выглядели они настолько безобразно, что тех, кто шел на свидание с родственниками, в обязательном порядке переодевали в нечто приличное, потом все это отбирали и снова одевали в лохмотья.
Отделения различаются и по условиям, и по режиму: есть «строгие», лечебные и рабочие. Первое отделение, куда меня привезли, было по определению «строгим» и располагалось в полуподвале. Врач Людмила Петухова, которая меня осматривала и нашла где-то запись о туберкулезе, сама признала: «Мы вас отсюда скоро переведем, потому что у нас идеальные условия для туберкулеза: тепло и сыро». Она поглядела на меня, еще шатающегося и зеленого после уколов, и дала три дня отдыха. После чего назначила лекарства, их в Первом отделении давали всем. Как сказала Петухова: «Лечитесь. У нас лечатся все».
И вот это было самое страшное. Не режим, не постоянное унижение, не неудобства — нейролептики. В Казани я получал дважды в день по 15 миллиграмм мажептила — теперь это лекарство не применяется — и на ночь стомиллиграммовый шарик аминазина. Первую дозу я получил утром, через пару часов была прогулка, по пути назад надо было спуститься на четыре ступеньки. Я подошел к ним — и чувствую, что не могу шагнуть: ноги перестали сгибаться в коленях. Как-то бочком я спустился, а после этого началось уже по полной программе.
Нейролептики вызывают массу побочных эффектов, и одним из них является так называемая неусидчивость. Это странное состояние, когда как будто начинают дрожать все мускулы тела, причем вызывает это очень неприятное ощущение: как будто вся кровь наполнена пузырьками, пузырится и бурлит. Описать это сложно, можно сравнить с тем ощущением, когда отсидишь ногу и потом она отходит, — вот примерно такое ощущение во всем теле. Ни сидеть, ни лежать, ни вообще находиться в статичной позе невозможно — чтобы снять это ощущение, нужно постоянно двигаться. А в камере всего пять шагов, и другие тоже мучаются, им тоже надо ходить. И вот в проходе между койками двое ходят гуськом, синхронно разворачиваясь через каждые три шага, потом они падают обессиленные, а на их место встают двое других. Так от подъема до отбоя и бродили, как зомби.
На аминазин у меня была своя реакция, и тоже плохая. От него закладывало нос, дышать приходилось через рот, который тут же пересыхал. Начиналась тахикардия, я стучал в дверь и пробовал позвать медсестру. Получалось это через раз: когда медсестры занимались своими делами, им было не до зеков. Если приходила, то щупала пульс через «кормушку» и приносила в пластиковом стаканчике корвалол. Помогал он или нет, я не знаю, потому что когда уже казалось, что сердце совсем выскочит, в этот момент я отключался.
А ночью — примерно часа в три — в той камере Первого отделения для нас всех был «подъем». Это лежавший через койку сумасшедший Вася Усов вскакивал и начинал громко, совершенно по-звериному выть. Васю шпиговали на ночь лошадиными дозами аминазина, но это не помогало. Ночью приходилось снова колоть, правда, один мент догадался, стал открывать дверь и бить Усова по голове шваброй — какой Вася ни был псих, но рефлекс срабатывал, тогда Усов замолкал.
Хуже всего было с концентрацией и с памятью. По воскресеньям выдавали ручки писать письма домой, я начинал писать предложение — и на середине забывал, о чем хотел сказать. Сложно было даже разговаривать, иногда возникали комические сцены, когда, беседуя с сокамерником, тоже получавшим лекарства, мы оба вдруг замолкали, потому что теряли нить разговора.
В этом кошмаре в Казанской СПБ прошло два месяца, после чего меня неожиданно вызвали «с вещами» и, ни слова не говоря, отвезли в казанский СИЗО-1. Он был построен еще в начале XIX века, камера находилась в круглой башне; возможно, что именно в ней в 1937 году сидела мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург. Оттуда этапом через Свердловск, Красноярск, Иркутск и Читу довезли до Благовещенской СПБ. Причем все это было совершенно незаконно, ибо формально с момента доставки в СПБ я уже не считался арестованным, и принимать «вольного человека» в СИЗО никто не имел права. Тем не менее принимали, сажали в камеру — разве что только поскорее старались отправить на этап дальше.
Этап был очень тяжелым физически и долгим — занял он почти месяц. А Благовещенская СПБ стала уже последним кругом ада. Там
|
|
Один - не значит одинокий |
Вот статья на тему, о которой мы говорим последние несколько месяцев
***
Забавно. Если я в гордом одиночестве ем пиццу и играю в приставку у себя дома, все в порядке. Если же я одна гуляю по парку, я вызываю осуждение. Кто вообще решает, когда я могу быть собой, а когда это социально неприемлемо? И почему я, ищущая одиночества и дающая себе возможность сконцентрироваться на чем-то важном, могу это получить дома, но стоит выйти на улицу, как за спиной меня начинают жалеть?
Быть наедине с собой — ценнейший подарок, который мы можем сделать своему разуму.
Только вдумайтесь. Это же полная свобода делать то, что вам нравится! И если я хочу провести час, перемеривая вещи из своего гардероба, я потрачу эти 60 минут и буду абсолютно счастлива. Я могу делать то, что хочу, а не пытаться как можно скорее завершить обход исторического музея, чья экспозиция, если честно, вызывает у меня страшную зевоту.
Мой вывод: я хочу делать то, что я хочу, без оглядки на мнение и оценки окружающих. Я совсем не хочу задеть или обидеть тех, кто не любит проводить время в одиночестве. Каждому свое. Я лишь хочу подчеркнуть, как важно слушать свое сердце и действовать в соответствии со своими желаниями. В конечном счете важно лишь то, чего вы хотите достичь: ваши цели, ваши задачи, ваши мечты.
Езжайте в Лион. Сходите на концерт исполнителя, которого ненавидят ваши друзья. Наслаждайтесь вашим ужином. И если кто-то смотрит на вас осуждающе... Какая разница? Ваш невероятно вкусный десерт не станет от этого менее соблазнительным.
Я знаю, это непросто. Довольно сложно преодолеть внутренние барьеры и стереотипы. Для этого нужны смелость и уверенность в себе. Зато знаете что вы приобретаете взамен? Свободу. Свободу быть собой. И это бесценно.
Полностью - здесь
Канал доктора Эльман на YouTube
|
|
Станок. Продолжение 2. |

Система CNC - компьютеризованная система управления, всегда считалась сердцем станка. Она прошла длинный эволюционный путь от первых примитивных американских и японских систем, созданных в начале 50 - х годов прошлого столетия до сегодняшних - быстродействующих и эстетичных внешне. Давно ушли в историю перфоленты и перфокарты. Несколько лет назад в Британском музее науки и техники я увидел старую систему “ Fаnuc 3000” и обнял её , как родную. Моя первая система ЧПУ, освоенная в начале 80- х на Кировском.

Вот такая "тумбочка" с перфолентой и одной строчкой индикации вместо дисплея.
История…
В принципе, сегодня, это тот же компьютер, где на базе обычного “ Windows “ установлена аппликация для управления станком. Упрощенно, конечно. Есть и диагностика, и графика, и подключение к интернету… Чего там только нет, короче.
Вот так выглядит современная система.
Именно объяснять мне все тонкости этой системы и приехал фирмач- японец, которого звали Тсунедзо. Он мне явно кого-то напоминал.
Как говорят у нас - “если ты ездишь на старой “Субару” , то поедешь и на навороченном “Ягуаре”. К хорошему привыкают быстро. Я простоял у станка рядом с Тсунедзо целую неделю и остался доволен. Все навороты улеглись в моей голове и вопросов практически не осталось.Мы попрощались и я занялся делом. Нужно было отладить первую деталь, что заняло еще один день. Параллельно ко мне были приставлены ребята - операторы, которые должны были работать в ночную смену.
“Так ,- сказал я , - запускаем станок на ночь в автомате. Если что-то случится, то ничего не трогайте. Утром будем разбираться”.
То, что что-то произошло я понял еще в машине, заезжая утром на территорию завода. Тревожно мигала красная лампа над станком. “Лапа” робота была как- то неестественно вывернута и почему-то внутри кабины стоял совсем не тот рабочий стол. Что за черт. Ведь днем все работало. Почему ? Я не понял. Сделал стандартный перезапуск станка и он начал работать. До вечера сбоев не было, не было их и целую следующую неделю.
И я решил, что надо идти и просить добавку к зарплате.
|
|
Первомай |

Вот поди ж ты, есть и такие совпадения. Только совсем недавно, на седер, всё мы пили четыре пасхальных бокала. И вот только сегодня я вдруг обнаружил, что оказывается Сергей Александрович Есенин 1 мая 1925 года, в славном городе Баку - делал то же самое.
Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы<1> —
В них правда есть.Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы<2>?Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.Стихи! стихи! Не очень лефте!<3>
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей. И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих
Под чью-то речь.И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за тебя.1925
Ну как по такому случаю не вспомнить, что были времена когда и в наших палестинах Первомай составлял довольно сильную конкуренцию не только Песаху, но и наверно самой «Мемуне». Не верите? Тогда к вашему вниманию небольшая подборка первомайских плакатов, только не с родимой кириллицей, а на самом что ни на есть священном языке - лошен-койдеш..








Старался поставить по хронологии, и был рад когда не обнаружил плакатов после 1964 года. Сегодня эти плакаты смотрятся конечно как юмор, чего например стоит только фраза - негед зиюна михадаш шель Германия, но ведь были времена когда на улицы и впрямь выходили десятки тысяч людей - и как хорошо что всё это осталось в далёком прошлом.
Знаю, знаю, бывают ещё первомайские демонстрации в арабском секторе, и по мелочёвке и в Тель-Авиве - но это так, курьёз.

Спросите хотя бы Владимира Фридмана.
П.С. Для более точного понятия приведённого стиха Есенина, конечно обязан поставить и примечания:
Газета «Бакинский рабочий» (Баку, 1906—1995) , 1925, 5 мая, № 98.
П. И. Чагин вспоминал: «Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина был день 1 мая 1925 года. Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, которые знали и любили поэта.
Есенина на маевке встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки» (Восп., 2, 162).
<1> Пускай меня бранят за стансы... — Стихотворение «Стансы» критиковалось рядом литераторов. Так, в статье А. К. Воронского «На разные темы» (альманах «Наши дни», М., 1925, № 5), в частности, говорилось: «В «Заре Востока» № 713 от 26 октября 1924 г. помещены «Стансы» Сергея Есенина, навеянные пребыванием поэта в Баку. Стихи — пространные и гражданственные <...>. Очень хорошо, что Сергей Есенин, хотя и с большим опозданием, решил стать певцом и гражданином «великих штатов СССР» и «тихо» сесть за Маркса <...>. Беда, однако, в том, что стихи во имя Маркса просто плохи. «Стишок писнуть», «Эра новая не фунт изюму нам» в устах такого первоклассного поэта, каким является Есенин, звучат совершенно неприлично <...> «Стансы» режут слух как гвоздем по стеклу. Они небрежны, написаны с какой-то нарочитой, подчеркнутой неряшливостью, словно поэт сознательно хотел показать: и так сойдет. Но хуже всего даже не эти «фунты изюма», не «писнуть», даже не скудная, сырая рифмовка стиха, — хуже всего, что «Стансам» не веришь, они не убеждают. В них не вложено никакого серьезного, искреннего чувства, и клятвы поэта звучат сиро и фальшиво». См. также коммент. к «Стансам».
<2> Балаханы — В то время пригород Баку, где 1 мая 1925 г. состоялась закладка нового рабочего поселка имени Степана Разина.
<3> Не очень лефте! — От «ЛЕФ» («Левый фронт») — названия журнала, издававшегося в Москве в 1923—1925 гг. литературной группой «ЛЕФ» (под редакцией В. В. Маяковского). В этом журнале, провозглашавшем борьбу за обновление литературного творчества, подчас публиковались статьи, оправдывающие увлечение некоторых авторов заумью и формалистическими изысками.
ЗЫ. Блин, совсем отстал от жизни. Не пишут уже П.С. - нынче в моде только ЗЫ.
Итак З.Ы. - обратите внимание что заглавной фотографией в этом посту является коллаж фотографий работы нашего незабвенного Рыжего (заранее приношу ему свою благодарность, хотя и не спросил прежде его разрешения, но по случаю первомая думаю что в обиде он не будет )).
|
|
Первомай |

Вот поди ж ты, есть и такие совпадения. Только совсем недавно, на седер, всё мы пили четыре пасхальных бокала. И вот только сегодня я вдруг обнаружил, что оказывается Сергей Александрович Есенин 1 мая 1925 года, в славном городе Баку - делал то же самое.
Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы<1> —
В них правда есть.Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы<2>?Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.Стихи! стихи! Не очень лефте!<3>
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей. И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих
Под чью-то речь.И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за тебя.1925
Ну как по такому случаю не вспомнить, что были времена когда и в наших палестинах Первомай составлял довольно сильную конкуренцию не только Песаху, но и наверно самой «Мемуне». Не верите? Тогда к вашему вниманию небольшая подборка первомайских плакатов, только не с родимой кириллицей, а на самом что ни на есть священном языке - лошен-койдеш..








Старался поставить по хронологии, и был рад когда не обнаружил плакатов после 1964 года. Сегодня эти плакаты смотрятся конечно как юмор, чего например стоит только фраза - негед зиюна михадаш шель Германия, но ведь были времена когда на улицы и впрямь выходили десятки тысяч людей - и как хорошо что всё это осталось в далёком прошлом.
Знаю, знаю, бывают ещё первомайские демонстрации в арабском секторе, и по мелочёвке и в Тель-Авиве - но это так, курьёз.

Спросите хотя бы Владимира Фридмана.
П.С. Для более точного понятия приведённого стиха Есенина, конечно обязан поставить и примечания:
Газета «Бакинский рабочий» (Баку, 1906—1995) , 1925, 5 мая, № 98.
П. И. Чагин вспоминал: «Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина был день 1 мая 1925 года. Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, которые знали и любили поэта.
Есенина на маевке встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки» (Восп., 2, 162).
<1> Пускай меня бранят за стансы... — Стихотворение «Стансы» критиковалось рядом литераторов. Так, в статье А. К. Воронского «На разные темы» (альманах «Наши дни», М., 1925, № 5), в частности, говорилось: «В «Заре Востока» № 713 от 26 октября 1924 г. помещены «Стансы» Сергея Есенина, навеянные пребыванием поэта в Баку. Стихи — пространные и гражданственные <...>. Очень хорошо, что Сергей Есенин, хотя и с большим опозданием, решил стать певцом и гражданином «великих штатов СССР» и «тихо» сесть за Маркса <...>. Беда, однако, в том, что стихи во имя Маркса просто плохи. «Стишок писнуть», «Эра новая не фунт изюму нам» в устах такого первоклассного поэта, каким является Есенин, звучат совершенно неприлично <...> «Стансы» режут слух как гвоздем по стеклу. Они небрежны, написаны с какой-то нарочитой, подчеркнутой неряшливостью, словно поэт сознательно хотел показать: и так сойдет. Но хуже всего даже не эти «фунты изюма», не «писнуть», даже не скудная, сырая рифмовка стиха, — хуже всего, что «Стансам» не веришь, они не убеждают. В них не вложено никакого серьезного, искреннего чувства, и клятвы поэта звучат сиро и фальшиво». См. также коммент. к «Стансам».
<2> Балаханы — В то время пригород Баку, где 1 мая 1925 г. состоялась закладка нового рабочего поселка имени Степана Разина.
<3> Не очень лефте! — От «ЛЕФ» («Левый фронт») — названия журнала, издававшегося в Москве в 1923—1925 гг. литературной группой «ЛЕФ» (под редакцией В. В. Маяковского). В этом журнале, провозглашавшем борьбу за обновление литературного творчества, подчас публиковались статьи, оправдывающие увлечение некоторых авторов заумью и формалистическими изысками.
ЗЫ. Блин, совсем отстал от жизни. Не пишут уже П.С. - нынче в моде только ЗЫ.
Итак З.Ы. - обратите внимание что заглавной фотографией в этом посту является коллаж фотографий работы нашего незабвенного Рыжего (заранее приношу ему свою благодарность, хотя и не спросил прежде его разрешения, но по случаю первомая думаю что в обиде он не будет )).
|
|
Хороший мальчик или Праздники кончились |

Если бы я был бойскаутом, то сегодня меня бы точно наградили бы каким-нибудь значком. Я с утра столько добрых дел сделал!
Снсчала мы всей мишпухой пошли на Раскро и продлили ховшиходши. Или ходшиховши. Не помню точно, что сначала, что потом. Причем я ринимал самое активное участие, потому что зять с дочкой бегали покупали фрукты и овощи, пока шла очередь. Потом обнаружилось, чьто рядом продают черевишню. Аж по 40 шекелей килограмм. Но дочке ооочень захотелось. Я про вишню.. И я потратил последние 20 шекелей. Еще я сходил забрал, наконе-то, свои рецепты и выкупил лекарства. А еще я оплатил счет. Смое неприятное дело. Причем не только себе. На табло горел номер 67. У меня был 88, а у товарища, с которым мы встретились на Раско, 101. Он оставил мне деньги и квитанцию. И, самое главное,я сделал маме телефон. То есть принес аппарат, поставил симку, настроил быстрый набор. У мамы плохо со зрением, а аппарат, пелефон, в смысле, который у нее был, накрылся ээээ медным тазом. Востановлению, как говорится. не подлежил. Кнопки она не видит, поэтому нужен быстрый набор. Короче сделал. И вот сейчас, десяти минут еще не прошло, тестю подготовил сканы документов для коротхаима.
|
|
Хороший мальчик или Праздники кончились |

Если бы я был бойскаутом, то сегодня меня бы точно наградили бы каким-нибудь значком. Я с утра столько добрых дел сделал!
Снсчала мы всей мишпухой пошли на Раскро и продлили ховшиходши. Или ходшиховши. Не помню точно, что сначала, что потом. Причем я ринимал самое активное участие, потому что зять с дочкой бегали покупали фрукты и овощи, пока шла очередь. Потом обнаружилось, чьто рядом продают черевишню. Аж по 40 шекелей килограмм. Но дочке ооочень захотелось. Я про вишню.. И я потратил последние 20 шекелей. Еще я сходил забрал, наконе-то, свои рецепты и выкупил лекарства. А еще я оплатил счет. Смое неприятное дело. Причем не только себе. На табло горел номер 67. У меня был 88, а у товарища, с которым мы встретились на Раско, 101. Он оставил мне деньги и квитанцию. И, самое главное,я сделал маме телефон. То есть принес аппарат, поставил симку, настроил быстрый набор. У мамы плохо со зрением, а аппарат, пелефон, в смысле, который у нее был, накрылся ээээ медным тазом. Востановлению, как говорится. не подлежил. Кнопки она не видит, поэтому нужен быстрый набор. Короче сделал. И вот сейчас, десяти минут еще не прошло, зятю подготовил сканы документов для коротхаима.
|
|
Всё испортилось сразу |

Пока я моталась по Франции, сломалось всё: айпэд, айфон, фотоаппарат, порвались кроссовки.
Если фирменную обувь и одежду в загранице прикупила по ценам в 2-3 раза ниже наших, то технику не догадалась, и теперь взываю к ботинковским профессионалам с вопросом:
ЧТО делать купить?
Вирус с отпрысками настойчиво отговаривают брать Apple, который мне казался самым крутым, ратуют за таблет и самсунг (вместо айпэда и айфона). Прямо не знаю, что выбрать.
1. Многострадальный Айпэд, повествование о котором вы можете освежить в своей памяти, выглядит теперь так:
Он, то заряжается, то нет, звук то появляется, то исчезает.
2. Коварный фотоаппарат, о котором тоже докладывала в своё время ботосообществу, вообще озверел, и не воспринимает никакие батарейки, злорадно сообщая "поменяйте батарейки" сразу же после первого кадра. А я его еще сентиментально жалела и давала второй шанс для реабилитации.
3. Айфон 5S, с памятью 12 ГБ, за три дня переполнился фотографиями и видеороликами, стал вести себя странно, выключался нафик при заряде 30 и более %, потом "отдыхал" и снова включался, и так по многу раз доводил хозяйку. Батарейка тоже сразу заканчивалась, приходилось таскать за собой в изящной дамской сумочке увесистый энергоноситель. Планирую отдать айфон отпрыску, разбившему свой очередной мобильник.
Обязуюсь рассмотреть каждый ваш совет и доложить о проделанной работе.
Какие сейчас таблеты (шоб с большим экраном), мобильники и фотоаппараты в моде? Приветствуется малый вес приборов в сочетании с высоким качеством.
А пока несколько фото из поездки:
|
|
Всё испортилось сразу |

Пока я моталась по Франции, сломалось всё: айпэд, айфон, фотоаппарат, порвались кроссовки.
Если фирменную обувь и одежду в загранице прикупила по ценам в 2-3 раза ниже наших, то технику не догадалась, и теперь взываю к ботинковским профессионалам с вопросом:
ЧТО делать купить?
Вирус с отпрысками настойчиво отговаривают брать Apple, который мне казался самым крутым, ратуют за таблет и самсунг (вместо айпэда и айфона). Прямо не знаю, что выбрать.
1. Многострадальный Айпэд, повествование о котором вы можете освежить в своей памяти, выглядит теперь так:
Он, то заряжается, то нет, звук то появляется, то исчезает.
2. Коварный фотоаппарат, о котором тоже докладывала в своё время ботосообществу, вообще озверел, и не воспринимает никакие батарейки, злорадно сообщая "поменяйте батарейки" сразу же после первого кадра. А я его еще сентиментально жалела и давала второй шанс для реабилитации.
3. Айфон 5S, с памятью 12 ГБ, за три дня переполнился фотографиями и видеороликами, стал вести себя странно, выключался нафик при заряде 30 и более %, потом "отдыхал" и снова включался, и так по многу раз доводил хозяйку. Батарейка тоже сразу заканчивалась, приходилось таскать за собой в изящной дамской сумочке увесистый энергоноситель. Планирую отдать айфон отпрыску, разбившему свой очередной мобильник.
Обязуюсь рассмотреть каждый ваш совет и доложить о проделанной работе.
Какие сейчас таблеты (шоб с большим экраном), мобильники и фотоаппараты в моде? Приветствуется малый вес приборов в сочетании с высоким качеством.
А пока несколько фото из поездки:
|
|
Иудаизм для чайников без накипи-Ахарей мот |

С теми,с кем можно молиться,невозможно разговаривать.С теми,с кем можно разговаривать,невозможно молиться.
Никогда не жди благодарности от соплеменников-это не удавалось даже Б-гу.
Научи дурака молиться и он совсем оборзеет: пойдет других учить молиться.
Миф,еще миф,еще и еще...Теперь-миф о маген Давиде.Графическим символом евреев и иудаизма уже давно считается маген Давид,так называемый "щит Давида"-шестиконечная звезда,гексаграмма,образованная двумя симметрично расположенными равносторонними треугольниками.Этот знак украшает древние книги и предметы еврейского ритуала.Его носили обитатели средневековых гетто и жертвы нацизма.Звезду Давида изображали авторы антисемитских и антиизраильских карикатур- чтобы никто не ошибся в адресе их разящей «сатиры».Такая же звезда украшает еврейские надгробия в разных странах мира.Российские антисемиты утверждают в своей печати,будто шестиконечная звезда-знак дьявола,символ вселенского зла.Видите, сколько противоречивого можно обнаружить в использования одного символа.Давайте посмотрим,какое место занимает он в еврейской традиции.Вначале немного истории.Шестиконечная звезда использовалась в качестве декоративного элемента-и,возможно, мистического символа- еще в глубочайшей древности у многих народов(кстати и свастика тоже!).Но особенно часто ее употребляли древние евреи,-в основном,на предметах домашней утвари. Древнейшее известное нам изображение такого рода - обнаруженная в Цидоне печать 7 века до н.э.,принадлежавшая некому Йеошуа бен Йешаяу.В период Второго Храма гексаграмма наряду с пентаграммой (пятиконечной звездой,она же "щит Соломона") украшала различные предметы и здания,как еврейские,так и нееврейские.В качестве примера можно отметить синагогу в Кфар-Нахуме(2-3 век н.э.),в орнаменте которой чередуются пяти-и шестиконечные звезды,а также крестообразные фигуры с обломанными концами(напоминающие свастику).Впрочем, в эпоху эллинизма маген Давид в еврейской символике никак не использовался.Еще тысячу лет назад шестиугольная звезда была интернациональным знаком.Она встречалась на раннехристианских амулетах и в мусульманских орнаментах под названием "печать Соломона".Но уже в 13-14 веках маген Давид появляется на фронтонах германских синагог и на еврейских манускриптах,- хотя и на этот раз,лишь как декоративный элемент,без всякого символического значения.В ту же эпоху им начали украшать амулеты и мезузы,а в позднем средневековье и еврейские тексты по Каббале. Сам термин маген Давид восходит к эпохе вавилонских гаонов.Он упоминается в качестве легендарного "щита царя Давида" в тексте,толкующем магический "алфавит ангела Метатрона".Это толкование получило широкое распространение среди ашкеназских общин.О шестиугольном "щите Давида" писал в своей работе по Каббале внук Рамбана (14 век).Утверждалось,что щитом подобной формы пользовались воины победоносной армии царя Давида.Правда,его личная печать,как указывают некоторые источники,содержала изображение не звезды,а пастушеского посоха и сумы.Зато царская печать Шломо,сына Давида,имела форму пятиконечной звезды.В 14-18 веках маген Давид широко используется еврейскими и нееврейскими печатниками и часто встречается на фамильных гербах.В 1354 году Карл IV даровал пражским евреям право иметь свой флаг-красное полотнище с изображением шестиконечной звезды.Маген Давид украсил также официальную печать общины.На протяжении 17-18 веков этот знак переняли евреи Моравии и Австрии,а затем - Италии и Нидерландов.Несколько позже он распространился среди общин Восточной Европы.В каббалистических кругах "щит Давида" трактовался как "щит сына Давида",т.е. Машиаха.Последователи лже-мессии Шабтая Цви(конец 17 века) видели в нем символ скорого избавления.В 19 веке эмансипированные евреи избрали маген Давид в качестве национального символа в противовес христианскому кресту.Именно в этот период шестиконечная звезда была принята практически всеми общинами еврейского мира.Она стала появляться на зданиях синагог и еврейских учреждений,на памятниках и надгробиях, на печатях и бланках документов, на бытовых и религиозных предметах.С 1799 года маген Давид впервые был использован как специфический еврейский символ в антисемитских карикатурах.В 1822 году семейство Ротшильдов,получив дворянский титул, включило маген Давид в свой фамильный герб.В 1840 году поэт-выкрест Генрих Гейне начал ставить этот знак вместо подписи под своими статьями в немецкой газете "Аугсбургер альгемайне цайтунг".Первый сионистский конгресс 1897 года принял шестиконечную звезду в качестве символа еврейского нацио-нального движения,и в том же году она украсила обложку первого номера журнала "Ди Вельт",издаваемого Теодором Герцлем.Со временем маген Давид появился на государственном бело-голубом флаге Израиля, хотя в качестве герба была выбрана более аутентичная и древняя еврейская эмблема-Менора,образ храмового светильника.Для евреев Торы маген Давид не лишен общепризнанной смысловой нагрузки. Существует традиция украшать им сукку.Шесть концов звезды, вывешенной в сукке,соответствуют шести "гостям"(ушпизин),посещающим каждую сукку в первые шесть дней праздника Суккот:Аврааму,Ицхаку, Яакову, Моше, Аарону и Йосефу. Объединяет их всех седьмой "гость" - царь Давид.Еще одна деталь: маген Давид имеет 12 ребер, что соответствует 12 коленам Израиля, над которыми царствовал Давид и которые будут восстановлены с приходом Машиаха, прямого наследника царя Давида.Каббалисты учат также,что шесть концов "звезды Давида" соответствуют шести пространственным направлениям-земле, небу,северу,югу,востоку,западу,-что означает всемогущество Б-га.Любопытная лингвистическая деталь: на иврите слова маген Давид состоят тоже из шесть букв. Число ребер обоих треугольников, образующих маген Давид,указывают на "совершенное" число 6,равное сумме своих множителей. Издавна это число наделялось мистическим смыслом в разных эзотерических учениях.Возможно,именно геометрическая особенность "еврейской звезды" мистифицировала антисемитов разных стран. Нацисты метили евреев желтым "знаком позора".Один из ведущих российских юдофобов серьезно утверждает,будто шестиконечные типографские звездочки-тайный знак "жидо-масонов".На иллюстрациях в детских книжках,выпущенных "патриотами"-антисемитами,вы никогда не увидите обыкновенной шестиугольной снежинки,она рисуется в симметрии креста-вопреки всем законам природы!Интересно,что контурное изображение "Бермудского треугольни-ка",абсолютно совпадает по форме...с правильным маген Давидом.Что общего у самого гиблого места мирового океана и еврейской звезды?Вопрос, конечно, интересный...
Бесполезно спрашивать «Зачем нужна молитва?» у людей,которые никогда в жизни не молились и не собираются начинать.Бессмысленно требовать «поблагодарите Б-га» тех,кто в Б-га не верит.Нет причины обучать нюансам литургии тех,кто считает,что «литургия»-это что-то вроде хирургии.Зачем люди молятся?Чтобы чего-то выпросить?Чтобы попросить защиты?Чтобы поблагодарить за то,что они уже получили?Для чего?!Среднестатистичекий еврей на вопрос,молится ли он,с «гордостью» совка,от-вечает громогласно:«Нет!Нет!Нет!Мы же не религиозные». Этот вопрос,при всей его «детской» простоте,невероятно сложен.Неужели мы никогда-никогда не просили мысленно «Г-споди,сделай,пожалуйста,так-то и так-то»?И никогда не случалось,чтобы после какой-то опасной ситуации,в которой «повезло»,говорили «слава Б-гу»?И никогда не желали никому «дай Б-г тебе здоровья»?А,ну это да.Но это же не молитва.Это так, «вооще»,стандартный оборот речи.Неужели мы не вкладываем в эти «стандартные обороты» хоть немного действительного чувства?!
Он создал мир,продолжает им управлять,и что очень важно,чтобы мы именно к Нему обращали свои просьбы.Наш Б-г един,и поэтому мы обращаемся с просьбами к Тому же,Кто является источником заповедей,законов,мораль-ных принципов...И никаких посредников!Иными словами,к Тому,перед Кем мы ответственны.И потому наше обращение к Б-гу усиливает наше чувство ответственности за свои поступки.Молитва-это прежде всего прось-ба,необходимая нам для осознания Б-жественного управления миром и нашей моральной ответственности за все наши действия и поступки в этом мире.Недаром на иврите слово «тфила»- «молитва»-происходит совсем не от слова «просить»,а от корня «судить(себя)»- «палаль».Молитва-это суд над собой для того,чтобы мы могли улучшить себя,а Он,в связи с этим,мог исполнить наши просьбы...Я не говорю «давайте поверим».Я говорю «давайте посмотрим».
Еврейская молитва логична,стройна,ее может понять любой еврей,готовый не затыкать уши и слушать то новое,что ему до сих пор неведомо.Не обязательно быть религиозным.Не обязательно запоминать все наизусть.Достаточно заинтересоваться и послу-шать,попытавшись кое-что-понять,а кое-что-осознать.Легко сказать «я не хочу».Еще легче «я не буду».Попробуем вместе взглянуть в незнакомое окно-может быть,что-то в этом окне покажется нам интересным,что-то-не таким уж незнакомым,что-то-неожиданно близким,а что-то-превратит это окно в широко распахнутую дверь.Или не превратит...Мы только попробуем открыть окно...
Умирает еврей, предстает перед Всевышним и говорит: "Господи, вот я предстал перед тобой,теперь я могу получить все ответы в мире".И задаёт какой-то вопрос.А Всевышний ему отвечает: "брбрбрб".Еврей:"А?".Всевышний:"брбрбрб".Еврей:"Г-споди,я не понимаю тебя".Всевыш-ний:"Но ты же со мной всё время так разговаривал".В древнюю эпоху(от Моше до конца эпохи Первого Храма) молитвы не были обязательными и постоянными,и каждый молился по-своему.Однако,после того,как Первый Храм был разрушен и народ был изгнан в Вавилонский плен,многие не могли выразить свои просьбы к Б-гу.Это немудренно,так как правители Вавилона проводили типичную имперскую политику того времени-меняли население захваченных районов между собой,оставляя на земле только необразованную массу-ам хаарец...Поэтому,после возвращения из Вавилона,члены Санhедрина,под руководством Эзры(4 век до н.э.),установили основные молитвенные формулы.В последующий период,в связи с разрушением Второго Храма,текст молитв был несколько видоизменен,и они были зафиксированы в современном виде талмудистами.В послетал-мудическую эпоху были добавлены лишь некоторые детали молитв и «пиюты»-«религиозные гимны».
Молитва-это не только просьба,но и служение:«Служи Г-споду всем сердцем твоим»(Шмот 23:25).В качестве служения,молитва восполняет жертвоприноше-ния,существовавшие во времена храма и имевшие тот же смысл суда над собой.Таким образом,молитва-это синтез просьбы и служения,вещей,в каком-то смысле,противо-стоящих друг другу.Она должна соотвествовать традиции и при этом исходить из сердца.Зачем же нужно проговаривать слова,если молитва идет от сердца?Важность выражения молитвы словами состоит в том,что словесная речь-это одна из важнейших особенностей человека.Молитва должна быть не только проговорена мысленно,но обязательно высказана вслух,т.к.человеку свойственно гораздо более ответственно относиться к слову,реально сказанному,чем произнесенному мысленно.С другой стороны,не следует молиться громко.Желательно,чтобы человек слышал свою молитву сам.но не нужно,чтобы ее слышали окружающие.Про Хану,мать пророка Шмуэля,говорится:«И когда молилась она,то говорила в сердце своем;только губы ее двигались,голоса же ее не было слышно»(книга Шмуэля 1,1:13). И,конечно,молитва-это действие,а высказанное слово является действием в гораздо большей степени.чем мысли и чувст-ва,проносящиеся в нашем мозгу и сердце.
Пришел в субботу в синагогу совсем неграмотный человек и вместо молитвы стал говорить просто буквы еврейского алфавита: алеф,бет,гимель,далед...Дошел до конца и начала алфавит сначала и делал так много раз подряд.Все в синагоге стали перешептываться и насмехаться над ним:"Что за невежда,даже субботних молитв не знает". Потом говорящий сделал паузу и тихо сказал:"Г-споди, не умею я ни читать,ни писать и не знаю я ни одного слова молитвы,но я так люблю Тебя и так верю,что думаю тебе не составит труда Самому сложить правильные слова из букв, что бы выразить мои чувства."После этого он вздохнул и стал снова повторять весь алфавит.И пока он не закончил, было в синагоге очень тихо,потому что никто больше не осмелился сказать ни одного слова и все лишь повторяли про себя буквы вслед за этим человеком...
По каким таким блюдам размечтались евреи в пустыне и стали,в который раз,доставать Моше?По "кишшу'им","аваттихим" и "хацир"(все осталь-ное-дага/рыба/, бецалим /лук/ и шумим /чеснок/-сомнения не вызывает).Слово "хацир" означает и "сено" и "лук-порей";все комментаторы единодушны в том,что здесь имеется в виду именно второе значение.Интереснее с "аваттихим": некоторые переводят "дыня",а РаШИ так вообще утверждает "свекла"-но многие средневековые комментаторы, по-видимому, просто не знали, что такое арбуз.А р. Авраам Ибн-Эзра, живший в арабоязычной Испании, справедливо говорит: "смысл ясен из арабского". Арабское "батих" - "арбуз".Надо понять, что средневековые комментаторы не переводили Тору на другой язык - они писали тоже на иврите; речь просто шла о том, какой смысл вкладывал в то или иное слово сам Моше.Арабский и иврит родственны, но свое "батих" арабы заимствовали из третьего языка той же семьи - арамейского.Арам. "аватиха" еще ближе к ивритскому "аваттиах" (мн. ч. аваттихим).Следовательно, заключаю, что евреи ностальгировали не по дыне, а именно по арбузу.И, наконец, кишшуим. Названия овощей очень текучи (русское "огурец" происходит из греч. ангурос "неспелый", применявшегося изначально к винограду!), и "кишшуим", ед. ч. "кишшу'", происходит от древнего семитского (и ранее афроазиатского) корня, означавшего "(любой) овощ из семейства тыквенных".При этом достаточно давно и прочно к нему прилепилось именно значение "огурец". Более того, из иврита (возможно, из его финикийского варианта) это слово попало в греческий язык в форме "сикуос", в дальнейшем "кукуос". Это слово было из греческого взято римлянами в форме "кукумис" и дошло до наших дней, например, в виде английского cucumber.Только в 19-20 веках на базарах Ближнего Востока арабское "куса", а затем и ивритское "кишшу'",стало обозначать не огурец,а- устойчиво-кабачок.В арабском языке для "огурец" нашелся синоним - хьяр, происходящее от того же греческого "ангурос", что и русское "огурец";в иврите-другое давнее древнегре-ческое заимствование-мелафефон,от гр. "ме-ло(н)пепон"-"спелая...дыня(или яблоко!)".Зам-кнулся лингвистическо-кулинарный круг:в Древней Греции "пепон"-"спелый"-был антонимом к "ангурос" - "незрелый".
Г-споди,сделай так,чтобы у Абрама дом сгорел.чтобы жена от него ушла,дети двоешниками стали...Не для себя же прошу,Г-споди!!!Обычный сборник молитв называется «Сидур»-буквально «Порядок молитв»;сборник молитв на праздники называется «Махзор»-буквально «Годичный цикл».Канонизация текста молитвы никоим образом не означает,что необходимо,как попугай,просто повторять знакомый текст.Молитва не должна «окостеневать»,становиться пустыми,ничего не гово-рящими сердцу словами.Для полноценной молитвы требуется,чтобы в ней было всегда что-то новое...Все молитвы можно условно разделить на четыре группы:молитва за себя(личная), молитва за другого,молитва за весь еврейских народ(национальная),молитва за все челове-чество (универсальная).Стоп-стоп!Вот здесь я спросил сам себя- можно ли нам молиться за здоровье нашего гида-Кристофа из Ульма?Он же нееврей?!Мы же не монстры какие-то:если не нашей национальности,пусть болеет,пусть мучается?!Неясно-почему это может быть «низзя»? А если «зя,зя,зя»,то как?...А если-своими словами,от души и без протокола-почему не попробовать?!При всём действительном величии слов мудрецов,своими словами-тоже ведь не запрещается. Главное,чтобы искренне и от всего сердца...
Я спросил,нет,не «у тополя»,у ребе в Интернете,про «зя-низзя»»-оказалось еще как можно-прочитать молитву за его выздоровление,во время вызова к чтению Торы(назвав его Кристоф бен Ноах),или прочитать соответствующие псалмы,или,по окончании молитвы Амида (Шмоне Эсре),перед тем,как отступать три шага назад,попросить у Вс-вышнего за выздоровление этого человека.А вы говорите.что иудаизм-закостеневшая религия!Ничуть,он прагматичен до мозга костей!Вы спросите,а где в Торе сказано,что еврей обязан молиться?В ней указано,как он должен и как не должен поступать.Наверняка,такая важная вещь,как молитва,обязательно должна быть хотя бы упомянута в Торе!Не может быть,чтобы нет! Вы будете таки смеяться,но ответ «да нигде» абсолютно верен.Поэтому ничего удивительно-го,что в Торе или Танахе нет никаких молитвенных текстов,которые каждый еврей должен обязательно регулярно читать.Это не значит,что наши пращуры не знали такого понятия «молитва».Вовсе нет.Просто каждая молитва была маленькой импровизацией,соответствующей конкретному моменту.
Ежедневные молитвы были поставлены в соответствие с порядком Храмовой службы-утренними и послеполуденными жертво-приношениями и вечерним сжиганием остатков жертв.Как говорил пророк Ошеа: «Восполним тельцов молениями уст наших»(14:3).Нет сомнений,что создававшие наш молитвенный канон,не действовали в культурном вакууме и не занимались вдохновенной отсебятиной.За их спинами стояла многовековая тради-ция,описывающая как молились наши предки.Все это-есть в Торе.Подход к молит-ве,творимой в Торе,напоминает анекдот про низкие тарифы на телефонный разговор с Б-гом в Иерусалиме,«потому что здесь это-местная линия».В те давние-давние времена,разговоры с Б-гом были действительно в своем роде «местной линией».Различные персонажи Торы вели их в различные моменты своей жизни,но не в качестве абстрактного выказывания чувств,а с прагматической целью-обращения ко Вс-вышнему,существование которого не вызывало у них никакого сомнения.Им просто хотелось пообщаться с Тем,Кто явно решал очень многое в мире вообще и в их судьбе в частности.Они творили не монологи в пустоту,но диалоги,в которых Его роль просто была без конкретных слов...Ведь если мы точно знаем,Кто управляет всем во Вселенной,именно к Нему мы и будем обращаться в моменты душевных тя-гот.Логично и практично,не правда ли?«Местная линия» работала без перебоев...
Ништкошер!
Кто с Волги,кто-с Днепра,а кто-с Оки
Все нации в Германию подались.
Привозят украинцы рушники,
И уверяют всех, что это - талес.
Евреев не браню,
Но с ними трудно жить:
Еврей не ест свинью,
Но могут подложить.
Идёт умов утечка из России...
Текут сюда. Но парадокс в ином:
Мне просто любопытно - что за силы
Их по дороге делают говном?
Еврею неважно - он там или тут:
И в жарком Крыму, и на дальней Аляске
Евреи где хочешь легко создадут
Русский ансабль песни и пляски.
Уехали с насиженных мы мест,
И пусть теперь там русские злословят,
Что, мол, они несут свой тяжкий крест -
Мы носим здесь. Тяжелый мaгендaвид.
Георгий Фрумкер
Возле ударенного пыльным мешком задохнулось сорок человек.
Когда людям начинаешь открывать глаза - они закрывают уши.
Стоит мнению хоть чуть сложиться, как его тут же норовят иметь.
Воспитанный человек не станет дерзить первым... А также их заместителям.
Все будет хорошо, и это настораживает.
Примета: если об тебя вытирают ноги, значит что-то с тобой не чисто.
Да, я уважаю чужое мнение. Но не люблю.
За власть Заветов!
Сегодня(29 Ниссан 5776,7 мая),мы читаем Ахарей мот,Ваикра16:1-18:30, и hафтару Шмуэль I,20:18-42.
|
|
Простите мне этот пост, евреи! |
Я знаю, как это попало ко мне на стенку в ФБ.
Но не знаю - зачем я в это влезла...
Особо впечатлительные - не идите туда, не идите...
|
|
Каждый понимает в меру своего... |
И подумалось мне, старый стих той Ю.Мориц, перепетый многими, со словами:
" ...все корни тянутся к свободе
и все поют стихи Володи..."
сколько из нынешнего поколения правильно "угадает" о каком Володе идет речь? Продать бы идею на какое-то российское радио, пусть бы сделали статистическую подборку...Оно как-бы и юмор, но совсем не юмор
|
|















