Ярослав Огнев - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
П.Павленко. После одного воздушного боя |
 Привет выдающимся деятелям искусства и литературы, удостоенным Сталинской премии!
Привет выдающимся деятелям искусства и литературы, удостоенным Сталинской премии!П.Павленко, "Красная звезда" СССР (№86 [5150]).
Статья опубликована 12 апреля 1942 года.
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
Дело происходило в Крыму. Четыре наших бомбардировщика, прикрываемые сверху семью истребителями, вышли бомбить укрепленный пункт немцев. Они сделали глубокий заход со стороны противника, километров этак на 40, приблизились к цели и разбомбили ее без всякой помехи. Однако их глубокий заход, повидимому, вызвал за собой в воздух семерку «Мессершмиттов». Когда наши были уже над линией фронта, немцы догнали их.

Бомбардировщики шли на высоте тысячи метров, прикрывающие их истребители — на 1500, 1600, 1800 метров. Две атаки «Мессершмиттов» были молниеносно отражены. Судя по опыту, немцы не должны были пробовать счастья в третий раз. Особой настойчивости подраться, когда угрожала опасность, у немцев за последнее время не замечалось.
Но именно в этот день они были настойчивы и пошли в третью атаку. И тут одному из «Мессершмиттов» все-таки удалось прорваться к нашим бомбардировщикам. Немедленно на него набросилась тройка наших истребителей. Почувствовав опасность, немец стал отворачивать в сторону и тут попал под обстрел младшего лейтенанта Виктора Радкевича.
Закусив губу, как охотник, взявший на прицел зверя, и всем своим существом чувствуя, что успех будет сейчас или никогда и что нельзя отрывать глаз от врага, Радкевич управлял самолетом автоматически. Он чуть заглядывал вправо и, уже беря вправо машиной, чуть скашивал глаз влево и тотчас пикировал влево, полный огня и страсти сражения. И пулеметы, и рули, и мотор, и самое сердце Радкевича были единым живым организмом. Младший лейтенант держал немца под огнем до тех пор, пока «Мессершмитт» не задымил.
Сколько прошло времени с начала боя, он не помнил. Он даже не чувствовал, дышал ли он за это время. Радкевич никого не видел в воздухе, кроме этого теперь уже безусловно «своего» немца.
Задымив, «Мессершмитт» стал снижаться и вдруг, не выпуская шасси, неожиданно приземлился на нашей территории. Радкевич и подоспевший Орлов стали виражить над вражеским самолетом. Дым с правой стороны его мотора прекратился. Машина была, повидимому, цела, но, покинув небо, она как бы вышла из «воздушной игры» и оказалась вне досягаемости. Бой прервался, победа ускользала из рук Радкевича. Но он ни за что не хотел упускать ее из своих рук. «Есть упоение в бою», — сказал как-то Пушкин, и пушкинское страстное упоение боем, охватившее Радкевича, искало выхода.
Сделав несколько виражей над приземлившимся противником, Радкевич увидел: немец выскочил из своей машины и побежал в направлении линии фронта, потом остановился, словно что-то вспоминая, вернулся к самолету, захватил кожаное пальто и опять побежал. Радкевич дал по нему очередь — она иссякла: патронов не было.
— За ним! Не упускать! — и решение мгновенно созрело у Радкевича. Оглядев воздух и увидев, что воздушный бой кончился, он пошел на посадку, решил сесть, пересекая немцу дорогу, захватить его живым или убить, — как выйдет.
Немец был уже далеко, метрах в восьмистах. Сбросив с себя кожаный реглан, Радкевич побежал ему вдогонку, стреляя в воздух и крича: «Сдавайся!» После каждого выстрела немец оборачивался и мерил расстояние между собой и русским.
Расстояние между ним и Радкевичем уменьшалось медленно. Сухое плоскогорье с неглубокими балками и невысокими холмами безлюдно простиралось до самого горизонта. Немец бежал очень быстро, и Виктор Радкевич стрелял все чаще и, задыхаясь на быстром ходу, все злее кричал, чтобы тот, наконец, сдавался без дураков.
Теперь, когда покинут был воздух, оставлен самолет и бой продолжался на земле, в нелетной атмосфере, Радкевич стал как бы пехотинцем. Он готов был бежать за немцем хоть целые сутки. Упорства и настойчивости у него было хоть отбавляй. На втором километре он сократил расстояние между собой и немцем до 300 метров. Немец часто переходил на шаг. Устал, выбился из сил и младший лейтенант. Он теперь только стрелял, а кричать не было сил. На третьем километре расстояние между противниками сократилось до сорока метров.
Немец бежал, зажав в руке маузер. Радкевич в последний раз выстрелил, и немец остановился и поглядел на преследователя.
— Сдавайся! — младший лейтенант показал жестом, что немцу пора поднять руки вверх.
Тяжело дыша, немец опустил маузер в карман кожаного пальто, но руку держал возле маузера.
Радкевич показал — отвести руку в сторону. Немец повиновался. Радкевич хотел взять его живьем и не стрелял. Они стали медленно, настороженно сходиться. Немец не поднимал рук вверх. Когда сблизились вплотную, Радкевич левой рукой ухватился за карман кожаного пальто немца, но тот успел все-таки выхватить маузер. Он был высокий, здоровый парень, головы на две выше Радкевича. Младший лейтенант вцепился левой рукой в правую руку немца, — маузер упал на траву. Все! Немец, тяжело дыша, криво передернулся.
Радкевич наскоро обыскал его и, отойдя, оглянулся, чтобы ориентироваться, где они.
Безлюдье исчезло. Со всех сторон мчались к ним бойцы и командиры.
Воздушный бой, приземление обеих машин и преследование немца произошли в нескольких километрах от нашего штаба соединения.
Спустя некоторое время младший лейтенант Виктор Радкевич вошел в комнату, где представитель командования поздравил его с успехом.
Радкевич улыбался, и голубые глаза его светились, и волевая складка ложилась вокруг рта — в нем ожил страстный охотник!
Он вернулся на аэродром, чтобы, снова поднявшись в воздух, искать и бить врага. // П.Павленко. КРЫМ (По телеграфу).
___________________________
К.Симонов: Русское сердце* ("Красная звезда", СССР)
П.Павленко: Самолет двадцати четырех звезд* ("Красная звезда", СССР)
**************************************************************************************************************************************************
Из винтовок по самолету
ЛЕНИНГРАДСКИЙ. ФРОНТ, И апреля. (По телеграфу). Над позициями подразделения, где комиссаром тов. Кравченко, появились три немецких бомбардировщика «Ю-88». Они шли на высоте 300 метров.
Заслышав звук моторов, красноармеец Романов и сержант Кучеренко приготовились к стрельбе. Они зарядили винтовки бронебойно-зажигательными пулями. Когда бомбардировщики приблизились, Романов и Кучеренко открыли огонь, взяв упреждение на два с половиной корпуса самолета.
Каждый стрелок произвел по три выстрела. В результате один бомбардировщик вспыхнул и быстро пошел вниз. // Старший политрук Д.Жумаев.
Крупные потери немцев
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 11 апреля. (По телеграфу от наш. корр.). На ряде участков фронта продолжаются бои с упорно обороняющимся противником. В течение дня немцы дважды переходили в контратаки на участке, занимаемом нашей N частью. Каждый раз под воздействием сильного ружейно-пулеметного огня они откатывались назад. Выбрав момент, когда в рядах противника возникло замешательство в результате неудачной контратаки и больших потерь, наша часть вновь перешла в наступление и умелыми действиями выбила немцев из двух населенных пунктов.
Группа бойцов, которой командовал младший лейтенант Фадеев, обходила одну деревню с левого фланга. Внезапно заработал вражеский пулемет, установленный в дзоте. Косоприцельный пулеметный огонь заставил наших бойцов залечь в снег. Положение выправил красноармеец Головин. Искусно маскируясь, он подполз почти вплотную к дзоту и с расстояния нескольких метров бросил гранату в амбразуру. Вражеский пулемет замолчал, и наши бойцы ворвались в деревню.
Большой урон был нанесен врагу на другом участке фронта. Здесь одна наша часть в бою за важный населенный пункт уничтожила 4 немецких орудия с расчетами, 7 минометов, 13 автомашин: из них три с пехотой и десять с боеприпасами. Немцы потеряли убитыми и ранеными 320 человек.
Партизанский отряд, действующий в тылу противника, перерезал важную шоссейную дорогу, по которой немцы подбрасывали на фронт подкрепления. Когда враг стянул против отряда большие силы, партизаны взорвали мост через многоводную реку и ушли в другой район.
________________________________________________
В.Гроссман. Семеро отважных ("Красная звезда", СССР)
К.Симонов: "У-2"* ("Красная звезда", СССР)
С.Дангулов: Душа горца ("Красная звезда", СССР)
П.Павленко. Весенний перелет* ("Красная звезда", СССР)
Д.Грендаль: Потери немецкой авиации в кадрах ("Красная звезда", СССР)
Сталинские соколы, крепче удар по ненавистному врагу!* ("Красная звезда", СССР)***
Газета "Красная Звезда" №86 (5150), 12 апреля 1942 года
|
Метки: апрель 1942 сталинские соколы весна 1942 газета Красная звезда 1942 советская авиация П.Павленко |
Любовь народа к Армии |
 Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего фронта. И.СТАЛИН.
Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего фронта. И.СТАЛИН."Красная звезда", СССР (№289 [5353]).
Статья опубликована 10 декабря 1942 года.
Наша армия сильна своей неразрывной связью с народом. Фронт и тыл у нас — единое целое. Все свои чувства и мысли советские люди отдают фронту, отдают бойцам Красной Армии, кующим победу над ненавистным врагом. Армия защищает отечество, защищает жизнь и счастье миллионов советских людей. Естественно, что народ питает к своей доблестной армии чувства глубокого восхищения и признательности.

Связь советского тыла с фронтом принимает самые разнообразные формы. Эта связь выражается в письмах и приветах, потоком идущих в армию, в создании и укреплении фонда обороны. Люди, находящиеся в тылу, прилагают все старания, чтобы работать по-боевому, по-военному.
Инициатива рядовых советских крестьян-тамбовских колхозников, собравших в течение двух недель 40 миллионов рублей на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», о чем сообщалось вчера в газетах, является ещё одним ярким свидетельством великой любви советского народа к своей армии, выражением тесной, нерушимой связи нашего фронта и тыла. Сбор средств тамбовские крестьяне провели в ответ на октябрьский доклад и приказ товарища Сталина, воодушевивший всех советских людей. Почин тамбовских колхозников и колхозниц — это яркая демонстрация советского патриотизма колхозной деревни.
Товарищ Сталин в ответной телеграмме на имя секретаря тамбовского обкома ВКП(б) тов. Волкова написал: «Передайте колхозникам и колхозницам Тамбовской области, собравшим 40 миллионов рублей в фонд Красной Армии на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», — мой братский привет и благодарность Красной Армии».
Когда Гитлер напал на Советский Союз, он рассчитывал, что ему удастся вызвать драчку между рабочими и крестьянами советской страны и тем обеспечить разгром нашего государства. Эта ставка фашистских главарей была бита. Весь советский народ об’единился в своём гневе и ярости против иноземного нашествия. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция с равным усердием и рвением отдают все свои силы великому делу победы над гнусным и подлым врагом.
Наше советское колхозное крестьянство честно и верно выполняет свой долг перед родиной. Сотни тысяч людей деревни ушли на фронт и сражаются с беззаветной храбростью в рядах героической Красной Армии. Оставшиеся в колхозах крестьяне и крестьянки работают, не покладая рук, для того, чтобы выполнить свои обязательства перед страной и дать государству и армии столько сельскохозяйственных продуктов, сколько нужно. Несмотря на трудности военного времени, колхозы и совхозы работают удовлетворительно, посевные площади расширены, озимый клин увеличен. «Наши колхозы и совхозы, — говорил товарищ Сталин, — также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность — сырьем».
Успехи советской деревни, достигнутые в обстановке жестокой и грозной войны, наглядно свидетельствуют о силе колхозного строя. Вспомним прошлую войну 1914-17 гг. Она привела к быстрому обнищанию русской деревни. Нехватка рабочих рук и тягла обрекала крестьян на нищету и голод. Индивидуальное крестьянское хозяйство, раздроблённое и распылённое, не могло решить тех задач, какие были поставлены войной перед деревней. Колхозный строй даёт возможность советскому крестьянству легче справляться с трудностями и тяготами военного времени. В этом великое значение того нового, что внесено в жизнь русской деревни Великой Октябрьской социалистической революцией.
Советские крестьяне, одевшие шинели и сражающиеся в рядах Красной Армии, знают, что их семьи не испытывают горькой нужды, что отцы, жёны, дети и младшие братья, работая в колхозе, сами получат хлеб и в свою очередь дадут хлеб армии. Мощный советский тыл — опора фронта. Прочность колхозного строя — одна из основ крепкого тыла. Немецкие фашисты, надеявшиеся на то, что советский тыл подведет армию, ошиблись в своих расчётах.
Всё для фронта, всё для победы — вот девиз советских людей, девиз советского крестьянства. Сорок миллионов рублей, собранные тамбовскими крестьянами в течение каких-нибудь двух недель, показывают готовность нашей деревни жертвовать всем для отечества. Каждый советский патриот стремится помочь армии всем, чем только можно: и трудом, и рублем. Когда-то великий русский гражданин Кузьма Минин, организовывавший народное ополчение для отпора иноземному нашествию, говорил на площади Нижнего Новгорода, обращаясь к народу: «Заложим жён и детей, но спасём отечество». По призыву Кузьмы Минина нижегородцы отдали треть всех своих доходов. Собранные средства пошли на вооружение народного ополчения, которое и освободило Москву от иноземных завоевателей. Дух благородного Минина живёт и вечно будет жить в нашем народе, который любит свою родину, как сын любит отца и мать.
Немцы хотят завладеть нашими богатствами, а свободных советских крестьян превратить в подневольных рабов немецких помещиков. Советские крестьяне-воины отвечают на это тем, что смертным боем бьются с немецкими полчищами. Их отцы, жены и сестры отвечают на это тем, что стараются лучше работать, больше посылать хлеба Красной Армии, давать своим защитникам больше оружия, танков, самолётов.
Советские крестьяне собрали деньги, советские рабочие построят на эти средства грозные машины, и недалёк тот день, когда танковая колонна «Тамбовский колхозник» ринется на врага. В лязге гусениц мощных советских танков, в громе их пушек мы услышим гневный голос нашего народа, поставившего перед собой священную цель — разгромить ненавистного врага, вышвырнуть его вон из пределов отечества. Армия наша с великой благодарностью примет подарок тамбовских крестьян и постарается воинскими успехами ответить на этот благородный патриотический акт.
Инициатива тамбовских крестьян и крестьянок, несомненно, будет поддержана всем нашим крестьянством и всем нашим народом. Уже поступают с разных концов советской страны сведения о сборе средств на постройку танков и самолётов. Колхозники Пильненского района Горьковской области собрали 1.200.000 рублей на постройку танков. Комсомольцы и молодежь Сабинского района Татарской республики собрали на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии» более 400 тысяч рублей. В районах Архангельской области производится сбор средств на строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Архангельска» — уже собрано 1.200 тысяч рублей.
Каждый новый танк, каждый новый самолёт приближает час нашей победы над немцами. Враг закопался в землю, зарылся в окопы и блиндажи. Красная Армия выбивает немецких разбойников из их волчьих нор, взламывает немецкую оборону, ведёт на ряде участков огромного фронта наступательные операции. Советским войскам нужно больше оружия, больше пушек, танков, самолётов, снарядов и патронов.
Глубокий патриотизм советского народа, готовность советских людей жертвовать всем для победы, тесное содружество рабочих, крестьян и интеллигенции — залог того, что наша страна разгромит подлых немецко-фашистских захватчиков. Армия, являющаяся детищем великого народа, армия, беззаветно поддерживаемая народом, — непобедима.
________________________________________________
Армия мстителей ("Красная звезда", СССР)
И.Эренбург: Армия жизни ("Красная звезда", СССР)
*****************************************************************************************************************
ГИТЛЕРОВЦЫ ИСТРЕБЛЯЮТ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 декабря. (Спецкорр. ТАСС). Из фашистского плена вырвался красноармеец Бергенов. Он рассказывает о чудовищных издевательствах гитлеровцев над военнопленными.
— Лагерь, расположенный неподалеку от Варшавы, представляет собою участок в три километра длиной, огороженный двумя рядами колючей проволоки. Даже зимой пленные находятся на открытой площадке. Всюду грязь. Военнопленных кормят гнилым хлебом с какими-то примесями.
Ежедневно в лагере от голода умирает несколько человек. Однажды пленный нашёл на дороге что-то с'едобное. Это заметили немцы. В тот же день комендатура лагеря построила нас в шеренги. К группе, где находился «провинившийся», подошёл комендант лагери и швырнул в строй гранату. Несколько десятков человек были убиты и ранены.
Не раз бывало, что охранники швырнут за ограду кусок хлеба, а когда на него накинутся голодные люди, — бросят в толпу гранату. Пытки стали обычным явлением. Каждого вновь прибывающего в лагерь сначала помещают в тесную камеру, где он должен несколько дней находиться стоя, так как сесть нельзя. Только после такой «обработки» пленный переводится в общий лагерь.
*****************************************************************************************************************
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Было много светлых комнат,
А теперь темно,
Потому что может бомба
Залететь в окно.
Но на крыше три зенитки
И большой снаряд,
А шары на тонкой нитке
Выстроились в ряд.
Спи, мой мальчик, спи, любимец.
На дворе война.
У войны один гостинец:
Сон и тишина.
По дороге ходят ирод,
Немец и кощей,
Хочет он могилы вырыть,
Закопать детей.
Немец вытянул ручища,
Смотрит, как змея.
Он твои игрушки ищет,
Ищет он тебя,
Хочет он у нас согреться,
Душу взять твою,
Хочет крикнуть по-немецки:
«Я тебя убью».
Если ночью все уснули,
Твой отец не спит.
У отца для немца пули,
Он не проглядит,
На посту стоит, не дышит —
Ночи напролет.
Он и писем нам не пишет
Вот уж скоро год,
Он стоит, не спит ночами
За дитя свое,
У него на сердце камень,
А в руке ружье.
Спи, мой мальчик, спи, любимец.
На дворе война.
У войны один гостинец:
Сон и тишина.
Илья Эренбург.
*****************************************************************************************************************
Рукопашная схватка в траншеях
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 9 декабря. (По телеграфу). Разведчики под командованием тов. Володина, встав на лыжи, почти ежедневно совершают смелые налёты на вражеские позиции и приводят с собой «языков». Они вытаскивают из траншей ёжащихся от холода немцев или же подстерегают и захватывают их в плен на дорогах.
На-днях нашим дозором были взяты в плен шесть немецких разведчиков. Характерны показания одного из них, унтер-офицера Герберта Енига: «Наши солдаты до сих пор ещё не одеты по-зимнему. Байковые маскировочные халаты, которые вы видите на нас, сняты с часовых в момент нашего выхода в разведку. А часовые остались в летнем обмундировании».
На другой день отряд наших разведчиков с сержантом Добычин во главе снова окружил группу немцев и перебил их, захватив в плен трёх человек вместе с оружием. Смелый налёт на вражеские дзоты произвела следующей ночью группа бойцов под командой младшего лейтенанта Костина. В траншеях разгорелась рукопашная схватка. Бойцы уничтожили 23 гитлеровца, захватили с собой пленного и с трофейным оружием возвратились без потерь в своё подразделение.
За последние четыре дня разведчики этого подразделения взяли в плен 12 немцев, уничтожили до 40 фашистских солдат, принесли трофейное оружие и ценные документы.
________________________________________________
Учиться у русских ("Известия", СССР)*
Стойкость русских ("Известия", СССР)**
В.Гроссман: Дух армии* ("Красная звезда", СССР)
И.Эренбург: Говорят судьи ("Красная звезда", СССР)*
Любовь народа к славной Красной Армии ("Известия", СССР)
Газета "Красная Звезда" №289 (5353), 10 декабря 1942 года
|
Метки: декабрь 1942 Илья Эренбург зима 1942 газета Красная звезда 1942 |
25 июня 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
Несколько дней назад ко мне зашел рослый, стройный, одетый в военную форму с тремя «шпалами» старшего батальонного комиссара на петлицах, по-юношески подтянутый Евгений Петров. Я рад был увидеть его в стенах нашей редакции, хотя еще не знал, что его привело ко мне. Вообще-то он был частым гостем в «Красной звезде». Приходил обычно за материалами для Совинформбюро, где работал корреспондентом для зарубежной печати. Но то, что я услышал на этот раз, было для меня совершенно неожиданным. Петров уселся напротив меня, вынул из кармана гимнастерки и молча протянул мне сложенный вчетверо лист бумаги. Оказывается, одна из центральных газет, командирует его в Севастополь. Увидев мое недоумение, Петров сказал:

— Не удивляйтесь! Как видите, командировка у меня от другой газеты, невоенной. У нее не всегда хватает смелости, а я еду туда, где обстановка очень сложная. Я хочу писать все, как есть. Если будете печатать, давайте командировку, очерки из Севастополя пришлю вам…
Легко догадаться, как было воспринято предложение известного писателя, в те дни — главного редактора «Огонька». Я рад был новому корреспонденту, да еще в сражающемся Севастополе. Тем более что его предложение соответствовало духу нашей газеты. Мы и сами не любили разжижать газету киселем полуправды.
Командировку Петрову подготовили быстро. Вручая ему предписание, я спросил, сколько времени потребуется ему на сборы. Он ответил, что готов отбыть хоть сегодня, было бы на чем. Решили, что он вылетит самолетом до Краснодара, где размещается штаб фронта, оттуда на машине нашей корреспондентской группы доберется до Новороссийска, затем отправится в Севастополь — морем. Я сразу позвонил командующему ВВС А.А.Новикову, и он приказал взять писателя на борт первого же самолета, отправлявшегося в Краснодар.
За день до этого Толченов показал мне сообщение берлинского радио: немцы утверждали, что Севастополь уже взят и они являются его полными хозяевами. В связи с этим мы решили послать в Севастополь фоторепортера Виктора Темина с наказом сделать снимки города и немедленно вернуться в Москву. Он был уже в пути. Я рассказал об этом Петрову: возможно, им удастся встретиться.
Все было сделано, как намечено. Вскоре Петров благополучно прибыл в Новороссийск и морем, на лидере «Ташкент», прорвался в осажденный Севастополь. Нелегким был этот поход. Петров назвал его образцом «дерзкого прорыва блокады», который навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя как «один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа». «Ташкент», имея на борту красноармейцев и боеприпасы, отправился в рейс в два часа дня. Более скверную погоду для этого трудно было придумать: чистое небо, палящее солнце и совершеннейший штиль. Немцам не стоило труда обнаружить корабль. Тридцать вражеских бомбардировщиков четыре часа нещадно бомбили его. Ночью его атаковали торпедные катера. Спасли хладнокровие, выдержка и высокое искусство капитана и экипажа.
К счастью, все кончилось благополучно. В Севастополе Петров видел все, что там происходит, беседовал с защитниками города и, вернувшись в Новороссийск, сразу же по военному проводу передал очерк «Севастополь держится». Сегодня он опубликован в газете.
Петров написал так, как задумал и как надо было для нас писать. Первые же строки погружают нас в атмосферу севастопольского сражения:
«Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходит все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее простреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь... Город держится наперекор всему — теории, опыту, наперекор бешеному напору немцев…
Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее».
И особое мужество нужно было, чтобы написать в конце очерка:
«Когда моряков-черноморцев спрашивают, можно ли удержать Севастополь, они хмуро отвечают:
— Ничего, держимся!
Они не говорят: «Пока держимся». И они не говорят: «Мы удержимся». Здесь слов на ветер не кидают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма на море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают свой корабль всей силой своего умения и мужества».
Взволнованно читал я только что полученный по «бодо» очерк нашего корреспондента и вспоминал наш разговор в редакции. Тогда я еще не знал, что он напишет. А сейчас увидел, как умно, честно и смело писал он правду — беспощадную правду войны.
Рассказывая о героизме защитников города, почти 250 дней отстаивающих свой город, писатель не счел нужным скрывать горькую истину: видимо, Севастополь не удастся удержать. Эти строки очерка, за которые он, наверное, больше всего тревожился, мы напечатали, не изменив ни слова.
С часу на час ждали нового очерка Петрова. Но вдруг мне сообщили страшную весть: на пути из Краснодара в Москву в авиационной катастрофе погиб Евгений Петров. Возвращался он в столицу на транспортном самолете. Летели низко, на бреющем, уходя от появившихся в воздухе немецких истребителей, и севернее Миллерово, около слободы Маньково-Калитвенской, врезались в курган…
На место катастрофы вылетели старший брат Петрова Валентин Петрович Катаев и наш спецкор Олег Кнорринг, с которым Петров и Симонов недавно ездили на Север. С воинскими почестями похоронили Евгения Петрова...
Подробности катастрофы рассказал Аркадий Первенцев, летевший на этом же самолете. Он прислал мне письмо:
«Расскажу кратко Вам о катастрофе с самолетом, в котором вместе со мной летел Евгений Петров.
Мне нужно было срочно вылететь в Москву по делам газеты «Известия». Я обратился к командующему фронтом С.М.Буденному, и он выделил специальный самолет, который должен был меня доставить в Москву. Буденный меня предупредил, что отдал распоряжение лететь только по маршруту Краснодар — Сталинград — Куйбышев — Москва, минуя зону боевых действий.
Вылет намечался на 10 часов утра. Но в это время приехал из Новороссийска Петров, куда он прибыл на лидере «Ташкент», и просил захватить его в Москву. Он зашел к Буденному и там задержался. Мы уже хотели улетать без него, но обождали.
Вылетели с опозданием. С нами был работник Наркомата внутренних дел с ромбом в петлицах Смирнов и начхим Черноморского флота Желудев. Когда прошли Новочеркасск, летчик Баев, человек с бородой, пришел ко мне с просьбой разрешить ему спрямить маршрут и лететь не так, как приказал Буденный, а через Воронеж:
— Я еще ни разу не видел поля боя, хочу посмотреть.
Я сказал летчику, что надо выполнять приказ маршала, но если ему хочется что-то изменить, пусть обратится к более старшему по званию, к человеку с «ромбом», — Смирнову.
Смирнов дремал. И когда Баев сказал ему об изменении маршрута, он махнул рукой: делайте, мол, как найдете нужным. Летчик посчитал это разрешением, взял с собой Петрова и оба ушли в кабину.
Я полез в смотровой люк стрелка-радиста и вскоре увидел летящие самолеты. Это были три «мессершмитта» и итальянский самолет «Маки-200». Я сказал об этом стрелку. Он сверился по силуэтам, вывешенным по кругу, и равнодушно заметил: «Это наши «чайки» и «ишачки». Я спустился вниз и сказал Желудеву: «Нас скоро начнут сжигать. Знаете, что такое шок? Чтобы перейти в другой мир без шока, давайте спать, ночь я не спал, беседовал в номере гостиницы с летчиками из полка Морковина».
Итак, мы легли спать, и проснулся я уже на земле изувеченным, с перебитым позвоночником, обожженным лицом и раненой головой. Моторы были отброшены на 200 метров, и из обломков дюраля поднималась чья-то рука. Немцы летели над нами. Далее — слобода Маньково-Калитвенская, где похоронили Петрова, а затем меня вывезли через Воропаново в Сталинград.
Мы разбились, слишком низко уходя на бреющем полете от немцев».
* * *
Неисповедимы судьбы человеческие на войне. В Севастополе Петрову не удалось встретиться с Теминым. Фотокорреспондент добирался в Севастополь на подводной лодке. На подводной лодке он возвращался из Севастополя. Встретились они лишь в Краснодаре. Петров сказал Темину, что может его взять с собой в Москву. Но Темин торопился. Писатель успел уже передать свой первый очерк, а теминские снимки были еще в кассетах. Темин вылетел другим самолетом, на три часа раньше...
Его снимки были напечатаны на всю первую полосу и на третьей полосе. И среди них неповторимая панорама центральной севастопольской площади. Рядом искореженное железо и обрывки проводов на мачтах линии высокого напряжения. А посередине во весь рост — памятник Ленину среди дыма и огня, как бы смотрящий на пожарище. Увидев снимок, Илья Григорьевич написал:
«Статуя выстояла — как душа нашей Родины».

* * *
Продолжается ожесточенное сражение на Харьковском направлении. Наши спецкоры сообщают, что бои развернулись на подступах к Купянску, а затем и в самом городе. Ввиду численного превосходства противника наши войска оставили город. Однако «попытка врага переправиться через реку и занять там плацдарм успеха не имела». В репортаже не была названа река, но в Генштабе нам сказали, что это Оскол, важный рубеж нашей обороны. Там же подтвердили, что противник вынужден был в этом направлении прекратить свое наступление.
Материалы, посвященные боям оборонительного характера, занимают все больше места на страницах газеты. Такими были, к примеру, статьи «Минометный огонь при отражении вражеских атак». «Круговая оборона батальона» и др. Они, несомненно, привлекают внимание фронтовиков к разворачивающимся событиям.
Но и наступательные операции, их опыт продолжают занимать «Красную звезду». Опубликована статья командующего армией генерала М.Попова «Опыт подготовки внезапного удара». Это подробный рассказ об операции армейского масштаба, ее подготовке и проведении. Конечно, меня могут теперь спросить: как же так, из Керчи мы ушли, обстановка в Севастополе критическая, на Харьковском направлении мы отступаем, а пишем о наступлении. Объяснение, по-моему, этому есть. Прежде всего оно в том, что наши военачальники, в том числе и такого высокого ранга, как командармы, приобрели бесценный опыт, выстраданный, можно сказать, в тяжелых боях, и нам, да и им, не хотелось откладывать его в долгий ящик. А потом, мы верили, что придет время и мы снова будем наступать...
* * *
Впервые на страницах газеты появилось имя поэта Александра Безыменского. Кто из людей моего поколения не зачитывался его поэмой «Ночь начальника политотдела», посвященной тридцатым годам! Я в ту пору работал начальником политотдела Сумской МТС на Украине, и мне казалось, что в ней рассказано и о нас. В войну с белофиннами мы вместе служили во фронтовой газете «Героический поход», которую я в ту пору редактировал. Работали азартно, стали друзьями.
Месяца через два после окончания финской войны зашел ко мне в редакцию Александр Ильич и после дружеских объятий подарил красочно оформленное издание своей поэмы «Трагедийная ночь», написав на ней (да простит мне читатель сию текстуальную нескромность): «Неистовому Ортенбергу. С нежной благодарностью и подлинной любовью — в честь «Героического похода» и грядущих совместных боев». Но вот пришли «грядущие бои», а нам, к сожалению, не удалось совместно работать — военная судьба разбросала нас в разные стороны. Безыменский уехал в армейскую газету.
Прошло время, и я получил весточку от Александра Ильича. Он писал, что его сын закончил курсы военных переводчиков. Поэт не хотел бы, чтобы он застрял в тылу, и по старой дружбе просил меня походатайствовать, чтобы сына отправили на фронт, если можно — туда, где служит он сам. И Лев Александрович, тогда юный лейтенант, при моем содействии отбыл на фронт, где достойно, как и его отец, выполнял свой воинский долг. Кстати, забегая вперед, скажу, что он, как переводчик, участвовал в допросе Паулюса, Геринга, Кейтеля и других заправил сокрушенного фашистского рейха и вермахта, а ночью 1 мая 1945 года в Берлине переводил маршалу Жукову текст письма Геббельса, в котором он извещал о смерти Гитлера. Ныне Лев Александрович известный публицист-международник, писатель, автор многих книг.
Тогда я написал Александру Ильичу: «Саша! Твоя просьба выполнена. Теперь очередь за тобой — присылай стихи и очерки». Первый очерк, который мы получили и опубликовали в газете, назывался «Борис Петрович из Курска». Интересный очерк. Вначале я подумал, что это рассказ об одном из героев Отечественной войны. Но оказалось, что Борис Петрович вовсе не солдат, не офицер и вообще не живой человек.
«Мощен его огонь. Но огонь направляют люди... Самое прекрасное, что есть на бронепоезде, — это люди. И называют его человеческим именем, не бесстрастными буквами и цифрами — БП номер такой-то, — а тепло и почтительно, как уважаемого друга: «Борис Петрович». Это был бронепоезд, сооруженный курянами в те дни, когда враг стоял у ворот Курска. «Наш земляк... Курянин» — так отзывались о нем. И командовал им старший лейтенант Морозов, научный работник, недавно закончивший физический факультет МГУ.
Есть в этом очерке потрясающий эпизод — «трагедийная ночь» на 203 километре. Немцы пытались захватить «Бориса Петровича» и плотной цепью двинулись на него. Командир бронепоезда решил подпустить их поближе и скосить пулеметным огнем, а пока наблюдал за фашистами в бинокль. Вдруг произошло нечто неожиданное. Оттуда, из сумерек, голосом на чистом русском языке крикнули:
— Давайте огонь! Это немцы. Только цельтесь чуть повыше…
Пулеметы бронепоезда заговорили разом. И мигом передняя цепь легла на землю, крича «ура», а все остальные бросились назад, скашиваемые огненным валом. Оказалось, гитлеровцы шли в наступление, выставив перед собой пленных красноармейцев. Пулеметы продолжали свою работу, а освобожденные советские бойцы потребовали у Морозова оружие, чтобы преследовать ненавистного врага.
* * *
Иосиф Уткин прислал с фронта «Солдатскую песню»:
Мы на ветер слов не тратили,
Мы клялись родным околицам.
Наши жены, наши матери
За победы наши молятся.
Слово храбрых — слово твердое,
И земли родной не выдадим;
Русских можно видеть мертвыми,
Но рабами их не видели!..
Недавно зашел ко мне Эренбург и обратился с просьбой поручить фронтовым корреспондентам прислать материалы об участии в боях служебных собак. Я сразу же вспомнил, что недели три тому, когда в газете была напечатана новелла Полякова «Трофей», Илья Григорьевич похвалил ее, и не только за художественные достоинства, но и саму тему. Оказалось, что писатель очень любил собак, считал собаку настоящим другом человека, а ныне, на войне, — и другом фронтовиков.
Вскоре наши корреспонденты прислали для писателя материалы об удивительных историях.
С Калининского фронта. Немецкие танки приближались к нашим блиндажам, но, увидев бегущих навстречу собак, повернули назад. Это случилось после того, как подразделение Лебедева, отбило танковую атаку. Немцы тогда пустили шесть танков, которые подошли вплотную к нашим позициям. Здесь-то на танки набросились собаки. Головная машина была взорвана собакой по кличке Том. Другие танки поспешно развернулись, преследуемые собаками.
С Юго-Западного фронта. В мае на Изюмском направлении собаки взорвали девять танков и две бронемашины.
С Западного фронта. Отряд нартовых собак за месяц в заносы перевез 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Корреспондент сообщил и о таком эпизоде, происшедшем возле Сухиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые заползли в ямы или в воронки от снарядов. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и громко, тяжело дышит: я здесь! Боб ждет, не возьмет ли раненый перевязку, — на спине у собаки походная аптечка. И Бобу не терпится — скорей бы взять в рот брендель (кусок кожи, подвешенный к ошейнику) и подползти к санитару: иди сюда... Боб нашел семнадцатого — лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла за санитаром, начался минометный обстрел. Осколок оторвал у Боба сустав передней лапы. Он все же дополз до хозяина, торопя его: скорей за мной!..
Все эти эпизоды вошли в очерк «Каштанка», опубликованный в сегодняшней газете. Начал его Эренбург так:
«Мы часто употребляем слова условно, не задумываясь, подходят ли они к случаю. Так, гитлеровцев иногда называют «собаками». А вот передо мной Жучка, мохнатая лайка с добрыми карими глазами. Она спасла немало раненых бойцов. Нет в ней ничего общего с жестокими и низкими существами, которые приползли на нашу землю, и обладай Жучка даром речи, она, наверное, сказала бы своему вожатому: «Не зови ты немцев собаками».
И эта мысль, как ведомо мне, была навеяна Эренбургу описанной Александром Поляковым историей о том, как танкисты подбирали имя Трофею.
«Что добавить к этому простому рассказу? — заключил свой очерк писатель. — На войне люди больше, чем когда либо, ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь «Каштанка» спасает раненого хозяина...»
Илья Григорьевич настолько был привержен теме, что на этой публикации не остановился. Вычитали мы с ним очерк, он поднялся в свою комнату и, кое-что поправив, отправил его в Совинформбюро для иностранной печати, куда он отсылал свои материалы обычно на острополитические темы. Только концовку дал другую (взамен чеховской «Каштанки»): «Знаменитый русский поэт Маяковский писал: «Хорошие люди — собаки». Этими словами можно закончить корреспонденцию о роли собак на фронте».
* * *
# Е.Петров. Севастополь держится // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года
# Г.Кухарев. Минометный огонь при отражении вражеских атак // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года
# А.Шустов. Круговая оборона батальона // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года
# М.Попов. Опыт подготовки внезапного удара // "Красная звезда" №146, 24 июня 1942 года
# А.Безыменский. Борис Петрович из Курска // "Красная звезда" №148, 26 июня 1942 года
# И.Уткин. Солдатская песня // "Красная звезда" №148, 26 июня 1942 года
# А.Поляков. "Трофей" // "Красная звезда" №117, 21 мая 1942 года
# И.Эренбург. "Каштанка" // "Красная звезда" №147, 25 июня 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 230-238
|
Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг газета Красная звезда битва за Севастополь Евгений Петров |
Петр Лидов. Кто была Таня |
 Войска Красной Армии продолжают продвигаться вперед, отбивая родную землю у немецких захватчиков. Рабочие и работницы, инженеры и техники усиленным выпуском оружия и боеприпасов помогайте Красной Армии громить врага!
Войска Красной Армии продолжают продвигаться вперед, отбивая родную землю у немецких захватчиков. Рабочие и работницы, инженеры и техники усиленным выпуском оружия и боеприпасов помогайте Красной Армии громить врага!П.Лидов, "Правда", СССР (№49 [8820]).
Статья опубликована 18 февраля 1942 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР комсомолке-партизанке Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

О ее подвиге было рассказано в очерке «Таня», напечатанном в «Правде» 27 января этого года. Тогда еще не было известно, кто она. Ни на допросе, ни в разговоре с петрищевской крестьянкой Прасковьей Кулик девушка не назвала своего имени и лишь при встрече в лесу с одним из верейских партизан сказала, что ее зовут Таней. Но и здесь из предосторожности она скрыла свое настоящее имя.
Сейчас Московским комитетом комсомола установлено, кто была эта девушка.
Это — Зоя Анатольевна Космодемьянская, ученица десятого класса школы №201 Октябрьского района города Москвы.
Ей было восемнадцать лет. Она рано лишилась отца и жила с матерью Любовью Тимофеевной и братом Шуриком близ Тимирязевского парка, в доме №7 по Александровскому проезду.
Высокая, стройная, плечистая, с живыми темными глазами и черными, коротко остриженными волосами — таким рисуют друзья ее внешний облик. Зоя была задумчива, впечатлительна, и часто вдруг густой румянец заливал ее смуглое лицо.
Мы слушаем рассказы ее школьных товарищей и учителей, читаем ее дневники, сочинения, записи, и одно поражает в ней всюду и неизменно: необычайное трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении намеченной цели. Перед уроками литературы она прочитывала множество книг и выписывала понравившиеся места. Ей хуже давалась математика, и после уроков она подолгу засиживалась над учебником алгебры, терпеливо разбирая каждую формулу до тех пор, пока не усваивала ее окончательно.
Зою избрали комсомольским групповым организатором в классе. Она предложила комсомольцам заняться обучением малограмотных домохозяек и с удивительным упорством добивалась, чтобы это начинание было доведено до конца. Ребята вначале охотно принялись за дело, но ходить нужно было далеко, и многие быстро остыли. Зоя болезненно переживала неудачу, она не могла понять, как можно отступить перед препятствием, изменить своему слову, долгу...
Русскую литературу и русскую историю Зоя любила горячо и проникновенно. Она была простой и доброй советской школьницей, хорошим товарищем и деятельной комсомолкой, но, кроме мира сверстников, у нее был и другой мир — мир любимых героев отечественной литературы и отечественной истории.
Порой друзья упрекали Зою в некоторой замкнутости — это бывало тогда, когда ее целиком поглощала только что прочитанная книга. Тогда Зоя становилась рассеянной и нелюдимой, как бы уходя в круг образов, пленивших ее своей внутренней красой.
Великое и героическое прошлое народа, запечатленное в книгах Пушкина, Гоголя, Толстого, Белинского, Тургенева, Чернышевского, Герцена, Некрасова, было постоянно перед мысленным взором Зои. Это прошлое питало ее, формировало ее характер. Оно определило ее чаяния и порывы, оно с неудержимой силой влекло ее на подвиг за счастье своего народа.
Зоя переписывает в свою тетрадь целые страницы из «Войны и мира», ее классные работы об Илье Муромце и о Кутузове, написаны с большим чувством и глубиной и удостаиваются самой высокой оценки. Ее воображение пленяет трагический и жертвенный путь Чернышевского и Шевченко, она мечтает подобно им послужить святому народному делу.
Перед нами — записная книжка, которую Зоя Космодемьянская оставила в Москве, отправляясь в поход. Сюда она заносила то, что вычитала в книгах и что было созвучно ее душе. Приведем несколько выписок, которые помогут нам понять Зою.
...В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. (Чехов).
Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь. (Маяковский).
Умри, но не давай поцелуя без любви. (Чернышевский).
За десять французов я ни одного русского не дам. (Кутузов).
«Ах, если бы латы и шлем мне достать,
Я стала б отчизну свою защищать...
Уж враг отступает пред нашим полком.
Какое блаженство быть храбрым бойцом! (Гете).
«Какая любвеобильность и гуманность в «Детях солнца» Горького!» — записывает она карандашом в свою памятную книжку. И далее: «В «Отелло» — борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты, тема «Отелло» — победа настоящего большого человеческого чувства!»
С какой-то особенной, подкупающей, детской искренностью и теплотой пишет Зоя о тех, в ком воплощено горделивое вчера, бурливое сегодня и светлое завтра нашего народа, — об Ильиче, о Сталине.
В этих записях она вся — чистая помыслами и всегда стремящаяся куда-то ввысь, к достижению лучших человеческих идеалов.
Июнь 1941 года. Последние экзамены. Зоя переходит в десятый класс, а через несколько дней начинается война. Зоя хочет стать бойцом, она уходит добровольцем в истребительный отряд.
Она прощается с матерью и говорит ей:
— Не плачь, родная. Вернусь героем или умру героем.
И вот Зоя в казарме, в большой и показавшейся ей суровой комнате, перед большим столом, за которым сидит командир отряда. Командир долго и испытующе вглядывается в ее лицо:
— Не боитесь?
— Нет, не боюсь.
— В лесу ночью одной ведь страшно?
— Нет, ничего.
— А если к немцам попадетесь, если пытать будут?
— Выдержу...
Ее уверенность подкупила командира, он принял Зою в отряд. Вот они, латы и шлем бойца, которые грезились Зое!
Семнадцатого ноября она послала матери последнее письмо: «Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мама, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, так приеду погостить домой. Твоя Зоя». А в свою книжечку занесла строку из «Гамлета»: «Прощай, прощай! И помни обо мне».
На другой день у деревни Обухово, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцев партизан Зоя перешла через линию фронта на занятую противником территорию.
Две недели они жили в лесах, ночью выполняли свое боевое задание, а днем грелись в лесу у костра и спали, сидя на снегу и прислонившись к стволу сосны. Иных утомили трудности похода, но Зоя ни разу не пожаловалась на лишения. Она переносила их стойко и гордо.
Пищи было запасено на пять дней. Ее растянули на пятнадцать, и последние сухари уже подходили к концу. Пора было возвращаться, но Зое казалось, что она сделала мало. Она решила остаться, проникнуть в Петрищево. Она сказала товарищам:
— Пусть я там погибну, зато десяток немцев уничтожу.
С Зоей пошли еще двое, но случилось так, что вскоре она осталась одна. Это не остановило ее. Одна провела она две ночи в лесу, одна пробралась в деревню к важному вражескому об’екту и одна мужественно боролась против целой своры терзавших ее с безумной жестокостью фашистов. И в эти последние часы ее, наверно, не покидали и окрыляли любимые образы героев и мучеников русского народа!
Как-то Зоя написала в своей школьной тетради об Илье Муромце: «Когда его одолевает злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы». В те роковые минуты словно сама родная, советская земля дала Зое могучую, недевичью силу. Эту дивную силу с изумлением вынужден признать даже враг.
В наши руки попал унтер-офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую командир 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии подполковник Рюдерер. В своих показаниях гитлеровский унтер, стиснув зубы, написал:
«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».
Зоя умерла на виселице с мыслью о родине и с именем Сталина на устах. В смертный час она славила грядущую победу.
Тотчас после казни площадь опустела, и в этот день никто из жителей не выходил на улицу без крайней необходимости. Целый месяц висело тело Зои, раскачиваемое ветром и осыпаемое снегом. Прекрасное лицо ее и после смерти сохранило свою свежесть и чистоту, и печать глубокого покоя лежала на нем. Те, кому нужно было пройти мимо, низко опускали голову и убыстряли шаг. Когда же через деревню проходили немецкие части, тупые фрицы окружали виселицу и долго развлекались, тыкая в тело палками и раскатисто гогоча. Потом они шли дальше, и в нескольких километрах их ждало новое развлечение: возле участковой больницы висели трупы двух повешенных немцами мальчиков.
Так шли они по оккупированной земле, утыканной виселицами, залитой кровью и вопиющей о мщении.
Немцы отступали поспешно и впопыхах не успели сжечь Петрищево. Оно одно уцелело из всех окрестных сел. Живы свидетели кошмарного преступления гитлеровцев, сохранились места, связанные с подвигом Зои, сохранилась могила, где покоится ее прах.
И холм славы уже вырастает над этой едва приметной могилкой. Молва о храброй девушке-борце передается из уст в уста в освобожденных от фашистов деревнях. Бойцы на фронте посвящают ей свои стихи и свои залпы по врагу. Память о ней вселяет в людей новые силы. «Нам, советским людям, — пишет в редакцию «Правды» студент-историк, — много еще предстоит пережить. И если трудно придется, я прочту снова этот печальный рассказ и погляжу на прекрасное, мужественное лицо партизанки».
Лучезарный образ Зои Космодемьянской светит далеко вокруг. Своим подвигом она показала себя достойной тех, о ком читала, о ком мечтала, у кого училась жить. // П.Лидов.
______________________________________________
П.Лидов: Таня ("Правда", СССР)
В.Кожевников: Возмездие ("Правда", СССР)**
**************************************************************************************************************************************************
У могилы Зои Космодемьянской в селе Петрищево, Московской области.
Фото С.Струнникова.
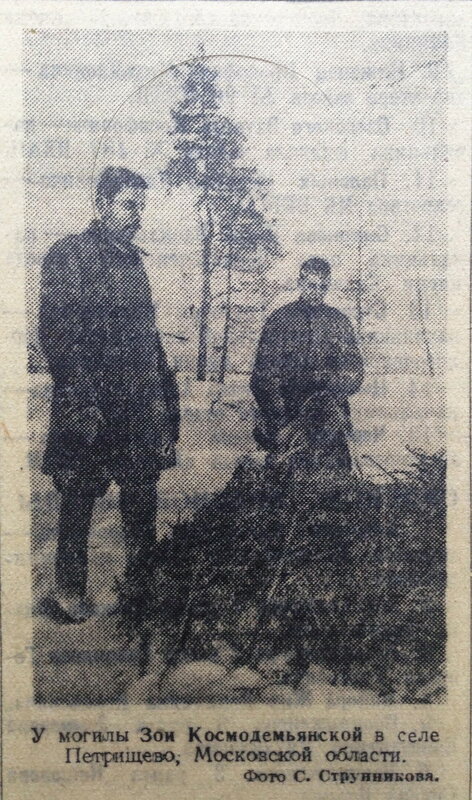
**************************************************************************************************************************************************
Выступление по радио Л.Т.Космодемьянской — матери Героя Советского Союза 3.А.Космодемьянской
(РАДИОПЕРЕДАЧА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ)
Дорогие товарищи!
Я хочу вам, сверстникам, друзьям, подругам моей Зои, сказать несколько слов. Я хочу попросить вас, родные, от всего материнского сердца: отомстите подлому фашистскому зверью, отомстите немецким палачам за смерть моей дочки!
Товарищи! Говорить о Зое мне невыносимо тяжело. Вы сами это понимаете. Ведь я потеряла самого близкого, дорогого мне человека, я выходила, вырастила ее... Пусть ни одного из вас, когда он в будущем станет матерью или отцом, не постигнет такое страшное горе.
Но все-таки я должна сказать о Зое. Я должна сказать вам всем, всей нашей молодежи: я горжусь своей дочерью! И Зое моей — вот тут, перед вами, хочется мне сказать, хоть она и не услышит меня: горжусь тобой, моя девочка!
Товарищи! У Зои была светлая голова и горячее, чистое, мужественное сердце. У нее было сердце борца, товарищи! Мы с Зоей жили душа в душу. Мы были не только мать и дочь, а друзья. Делились своими горестями и радостями. Я знала, как Зоя относится к жизни, к родине, к комсомолу. Тепло и спокойно мне было с моей девочкой. Чуть пригорюнишься, она подойдет, заглянет в лицо, встряхнет:
— Мама, ты что? Брось, мама! Все это пройдет.
Удивительно бодрый и цельный была она человек. Я старше ее, опытнее, а она помогала мне и переносить мужественно неудачи или трудности...
Товарищи! Зоя мне сказала, что уезжает на фронт. «Мама, — сказала мне Зоя, — я ухожу на фронт к партизанам. Тебе я могу об этом сказать. Ты пойми, мама, у меня нет сил стоять в стороне, когда фашисты лезут на Москву...».
Я должна признаться — у меня на глаза набежали слезы. Все это было так неожиданно для меня. И мне как-то трудно было сразу представить себе, что единственная дочка моя, молоденькая такая, уходит на войну...
Зоя заметила мое волнение и сказала — вот точно ее слова: «Ты что плачешь, мама? Не ты ли мне говорила, что я должна быть смелой и честной?! Мама, я горжусь тем, что буду бороться с фашистами, и ты гордись, что я ухожу на фронт. Со слезами меня провожать не надо».
И я проглотила слезы. Я взглянула на дочку, и мне даже совестно стало перед ней — такая она была радостная, приподнятая, праздничная... В этот вечер мы с Зоей особенно хорошо поговорили.
Зоя разрешила мне проводить ее до трамвайной остановки. Шла она с маленьким походным мешком. Сама я и мешок этот ей купила...
У трамвайной остановки мы попрощались. Зоя сказала мне. Вот как сейчас я слышу ее гордый и радостный голос:
— Приду героем или умру героем, ты, мама, не унывай. — И улыбнулась. Больше я ее так и не увидела.
Товарищи! Сердце мое тяжело ранено, и время не залечит эту рану. Но я горжусь, что дочка моя смело пошла на великое дело и осталась сильной, честной, гордой до последнего своего дыхания. Зоя встретила смерть, как настоящий человек, борец, коммунист.
Товарищи! Меня радует одно: Зою никогда не забудут. В моем-то материнском сердце она будет жить, пока сердце бьется. Но она будет жить в ваших сердцах и тогда, когда меня не будет. Ее вспомнят добрым словом и ваши дети... Я ехала в трамвае в тот день, когда была напечатана в «Правде» статья «Таня». Газету я не читала, но слышу, все говорят: «Таня, Таня» и рассказывают о подвиге девушки, об исключительной силе воли. Мне тогда и в голову не пришло, что Таня это и есть родная моя Зоя... Только я разволновалась, вспомнила Зою: как там она на фронте? И подумала: если придется ей, девочке моей, встретиться лицом к лицу с опасностью, хоть бы она была так же сильна, как эта чудесная Таня.
А потом оказалось, что Таня это и есть моя Зоя...
Товарищи! Пусть будут прокляты эти фашистско-немецкие кровососы, душегубы! Пусть их матерям, их дочерям приснится страшная казнь моей Зои! Кровавые палачи получат по заслугам! Я знаю это. Фашизм будет истреблен раз и навсегда. Я знаю это, товарищи! Но я прошу вас, как мать, потерявшая любимое дитя: отомстите скорее и за мою Зою!
Отомсти, молодежь, немецким зверям, которые мучили, терзали мою дочку!
Я прошу вас об этом. И я повторяю вслед за незабвенной своей Зоей:
— Будьте смелее! Боритесь, бейте немцев! Смерть фашистским палачам! Смерть им!
______________________________________________
Кто предал Таню* ("Красная звезда", СССР)
А.Довженко: Смотрите, люди! ("Правда", СССР)**
П.Лидов. Пять немецких фотографий ("Правда", СССР)**
Мы не забудем тебя, Таня! ("Комсомольская правда", СССР)
Боевым советским партизанам — слава!* ("Правда", СССР)***
Газета "Правда" №49 (8820), 18 февраля 1942 года
|
Метки: Зоя Космодемьянская зима 1942 советские партизаны февраль 1942 1942 газета Правда П.Лидов |
30 июня 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
В этот день Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить Севастополь. Но когда готовился сегодняшний номер газеты, мы еще не знали об этом. Конечно, нам было известно, что Севастополь переживает тяжелые, критические дни. Гитлеровское командование подтянуло к городу новые резервы, блокировало Севастополь и с воздуха и с моря. Поход лидера «Ташкент», на котором Евгений Петров возвращался на Большую землю, был последним, связь с городом теперь поддерживали лишь подводные лодки. Наши войска испытывают трудности с боеприпасами, продовольствием. Ряды бойцов тают, но и в этих условиях они совершают чудеса геройства. Об этом и говорят наши публикации.

Особо следует сказать о борьбе защитников Севастополя с немецкими танками. Противник сосредоточил для своего последнего наступления около полутысячи танков. Огромная сила! А у нас их было лишь несколько десятков, да и горючего к ним не хватало. Главная тяжесть борьбы с вражескими машинами легла на артиллерию. На подкрепление Иша в Севастополь вылетел наш спецкор майор Петр Слесарев, по военной профессии — танкист. Он рассказал, что огонь прямой наводкой против немецких танков — это сейчас главное.
Напечатан очерк Льва Иша «Героиня Севастополя Мария Байда» — о прославленной автоматчице, которую в Севастополе любовно звали «Бесстрашная Маруся». О ней позже много было написано, но эта публикация, по-моему, — первооткрытие ее подвига для наших читателей.
Так у нас в газете уже повелось: в критических ситуациях слово берет Илья Эренбург. Прозвучало оно и сегодня в его статье «Севастополь». Казалось, что можно сказать после Евгения Петрова, и все же Илья Григорьевич нашел такие сильные слова, что их ныне смело можно выгравировать на стелах панорамы севастопольской обороны.
«Чудо», — говорят о защите Севастополя газеты всего мира. Военные обозреватели ищут объяснение, пишут о скалах или о береговых батареях. Но есть одно объяснение чуду под Севастополем — мужество... Л.Н.Толстой увековечил мужество Севастополя в самые грустные дни русской истории. Пришло время, и А.Н.Толстой рассказал об отваге Севастополя в дни Великой Отечественной войны — в дни гнева и славы нашей истории.
Два слова отныне вплетены в сознание человечества: «Севастополь и отвага».
Появилось новое направление — Курское. Здесь завязались бои с перешедшим в наступление противником. Опубликован первый репортаж нашего спецкора Павла Крайнова «На участке главного удара противник продвинулся вперед». Лишь на второй день в Генштабе я узнал, что враг прорвал главную полосу обороны фронта и продвинулся вперед на 8-15 километров. Как ни тревожно было, все-таки мы не предполагали, что это — начало большого летнего наступления противника в сторону Сталинграда и Северного Кавказа. Ставка ожидала его наступление здесь, но считала, что главный удар противник будет наносить не на юге, а на центральном участке советско-германского фронта, наиболее вероятным и опасным считалось Орловско-Тульское направление — на Москву. Конечно, на это ориентировались и мы. И все же, по наитию что ли, на юг отправили большую группу специальных корреспондентов.
Савва Дангулов не упускает ни одной возможности организовать в газете выступление выдающихся летчиков, испытателей, авиаспециалистов. По его инициативе и его стараниями в газете была опубликована серия статей бригинженера П.Федрови «Бомбардировочная авиация Великобритании». Крупный авиационный специалист рассказал о своих наблюдениях во время поездки по Англии. А несколько дней назад Дангулов выехал на Калининский фронт к своему давнему другу, знаменитому летчику Михаилу Громову. О встрече с ним Савва Артемьевич рассказывал:
— По бревенчатым дорогам мы пробрались в небольшую деревушку. Сухая и светлая изба. Посреди просторной комнаты — Громов, на этот раз не в кожаной куртке, как тогда на поле нашего аэродрома в Щелкове, а в строгой, тщательно выутюженной гимнастерке. В течение недели мы встречались с ним почти каждое утро, работали часа два…
Конечно, бывало, день-два, а то и ночь — и материал в редакции. Но это не корреспонденция, статья должна суммировать накопленный опыт. Называется она «Массированный удар с воздуха». Тема разработана самым тщательным образом — от подготовки операции до выхода из боя. Мы хорошо знали, что если над статьей стоит имя Громова, то летчиков она заинтересует...
* * *
Несколько дней назад у меня состоялся разговор по прямому проводу с Петром Павленко. Он в Краснодаре, на узле связи Северо-Кавказского фронта, а я на узле связи Генштаба, на станции метро «Кировская». Весь минувший месяц после керченской катастрофы Петр Андреевич хворал, а вот теперь вызвал меня к аппарату Бодо. У меня сохранилась телеграфная лента наших переговоров, и ее, пожалуй, стоит здесь привести хотя бы в отрывках.
«Павленко. Здравствуйте, товарищ дивизионный комиссар. Докладываю, что выздоровел и приступаю к исполнению своих обязанностей. Выезжаю в боевые части на Тамань. Какие будут задания?
(Разговор, как видит читатель, вполне официальный. А ведь с Павленко мы были большими друзьями. Началась наша дружба еще на войне с белофиннами — вместе работали в «Героическом походе». С тех пор были на «ты». Я его чаще всего называл Петром, он меня — тоже по имени. А сейчас что это он так разговаривает? Когда Петр Андреевич вернулся в Москву, я его спросил: «Что случилось?» А он не без юмора объяснил: «Рядом со мной были офицеры, полная комната. Что подумают о наших редакционных порядках? Вот где, мол, разгардияш! Забыли о воинском уставе». Да, у нас, в редакции, младший по званию не рапортовал старшему и не козырял, и, признаюсь, я этого и не требовал. По-моему, дисциплина и творческая обстановка в редакции не этим обеспечиваются.)
Москва. Рад слышать. А все же, как здоровье?
Павленко. Вполне здоров.
Москва. Так-таки вполне?
Павленко. Вполне — не вполне, но ехать надо.
(Еще по финской войне я знал, что Петр Андреевич богатырским здоровьем не отличался, но всякие разговоры на эту тему сразу же отводил.)
Москва. Задание одно: долечивайся, отдыхай. Ничего срочного на вашем фронте нет. И на Тамань не надо выезжать. В крайнем случае, если не терпится, выскочи в какую-нибудь станицу и напиши, как там заботятся о семьях фронтовиков и инвалидах войны. Тема очень важная...»
И вот вчера получили очерк Павленко «Родной дом». Это рассказ о том, как в колхозе «Аврора» с большой добротой и огромным вниманием заботятся о семьях фронтовиков, инвалидах войны. Нетрудно понять, как важно об этом сегодня рассказать. Факты, примеры... Как всегда у Павленко, все точно и убедительно.
* * *
# Л.Озеров. Героиня Севастополя Мария Байда // "Красная звезда" №149, 27 июня 1942 года
# И.Эренбург. Севастополь // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года
# П.Крайнов. Ожесточенные бои на Курском направлении // "Красная звезда" №152, 1 июля 1942 года
# М.Громов. Массированный удар с воздуха // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года
# П.Павленко. Родной дом // "Красная звезда" №151, 30 июня 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 238-240
|
Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг газета Красная звезда июнь 1942 лето 1942 |
Героиня Севастополя Мария Байда |
 Вероломная гитлеровская политика, рассчитанная на то, чтобы бить свободолюбивые народы по одиночке, провалилась окончательно и бесповоротно. Эта гитлеровская политика вызвала к жизни против фашистской Германии коалицию стран, обладающих такими мощными людскими, производственными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, которые делают эту коалицию непобедимой.
Вероломная гитлеровская политика, рассчитанная на то, чтобы бить свободолюбивые народы по одиночке, провалилась окончательно и бесповоротно. Эта гитлеровская политика вызвала к жизни против фашистской Германии коалицию стран, обладающих такими мощными людскими, производственными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, которые делают эту коалицию непобедимой.Л.Озеров, "Красная звезда", СССР (№149 [5213]).
Статья опубликована 27 июня 1942 года.
Севастопольцы звали ее «бесстрашная Маруся», когда она еще была санинструктором. Еще раньше она работала продавщицей сельского магазина, и с первых дней войны решила, что ее место там, на линии огня. В свободное время она училась на курсах, и когда немцы подошли к Крыму, ее проворные руки так же ловко свертывали бинт, как раньше бумажный кулек. Ее призвали санинструктором стрелкового батальона, и здесь завоевала она славу бесстрашной. Раненые возвращались в строй, радостно встречали ее и, сжимая руки, говорили:
— Спасибо, Маруся. Ты настоящая девушка. Настоящий боец.

От этих слов у Марии Байды чаще билось сердце и рождалось желание драться вместе со своими героями. В конце-концов она добилась своего: ее зачислили во взвод разведчиков. Она сдала своей подруге Тане Рябовой санитарную сумку, сама вооружилась автоматом.
Опасная и веселая жизнь разведчика не то что закалила Марию — девушка и раньше была храброй, — но отшлифовала ее дар спокойного мужества, отточила еще больше ее острую ненависть к врагу. Теперь Мария твердо знала: пусть придет день великого испытания — она не дрогнет.
День этот, горячий июньский день пришел, и сквозь грохот и гул севастопольских боев весь фронт услышал громкое имя Марии Байды.
Вот что произошло. Мария с товарищами — автоматчиками — находилась на передовой линии. Ночью немцы усиленно освещали местность ракетами, а чуть стало рассветать, обрушили на траншеи сотни бомб и снарядов. Мария знала — это только начало, главное впереди. Вместе со старшиной второй статьи Михаилом Мосенко и двумя красноармейцами она бдительно следила за тем, что происходит на немецкой стороне. Как только фашисты пошли в атаку, заговорил ее автомат. За несколько минут она насчитала девять убитых солдат.
Немцы лезли со всех сторон. Горстке автоматчиков приходилось беспрерывно менять позиции, отражая бешеный натиск врага. Короткими перебежками Мария пробиралась из траншеи в траншею, быстро занимала удобное место и открывала огонь. Еще десять фашистов настигли ее меткие пули.
Кончились патроны. Мария обшарила все вокруг и не нашла ни одного диска. Подумав секунду, другую, она приподнялась и по ходу сообщения побежала на патронный пункт. По дороге девушка увидела раненого бойца. Как она может пройти мимо? Быстро перевязала раненого, помогла ему добраться до медпункта. Потом, не отдыхая, взяла несколько дисков, захватила про запас три гранаты и той же траншеей вернулась назад, туда, где шел неравный бой группы советских воинов с целой ротой немецких автоматчиков.
Храбрая разведчица была уже у цели, когда внимание ее привлек странный шум на противоположной поляне. Она приподнялась над ходом сообщения и заметила, как четыре немца с автоматами наперевес ведут одного нашего красноармейца.
«Хотят увести в плен», — подумала Мария. И в ту же секунду созрело решение: «Отбить товарища!».
Прогремела короткая очередь. Трое немцев легли на месте, четвертого ранило. Красноармеец был спасен. Не спросив даже его имени, девушка поспешила к своим друзьям автоматчикам.
А там бой разгорался с новой силой. Немцы ползли и по лощине, и по выщербленному взрывами полю, и по виноградникам. Всюду мелькали зеленые кители. Мария расположилась в канаве и сосредоточенно принялась расстреливать гитлеровцев. Недалеко от нее лежал Михаил Мосенко. Время от времени он кричал ей:
— Ну как, Маруся, жарко?
— Ничего, Миша, — отвечала девушка. — Немцам жарче!
Так прошло еще два часа. Уже полегло до сотни фашистов. Но враг продолжал нажимать. Вдруг рядом с Марией упала граната. Девушку ранило в голову и руку. Кто-то из товарищей перевязал ее. Она глотнула воды из фляжки, полежала немного в кустах, потом взяла автомат и снова открыла огонь. Боли не чувствовалось, только кружилась голова. Михаил оглянулся, посмотрел на ее побледневшее под копотью и потом лицо и глухо сказал:
— Иди в тыл…
— Буду биться до последнего! — твердо возразила Мария.
Она даже сняла белую повязку, чтобы не обнаружить себя. Ствол автомата обжигал пальцы. Ныла раненая рука. Но Мария била и била, не замечая ничего.
Скоро опять остался один диск на двоих. Девушка расстреляла полдиска и снова отправилась за боеприпасами. Не успела она проползти два метра, как заметила вблизи под деревом трех немцев. Рука инстинктивно потянулась к автомату. Но патронов было совсем мало, и она бросила гранату. Все три немца остались на месте.
Еще несколько метров — и она заметила четвертого солдата. Первое, что бросилось почему-то в глаза, — это его черные волосы. «Странно, — подумала Мария, — может быть наш? Ведь они, сволочи, белокурые?» Но немецкая форма быстро рассеяла сомнение. Девушка нажала на спусковой крючок. Выстрела не последовало…
Немец приподнялся и направил дуло своего автомата прямо на нее. Дело решали секунды. Мария вскочила, со всего размаха обрушила на немца ствол автомата и раскроила ему череп. Девушка забрала у убитого его оружие, пять магазинов и как ни в чем не бывало вернулась к Мосенко:
— Ну вот, Миша, теперь мы и с боеприпасами…
Немецким автоматом Мария Байда без промаха разила фашистов. Взвод за взводом бросались немцы в атаку на рубеж, который защищала храбрая советская девушка. И все их атаки захлебывались. Все же троим фашистам удалось подползти к Марии почти вплотную. Снова, как раз’яренная львица, вскочила она на ноги, размахнулась автоматом и ударами приклада уложила всех троих.
Наступила ночь. Бешеные атаки фашистов стихли. Мария и ее товарищи, которые весь день вели бой в окружении, решили пробиваться к своим. Девушка обошла траншеи, подобрала восемь раненых бойцов, перевязала их. И каждому сказала прямо и честно:
— Нас тут мало. Почти все ранены. Но если мы будем держаться дружно, немцы нас не возьмут. Я знаю здесь каждый кустик. Мы пробьемся.
Осторожно, стараясь не задевать веток, не стучать каблуками сапог о камни, они пошли вперед. Вокруг в темноте был слышен немецкий говор. Было страшно за товарищей, обессилевших и израненных, но Мария твердо вела бойцов в батальон. Она знала: где-то на пути — минные поля. И девушка шла первой. Она привыкла опасностью для своей жизни отвращать опасность от других.
«Если взорвусь, — думала она, — то только одна...»
Слева от тропинки, по которой осторожно ступали бойцы, послышался стон. Девушка прислушалась и сразу решила:
— Наш! Немцы визжат, а этот стонет спокойно.
И действительно, в кустах лежал старшина соседней роты. Мария перевязала его, помогла встать, и он присоединился к группе. Три часа шли они сквозь тьму и опасность. Болели раны, кровь проступала на сделанных наспех повязках, но люди шли, ободренные чудесной девушкой, нежной, как сестра, и отважной, как богатырь.
Наконец, раздался родной оклик.
— Стой, кто идет?
— Свои, — громко ответила Мария.
Часовой сразу узнал ее. Бойцы окружили девушку. Все начали жать ей руки. У многих на глазах выступили слезы. Это были слезы радости.
Прошло совсем немного времени, и товарищи снова взволнованно приветствовали отважную автоматчицу. Героиня Севастополя старший сержант Мария Карповна Байда стала Героем Советского Союза. // Л.Озеров. СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня.
_______________________________
Герои Севастополя* ("Красная звезда", СССР)**
Огромные потери немцев под Севастополем* ("Красная звезда", СССР)**
**************************************************************************************************************************************************
Бой в траншеях врага
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 июня. (По телеграфу от наш. корр.). Несколько дней подряд лучшие разведчики N части вели тщательное наблюдение за позициями немцев. В результате сложилось полное представление о системе обороны противника и был даже набросан план вражеских дзотов, блиндажей, ходов сообщений, изучено время смены солдат. Тогда командование решило произвести небольшой налет на немецкие позиции. Никаких целей, кроме разведывательных, не преследовалось, и поэтому был выделен только усиленный стрелковый взвод.
Чтобы не спугнуть немцев и, главное, не выдать им своих намерений, командование решило не применять, как обычно, артиллерии перед началом действий, а начать их внезапно и тихо. Погода как нельзя лучше способствовала этому замыслу. Весь день шел дождь, было сыро, дул ветер со стороны немцев.
Стояла темная ночь. Вооруженные автоматами, ручными пулеметами и гранатами, с облегченным снаряжением, бойцы взвода под командованием лейтенанта Левченко вышли лесом к ручью. Топкие, болотистые берега его не были заминированы и опутаны проволокой. Противник, видимо, не думал, что по такому болоту может пройти человек. Однако, пробираясь по колено, а где и по пояс в грязи, наши бойцы подошли к немецким подразделениям.
Оставив на высоте прикрывающую группу, взвод спустился во вражеский ход сообщения. Первым по траншее шел красноармеец Кривцов. Впереди раздались чьи-то шаги. Они приближались. Кривцов притаился на дне траншеи, приготовив финский нож. Шел немец. Как только он приблизился, Кривцов бросился на него и заколол ножом. Потом боец пошел дальше. С правой стороны траншеи что-то чернело. Кривцов обследовал эту черноту, и оказалось, что чернеет нечто похожее на нишу с маленькой дверью. Кривцов постучал.
— Кто это? Свои? — раздалось из-за двери по-немецки. Кривцов знал немного немецкий язык и ответил:
— Да, свои.
Дверь открылась, вышел офицер. Кривцов ударил его прикладом автомата. В это время в траншее показалось несколько немцев. Скрывать далее свое присутствие взвод не мог. По немцам был открыт огонь из автоматов.
Дальнейшие действия развивались молниеносно. Взвод расчленился и пошел по трем ходам сообщений. Часовые и одиночные немцы уничтожались прикладами, короткими очередями из автоматов. Немецкие дзоты открыли интенсивный огонь, но они не могли стрелять по своим ходам сообщений. В стане врага поднялась паника.
Забрав у убитых солдат и офицеров документы, наши бойцы стали отходить. В это время в бой вступила прикрывающая группа, находящаяся на высоте. Заговорили наши минометы.
На дальних подступах к Москве сбито семь фашистских самолетов
За последние дни на дальних подступах к Москве значительно усилилась активность фашистской авиации. Гитлеровцы настойчиво рвутся к столице, но все их попытки неизменно кончаются неудачей. Советские летчики дают достойный отпор воздушным пиратам.
Только за последние два дня летчики московской истребительной авиации сбили здесь семь вражеских самолетов, один подожгли и один повредили.
Лейтенант Печеневский заметил на пути к столице фашистский самолет «Ю-88» и атаковал его. Немец камнем рухнул вниз. Другой вражеский самолет этого же типа, летевший на высоте 6.000 метров, перехватил и уничтожил лейтенант Мухомедзянов. Старшина Дудник сбил третий «Ю-88».
Капитан Чикунов атаковал и сбил «Хейнкель-111». Другой «Хейнкель-111» пытался скрыться. Лейтенант Рожков перехватил его, навязал бой и уничтожил.
Лейтенант Фролов вступил в бой с «Ю-88» и поджег его. Гвардии лейтенанты Бочаров и Штучкин завязали бой с двумя «Мессершмиттами-109». Один фашистский самолет был поврежден, второму удалось уйти. Кроме того были сбиты два «МЕ-109».
Наша авиация во всех этих воздушных столкновениях потерь не имела.
СНАЙПЕР ДОРЖИЕВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 июня. (Спецкорр. ТАСС). За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Военный Совет фронта наградил знатного снайпера сержанта Цырендаша Доржиева орденом Ленина.
Цырендаша Доржиева хорошо знают на фронте. В прошлом искусный охотник, он стал блестящим снайпером. Из своей снайперской винтовки он истребил уже 181 гитлеровца.
Тов. Доржиев обучил за время войны 13 снайперов. Его ученики истребили немало немецких захватчиков.
________________________________________________
С.Сергеев-Ценский: Севастопольцы* ("Правда", СССР)
Железная стойкость советских воинов* ("Правда", СССР)***
Е.Петров: Севастополь держится ("Красная звезда", СССР)
И.Чухнов: Героический Севастополь ("Красная звезда", СССР)
Ф.Октябрьский: Беззаветный героизм севастопольцев зовет нас на новые подвиги ("Правда", СССР)
Газета "Красная Звезда" №149 (5213), 27 июня 1942 года
|
Метки: газета Красная звезда 1942 лето 1942 битва за Севастополь июль 1942 |
1 июля 1941 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
С этого номера я официально вступил в должность главного, или, как тогда говорилось и писалось, ответственного редактора «Красной звезды».

Сменил я корпусного комиссара Владимира Николаевича Богаткина — милого, доброго, умного человека, с большим опытом практической работы в войсках, но, к сожалению, совершенно не искушенного в журналистике и тяготившегося своей редакторской должностью. Он оказался на ней по капризной воле случая.
В сентябре сорокового года, когда в «Красной звезде» открылась вакансия ответственного редактора, на эту должность, как бывало уже в прошлом, намеревались послать заместителя начальника Политуправления РККА. Этот пост занимал тогда Федор Федотович Кузнецов. Но он, как говорится, отбивался руками и ногами, мотивируя отказ тем, что недавно пришел в армию, в печати никогда не работал, за всю свою жизнь ни одной статьи не написал и не отредактировал. Тогда ему сказали:
— Предложите другую кандидатуру.
Кузнецов назвал Богаткина — члена Военного совета Московского военного округа: Богаткин, мол, часто печатается в «Красной звезде». Да, действительно в нашей газете было напечатано несколько статей за подписью Владимира Николаевича. Только, строго говоря, во всех таких случаях он являлся не автором, а лишь соавтором: статьи писались журналистами на основе бесед с ним.
Едва ли Богаткин умолчал об этом при назначении его редактором «Красной звезды». Доподлинно знаю, что он тоже всячески «отбивался». Но так или иначе назначение состоялось. А в порядке компромисса за ним оставили и прежний пост — члена Военного совета округа. Таким образом, Владимир Николаевич имел основание считать свою работу в газете совместительством, не очень-то стремился постигнуть ее специфику и, когда началась война, стал упорно добиваться отправки на фронт.
Не забуду одну сценку у Мехлиса. В первые дни войны Лев Захарович — стародавний редактор «Правды» — очень много занимался «Красной звездой». Перед подписанием полос в печать непременно сам прочитывал их, вычеркивал целые абзацы, делал вставки, порой менял заголовки.
И вот, как обычно, Богаткин и я являемся к Мехлису с влажными еще оттисками газетных полос поздно вечером 29 июня. Окинув критическим взглядом первую полосу, он повернулся к Богаткину, жестким голосом спросил:
— Что у вас за «шпигель»?
Богаткин покраснел, замялся:
— А где «шпигель», товарищ армейский комиссар?..
Мехлис прямо-таки вскипел:
— Как? Вы восемь месяцев редактируете газету и до сих пор не знаете, где «шпигель»?
Перечеркнув старый текст в шпигеле, начальник ГлавПУРа потребовал:
— Пишите другой.
А сутки спустя, 30 июня, когда мы опять принесли начальнику ГлавПУРа готовые полосы «Красной звезды», он, еще не прикоснувшись к ним, объявил:
— Вот что, товарищ Богаткин, вы назначены членом Военного совета Северо-Западного фронта — Сталин дал согласие. А вы — кивок в мою сторону — утверждены в должности редактора «Красной звезды»…
Откровенно скажу, я не очень обрадовался. Думалось, что новая должность будет держать меня вдалеке от боевой жизни войск. То ли дело на Халхин-Голе и под Ухтой — во фронтовых газетах. Их редакции находились в десятке километров от передовых позиций, а то и ближе. «Смотаться» в войска нетрудно было в любое время. Я не представлял себе, как можно без этого вести военную газету.
Мехлис, шагая по кабинету, долго объяснял мне, что и как надо делать. А я не удержался — стал упрашивать его послать меня в действующую армию. Он вначале терпеливо слушал мои доводы, а потом рассердился:
— Решение о вашем назначении принято Сталиным. Был при том и Жуков. Он тоже поддержал вашу кандидатуру. Я говорить со Сталиным на эту тему больше не буду. Пишите ему, если хотите, сами.
На такой шаг я не отважился.
* * *
В сообщениях Совинформбюро появились новые направления — минское, луцкое, новгород-волынское, шепетовское, барановическое.
Тревожная картина. Что сказать читателю по этому поводу? Как объяснить происходящее?
Дождались вечерней сводки Совинформбюро. В ней краткие итоги за первые восемь дней войны с таким важным выводом: «Молниеносная победа, на которую рассчитывало немецкое командование, провалилась».
Решение пришло сразу — дать на эту тему передовую статью. Она весьма характерна — вполне отражает дух времени, накал страстей, и читатель, думаю, не посетует, если я приведу несколько длинную выдержку из нее:
«Гитлер и его свора рассчитывали на быструю, молниеносную победу. Их цель состояла в том, чтобы в несколько дней сорвать развертывание наших войск и молниеносным ударом в недельный срок занять Киев и Смоленск. В недельный срок! Чванливая фашистская военщина уподобилась той анекдотичной свинье, которая уверяла всех и каждого в своем свинарнике, что она может проглотить льва! Опьяненные легкими победами над плохо вооруженными и не подготовленными к войне малыми государствами Европы, фашистские вояки полагали, что они пожнут лавры также и в «походе на Восток». Более того, их продажная печать, их радио поспешили объявить на весь мир, что они уже победили…
С каждым часом рассеивается эта липкая фашистская пелена…
Правда состоит в том, что гитлеровская «молниеносная война» терпит крах…
Правда состоит в том, что цель германского командования — сорвать развертывание наших главных сил — не была достигнута, благодаря решительному отпору... К полю сражений подходят наши могучие полки…
Правда состоит в том, что уже за первые 7–8 дней фашистская армия понесла крупный урон…
Правда, наконец, состоит в том, что призрак победы, которая казалась Гитлеру и его генералам столь реальной и быстрой, растаял в пороховом дыму и в пламени, пожирающем их лучшие мотомехсоединения, отборные корпуса…
Гитлер навязал нашей стране эту войну. Он ее начал. Но не он ее закончит».
* * *
В разгар работы над номером газеты зашел ко мне поэт Семен Кирсанов. Несколько дней назад он был призван в кадры Красной Армии и зачислен корреспондентом «Красной звезды». С того часа Кирсанов ежедневно являлся в редакцию и с поразительной оперативностью «выдавал» нужные стихи. Обычно он буквально врывался ко мне и, не спрашивая, могу ли я слушать сейчас очередное его сочинение, начинал декламировать. Декламировал он на редкость темпераментно, и однажды я «попался» на этом.
Поэт в тот раз только что вернулся с Северо-Западного фронта, явился в редакцию во всей боевой «красе»: в каске, в запыленных сапогах, при полевой сумке и пистолете. Не успев даже поздороваться со мной, с порога стал читать новые свои стихи. Закончив чтение, спросил по обыкновению:
— Ну, как?
— Отлично, — ответил я. — Будем печатать.
А когда Кирсанов ушел и я сам стал перечитывать оставленные им листки, меня постигло разочарование: стихотворный текст был не так хорош, как показался мне на слух. Пригласил наших редакционных знатоков поэзии. Все они единодушно сошлись на том, что стихи, мягко говоря, не удались, печатать их нельзя.
Трудным было последовавшее за тем объяснение с автором. С тех пор я взял за правило: внимательно прослушав стихи, непременно просить автора дать мне возможность самому вчитаться в текст — «попробовать на зубок»…
Но вернусь к моей встрече с Кирсановым вечером 30 июня. Я ознакомил его с последней сводкой Совинформбюро, обратил внимание на гитлеровскую брехню об их потерях.
— Сможете откликнуться стихами?
— Попробую, — ответил поэт. — Только для этого мне нужно хотя бы два часа.
Получив мое согласие, он забрался в одну из свободных редакционных комнат, и вскоре оттуда по всему коридору загремел его зычный голос: так Кирсанов сочинял стихи. В полночь поэт принес мне свое сочинение. Мы напечатали его под заголовком «Насчет подсчета». Вот несколько строф из этого стихотворения:
Осоловелый глаз прищурив,
сел считать со свитой фюрер,
чтоб послать по радио
что-нибудь парадное.
Посмотрел насчет потерь,
подсчитал — и пропотел!
На бумагу смотрит кисло:
мол, откуда эти числа?
— Шнель, открыть мое бюро.
Шнель, подать мое перо!
…
Сеет фюрер нечистоты
ложью и подчистками.
Наши бомбы сводят счеты
с гадами фашистскими!
Бой идет одну неделю,
час настанет — все сочтем,
и фашистов
так разделим —
что и корень
извлечем!
Стихотворные строки удачно состыковались и с передовой, и с сообщениями наших фронтовых корреспондентов, заверстанными на вторую полосу газеты. О содержании корреспонденции достаточно ясно говорят их заголовки: «Разгром танковой колонны неприятеля», «Истребитель Тирошкин сбил четыре самолета», «Части командира Егорова захватили 500 пленных», «Фашисты не выдержали штыкового удара»…
***
# Все силы на разгром врага! // "Красная звезда" №152, 1 июля 1941 года
# С.Кирсанов. Насчет подсчета // "Красная звезда" №152, 1 июля 1941 года
# Разгром танковой колонны неприятеля // "Красная звезда" №152, 1 июля 1941 года
# Истребитель Терешкин сбил четыре самолета // "Красная звезда" №152, 1 июля 1941 года
# Часть командира Егорова захватила 500 пленных // "Красная звезда" №153, 2 июля 1941 года
# К.Буковский. Я.Милецкий. Фашисты не выдержали штыкового удара // "Красная звезда" №152, 1 июля 1941 года
____________________________________________
Источник: Ортенберг Д И. Июнь—декабрь сорок первого: Рассказ-хроника. — М.: «Советский писатель», 1984. стр. 18-21
|
Метки: Давид Ортенберг Семен Кирсанов июль 1941 газета Красная звезда лето 1941 |
Евгений Петров. Севастополь держится |
 Фашисты предстали перед всеми народами мира как цепные псы немецких империалистов, как реакционеры и мракобесы, враги трудового народа, носители средневекового варварства, враги прогресса и разрушители культуры. Гитлеровская Германия стала смертельным врагом большинства населения земли.
Фашисты предстали перед всеми народами мира как цепные псы немецких империалистов, как реакционеры и мракобесы, враги трудового народа, носители средневекового варварства, враги прогресса и разрушители культуры. Гитлеровская Германия стала смертельным врагом большинства населения земли.Евгений Петров, "Красная звезда", СССР (№147 [5211]).
Статья опубликована 25 июня 1942 года.
Прошло двадцать дней, как немцы начали наступать на Севастополь. Все эти дни напряжение не уменьшалось ни на час. Оно увеличивается. 86 лет назад каждый месяц обороны Севастополя был приравнен к году. Теперь к году должен быть приравнен каждый день.

Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходит все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее простреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь.
Города почти нет. Нет больше Севастополя с его акациями и каштанами, чистенькими тенистыми улицами, парками, небольшими светлыми домами и железными балкончиками, которые каждую весну красили голубой или зеленой краской. Он разрушен. Но есть другой, главный Севастополь, город адмирала Нахимова и матроса Кошки, хирурга Пирогова и матросской дочери Даши. Сейчас это город моряков и красноармейцев, из которых просто невозможно кого-нибудь выделить, поскольку все они герои. И если мне хочется привести несколько случаев героизма людей, то потому лишь, что эти случаи типичны.
В одной части морской пехоты командиры взводов лейтенант Евтихеев и техник-интендант 2-го ранга Глушенко получили серьезные ранения. Они отказались уйти с поля сражения и продолжали руководить бойцами. Им просто некогда было уйти, потому что враг продолжал свои атаки. Они отмахнулись от санитаров, как поглощенный работой человек отмахивается, когда его зачем-нибудь зовут.
Пятьдесят немецких автоматчиков окружили наш дзот, где засела горсточка людей. Но эти люди не сдались, они уничтожили своим огнем тридцать четыре немца и стали пробиваться к своим только тогда, когда у них не осталось ни одного патрона. Удивительный подвиг совершил тут краснофлотец Полещук. Раненый в ногу, не имея ни одного патрона, он пополз прямо на врага и заколол штыком двух автоматчиков.
Краснофлотец Сергейчук был ранен. Он знал, что положение на участке критическое, и продолжал сражаться с атакующими немцами. Не знаю, хотел ли он оставить по себе память или же просто подбодрить себя, но он быстро вырвал из записной книжки листок бумаги и написал на нем: «Идя в бой, не буду щадить сил и самой жизни для уничтожения фашистов, за любимый город моряков — Севастополь».
Вообще, в эти торжественные и страшные дни людей охватила потребность написать хоть две-три строки. Это началось на одной батарее. Там кто-то взял портрет Сталина и написал на нем, что готов умереть, но не пустить немцев в Севастополь. Он подписал под этими строками свою фамилию, за ним то же самое стали делать другие. Они снова давали родине клятву верности, чтобы сейчас же, тут же сдержать ее. Они повторяли присягу под таким огнем, которого никто никогда не испытал. У них не брали присягу, как это бывает обычно. Они давали ее сами, желая показать пример всему фронту и оставить память своим внукам и правнукам.
В сочетании мужества с умением заключена вся сила севастопольской обороны лета 1942 года. Севастопольцы умеют воевать. Какой знаток военно-морского дела поверил бы до войны, что боевой корабль в состоянии подвезти к берегу груз, людей и снаряды, разгрузиться, погрузить раненых бойцов и эвакуированных женщин и детей, сделав все это в течение двух часов, и вести еще интенсивный огонь из всех орудий, поддерживая действия пехоты! Кто поверил бы, что в результате одного из сотен короткого авиационного налета, когда немцы сбросили 800 бомб, в городе был всего один убитый и один раненый. А ведь это факт. Севастопольцы так хорошо зарылись в землю, так умело воюют, что их не может взять никакая бомба.
Только за первые восемь дней июня на город было сброшено около 9.000 авиационных бомб, не считая снарядов и мин. Передний край обороны немцы бомбили с еще большей силой. Не знаю точно, сколько было сброшено бомб и сделано выстрелов по Севастополю и переднему краю за все двадцать дней штурма. Известно только, что огонь беспрерывно возрастает, и каждый новый день штурма ожесточеннее предыдущего.
Немцы вынужденно пишут сейчас, что Севастополь — неприступная крепость. Это не восхищение мужеством противника. Гитлеровцы не способны на проявление таких чувств. Это примитивный прием фашистской пропаганды. Если им удалось бы взять Севастополь, они заорали бы на весь мир: «Мы взяли неприступную крепость!» Если они захлебнутся, не смогут войти в город, — они скажут: «Мы говорили, что эта крепость неприступна».
На самом деле Севастополь никогда не был крепостью со стороны суши. Он укрепился с волшебной быстротой уже во время обороны. Восьмой месяц немцы терпят под Севастополем поражение за поражением. Они теряют людей втрое, впятеро больше, чем мы. Они обеспокоены и обозлены — Севастополь уже давно обошелся им дороже самой высокой цены, которую они сочли бы разумным за него заплатить. Теперь каждый новый день штурма усугубляет поражение немцев, потому что потери, которые они несут, невозместимы и рано или поздно должны сказаться.
Двадцать дней длится штурм Севастополя, и каждый день может быть приравнен к году. Город держится наперекор всему — теории, опыту, наперекор бешеному напору немцев, бросивших сюда около тысячи самолетов, около десяти лучших своих дивизий и даже сверхтяжелую 615-миллиметровую артиллерию, какая никогда еще не применялась.
Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее.
Когда моряков-черноморцев спрашивают, может ли удержаться Севастополь, они хмуро отвечают:
— Ничего, держимся.
Они не говорят: «Пока держимся». И они не говорят: «Мы удержимся». Здесь слов на ветер не кидают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма на море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают корабль всей силой своего умения и мужества. // Евгений Петров. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 24 июня. (По телеграфу).
_______________________________
И.Чухнов: Героический Севастополь ("Красная звезда", СССР)
Ф.Октябрьский: Беззаветный героизм севастопольцев зовет нас на новые подвиги ("Правда", СССР)
**************************************************************************************************************************************************
Под Севастополем
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. (По телеграфу от наш. корр.). В последние дни немцы несколько ослабили свои атаки на наши позиции. Это, несомненно, прежде всего результат огромных потерь, которые несет неприятель на подступах к Севастополю. Тем не менее он имеет здесь перевес в силах, и это дает ему возможность вести на ряде участков почти непрерывные ожесточенные бои. Наши части, мужественно отстаивая город, ценой больших усилий сдерживают напор врага, упорно отбивают его атаки.
Особенно ожесточенные бои идут на южном и северном участках. Подразделения, которыми командует тов. Щербань, в течение нескольких дней стойко отражают фашистские атаки. Подступы к нашим позициям завалены вражескими трупами, но противник продолжает усиливать нажим. Раза два ему удавалось ворваться на наши передовые позиции, но обороняющиеся подразделения поднимались из окопов и шли в контратаку. Местами дело доходило до рукопашных схваток, и все они заканчивались полным успехом для нас. Ни одного рукопашного боя неприятель не выиграл. Каждый раз он вынужден был отходить.
Однако, несмотря на все эти успехи, на данном участке для защитников города создалась довольно тяжелая обстановка. Каждая вражеская атака здесь поддерживается значительным количеством танков. Почти не прекращаются воздушные бомбардировки оборонительных укреплений. Только мужество, самоотверженность и высокая стойкость защитников Севастополя удерживают противника.
В трудных условиях приходится вести бои подразделениям под командованием тов. Коломиец. Против них действуют отборные неприятельские части. Несмотря на это, подразделения отбили все вражеские атаки.
В последние дни немцы усилили воздушные бомбардировки Севастополя, но город продолжает оказывать фронту необходимую помощь. // Л.Озеров.
Бои разведывательных отрядов
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 24 июня. (По телеграфу от наш. корр.). За последние два дня на одном участке фронта заметно активизировалась деятельность разведчиков обеих сторон. Несколько раз стычки мелких разведывательных отрядов вырастали в большие бои с участием всех родов войск.
Вечером две роты гитлеровцев после короткой артиллерийской подготовки стали подползать к позициям N части. Наши бойцы видели немцев, но огня не открывали, потому что фашисты ползли прямо на минное поле. Через несколько минут блеснули огоньки взрывов. Гитлеровцы в панике заметались по лесу, но всюду натыкались на мины и взлетали на воздух. В результате на минном поле осталось много вражеских трупов.
Другая группа немецких солдат попробовала обойти это минное поле, но попала под губительный огонь наших пулеметов. Не достигнув цели, остатки вражеских рот спешно откатились назад.
Этой же ночью наша N часть успешно провела разведку боем. Артиллерия массированным огнем подавила огневые точки врага на высоте, после чего пехота стремительным броском овладела этой высотой. Разрушив многие немецкие укрепления, захватив важные документы и выявив силу артиллерийского и минометного огня противника на этом участке его обороны, наши бойцы со сравнительно небольшими потерями отошли на свои позиции.
Ожесточенная схватка завязалась в районе одной рощи. Здесь взвод нашей пехоты под командованием лейтенанта Пучкова встретился с немецким разведывательным отрядом. Лейтенант решил ударом в лоб сковать противника и в то же время выбросить группу бойцов ему в тыл. Отделение, которым командует сержант Прокопеня, быстро выполнило приказание командира и устроило засаду у дороги. Тут же на дороге показался противник. Сержант Прокопеня подкрался и схватил одного немца. Остальные бросились на выручку. Отважное отделение советских воинов задержало немцев на дороге и не отдало им захваченного в плен фашиста. Вскоре сюда подоспел весь взвод, и вражеский разведывательный отряд был полностью уничтожен.
Взятый в плен немец оказался разведчиком 2-го отдельного немецкого стрелкового батальона. Это обер-ефрейтор Густав Мюльгоф. Он был одет в домотканные крестьянские штаны, грязную поношенную куртку и, еще более поношенную шинель. По шинели и пилотке ползали вши. Пленный показал:
— Я, как и все солдаты нашего батальона, вот уже шесть месяцев не был в бане и три месяца не менял белье. Вши заели нас. Мы все думали: когда окончится зима, наша жизнь в окопах улучшится. Но вот прошла и весна, настало лето, а жизнь наша все идет по-старому.
________________________________________________
Герои Севастополя* ("Красная звезда", СССР)**
И.Чухнов: Снайперы Севастополя* ("Известия", СССР)
С.Сергеев-Ценский: Севастопольцы* ("Правда", СССР)
Железная стойкость советских воинов* ("Правда", СССР)***
Огромные потери немцев под Севастополем* ("Красная звезда", СССР)**
Газета "Красная Звезда" №147 (5211), 25 июня 1942 года
|
Метки: немецкий солдат 1942 лето 1942 битва за Севастополь пленные немцы газета Красная звезда июнь 1942 Евгений Петров |
17 июня 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
Вернулся в Москву из далекого Ташкента Алексей Толстой. На второй день «по долгу службы» явился в редакцию. Его, как всегда, прежде всего интересовала обстановка на фронте: Керчь, Харьков. Севастополь, а также перспектива текущего года. Рассказал я, что знал, не так уж и много, но во всяком случае гораздо больше, чем сообщало Совинформбюро и что печаталось в нашей газете. Подвел к карте, занимавшей чуть ли не полстены в моем кабинете, показал новую линию фронтов, очерченную красными флажками. Что будет дальше? Что я мог сказать?

Конечно, был разговор и о том, что ему писать для газеты. И мне вдруг пришло в голову:
— Завтра открывается сессия Верховного Совета СССР для ратификации договора с Великобританией. Нужен очень ответственный репортаж. Не смогли бы вы взяться за это?
Попросил — и самому стало неловко: репортаж — Алексею Толстому! Писатель, видимо, почувствовал в моем голосе смущение и сразу же сказал:
— Напишу. Я ведь когда-то писал такие газетные вещи, в первую мировую войну. Дело для меня не новое. Старый репортер...
После окончания сессии Толстой сразу же пришел в редакцию. Репортаж был написан с писательской страстью. Главное, он дышал верой, верой в победу. Под таким заголовком и был напечатан.
Кстати, во время нашей беседы о предстоящей сессии, когда зашел разговор о поездке Молотова в Вашингтон, я поплакался Толстому, что никак не могу пробить очерк Симонова о том полете нашего бомбардировщика. Видно, Алексей Николаевич намотал на ус эту историю, и в том же репортаже появились строки о Молотове: «И туда и обратно он летел на нашем великолепном и грозном самолете, покрывшем расстояние от Москвы до Вашингтона немного больше чем в полсуток». А на публикацию этих строк разрешения мы не стали просить.
А еще через день был опубликован Указ о присвоении звания Героя Советского Союза «за отвагу и геройство, проявленные при выполнении задания Правительства по осуществлению дальнего ответственного перелета» экипажу бомбардировщика майорам Э.Пусепу, С.Романову и А.Штепенко. Может быть, не всем, но многим нетрудно было установить в подтексте связь между тем, что писал Толстой, и Указом…
* * *
Почти в каждом номере газеты печатаются корреспонденции, статьи, очерки о наших боевых комиссарах, политработниках, парторгах — об их работе в полках, ротах, на переднем крае. Вот и сегодня опубликована статья военкома полка Н.Кузьмина «Воспитание любви к своему оружию». Статья на неожиданную тему. Один из батальонов полка вел наступление. Комиссар батальона, заметив, что некоторые бойцы, продвигаясь вперед, редко стреляют, тут же спросил рядом лежавшего стрелка:
— Почему не стреляете?
— А зачем? Бьет наша артиллерия, бьют минометы. Этот огонь сильнее винтовочного…
Комиссар запомнил ответ бойца. Вскоре батальон занял оборону. Военком целый день просидел в первой линии окопов и видел, что некоторые бойцы и здесь редко ведут огонь по врагу. И он стал действовать. Беседами не ограничился. На рассвете два коммуниста ушли вперед, окопались и стали выслеживать противника. Один боец в этот день сразил двух немцев, а другой, парторг Гришин, — трех. И сразу же комиссар собрал коммунистов. Гришин рассказал об этом боевом дне, а комиссар потребовал, чтобы все партийцы стали настоящими стрелками…
Это был рассказ о том, как в полку стали ценить и уважать винтовку.
* * *
В эти дни опубликованы большие, размером в три полные колонки статьи начальника фронтового отдела «Красной звезды» полковника И.Хитрова «Некоторые вопросы вождения войск» и начальника танкового отдела подполковника П.Коломейцева «Танковый бой». Это был не просто рассказ об опыте боев какого-либо полка или соединения. Статьи отличались широким тактическим кругозором. Вдумчивые опытные офицеры, хорошо разбирающиеся в вопросах тактического и оперативного искусства, они за год побывали на многих фронтах, многое увидели, многое услышали, тщательно собирали все новое, что рождалось на полях сражений, и теперь раскрывали все это читателям. Много доброго мы услышали об этих публикациях в Генштабе, в управлениях наркомата и на фронте. Как было нам, в редакции, не радоваться!
Заговорил о Коломейцеве и вспомнил вдруг такую деталь. Коломейцев любил в своих статьях выделять главные мысли жирным шрифтом, иногда этим злоупотреблял.
— Зачем? — как-то я спросил Петра Илларионовича. — Разве читатель сам не разберется, где главное?
— Так статья лучше смотрится, — смущенно ответил он.
Эту «слабость» мы, кажется, ему прощали.
* * *
В сегодняшнем номере Илья Сельвинский напечатал стихи «Севастополь — Балаклава». Даже не знаю, как их назвать: героические, лирические или как-то еще. Пусть читатель сам решит. Но я могу определенно сказать — эти стихи о двух сражавшихся до конца плечом к плечу крымских городах брали за душу.
Как девушка, что ранена в бою,
Но не сдает позицию свою,
Военною овеянная славой,
Прильнувшая к заветному курку,
Стреляет золотая Балаклава
Из снайперской винтовки по врагу.
О, ей к лицу голубоватый мех
Порохового дыма. Ведь недаром
В боях руководит ее ударом
Тот юноша, что ближе всех
Который с ней, как с тополицей тополь,
Лихой, веселый, грозный Севастополь.
Любимые, родные города.
Вас только двое на просторах Крыма,
Но вы сражаетесь неукротимо,
И вами наша родина горда.
И гвардия, рубясь в огне и дыме,
Как знамя, подымает ваше имя.
Нет пары обаятельней, чем вы.
По всем краям, по всем раздольям мира
Вы стали, как трагедия Шекспира,
Эмблемою отваги и любви —
И молодость клянется величаво
Дружить, как Севастополь с Балаклавой.
Так пусть же эта песня долетит
До ваших губ, и боевою службой
В огне оберегает вашу дружбу,
Как вашу силу — орудийный щит.
Держитесь гордо. Никогда Россия
У недруга пощады не просила.
* * *
Лидице. В Военном энциклопедическом словаре о ней написано: «Горняцкий поселок в Чехословакии, в 16 километрах северо-западнее Праги, уничтоженный немецкими фашистами 10 июня 1942 года. Жители Лидице были обвинены в причастности к покушению на шефа протектората Чехии и Моравии Р.Гейдриха. Мужчины Лидице были расстреляны, женщины и дети отправлены в концлагеря, поселок сожжен». Об этой трагедии мы сразу же узнали. Поздно вечером Илья Эренбург показал мне сообщение, в котором рассказывалось, как фашистские изверги расправились с мирным чешским поселком и его жителями. Илья Григорьевич просил оставить в номере 70-80 строк. Через час он принес свою статью. Вот строки из нее, пылавшие ненавистью к гитлеровским палачам:
«В Чехии немцы снесли с лица земли город Лидице... Германский протектор подписал указ: «Название Лидице навеки вычеркнуто из всех регистров».
Но вот по Праге идут немецкие палачи, и на всех дверях видят одно слово: «Лидице, Лидице, Лидице». В тот час, когда немцы жгли несчастный город и закапывали тела расстрелянных, миллионы чехов дали обет: «Палачи будут наказаны». Германия не забудет слово «Лидице». Это слово отныне бессмертно. С ним на устах будут люди сражаться. С ним будут судить. С ним будут карать...
У нас есть свои Лидице: Минск, Киев, Феодосия. Одесса. Мы ничего не забываем... Мы не забудем о слезах русских женщин. Мы не забудем о слезах матерей других народов. Чешские матери, мы вспомним и ваши слезы. Мы еще не раз скажем немецким палачам: «Вот вам — за Лидице!»
С этого дня на всех наших фронтах и Лидице стало символом беспощадной мести немецким фашистам...
* * *
# А.Толстой. Вера в победу // "Красная звезда" №143, 20 июня 1942 года
# Указ о присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-Воздушных Сил Красной Армии // "Красная звезда" №144, 21 июня 1942 года
# Н.Кузьмин. Воспитание любви к своему оружию // "Красная звезда" №140, 17 июня 1942 года
# И.Хитров. Некоторые вопросы вождения войск // "Красная звезда" №138, 14 июня 1942 года
# П.Коломейцев. Танковый бой // "Красная звезда" №141, 18 июня 1942 года
# И.Сельвинский. Севастополь — Балаклава // "Красная звезда" №140, 17 июня 1942 года
# И.Эренбург. Либице // "Красная звезда" №141, 18 июня 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 221-224
|
Метки: Давид Ортенберг Алексей Толстой газета Красная звезда июнь 1942 лето 1942 Илья Сельвинский |
Белоруссия ждет! |
 Действия мелких подразделений должны быть пронизаны огневой активностью, огневой дерзостью. Наш закон — первым обрушиваться на немцев градом пуль, стрелять раньше, чем враг успеет прицелиться. Всегда отвечать утроенной активностью на огневую активность немцев.
Действия мелких подразделений должны быть пронизаны огневой активностью, огневой дерзостью. Наш закон — первым обрушиваться на немцев градом пуль, стрелять раньше, чем враг успеет прицелиться. Всегда отвечать утроенной активностью на огневую активность немцев. П.Трояновский, "Красная звезда", СССР (№36 [5100]).
Статья опубликована 13 февраля 1942 года.
Штаб полка разместился в доме кузнеца Петра Калашникова. Было уже поздно. В просторной горнице собрались командир полка, комиссар, начальник штаба. Петр Тимофеевич, седой, но крепкий старик с живыми и выразительными глазами, угощал всех чаем и одну за другой рассказывал истории о пребывании немцев в этом селе.

Когда чаепитие уже близилось к концу, раздался стук в дверь. В горницу вошел делегат партизанского отряда, высокий сутуловатый мужчина с черной бородой, одетый в желтую деревенскую шубу, в лаптях и заячьем малахае.
— Николай, так ведь это ж я! — неожиданно воскликнул партизан. Он неловко взмахнул своими длинными руками и кинулся обнимать полковника.
— Так ведь это ж я, Николай, я — Павел!
Партизан Павел оказался родным братом командира полка. Он пришел откуда-то из-под Гомеля, чтобы восстановить контакт с наступающими частями Красной Армии. Принес с собой доклад о деятельности партизанского отряда. Принес брату два письма: одно от матери, Ольги Сергеевны, другое от сестры, Евдокии Васильевны.
Долго читал полковник эти письма. Ходил по комнате, потом опять читал.
— Прочитайте, товарищи, — сказал, наконец, полковник, подавая письма комиссару. Комиссар стал читать вслух. В горнице воцарилась полная тишина.
«Здравствуй, Миколенька, мой родной, соколик мой ясный! Взяла я карандаш в руки, а они дрожат, словно лист на ветру. Смотрю на белую бумагу и вижу тебя, моего любимого. Большой ты такой, высокий, с улыбкой своей. Поговорить хочется с тобой, дорогим моим соколиком. Боюсь, как бы слова мои не расплескались в слезах, как бы сердце мое не выпрыгнуло на этот лист. Жив ли ты, Миколенька мой? Течет ли в тебе кровь моя родительская?
Пишу и боюсь, дождусь ли от сынка известий? Но сердце как ни бьется, а подсказывает: пиши, Ольга, жив твой сын Миколенька, воюет он против врага проклятого и к тебе спешит. Радость и жизнь свою тебе несет. Да и Павлуша подбадривает: жив, говорит, Миколай, он не помрет ни в России, ни в Белоруссии. Не такой он у нас, чтобы от немца умирать. Вот я и пишу тебе.
Видишь, сынок мой дорогой, к делу никак не подойду. Много дум в голове. Да разве выложишь все на белую бумагу? Разве уместишь свое сердце на ней?
Жаловаться тебе на жизнь нашу или нет? Скажу, что чувствую. Нет у нас, Миколенька, жизни с самого того дня, как в деревню немец проклятый пришел. Слова родные с тех пор запретными стали, и учит нас немец каким-то дьявольским, непонятным словам. «Фуреру» какому-то молиться заставляют, говорят, что он самый главный ихний бог. Церковь развалили всю, на дрова растащили, вроде нет у нас лесу. Обобрали всех до последней ниточки. У меня из сундука платье подвенечное и то взял какой-то ирод ихний. Патефон еще осенью отобрали. Капусту взяли, картошку выгребли, хлеб утащили, корову увели, всех кур перерезали, двор разобрали. А зимой, узнав, что ты у меня полковник, хату сожгли и меня на улицу выгнали.
Выгнали, Миколушка, выгнали меня старуху, на улицу и велели жителям села не пускать меня: пусть, говорят, замерзнет, раз народила большевика.
Когда я услышала слова эти, сердце не выдержало. Пошла в комендатуру ихнюю и сказала: «Что, ироды, смерти моей хотите? Знайте, проклятущие, выживу и на снегу, и на морозе лютом выживу. Выживу, куда ни бросите. Не господский и не дьявольский мой род, чтобы снега или мороза боялся».
Комендант ихний ударил меня кулаком по лицу. Шибко, видно, ударил. Я упала, и что было потом, не помню. Лежу сейчас, Миколушка, у чужих на стороне. Болят кости мои, и ноги стали тяжелые, а руки дрожат. Дуньку нашу они опозорили на весь белый свет, и ходит она теперь инвалидом.
Вот тебе и жизнь наша, Миколенька. Если жив ты, родной, если цела в тебе кровь моя родительская, бейся с немцами, сокол мой, за всех за нас убивай их проклятых.
Знай, Миколушка, что мать твою родную разорили, кровь всю высосали из нее немцы. Не видать нам на Белоруссии жизни светлой, если не вернетесь вы, соколы красные.
Дошли до нас слухи, что где-то недалеко вы. Скорее, сын мой любимый, а то и матери родной не увидишь, и сестры не застанешь в живых. Шлю свой родительский поклон.
Мать твоя Ольга Сергеевна».
Комиссар прочитал второе письмо, от сестры полковника Евдокии Васильевны:
«Здравствуй, брат мой родной Николай! Пишу тебе это письмо, чтобы ты знал, что сделали немцы с твоей сестрой Евдокией. Пришли к нам в декабре три немца на квартиру. В первую же ночь самый главный полез на мою постель. Я ударила его по голове. Он что-то закричал по-своему двум остальным, и все трое набросились на меня. Мать хотела заступиться, а немцы заперли ее в подпол. Издевались надо мною немцы до самого утра. Два ребра сломали, левый глаз выбили. А утром чуть ли не голую выбросили на улицу.
Как буду жить дальше, не знаю. Руки бы на себя давно добровольно наложила, если бы не хотелось отомстить им, извергам. Вот немного поправлюсь, пойду в партизаны. Может, встретимся где в бою с тобой. Только не узнаешь ты меня, Николай!
Будь здоров и крепок, брат дорогой! Воюй смело. Ждем тебя в Белоруссию.
Твоя сестра Дуся».
Чтение закончилось. Прошло несколько минут, и тяжелая, гнетущая тишина не нарушалась никем.
Я не знаю, что ответил полковник матери и сестре на письма. Но я слышал, как полковник, прощаясь с братом, промолвил:
— Когда придешь, скажи, что скоро будем. Скажи, что русские не забыли своих братьев-белоруссов. Скоро увидимся...
Ты слышишь, Ольга Сергеевна? Русские идут тебе на помощь.
Ты слышишь, порабощенная Белоруссия?
Красная Армия вступила уже на землю белорусскую и идет вперед, опрокидывая врага! // Старший политрук П.Трояновский.
__________________________________
Следы фашистского зверя* ("Известия", СССР)**
К.Симонов: Это было на Гомельщине** ("Красная звезда", СССР)
**************************************************************************************************************************************************
Действовать смело и решительно. Настойчиво искать слабые места в обороне неприятеля, во всю силу бить по ним, прорываться быстрее вперед!
Боевые дела советских истребителей
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля. (По телеграфу от наш. спец. корр.). На берегу моря, в нескольких километрах от линии фронта, стоят новые советские истребители. Техники в последний раз пробуют моторы, оружейники заботливо осматривают пулеметы. Все в порядке. С командного пункта поступает разрешение на вылет, и вот одна за другой уходят машины в серое февральское небо.
Летчики авиачасти, которой командует полковник Юмашев, прославились многими боевыми подвигами.
Однажды три наших истребителя были атакованы двадцатью «Мессершмиттами». Казалось, исход боя предрешен. Но славные сталинские соколы не дрогнули. Первой же длинной очередью капитан Авдеев сбил один немецкий самолет. Потом весь в дыму и пламени упал другой. Его поджег летчик Филатов. Неравный воздушный бой продолжался 30 минут и закончился бегством немцев.
Еще более жаркую схватку пришлось немного позже выдержать старшему лейтенанту Алексееву. Во главе своего звена он прикрывал действия штурмовиков. Летчики успешно обстреляли скопления вражеской пехоты, разбомбили наблюдательный пункт противника и собирались уже возвращаться домой, когда из-за облаков выскочили 16 немецких истребителей. Старший лейтенант Алексеев мгновенно принял решение — атаковать! Три наших самолета смело врезались в самую гущу «Мессершмиттов». Не ожидая такой дерзости, немцы нарушили строй. Их атака сорвалась.
Советское правительство достойно оценило героизм и воинскую доблесть истребителей. Двадцать восемь летчиков полка награждены орденами Союза ССР.
МАСТЕРСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 12 февраля. (По телеграфу от наш. спец. корр.). Меткость артиллеристов части, где комиссаром тов. Комлик, известна по всему участку фронта, и этим они обязаны в первую очередь своим неустрашимым разведчикам.
Здесь каждая батарея имеет близко выдвинутый к переднему краю немецкой обороны наблюдательный пункт. Отсюда разведчики наблюдают за действиями противника, его артиллерией и минометами.
Специальные команды разведчиков выполняют наиболее ответственные задания. Ценные сведения о расположении огневых средств врага доставляют отважные разведчики под руководством сержанта Галкина. Не раз они скрытно пробирались в населенные пункты, занятые врагом, не раз приходилось им вступать в бой с фашистами. Но как бы ни были трудны условия разведки, бойцы всегда добывали нужные данные о противнике.
Особенно хорошо организована разведка в дивизионе, которым командует тов. Басков. Во время боя тов. Басков всегда находится на наблюдательном пункте в непосредственной близости к противнику. Он лично корректирует огонь батарей. Его дивизион известен в части исключительно точной стрельбой.
ШЕСТЕРО ПРОТИВ СОРОКА
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 12 февраля. (Спецкорр. ТАСС). Шестеро бойцов из отделения тов. Ухина отправились в разведку. На занятой неприятелем территории они попали в засаду. На них набросилось более сорока фашистов.
Выручили гранаты и штыки. Как град, посыпались гранаты в ряды наседавших фашистов. Потеряв с десяток солдат, они заметались по лесу. Тогда наши разведчики смело бросились на врагов со штыками наперевес и пробили себе дорогу.
Вышло победителем из схватки с численно превосходящим противником и подразделение тов. Любава. В результате пятичасового сражения фашисты потеряли свыше 100 человек убитыми и ранеными. С нашей стороны был только один убитый и семеро раненых. Бойцы и командиры дрались с исключительным мужеством. Младший командир Гранкин лично уничтожил 10 вражеских солдат. До 20 фашистов уничтожил пулеметчик Хайдар.
**************************************************************************************************************************************************
Красноармейская фото-газета
Редакция красноармейской газеты Северо-Западного фронта — «За Родину» начала издавать регулярно в качестве приложения фотогазету того же названия. За короткий срок вышло шесть номеров, каждый из которых посвящен определенной теме.
Большой интерес представляет №3 фотогазеты, рассказывающий о разгроме испанской «голубой» дивизии. Многочисленные яркие снимки, помещенные в номере, рисуют то, что сделали советские воины с хваленой дивизией испанских Фалангистов и охранников. Развороченные вражеские дзоты усеяны трупами гитлеровских наемников. Целые поля пестрят березовыми крестами. На заснеженной советской земле у древнего Новгорода нашли свою могилу фашистские убийцы.
Серия снимков показывает огромные трофеи, захваченные нашими войсками у «храбрых» франкистских вояк.
Над землею сосен и озер.
Сквозь глухие русские метели
Далеко пропел ночной мотор —
Это наши летчики летели...
Этими стихами поэта М.Матусовского открывается второй номер фотогазеты, посвященный летчикам Северо-Западного фронта. Здесь мы видим портреты лучших воздушных бойцов — комиссара эскадрильи Л.С.Чапчакова, имеющего 130 боевых вылетов и сбившего в воздушных боях лично четыре самолета и столько же в групповом бою; командира эскадрильи капитана В.А.Новожилова, совершившего свыше 40 боевых вылетов в тыл противника; стрелка-радиста младшего сержанта В.А.Литвина, награжденного за боевые подвиги орденом Красного Знамени, и других отважных сталинских соколов.
Весьма интересны и содержательны и все остальные номера фотогазеты, в частности №5, повествующий о несокрушимом единстве фронта и тыла.
______________________________________________
М.Лыньков: Точат топоры белоруссы ("Известия", СССР)
В.Радкевич: Витебск - город смерти* ("Красная звезда", СССР)
П.Трояновский: В белорусских лесах ("Красная звезда", СССР)**
П.Пономаренко: Белоруссия борется* ("Красная звезда", СССР)
Газета "Красная Звезда" №36 (5100), 13 февраля 1942 года
|
Метки: Белоруссия в ВОВ зима 1942 газета Красная звезда февраль 1942 П.Трояновский 1942 |
П.Павленко. Фронтовой день |
 Смело и решительно отражать контратаки врага. На каждый удар отвечать тройным ударом, беспощадно истреблять немецких захватчиков!
Смело и решительно отражать контратаки врага. На каждый удар отвечать тройным ударом, беспощадно истреблять немецких захватчиков!П.Павленко, "Красная звезда", СССР (№287 [5351]).
Статья опубликована 8 декабря 1942 года.
Глухая ночь в предгорьях, в тумане, в ветре, в мокром снеге, то холодная, почти морозная, то сырая, липкая. Вдали неумолкаемо грохочут пушки. Вдруг звуковая волна дальнего боя, метнувшись узким ущельем, врывается в долину с такою звонкою силой, что просыпаются селения вдали от фронта.

То падает снаряд двухсотсорокамиллиметрового орудия.
— Немцы прощаются с Владикавказом, — шутят бойцы.
По темным дорогам идут резервы, шумно шествуют жители освобожденных селений. Грохочут тягачи, вывозя немецкие танки, еще пахнущие гарью. Холодно и ветрено. Но у ворот, у темных стен притаились люди. Молча глядят они на проходящих бойцов. Только ребята, они, конечно, не спят, не в силах молча пережить торжество. Невидимые в темноте ночи, они вдохновенно орут:
— Осторожненько, товарищи бойцы. Тут заграждение.
— Правей, правей, товарищи. Тут ров.
Взято селение, вокруг которого развернулись ожесточенные схватки. Вот широкие улицы с одноэтажными домиками. Крыши домиков сбиты набекрень, как пилотки, стены пробиты, вырваны кусками, заборы разметаны, битая черепица хрустит под тягачами. Слышны удары молотков. Кто-то, не ожидая утра, чинит крышу. Кто-то, кряхтя, выбирает из-под обломков дома утварь. Бренчат тарелки. Чуть дальше, за селением, поле в сплошных воронках, словно распахано не продольными бороздами, а по какому-то новому способу — кружками. А селение, где был центр боя, лежит в развалинах. Случайно избежавшие немецкого ножа коровы ходят за бойцами и тупо тычут мордами в спины.
— Вот беда бедовая, — говорит часовой, — до чего меня этот скот замучил. Стоит мне слово сказать, как они все за мною — и коровы, и поросята, и гуси. Так и ходят следом, как за святым. И где население делось — не понимаю.
Но оно уже спускается с гор, оно идет, волоча на себе ребят и пожитки.
По дороге от селения к селению мы видим первые трофеи. Машины, танки, тягачи, орудия разбросаны, подобно убитым немцам, сначала поодиночке, потом группами, а дальше сплошными толпами, словно и они были охвачены паникой, как и люди.
У машин и танков уже хлопочут трофейщики, чертят мелом на бортах, какое куда везти, какое где ремонтировать, и разводят руками, браня на чем свет стоит шоферов, неизвестно когда успевших уже догола «раздеть» несколько вполне исправных машин.
В селении бойцы собирают тела убитых товарищей. Здесь сражался батальон войск капитана Тарана, в котором было много курсантов военных училищ из Владикавказа. Молодой лейтенант докладывает, что все тела собраны и сейчас начинается торжественное погребение.
— Все найдены?
— Все, товарищ капитан. Многих своих друзей узнал, — кусая губы, говорит лейтенант, быстро отдает честь и отходит, не успев удержать горячей слезы.
— Да, — задумчиво произносит капитан.
…Светает. Заря едва обозначается в небе, изодранном, как ветхое ватное одеяло. С Кавказского хребта валится облако за облаком, одно сея снег, другое кропя дождем, третье ведет за собой ветер, но небо светлеет, оживает долина. Звуки «Интернационала» торжественно и грустно звучат в разрушенном селении, у братской могилы. Никогда, может быть, не будет описан во всей своей грозной силе торжественный обряд боевых похорон. В нем нет ничего внешнего и он прост, но люди, совершающие его, полны такого сурового волнения, которое никогда не забудется, сколько бы ни жить.
А впереди второе селение и та же картина дикого разорения. По долине, усиливаясь и затухая, разносится грохот продолжающегося сражения. Пулемет, работающий за несколько километров, слышен, будто он строчит в трехстах метрах. Горы гулко отбрасывают в долину тяжелые обвалы артиллерийских залпов.
Дорога от мутно-зеленого Терека, яро грызущего камни, уходит на север, по линии фронта. Здесь жизнь тоже движется к западу.
Курган с пулеметными гнездами, блиндажами, окопами. Рядом свежая могила с красной пирамидкой и звездой на ее вершине. Чуть дальше еще не зарытые трупы немцев. Горит костер. Четверо бойцов разогревают консервы.
— Чего не зароете?
— Подождут, не хочется падалью руки пачкать, — говорит один.
Другой, улыбнувшись, машет рукой:
— Нам их зарывать, да зарывать, работы хватит. Хочут срочно, так нехай сами себе могилки приготавливают.
Дорога медленно поднимается к горному хребту. Здесь стоят бойцы одной части, не принимавшие участия в непосредственном сражении у Владикавказа. Они решали местные задачи, сковывая противника. Но бой, происходивший так близко от них, бой, решавший судьбу зимней кампании на Кавказе, касался и их. Они дрались с воодушевлением. Рота старшего лейтенанта Коршунова в день разгрома немцев у Владикавказа взяла тактически важную высоту. Ночью бойцы проделали ходы в проволочном заграждении и на рассвете внезапно атаковали высоту с фланга и перекололи до полусотни гитлеровцев.
Сюда донеслись первые вести об успехах вокруг Сталинграда. И здесь никто не хочет сидеть сложа руки.
Снова селение. Бои несколько откатились от него на запад, но немцы продолжают обстреливать селение. Осетины-колхозники, не глядя на обстрел, работают на полях.
Председатель колхоза Хетагуров — культурный, вдумчивый человек, с обстоятельной речью, так характерной для осетина, говорит твердо, глядя своими острыми, зоркими, широко раскрытыми, как у птицы, глазами:
— Он нас обстреливает, а мы назло ему работаем. И когда он ближе был, мы тоже работали. Мы были уверены, что в нашем селении немец не будет. У нас никто не эвакуировался. Если бы немец вошел, так нас не было бы. Все легли бы как один.
Бойцы части, защищавшей селение, здороваются с Хетагуровым, как со старым знакомым. Колхоз кормил бойцов овощами и помогал им, чем мог. Колхоз создал что-то вроде фонда для приезжающих, кормит раненых и едущих на передний край, в колхозе всегда найдется койка в теплой, чистой сакле.
— Пощады немцам от осетин не будет никакой, — говорит Хетагуров. — Многие об’явили кровную месть немцам. Поклялись по адату, что будут мстить за кровь близких. А для горца клятва — великое дело.
В ингушских селениях говорят: «Если не омою кинжал немецкой кровью, то не мужчина я». Или так: «Шести немцев кровь пролью за раненого брата. Трех немцев кровь — за разрушенный дом. Трех немцев — за родное селение. Без двенадцати мертвых немцев — быть мне без чести, без имени».
Отряды осетин-добровольцев сражаются по всем традициям горской доблести. Подходят добровольцы из Дагестана. Они спустились с гор, которым еще ничто не угрожало, в поисках воинской славы. Опоясались шашками партизаны времен двадцатого года, дравшиеся под водительством Махача Дахадаева, знавшие Уллубия Буйнакского. Теперь они идут на помощь Сунже и Тереку. На ночевках бойцы подстилают себе сырую солому, а винтовки укутывают в сухие бурки, точно ребенка, и еще прикрывают их своим телом от ночной сырости. Они знают, что такое оружие, они владеют им с детства.
К вечеру неожиданно проясняется. Звезды одна за другой вспыхивают в небе. В воздухе появляется авиация. Самолеты идут низко, летят над самыми крышами, лихо переваливают через курганчики. А затем в небо протягивается сказочный фейерверк зеленых, красных и желтых трассирующих пуль. Медленные гейзеры взрывов встают десятками и сотнями, насколько видит глаз.
— Аккуратненько бомбят, будто вышивают, — говорит пехотный командир.
Теперь дорога вьется между гор. Похрустывает замерзшая грязь.
— Климат здесь разнообразный, — охотно сообщает регулировщик. — Полдень в поту, полночь в гробу. Днем загораешь, а ночью обмерзаешь.
И действительно так. С гор несется навстречу холодный, насвистывающий ветер. Ночь над горами. Фронтовой день на одном из участков Северного Кавказа закончился. // П.Павленко. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.
_______________________________________
Сыны Грузии на войне ("Правда", СССР)
И.Эренбург: Кавказ* ("Красная звезда", СССР)
*****************************************************************************************************************
235 лет военного госпиталя
Исполнилось 235 лет со дня основания Московского Коммунистического военного госпиталя, который назывался раньше Московским Генеральным военным госпиталем. Этот старейший в России госпиталь основан Петром I в 1707 году. Он является как бы родоначальником всех наших лечебных учреждений и первой медицинской школой.
Госпиталь начал свое существование в деревянных постройках, но уже в 1801 году было отстроено то великолепное здание, в котором он плодотворно работает и по сие время. В 1812 году госпиталь пережил нашествие Наполеона, но пожар Москвы не коснулся его. Известно, что французы использовали огромное здание госпиталя не для лечебных целей, а главным образом для постоя. В последующее время вплоть до наших дней в госпитале лечились больные солдаты и офицеры, а также раненые, эвакуированные с театров военных действий. Так, во время русско-японской войны 1904—1905 гг. через госпиталь прошло до 50.000 человек больных и раненых.
За 25 лет советской власти госпиталь неузнаваемо вырос как по масштабу своей работы, так и по оснащению новейшей медицинской техникой. Основной задачей его стало обслуживание квалифицированной лечебной помощью бойцов и командиров московского гарнизона. Одновременно госпиталь стал научной и консультационной базой для Санитарного управления Красной Армии. В частности, вся новая медицинская аппаратура испытывается в отделениях этого госпиталя.
К началу отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков госпиталь достиг особого расцвета, став образцовым военно-лечебным учреждением Красной Армии.
Были выстроены и введены в эксплоатацию новые корпуса, переоборудованы старые помещения, в отделении физиотерапии создан специальный бассейн с пляжем и горным солнцем. Учебная деятельность госпиталя расширилась настолько, что в его отделениях стали ежегодно совершенствовать свои знания сотни войсковых врачей и врачей запаса. Шесть работников госпиталя получили ученую степень доктора медицинских наук и 20 человек — кандидата медицинских наук.
Далеко за пределами округа стали известны имена таких врачей госпиталя, как доктор медицинских наук Злобин, доктор медицинских наук профессор Куликовский, профессор Березкин, доктор медицинских наук Краснов, кандидаты медицинских наук Макаренко, Гольдин, Васильев и многие другие. В период 1938—41 годов госпиталь достиг немалых успехов в лечении раненых бойцов и командиров, причем процент возвращения в строй оперированных равнялся 82,5.
За время отечественной войны в госпитале проведена большая работа по формированию всевозможных медицинских учреждений, куда выделялись лучшие кадры врачей и среднего медицинского персонала. Коечный фонд госпиталя значительно увеличился. Когда начались налеты вражеской авиации на Москву, уже был подготовлен ряд хорошо оборудованных подземных палат и отделений, которые вмещали почти всех раненых. Лечебная работа все время шла полным ходом, причем процент возвращения раненых в строй достиг теперь 83,8.
За 17 месяцев войны старейший в России Московский Коммунистический военный госпиталь возвратил в строй многие тысячи бойцов и командиров, получивших ранения на поле боя. Личный состав госпиталя, оснащенного передовой медицинской техникой, приложит все свои силы, знания и опыт, чтобы еще плодотворнее работать на благо доблестной Красной Армии, на благо любимой родины. // Бригврач А.Крупчицкий.
Вручение правительственных наград защитникам Ленинграда
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 7 декабря. (По телеграфу от наш. корр.). На-днях большой группе бойцов и командиров Ленинградского фронта вручены ордена и медали за образцовое выполнение боевых заданий командования. Капитан Данильченко получил орден Красного Знамени. Большинство своего времени этот штабной командир проводит в подразделениях, помогая им на месте в разрешении боевых задач.
Такую же награду получил капитан Мороз, проявивший большое мужество и умение при форсировании водного рубежа. На переправе, где комендантом был тов. Мороз, форсирование реки отличалось организованностью и быстротой, что способствовало успеху последующих боевых действий.
Ордена Красной Звезды вручены гвардии подполковнику Гордееву, подполковнику Седлецкому, майору Митрофанову, полковнику Сухиненко и другим командирам. Гвардии подполковник Гордеев и майор Митрофанов отличились умелой организацией артиллерийской разведки и борьбы с батареями гитлеровцев, которые обстреливают Ленинград.
*****************************************************************************************************************
ЖУРНАЛ "КРАСНОАРМЕЕЦ" №22
Вышел из печати №22 литературно-художественного журнала Главного политического управления Красной Армии «Красноармеец».
В номере помещены: статья академика Е.В.Тарле «Гибель наполеоновской армии в России»; рассказы: X.М.Мугуева — «В землянке», Ф.Панферова — «Рука отяжелела», П.Скосырева — «Я — русская», Б.Ямпольского — «На родном берегу», Л.Ленча — «Лесная царевна», Вяч.Шишкова — «Полет»; очерки: В.Бахметьева — «О страхе и бесстрашии», В.Якубовича — «Соломоновы острова», Л.Утесова — «Из фронтовых встреч»; стихи: Алымкул — «Тебе, народ!», Павло Тычина — «В бессонную ночь», К.Симонова — «Баллада»; продолжение приключенческой повести П.Шпанова «Тайна профессора Бураго».
________________________________________________
Б.Галин: На Тереке* ("Красная звезда", СССР)
От Орджоникидзе до Ейска* ("Известия", СССР)
К.Симонов: Обычный день ("Красная звезда", СССР)**
И.Эренбург: В горах Кавказа* ("Красная звезда", СССР)
Е.Габрилович, П.Трояновский: Сражение за Кабарду ("Красная звезда", СССР)
Газета "Красная Звезда" №287 (5351), 8 декабря 1942 года
|
Метки: декабрь 1942 зима 1942 газета Красная звезда битва за Кавказ 1942 П.Павленко |
18 октября 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
Эти дни были крайне тяжелыми для защитников Сталинграда. Врагу удалось на узком участке фронта прорваться к Волге в районе Тракторного завода. Как же объяснить, что несмотря на требование Ставки Верховного Главнокомандования наши войска не смогли остановить противника? Думаю, что описание событий последних дней нашими корреспондентами Высокоостровским и Коротеевым давало ответ читателям:

Вчера немцы, сосредоточив до двух пехотных дивизий и крупные силы танков, бросили их на Заводской район. Атаке танков и пехоты противника предшествовала исключительная по своей силе бомбардировка с воздуха. С утра в течение нескольких часов вражеская авиация, налетая эшелонами по 30-40 самолетов, бомбила наш передний край и всю глубину обороны вплоть до берега Волги, а также район переправ. Насколько ожесточенной была вражеская бомбардировка, можно судить по следующим цифрам. До пяти часов вечера на направлении главного удара противника отмечено свыше 1500 самолето-вылетов на участке фронта шириной в полтора километра и в несколько километров глубиной...
Вслед за бомбежкой немцы открыли массированный артиллерийский и минометный огонь. После этого противник двинул танки и пехоту. Танковые колонны немцев наступали на узком участке шириной не более полутора-двух километров. Они двигались в глубокоэшелонированном боевом порядке... Противник терпел большой урон, но вводил в действие все новые и новые силы. К вечеру, пользуясь численным перевесом, немцы сумели на отдельных участках потеснить наши части…
Причины, вынудившие наши части оставить свои позиции, понятны, но оправдывают ли даже такие причины отход? Как раз на эту тему у меня вчера был разговор с А.М.Василевским. Я допытывался, какой линии придерживаться газете в связи с известной директивой Ставки от 5 октября, требовавшей во что бы то ни стало удержать Сталинград?
— Конечно, — сказал Александр Михайлович, — объяснение есть и оправдание есть. У немцев огромное численное превосходство. Они идут на любые потери, чтобы в ближайшие дни закончить операцию. Наши люди дерутся днем и ночью, самоотверженно, но сил пока не хватает. В некоторых батальонах осталось по нескольку десятков человек. Но директива Ставки остается в силе — вот вам и линия…
А когда я вернулся в редакцию, в репортаже сталинградских корреспондентов, поставленном уже в полосу, сменил, как это было и в кризисные дни битвы за Москву, информационный заголовок «В районе Сталинграда» на призывный: «Отбить новые атаки немцев на Сталинград!» И дописал концовку:
«Сейчас идет решающий бой за Сталинград. Мы должны отстоять город во что бы то ни стало. Больше стойкости, упорства, умения маневрировать — и новые яростные атаки врага будут отбиты».
Уже названы имена многих героев Сталинграда. Вот и сегодня в газете опубликован большой, трехколонный, очерк о бронебойщике Громове. С ним я познакомился во время своей поездки в Сталинград. Были мы тогда с Петром Коломейцевым в одном из батальонов на окраине города. Комбат все нахваливал Громова, советовал побывать у него. Нашли мы его в землянке, вырытой в глубоком овраге, где отдыхали после боя расчеты противотанковых ружей. Сорокалетний Громов, в прошлом пахарь одного из подмосковных колхозов, с загорелым, тронутым морщинами лицом и светлыми желто-зелеными глазами наше появление, как нам показалось, встретил без каких-либо эмоций. Что ж, пришли, так пришли.
Сидим мы с Громовым на пожухлой траве у входа в землянку и беседуем. О жизни, о немцах, а больше всего о боях. Но разговорить его мне не удается. Он все отвечает односложными фразами: «Ну, подошел танк... Смотрю — ближе... Я стрельнул раз — не горит... Стрельнул два — зажег...» Мучил я бронебойщика, сам мучился, но больше ничего выдавить из него не смог. Можно было, конечно, написать небольшую заметку или корреспонденцию, но чувствовалось, что перед нами интересный человек, со сложным характером и дела его незаурядные. О нем не заметку писать надо.
Здесь, в Сталинграде, наш корреспондент писатель Василий Гроссман. Дал я ему координаты батальона и попросил написать очерк о Громове. Целую неделю прожил он с бронебойщиками. Подружился с ними. Вошел в их семью как свой человек. И они открыли ему свои души. И вот очерк у меня — сверстанный, занявший три колонки до самого низа. Написан он был заразительно, страстно, с глубоким проникновением в психологию человека. Писателю удалось разговорить скромного и молчаливого бронебойщика. Вот выдержки из записанного им рассказа Громова:
«Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.
— Нет, какое там, испугался. Даже, наоборот, боялся, чтобы не свернули в сторону, а так — страху никакого... Пошли в мою сторону четыре танка. Я их близко подпустил — стал одну машину на прицел брать. А она идет осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать ее совершенно. Ну, дал я по ней. Выстрел из ружья невозможно громкий, а отдачи никакой, только легонько двинуло... А звук прямо особенный, рот раскрываешь, а все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И он погладил гладкий ствол своего ружья.
— Ну, промахнулся я, словом. Идут вперед. Тут я второй раз прицелился. И так мне это — и зло берет, и интересно, — ну, прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеется кто-то: «А вдруг не осилишь, а?» Ну, ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал! Прямо дух занялся: огонь синий по броне пошел, как искра. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой внутрь вошел и синее пламя это дал. И дымок поднялся.
Закричали внутри немцы, так закричали, я в жизни такого крику не слышал, а потом сразу треск пошел внутри, трещит, трещит. Это патроны рваться стали. А потом уже пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов! Я по второму танку дал. И тут уж сразу, с первого выстрела. И точно повторилось. Пламя синее на броне. Дымок пошел. Потом крик. И огонь с дымом снова. Дух у меня возрадовался... Всему свету в глаза смотреть могу. Осилил я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели он меня сильнее...»
Это был первый из тех очерков, которыми писатель открыл свой знаменитый сталинградский цикл. Занимавшие три, четыре, а порой пять колонок на страницах газеты, они стали, говорю без преувеличения, классикой фронтовой журналистики. Недаром многие из них перепечатывались «Правдой».
* * *
Савва Голованивский написал для нас два очерка. Один из них опубликован сегодня, называется «Презрение». Речь идет о презрении к гитлеровцам, попирающим все законы войны. Об этом уже не раз писалось, но в очерке Голованивского ситуация необычная.
Сержант Николай Краткий из Донбасса, конечно, понимал, что с врагом надо драться насмерть, но думал, что воин должен быть великодушен. С этими наивными для противоборства с немцами представлениями он и пошел на войну. А потом, когда стали наступать, перед его взором прошли ужасы немецких злодеяний. Но особенно сильный удар нанесли его душе изуверство и бесчинство гитлеровцев, не щадивших детей. То, что он увидел в одной деревне, так потрясло его душу, что он и места себе не находил. Все иллюзии в отношении «великодушного» врага исчезли, как дым.
Финал этого очерка такой:
«Он готовил немцу погибель сосредоточенно, обдуманно... Он стал заботиться о том, чтобы уложить немца одной пулей и обязательно в голову так, будто ему было жалко лишний раз продырявить его шкуру.
— Да ведь не на пушнину его сдавать! — говорили ему. — Можно еще дырочку сделать. Приемщик сам господь: не забракует...
За короткий срок набил он их 119 штук...»
А немного раньше был опубликован очерк Голованивского «Искупление мужеством». Рассказ о трусе, дезертире. Фронтовые законы беспощадны. Путь у труса был один — трибунал, но нередко ему давали возможность на переднем крае искупить свою вину, для чего и были приказом 227 созданы штрафные роты. Голованивский рассказывает, как, испугавшись танков, которые шли на его роту, Островский бросил ручной пулемет и бежал. А дальше события развивались по-другому, чем бывало в таких случаях.
Островский пришел в блиндаж к политруку и рассказал все, что с ним произошло. Политрук выслушал его, не стал долго расспрашивать, но сказал:
— Умри, но добудь! Понял?
Обошлось без штрафной роты.
Далее напряжение в очерке нарастало. Островский ищет свой пулемет, но не находит его. Он наткнулся на немецкий секрет, задушил часового и, захватив его пулемет, явился к политруку. Но этот трофейный пулемет оказался советским. И политрук ему сказал:
— Что задушил, это хорошо. А что противно было — это тебе наука. Если бы ты оружие не бросил, мог бы и пулю истратить. А так пришлось руки марать. Вот жаль только, что был у него советский пулемет: может быть, немало он перебил таких, как мы с тобой, из нашего оружия. Видно, какая-то сволочь бросила…
«Сволочь бросила»... Эти слова хорошо запомнил Островский. С того дня он сражался мужественно, и пошла о нем слава как об отважном воине, не знающем страха...
* * *
# Отбить новые атаки немцев на Сталинград! // "Красная звезда" №244, 16 октября 1942 года
# С.Голованивский. Презрение // "Красная звезда" №245, 17 октября 1942 года
# С.Голованивский. Искупление мужеством // "Красная звезда" №236, 7 октября 1942 года
# В.Гроссман. Первая встреча // "Красная звезда" №243, 15 октября 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 380-384
|
Метки: Давид Ортенберг осень 1942 октябрь 1942 газета Красная звезда 1942 |
10 октября 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
В жизни наших вооруженных сил произошло важное событие — опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии.

Прошло пятнадцать месяцев с начала Отечественной войны. В огне сражений закалились наши командные кадры. Война выдвинула огромный слой новых талантливых командиров, испытанных в боях и до конца верных своему воинскому долгу и командирской чести. Они приобрели значительный опыт современной войны, окрепли в военном и политическом отношениях. Отныне они могут и будут нести полную ответственность за все стороны жизни и боевой деятельности в войсках. Так объяснялось это решение ЦК партии.
Вспомним, однако, в какие дни был принят Указ о единоначалии. Он появился не под звуки победных фанфар. Наоборот, обстановка на фронтах была труднейшей, в памяти у всех приказ №227. И если в ту пору было установлено полное единоначалие, это не могло не быть принято нашими командирами как знак высокого доверия к ним партии и народа и вместе с тем — требование крепкой дисциплины, порядка, безоговорочного выполнения боевых приказов.
А как же комиссары? Было бы неправдой, если бы я сказал, что упразднение их должностей было для них безразличным. Но верные сыны партии, для которых главное — не должность, а партийный долг, они приняли Указ с глубоким пониманием своих новых задач. За ними осталось широкое поле политической работы, неразрывно связанной с боевой деятельностью войск.
Кстати, в Указе установлены для политических работников общие для всех командиров Красной Армии воинские звания и знаки различия. Это был первый шаг к унификации воинских званий в армии. Немало военкомов были переведены на командную должность.
Указу посвящена передовая статья «Полное единоначалие в Красной Армии». Есть в ней примечательное ленинское высказывание. Еще в 1920 году Ленин говорил, что наш военный опыт «подошел к единоначалию, как к единственно правильной постановке работы»... Есть в передовице слова, обращенные к политическим работникам: «Введение единоначалия не может и не должно привести к какому бы то ни было принижению уровня политработы в частях... В новых условиях поле деятельности политработников не суживается...» Есть слова, обращенные к командирам: «Непререкаемый авторитет командира, облеченного полновластием, дает ему в руки все возможности для выполнения своего долга перед Родиной».
Не могу умолчать об одном обстоятельстве, связанном с введением в июле 1941 года института военных комиссаров, а затем его упразднением. Как известно, система военных комиссаров, установленная в Красной Армии в годы гражданской войны, возникла на почве некоторого недоверия к командным кадрам, в состав которых были привлечены старые военные специалисты, не верившие в прочность Советской власти и даже чуждые ей. В Великую Отечественную войну, казалось бы, нет никаких оснований для подобного. Но среди других задач на военных комиссарах, как это было определено Положением, лежала в эту войну обязанность «своевременно сигнализировать Верховному Командованию и Правительству о командирах и политработниках, недостойных звания командира и политработника и порочащих своим поведением честь Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Скажем прямо, это было проявлением все той же подозрительности, которая дорого стоила в годы сталинских репрессий нашей армии: в конце тридцатых годов она была обезглавлена, лишилась многих прекрасных командиров и военачальников.
Вспоминаю такой эпизод. Подготовили мы передовую статью о введении института военных комиссаров. Принес я ее начальнику Главного политического управления Л.З.Мехлису. Он не только тщательно прочитал ее, но, по старой правдистской привычке, стал редактировать. Что-то поправил, что-то вписал, что-то вычеркнул. А вычеркнул он строки, в которых говорилось, что в отличие от функций комиссаров гражданской войны в обязанность комиссаров Отечественной войны не входит контроль над командирами. Конечно, этот абзац я написал по своей наивности. Но тогда я с недоумением посмотрел на Мехлиса. А он сказал: «Не будем утверждать, но и не будем отрицать это».
Спорить с ним я не стал. Знал, что Положение Мехлис собственноручно писал, поработал над ним и Сталин.
Жизнь показала, что с первых же дней войны это требование осталось на бумаге; наши командиры и политработники были достойны своего звания и берегли честь и достоинство Рабоче-Крестьянской Красной Армии! И не надо было «сигнализировать» о них «наверх».
* * *
Сегодня в спешном порядке пишутся несколько передовых статей на военно-тактические темы. Объясню, почему такая спешка.
Дня четыре назад, когда я в очередной раз зашел в Генштаб, к Бокову, он меня встретил возгласом:
— Хорошо, что ты пришел. На, возьми, — и протянул мне верстку, на которой был заголовок: «Боевой Устав пехоты». — Это тебе. Только что звонил Сталин и сказал, чтобы вы, в «Красной звезде», ее посмотрели.
Устав был составлен группой работников наркомата, набран и сверстан и в подготовленном для печати виде представлен Сталину. Прочитал ли Сталин его, заметил ли какие-то огрехи — не знаю, но он решил, что газетчики — люди дотошные, могут быть в этом деле полезны. Не исключено, что Сталин, читая или просматривая «Красную звезду», обратил внимание на выступления наших редакционных специалистов именно на тактические темы. Бывало даже, как мне рассказывали, что Верховный положительно отзывался о той или иной статье, которую успевал прочитать.
Словом, вернулся я в редакцию, собрал наших военных специалистов, рассказал о задании Сталина. Дело, конечно, важное, ответственное, и мы уж постарались. Были созданы три группы наших тактиков: Хитров и Коломейцев, Рызин и Дерман, Толченов и Король. Кроме того, группа стилистов и группа корректоров. Три дня и, можно сказать, три ночи мы читали и вычитывали верстку, «вылизывали», как говорят газетчики, каждую строку. Поправок у нас было много.
На четвертый день я пришел к Бокову, вернул ему верстку Устава, показал наши поправки и замечания. Он даже не успел внимательно все посмотреть, как раздался звонок Сталина. Он спрашивал, как с Уставом, когда вернут из редакции? Боков ответил:
— Редактор у меня. Принес Устав. Поправок много…
Не знаю всего, что сказал Сталин Бокову, но мне Боков объяснил: «Сталин рассердился, сказал, чтобы проверили, как это писали Устав, кто там его писал...» Чуть ли не потребовал, чтобы наказали виновных.
Не один день, считали мы, уйдет, пока обсудят наши замечания, поправят что надо, отпечатают... А нам, в редакции, чего медлить? Вот и сели наши работники за передовые статьи, посвященные разным разделам будущего Устава. Что-то оттуда взяли, что-то сами домыслили. Так появились такие передовицы, как, например, «Стиль работы командира», «Умело управлять огнем», «Боевые порядки в наступлении»... Одна за другой. А секрет их появления был, вероятно, известен только нам…
* * *
Я рассказывал, как Эренбург в своих ржевских очерках пусть косвенно, но подверг критике наших союзников за оттяжку открытия второго фронта. А сегодня готовится еще одна статья на эту тему. Называется она «Доктрина Дуэ и ее новые сторонники». Написал ее командующий войсками Московского фронта противовоздушной обороны генерал Д.А.Журавлев. Суть ее раскрывается в первых же строках статьи:
«Последнее время в английской и американской прессе усиленно дебатируется вопрос о перспективах ведения воздушной войны... Отдельные военные писатели и обозреватели пытаются изобразить дело так, будто воздушный флот является единственной силой, способной привести к победе в современной войне. Более того, некоторые из них договорились даже до того, что ударами с воздуха можно заменить наступательные действия сухопутных войск вторжения».
В статье приводятся убедительные факты, разоблачающие несостоятельность выступлений новоиспеченных сторонников доктрины Дуэ, в частности американского авиаконструктора Северского. Он подсчитал, что достаточно сбрасывать на германскую территорию ежедневно 12 тысяч бомб, и она будет сокрушена. Генерал Журавлев пишет, что именно такое количество бомб немцы имели возможность сбрасывать на Англию в 1940 году, однако не поставили ее на колени.
Еще более разительные примеры приведены по Сталинграду. Для того чтобы сломить сопротивление защитников Сталинграда, немцы обрушили на город огромные силы авиации. В отдельные дни число самолето-вылетов доходило до 2000. В целом город пережил бомбовые удары, равные не только налету 3000 бомбардировщиков, о которых говорил Дуэ, а помноженные трижды на три. И тем не менее это не решило судьбу сражения даже на таком ограниченном участке фронта. Сталинград продолжает мужественную борьбу.
Всей силой фактов и логики обрушился автор на последователей Дуэ, отрицавших необходимость создания сухопутного фронта в Европе. Правда, в статье нет этих слов. Но каждому ясно, что речь идет именно о втором фронте...
* * *
Неожиданно исчез наш корреспондент по Брянскому фронту полковой комиссар Павел Крайнов. Такие случаи у нас бывали. В августе прошлого года пропал спецкор но Юго-Западному фронту Теодор Лильин. Через неделю он обнаружился. Оказывается, корреспондент пробрался — первым из наших спецкоров — в Днепровские плавни к партизанам и прислал серию очерков о первых боях партизан в этом крае.
А вот теперь — Павел Крайнов. Появилась возможность, и он отправился к партизанам в Брянский лес. Немало материалов он прислал нам. Один из них так начинался:
«На партизанской легковой машине с разбитым стеклом и ободранными боками мы пробирались по проселочным дорогам и лесным просекам. Впереди слышится пулеметная и ружейная стрельба. Там шел бой...» Это — рассказ о бое партизан с карательной экспедицией немцев. До этого партизаны то пускали под откос поезда, то взрывали мосты или совершали набеги на вражеские гарнизоны. А сегодняшний бой — подлинное сражение по всем правилам военного искусства. Партизаны выиграли его. Каратели, оставив свыше семидесяти трупов, ретировались в свой гарнизон.
За год с лишним партизаны научились воевать! Об этом и повествует наш боевой товарищ Павел Крайнов.
* * *
# Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии // "Красная звезда" №239, 10 октября 1942 года
# Полное единоначалие в Красной Армии // "Красная звезда" №240, 11 октября 1942 года
# Стиль работы командира // "Красная звезда" №237, 8 октября 1942 года
# Умело управлять огнем // "Красная звезда" №238, 9 октября 1942 года
# Боевые порядки в наступлении // "Красная звезда" №241, 13 октября 1942 года
# Д.Журавлев. Доктрина Дуэ и ее новые сторонники // "Красная звезда" №240, 11 октября 1942 года
# П.Крайнов. Бои партизан с карательной экспедицией // "Красная звезда" №240, 11 октября 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 374-377
|
Метки: Давид Ортенберг осень 1942 октябрь 1942 газета Красная звезда |
Василий Гроссман. Семеро отважных |
 Упорно и настойчиво взламывать немецкую оборону. Артиллерийским и минометным огнем разрушать укрепления, уничтожать огневые средства и живую силу врага!
Упорно и настойчиво взламывать немецкую оборону. Артиллерийским и минометным огнем разрушать укрепления, уничтожать огневые средства и живую силу врага!Василий Гроссман, "Красная звезда" СССР (№67 [5131]).
Статья опубликована 21 марта 1942 года.
Семь наших летчиков вступили в бой с 25 немецкими самолетами. Все они люди разные. Командир эскадрильи капитан Еремин, стриженый под машинку, молчаливый, с темными серозелеными глазами, говорит мало и негромко. Саломатин — маленький, широколицый, коренастый, с вихрастой светлой головой, весел, разговорчив, шумлив. Мартынов — высокий, горбоносый ленинградец, с выпуклыми синими глазами зоркой птицы. Это он первым заметил вражеские машины над темным зимним лесом и показал крыльями «вижу противника». Его напарник, харьковчанин, старший сержант Король совсем еще молод, у него детские толстые губы и карие смешливые глаза. Он имеет 20 боевых вылетов. А бронзоволицый капитан Запрягаев летает уже 9 лет, совершил тысячи полетов, он штурман полка, он тренировал много десятков летчиков. Украинец Скотной говорит тихо, протяжно. У него всегда грустное, задумчивое лицо. Он сбил в этом бою «Юнкерс» и «Мессершмитт». Массивный, шире, выше всех москвич Седов. С него можно лепить статую летчика-штурмовика. Седов — плечистый, с крепкой, точно каменной шеей, большелицый, широколобый, вмещающий в большой груди и упорство бешеного азарта, гнев и радость воздушных битв на страшных скоростях и тонкое артистическое знание самолета. «Седов играет матчастью!» — говорят о нем. Он врезался на истребителе в шестерку немецких бомбардировщиков, стреляя из всех своих пулеметов, пушки, выбрасывая снаряды. Большие немецкие машины рассыпали свой строй и бежали. Немецкие летчики так растерялись, что не выпустили по Седову ни одной очереди со своих бомбардировщиков.

Да, все они очень разные, эти семь летчиков, вступивших в бой с 18 «Мессершмиттами» и 7 «Юнкерсами». Но всех их связывают великая общность, подлинное братство. Все они в прошлом рабочие. Седов работал в сборочном цехе автозавода имени Сталина, Скотной — на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, Запрягаев был электриком на фабрике в Кинешме, Мартынов работал на большом ленинградском химическом заводе. Они получили добрую рабочую закалку, познали прочность дружбы в большом общем труде.
Все они пришли в авиацию с производства и учились когда-то в аэроклубах.
Шесть из них блестяще кончили летные военные школы и стали инструкторами. Они превосходно овладели сложной техникой пилотирования. Может быть и седьмой, старший сержант Король, стал бы инструктором, но он окончил школу во время войны и сразу же пошел на фронт. Его первый боевой вылет был недалеко от Харькова. Как раз в том районе, где находилась его школа и где он совершал ученические полеты, там он напал на «Юнкерс».
За время войны они серьезно изучили противника, знают его тактику, его сильные стороны, его слабости, знают его психологию и мораль. Они знают, на какой высоте любят «Юнкерсы» ходить на бомбежку, знают, как строятся ударными группами «Мессеры», прикрывающие вхождение в пике, знают боязнь немцев перед лобовой атакой, их страх перед честным поединком, их неумение драться на горизонтали и на крутых виражах, их тактику «клюнуть сзади простачка», вцепиться зубами в раненого и бежать от сильного, их слабое товарищеское чувство, которое не выдерживает первого крепкого удара. Забыв о товарище, идущем в паре, немец бежит, уповая на скорость.
— Один на один я встречусь с любым немцем, пусть у него хоть два-три железных креста, — говорит Мартынов.
Но они знают и сильные стороны немецких летчиков и их машин. Пройдя жестокую школу войны, кровью и долгими боевыми трудами завоевали победу над 25 фашистами.
Что еще общего у всех летчиков — от молчаливого капитана Еремина, до веселого молодого сержанта Короля? Одно великое свойство сердца — отвага. Без отваги, без мужества бесполезны блестящая техника и знание противника, долгий опыт боев и суровая школа заводского труда.
В 13.00 все семь еще лежали на нарах в землянке командного пункта полка. Было жарко от железной печки, сухая солома казалась очень приятной наощупь, теплой, словно ее нагрело летнее солнце. В 13 часов 15 минут семь «Яков» побежали в клубах светящейся снеговой пыли по широкому полевому аэродрому. День был солнечный, но в воздухе стояла легкая дымка. Через 15 минут самолеты подошли к линии фронта. Перед ними был темный лес, на его фоне всегда плохо виден противник. Лейтенант Мартынов, шедший в левой паре с ведомым, старшим сержантом Королем, заметил выше леса, где фон обзора был уже белым, множество точек и сразу понял, что это самолеты противника. Одновременно с ним увидел черные точки и сержант Король. Они ему напомнили облачко комаров, вьющихся над болотом. Потом он решил, что эти черные точки — дымки разрывов зенитных снарядов, но в это мгновенье Мартынов вышел в голову группы и покачиванием крыльев сказал: «Вижу противника». Вся группа, ведомая Ереминым, двинулась на сближение с врагом.
Через несколько секунд наши истребители обрушились сверху на врага. «Юнкерсы» уже подходили к линии фронта, готовясь пикировать. На них-то пошел Седов, один против шести!
— Гляжу, — рассказывает Седов, — они уже над нашим войском, сейчас будут бомбить нашу пехоту. Дал полный газ и в лоб пошел. Их ведущий на меня тоже в лоб, ну, думаю, и взрыв сейчас будет! Не трогаю самолета, а сам выгнулся. Метрах в 20 он не выдержал, прыгнул в сторону, просвистел мимо. Я тут открыл весь свой огонь, прямым попаданием снаряда взорвал второго. Ох, и чувство это! Метров 25 не дошел до него, развернулся и опять общий огонь. Тут второе звено подходит. Я на них. Ведущий у меня под животом метра на два прошел, меня сильно подкинуло, волной, слон ведь! И второе звено рассыпал. Побежали они на север. Ну, думаю, раструсил я немцев, я ведь на них прямо с солнышка свалился!
Через несколько секунд Седов ушел в пике от 9 «Мессеров» и бросился на выручку Скотному.
Весь этот бой спаял еще сильнее семерку летчиков. Летчики Еремина ходят парами, и нет силы, которая могла бы разбить их дружбу. Много раз во время боя Мартынов вышибал из-под хвоста у Короля «Мессеров», вцепившихся в молодого летчика.
На протяжении всего боя семь товарищей десятки раз шли на выручку друг другу. Вот их дословные скромные рассказы об этом. Лейтенант Мартынов говорит:
— Вижу, «Мессер» вцепился в хвост Короля. Ну, думаю, сейчас свалит парня! Ринулся, вмиг включил сразу и пулемет, и пушку. Фриц отвалился от сержанта. Тогда я сразу вышел с боевым разворотом на «Юнкерса», дал по нему снаряд. А в это время в хвост Мартынова зашел другой «Мессер». На него бросился Седов и отогнал пулеметным огнем. Но через несколько секунд за Седовым увязались два «Мессера». Их увидал Саломатин. Я как заметил это, сразу пошел на них в атаку, дал две очереди из пушки и пулемета. Немец и задымил. А тут по мне фрицы открыли огонь. Мне осколком очки разбило. Спустя несколько минут Еремин вновь отогнал от Седова самолет противника. Скотной выбил из-под хвоста Еремина истребителя, но попал под жестокий огонь. Однако Седов спешил ему на выручку. Тут и я выбил двух «Мессеров» из-под хвоста у Скотного. У нас и получается, как цепь железная, — товарищ за товарища.
15 минут длился бой. 15 минут, когда любовь к своим братьям горела ярче солнца, а горькая ненависть к врагу могучей силой томила сердце и мозг. Эти 15 минут прошли — 18 фашистских машин бежали, 5 «Мессеров» и 2 «Юнкерса» кострами догорали на снежном поле.
Семь смелых летчиков победили! Победили умением, опытом, знанием. Победили своей львиной отвагой, своей любовью друг к другу, любовью к пехоте, которую прикрывали, любовью к великой стране и к святой свободе народа, за которую каждый из них готов в любую минуту отдать свою бесценную молодую жизнь. // Василий Гроссман. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, N аэродром.
**************************************************************************************************************************************************
Постоянная готовность всех средств к открытию огня — основа основ противовоздушной обороны. Встречать фашистские самолеты дружным огнем с земли!
Удары советских истребителей
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 20 марта. (По телеграфу от наш. корр.). Пять наших маневренных истребителей шли штурмовать вражеские танки, которые противник бросил в контратаку. При подходе к цели наши ястребки подверглись атаке 14 фашистских самолетов: пяти «Хейнкелей-113» и девяти «Мессершмиттов-109». Командир истребительной группы старший лейтенант Луганский решил принять бой.
Встреченные при своей первой атаке огнем наших истребителей, немецкие самолеты рассыпались в разные стороны, затем собрались и двумя группами снова пошли в атаку, имея превосходство в высоте. Теперь, они действовали попарно. Одна пара вела атаку в лоб сверху, вторая — справа сверху со стороны солнца и третья — слева спереди. Другие пять вражеских самолетов атаковывали сверху сзади. Три «Хейнкеля» прикрывали свою группу, находясь выше на 300 метров.
Намерения врага были ясны. Он стремился расчленить нашу пятерку, чтобы в бою с одиночными самолетами использовать свое почти тройное превосходство в силах. В эти минуты ожесточенного боя, отражая непрерывные атаки шести неприятельских машин, смертью храбрых погиб батальонный комиссар Новиков. Осталось четыре против немецких четырнадцати. Но наши истребители продолжали неравный бой. Затем они с боем стали отходить на свою территорию. В процессе отхода был подбит один «Мессершмитт-109». Он вышел из строя, сопровождаемый двумя «Мессершмиттами» и двумя «Хейнкелями».
К этому времени подоспела семерка таких же маневренных истребителей под командой майора Куракина. Прикрыв отход группы Луганского, обеспечив ей безопасную посадку на аэродром, Куракин повел своих летчиков в бой против шести «Мессершмиттов» и трех «Хейнкелей». Фашисты, заметив приближение семерки, ушли в сторону солнца, чтобы занять выгодное положение для атаки.
Бой разгорелся с новой силой. На этот раз враг производил атаки шестью самолетами, оставив три для патрулирования сверху. Фашисты явно стремились вести бой только по вертикали. Они атаковывали сверху, затем боевым разворотом снова уходили вверх для последующих атак. Наши летчики, используя маневренность своих машин, противопоставили этой тактике врага бой на виражах. Когда фашист, нападая сверху, старался зайти в хвост нашему истребителю, последнего немедленно выручал товарищ, заходя в хвост вражескому самолету и поражая его огнем.
Вскоре два фашистских самолета, получив повреждения, поспешно ретировались, а третий рухнул на землю. Заметив появление еще трех наших истребителей, на этот раз скоростных, остальные немецкие машины также покинули поле боя.
Эта воздушная схватка показала, что фашисты, используя особенности своих машин, стремятся вести бой только по вертикали. Попытки «Мессершмиттов-109» вступить в бой на виражах кончаются для них плачевно, поскольку наши ястребки обладают большей маневренностью.
На протяжении всего боя фашисты имели превосходство в силах и высоте. Однако лишь вначале, когда на одного нашего летчика приходилось почти три фашиста, им удалось сбить один самолет. В процессе же всего боя немцы потеряли 1 самолет и три их машины повреждены.
Отвага, взаимная выручка, искусный маневр обеспечили советским ястребкам успех в этой упорной борьбе.
Отвага старшего лейтенанта Харитонова
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 марта. (По телеграфу от наш. спец. корр.). Немцы основательно укрепили населенный пункт, превратив все дома в пулеметные и минометные дзоты. В деревню было стянуто до двух батальонов пехоты. Кроме того, фашисты замаскировали шесть средних танков.
Наша пехота совместно с танками дважды ходила в атаку, но успеха не имела: жестокий минометный и пулеметный огонь врага отрезал ее от танков. Наконец, в третий раз смешанная группа танков под командой старшего лейтенанта Харитонова ворвалась в селение с тыла. Курсируя по середине улицы, танкисты стали в упор расстреливать огневые точки врага и его живую силу.
Тов. Харитонов заметил один немецкий средний танк, который вел огонь из дома. Метко пущенным снарядом этот танк был подожжен. Внимательно присмотревшись к остальным домам, наши экипажи обнаружили еще пять немецких танков и немедленно стали бить по ним бронебойными снарядами. За короткий срок были уничтожены четыре фашистских боевых машины, а еще одна, подбитая танкистами, постаралась отойти в тыл.
Но вот в танке тов. Харитонова вышли все снаряды. Наша пехота достигла в это время окраины деревни и залегла. Старший лейтенант выскочил из танка и, приняв командование над ближайшей группой бойцов, повел их в атаку. Через некоторое время деревня была очищена от врага.
Во время последней атаки тов. Харитонов был ранен осколком снаряда в грудь, но он нашел в себе силы приказать экипажам, имевшим боеприпасы, чтобы они продолжали уничтожать бегущего врага. Танкисты уничтожили в этой деревне два противотанковых орудия, шесть минометов, пять средних немецких танков и скосили огнем десятки немцев.
________________________________________________
К.Симонов: "У-2"* ("Красная звезда", СССР)
С.Дангулов: Душа горца ("Красная звезда", СССР)
К.Симонов: Русское сердце* ("Красная звезда", СССР)
П.Павленко: Самолет двадцати четырех звезд* ("Красная звезда", СССР)
Сталинские соколы, крепче удар по ненавистному врагу!* ("Красная звезда", СССР)***
Газета "Красная Звезда" №67 (5131), 21 марта 1942 года
|
Метки: Василий Гроссман сталинские соколы весна 1942 газета Красная звезда 1942 советская авиация март 1942 |
Илья Сельвинский. Девушка из Крыма |
 Решительно подавлять сопротивление немцев. Искусным маневром, смелыми атаками беспощадно уничтожать живую силу и технику врага!
Решительно подавлять сопротивление немцев. Искусным маневром, смелыми атаками беспощадно уничтожать живую силу и технику врага!Илья Сельвинский, "Красная звезда", СССР (№288 [5352]).
Статья опубликована 9 декабря 1942 года.
Когда я думаю о том, что такое счастье, я вижу рыжие скалы в чёрных соснах и между ними в расселине — синий-синий треугольник. Крымское море… Милое Крымское море! Бывают дни, когда вода его кажется воздухом, и тогда хочется глубоко, до боли вдохнуть, чтобы насытиться его голубизной и самому стать немножко морем.

Такой именно день был тогда, когда Феодора Барыбкина, капитан Сидоров и боец, имя которого до нас не дошло, уходили из ущелья в горы. Они взошли на вз’ерошенный валун, изрытый железистыми подтёками, — и пред ними во весь свой рост поднялось море. Но Феня не испытывала счастья. Напротив, вид этой умиротворяющей синевы, которая баюкала ее детство, болью отдался в ее сердце. Неужели она никогда больше не увидит моря? Нет, не вообще моря, а вот этого, своего, крымского.
Капитан хромал. Он говорил, будто натёр ногу, но было ясно, что он ранен. Останавливаться некогда. Немцы прочёсывали ущелье. Солдат от солдата шёл на расстоянии 10 метров. Они придерживались этой дистанции с невероятным упрямством. Стоило кому-либо из них отстать или отделиться, как лицо его обезображивалось страхом: отделявшиеся пропадали, и потом их находили мертвыми.
Партизанский отряд, действовавший в ущелье, рассыпался. Немцы образовали ряд петель, и одна из них захлестывалась вокруг Фени и двух ее товарищей. Оставался один выход: к морю. Иначе говоря, положение было безвыходным.
Скалы подошли к обрыву. Глубоко внизу бежала сизая асфальтовая дорога. Впереди золотился пляж с красноватыми зализами от набегавшей зыби. И, наконец, голубое дыхание, тающее, снящееся, влекущее душу — море.
— Дальше некуда, — сказал капитан, обернулся к ущелью, лег на живот и стал прилаживать свой ППД.
Боец опустился по правую от него сторону, Феня — чуть левее и ниже.
— Биться будем до последней пули, — снова сказал капитан, ни к кому не обращаясь.
— А потом?
— А потом каждый сам себя.
— Значит до предпоследней?
Капитан поглядел на Феню вполглаза:
— Эх ты, учительша. Всё бы тебе точность.
Выстрелы приближались. Осенние деревья стали быстро и как-то наспех осыпаться. Подстреленные листья дубов и буков падали почти не кружась. Некоторые были еще почти зелены — пятна охры и киновари на них казались кровью. Вот шевельнулся большой, пышный, еще полный сил и соков куст, похожий на взрыв зеленой бомбы. Капитан выстрелил. Кто-то охнул, кто-то выбранился по-немецки. Феня ударила по этому голосу. Ломая сучья, из кустов вывалилась чья-то расстрелянная туша в голубо-сером мундире. Все трое в ту же минуту стали обстреливать куст по всем направлениям. Тишина. Ответных выстрелов не было. Но не было уже и покоя. Все деревья и кусты казались маскировкой. Они сами были теперь врагами, потому что за ними прятался враг.
Феня взглянула на руку. Часы показывали без десяти четыре. Минут десять я еще проживу… Ну, а пятнадцать? Может быть и пятнадцать? А двадцать? Но уже тридцати не будет. Это уж наверно. Никогда больше не будет тридцати. Как странно. Она уже никогда не увидит, как вот эта большая синяя стрелка опустится на цифру шесть. Боже мой, скоро она станет трупом, а часы на руке все еще будут тикать. Вот эти самые часы. Мертва. Застрелена. Труп. Скажите пожалуйста, где Феня Барыбкина? Феня Барыбкина умерла. Где-то в Крыму умерла Феня Барыбкина.
И вдруг это имя показалось ей далёким, чужим, лишённым всякого содержания. Вот так. Хорошо. Так уже легче. Надо много раз повторять: Феня Барыбкина, Феня Барыбкина, тогда будет казаться, что это не она, это кто-то другой, чужой. Это какая-то другая, чужая Феня, но не эта, не я. Ой, господи! О чем я думаю, как не стыдно. Наверное, в таких случаях настоящие люди думают совсем, совсем по-другому…
Немцы стреляли, лезли, падали, опять стреляли, опять падали. Феня прожигала их узкой струйкой горячего металла. Стиснув до голубизны белые крепкие, девичьи зубы, зажмурив левый глаз, она вся ушла в свою последнюю трудную и упоительную работу. Один! Другой! Третий! Так его, так его! Щеки ее горели, руки пылали, каждый нерв жил битвой. Вдруг где-то очень близко от нее, почти рядом, грохнул выстрел. Он показался ей пушечным. За ним тут же другой. У нее заложило в ухе. Почесать некогда. Феня сделала глотательное движение, пузырёк воздуха лопнул, она снова стала слышать. В ту же секунду девушка почувствовала, что на правой щеке у неё сидит большой шмель и перебирает лапками. Она сделала гримаску, надеясь, что он слетит. Шмель держался цепко. Тогда она смахнула его рукой, но шмеля, оказывается, и не было: она поглядела на пальцы — кровь. В то же мгновение слева в нижней челюсти она ощутила как бы лишние зубы. Они царапали язык. Она хотела раскрыть рот и потрогать их пальцем, но челюсть не поддалась. В ужасе оглянулась на капитана. Он лежал лицом вверх, как всегда спокойный и строгий. Во лбу его курилась маленькая черная дырочка, окруженная ожогом.
Феня поняла всё. Но тут же её обожгла мысль: а что же с третьим? Она глянула повыше: бросив винтовку и подняв вверх руки, он — предатель — шел к немцам.
Феня слышала, как немцы переговаривались с ним, улавливала отрывистый голос пленного, отвечавшего на вопросы. По мелким шорохам и листанью она догадалась, что они просматривали у него документы. Затем послышались крупные солдатские шаги. Ближе, ближе. Один из гитлеровцев подошел к трупу капитана и на всякий случай выпустил в него два заряда: один в живот, другой в ногу. Затем он повернулся к Фене. Она затаила дыхание. Фашист постоял над ней в раздумьи, потом медленно провел по ее телу от горла и до колен ложем своей винтовки. Феня потеряла сознание.
Очнулась она от дикой боли в челюсти. Язык разбух и подпирал нёбо. Она могла дышать только носом. Вторым ощущением была обнаженная грудь. Кто-то обыскал ее и унес бумаги. Она осторожно оглянулась. Никого. Капитан лежал теперь на боку. А где же боец? Ах, да, изменник! Феня вдруг с ужасом поняла, что он на допросе может выдать явки партизан. Может быть, уже выдал. Надо действовать. Но как? Потеря крови была обильной. Сердце едва билось. Который час? Но часы стояли. Феня чувствовала, что малейшее усилие, и она снова потеряет сознание. Но надо же спасти товарищей! Жить ей осталось недолго. Ну что ж. Она… она… сделает… сделает все, что можно.
Рядом с ней на траве лежала ее карточка. Маленькое фото для удостоверения. Очевидно, выпала из блокнота. Феня подползла к ней, затем, вынув патрон и обмакнув его в собственную рану, написала на обороте: «Один сдался, измените явки Феня». Потом попыталась встать. Это был чудовищный, почти невыполнимый труд. Но явки должны быть изменены — и она встала.
Феня бежала от дерева к дереву. Дерево было ее опорой. Дерево же было и прикрытием. Каждый метр от дуба к дубу казался ей милей, но она бежала. Ибо, если не бежать, то можно свалиться, а валиться надо только на что-либо вертикальное, на дерево, потому что лучше много и долго бежать, чем, один раз упав, подниматься.
О, подыматься! Она никогда не думала, что это такая сложная работа. Ей стало странно от сознания, что она миллионы раз в своей жизни подымалась с земли, с пола, с постели и даже не замечала этого. Иногда ей казалось, что она больше не выдержит, что лучше свалиться, упасть и так остаться навеки. Умереть, ведь это же все-таки много лучше, чем бегать. В таких случаях она говорила себе, что добежит только до того дерева, которое с дуплом. И бежала. Потом она убеждала себя добежать только до того, на котором птица. Нет, нет — не дальше! Только до птицы. Но за птицей намечалось новое… И она снова, снова бежала, бежала. Но когда сил уже не было вовсе, решительно, окончательно, и не спасали ни дупла, ни птицы, тогда Феня поворачивала голову к югу и видела море. Но про это нельзя сказать «видела». Она всасывала его голубизну в синие свои глаза, как умирающие от жажды сосут из ручья воду. И ей казалось, что морская сила наливается в её жилы, что это синее пламя заменяет ей кровь, — и она снова бежала. От дерева к дереву. И от дерева к дереву шло рядом с ней море. Ее милое крымское море.
Куда же стремилась Феня Барыбкина? Чего искала? Искала она бук. Но не простой. А такой бук, знаки которого говорят о нем, как о почтовом ящике. Трое суток искала она заповедное это дерево и нашла его. И спрятала наконец в условленной щели под корнем свою фотографию с кровавой припиской.
Когда в человеке живет подлинное сознание ответственности, он способен на неслыханное. Сама смерть не в состоянии его осилить. Безногие ползут через холмы и овраги, безрукие плавают по-змеиному, переплывая речки, обескровленные бегают от дерева к дереву трое суток. Но, когда долг выполнен, тогда вместе с тяжестью, свалившейся с плеч, улетучивается и та таинственная сила, которая вела людей долга к их цели.
Феня спрятала свое фото в щель. Больше она ничего не помнит.
Боевой самолет, поджав орлиные свои лапы, перелетел из Кавказа в Крым. Партизаны уложили Феню поудобнее, простились с ней со всей той огромной нежностью мужчин, которая только и возможна в суровых сердцах на фронте. И вот Феня на Большой Земле.
— О чем вы сейчас мечтаете, Феня? Она не ответила. Только подняла на меня глаза — и я увидел в них милое. трепещущее бликом, тающее, снящееся, похожее на воздух, на свет, на теплоту — море. // Илья Сельвинский. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
____________________________
Злодеяния немцев в Крыму* ("Правда", СССР)**
Симферополь, Ялта, Евпатория* ("Красная звезда", СССР)**
**************************************************************************************************************************************************
ЗЕМЛЯ МОЯ!
О родина былин — земля моя!
Народ твой — исполин, земля моя!
Ты — мать, а я твой сын, земля моя!
Прекрасней нет долин, земля моя!
Родная! Чем бежать, забыв борьбу,
Чтобы враги, сойдясь со всех сторон,
Спешили превратить тебя в рабу,
Последний я в ружье вложу патрон.
Как бьется за свое гнездо орел,
Так буду за тебя сражаться я!
Я кровью напою твой каждый дол,
Умру, обняв тебя, земля моя!
Чем дать врагу топтать траву твою
И с робостью глядеть на твой позор,
Пусть лучше смерть сразит меня в бою,
Чтоб спать мне на груди родимых гор.
Чем чувствовать в груди стыда огонь
И звать тебя чужой, моя земля, —
Пусть мой остывший труп растопчет конь,
Пусть кровь моя зальет твои поля!
Чем в ужасе бежать от тех зверей,
Что, задушив дитя, терзают мать,
Я мертвым храбрецом хочу скорей
На бурке боевой своей лежать.
Чем знать, что упадет на труса след
Холодная слеза из детских глаз,
Прощальный пусть они пошлют привет
Тому, кто пал в бою за свой Кавказ.
Чем слушать, затаив в душе позор,
Знакомый, гордый шум орлиных крыл,
Хочу, чтобы орел, владыка гор,
Крылами точно брат мой прах накрыл.
Когда б мне на Эльбрус глядеть пришлось,
В плен голову его отдав врагу,
Уж лучше б прядь густых моих волос
Бураном занесла зима в снегу.
Как жить мне без тебя, седой Казбек,
Без узких горных троп страны родной,
Без милых сердцу скал и бурных рек!
Как позабыть Баксан и Терек мой.
Орлы Кавказа, с кем дружить без вас!
Родные пляски, как прожить без вас!
Друзья мои! Кому служить без вас
И голову за что сложить без вас?!
Чем родину предать врага мечу
И на коленях жить — уж лучше я,
В сраженьи за тебя упав, хочу
Спать мертвым на тебе, земля моя!
Кайсын КУЛИЕВ
Перевод Дмитрия Кедрина.
________________________________________________
И.Уткин: В Брянских лесах* ("Известия", СССР)
В.Коротеев: В Брянских лесах ("Красная звезда", СССР)
В.Ильенков: Партизаны Подмосковья ("Красная звезда", СССР)
Стойкость и отвага советских партизан ("Красная звезда", СССР)
Крепче удары по оккупантам, товарищи партизаны! ("Известия", СССР)***
Газета "Красная Звезда" №288 (5352), 9 декабря 1942 года
|
Метки: декабрь 1942 зима 1942 газета Красная звезда советские партизаны 1942 Илья Сельвинский |
19 мая 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
Наступление на Харьковском направлении продолжается. Наши спецкоры вновь сообщают об усиливающемся сопротивлении противника. Он подтянул авиацию, танки, корпусные и армейские резервы, беспрерывно контратакует. Командующий 38-й армией К.С.Москаленко, рассказывая о Харьковском сражении, в котором он принимал участие, вспомнил реплику бойцов, метко оценивавших обстановку тех дней:

— Ожил проклятый фашист, перезимовал…
Когда сдавался в набор «В последний час», в Генштаб пришло сообщение, что накануне из района Краматорска противник неожиданно нанес удар по нашим войскам и продвинулся километров на двадцать. Не мог я тогда знать, чем все это угрожало, да и в самой Ставке не все было ясно. Военный совет Юго-Западного фронта по-прежнему оценивал обстановку оптимистически. И все же мы убрали излишне радужные эпитеты, заменили заголовки репортажей на более соответствующие реальной обстановке. Решили не давать общего обзора хода боевых действий, пока ситуация не определится.
Михаил Розенфельд в своей новой корреспонденции продолжает описание боя за крупную железнодорожную станцию, которую мы обозначили, по понятным причинам, буквой «Н». Называлась корреспонденция «Последние дни 208-го немецкого полка» — заголовок точно раскрывает ее содержание.
По-соседству с Розенфельдом на газетной полосе — фоторепортаж Михаила Бернштейна. Один из первых снимков, которые он прислал и которые были опубликованы в газете, — длинная шеренга пленных…

В эти дни опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Отечественной войны. Даем статут и описание ордена. Почти целую полосу заняло перечисление, за какие именно подвиги награждаются этими орденами. Например, за определенное количество сбитых самолетов, потопленных кораблей, уничтоженных танков и орудий противника... И даже за такие, вполне конкретные боевые успехи: «Кто сумел восстановить поврежденный самолет, совершивший вынужденную посадку на территории противника, и выпустить его в воздух», «Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его» и др. Словом, высокой наградой отмечались за самые разные проявления отваги и мужества, что не могло не воодушевлять наших воинов. К тому же это был первый орден, остававшийся в семье погибшего.
Конечно, на Указ мы откликнулись прежде всего передовой статьей. Автор этой передовой в библиотеке имени В.И.Ленина раскопал документ времен гражданской войны — памятку в связи с учреждением первого советского ордена «Красное Знамя». В памятке говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс как достойнейший и как лучший из них; что своим поведением он должен всегда и везде, во всякое время являть пример сознательности, мужества, преданности делу Революции. Он должен помнить, что на него смотрят другие как на образец, что по нему учатся бескорыстному исполнению долга, что то Красное Знамя, символ которого он носит на груди, дорого для всего пролетариата как знамя, пропитанное кровью рабочего класса и крестьянства».
Мы привели эти слова в передовице и сказали, что и новый орден обязан быть для нас таким же дорогим и каждый, кто будет им награжден, должен достойно носить его на груди…
Кстати отмечу, что статута строго не придерживались, и вполне справедливо: разве можно (да и надо ли было) уложить в параграфы бесчисленные подвиги, совершаемые нашими воинами?!
***
# М.Розенфельд. Последние дни 208-го немецкого полка // "Красная звезда" №116, 20 мая 1942 года
# ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ // "Красная звезда" №117, 21 мая 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 193-194
|
Метки: Давид Ортенберг май 1942 весна 1942 газета Красная звезда |
Новые зверства фашистов в Киеве |
 Готовность каждой артиллерийской точки отразить танковую атаку, откуда бы она ни производилась, имеет огромное значение для исхода боя. Эта готовность достигается отлично поставленным наблюдением за полем боя и своевременной сигнализацией танковой опасности.
Готовность каждой артиллерийской точки отразить танковую атаку, откуда бы она ни производилась, имеет огромное значение для исхода боя. Эта готовность достигается отлично поставленным наблюдением за полем боя и своевременной сигнализацией танковой опасности."Красная звезда", СССР (№116 [5180]).
Статья опубликована 20 мая 1942 года.
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 19 мая. (Спецкорр. ТАСС). Вырвавшиеся из Киева советские граждане рассказывают о новых фактах фашистских зверств, Цветущий город превращен немцами в мрачный застенок. Дымом пожарищ веет от целых кварталов. На площадях и в парках — виселицы. Скверы срублены на дрова. Прохожих на улицах мало. В городе массовая нищета. Матери бродят в тщетной надежде добыть что-нибудь с'едобное для детей. Купить нечего, никакой работы нет. Немцы открыли «биржу труда». Но люди боятся ходить в нее. Сотни мужчин отправлены отсюда в Германию. Мужчин не видно сейчас на киевских улицах. Фашистские агенты устраивают облавы на мужчин. С базаров увозят время от времени крестьян, приехавших из пригородных сел. Их отсылают в Германию.

Оккупанты начисто ограбили население и прибегли к подлейшему обману. Они об’явили об открытии комиссионных магазинов, обещая хозяйкам выгодно устроить их вещи. Хозяйки понесли свои пожитки на сборные пункты, вещи были конфискованы.
В городе свирепствует тиф, много заболеваний сифилисом и сапом. Есть квартиры, в которых вымерли целые семьи. Трупы лежат неубранными.
Но фашистский произвол не поставил на колени киевлян. Они хорошо знают, что близок час расплаты. Красная Армия вернет им свободу и честь. За все ответят фашистские изверги.
**************************************************************************************************************************************************
Последние дни 208-го немецкого полка
(От нашего корреспондента по Юго-Западному фронту)
Интересные события происходили в течение трех дней в подземельях одной железнодорожной станции.
Как уже сообщалось, эта станция была окружена со всех сторон советскими войсками в первый же день наступления. Судьба немецкого гарнизона решилась в ту минуту, когда наши бойцы захватили элеватор, находившийся в 120 метрах от фашистской передовой линии. Наступающие немедленно двинулись дальше, а на месте осталась блокировочная группа, которой предстояло захватить станцию.
Утром следующего дня к железнодорожной насыпи под’ехал автомобиль с громкоговорящей установкой, и диктор об’явил осажденным фашистам условия сдачи. Но немцы не сдались, несмотря на безнадежное положение. Как только затихли раскаты радио, обреченные на гибель офицеры и солдаты 208-го пехотного полка открыли бешеный огонь. С утра и до поздней ночи они стреляли из орудий, минометов, пулеметов и автоматов.
Ночью на нашу сторону перебежало несколько солдат, и мы узнали, что в подземельях станции находится командир 208-го пехотного полка полковник Вольф. Вместе с ним обороной руководят два майора, и они беспрерывно сносятся по радио с высшим командованием. По рассказам перебежчиков и показаниям пленных, полковник Вольф экстренно созвал всех офицеров и потребовал от них расписку под клятвой — не сдавать станцию до последнего солдата. Полковник Вольф подписался первым. Затем листок с клятвой подписали все офицеры.
Неизвестно, надеялся ли полковник на помощь высшего командования, но, несомненно, он верил в неприступность укреплений, построенных на станции. Кроме того, Вольф, очевидно, отличался исключительной наглостью, нередко заменяющей немцам мужество и отвагу. В первый день наступления Красной Армии, когда наши части с дерзкой смелостью совершили изумительный бросок сквозь проволочные и минированные заграждения и, разбив дзоты, захватили элеватор, немецкие солдаты подняли на телеграфный столб, по приказанию Вольфа, плакат с надписью: «Переходите к нам». Надо отдать справедливость командиру 208-го полка. У него имелись все основания верить в неприступность превосходных оборонительных сооружений, которые немцы лихорадочно строили зимой.
Станция расположена в степной местности, где редко, как оазисы, встречаются рощицы и мелкие леса. Издалека немцы привезли несколько составов леса. Один человек не сможет обхватить ствол исполинского дуба, который пошел на постройку дзотов и блиндажей. Тремя накатами дубовых стволов были покрыты укрепления. Огромное пространство вокруг станции, депо и элеватора было обведено проволочными заграждениями и усеяно противотанковыми минами. Командир 208-го полка располагал на станции артиллерией, танками, минометами, противотанковыми средствами и большим складом боеприпасов. Под зданием самой станции была сооружена подземная крепость с лабиринтом узких ходов сообщения.
Все это — далеко не полная картина того, что увидели наши бойцы в первые минуты после занятия станции. Остается повторить, что гитлеровский офицер полковник Вольф, требуя от подчиненных клятвы не сдавать станцию до последней капли крови и расписываясь первым, надеялся в тот момент выдержать любую длительную осаду.
Прошел еще день, и ночью через железнодорожное полотно, отделявшее нас от немцев, перебралась поодиночке и добровольно сдалась в плен новая группа солдат и унтер-офицеров. Из показаний пленных можно было узнать, что командир полка Вольф заметно изменился и, как это ни странно, ни разу не напомнил офицерам о клятве. Стоит ли догадываться, отчего вдруг полковник Вольф потерял бравое расположение духа. Стоит ли рассказывать о том, что во время осады станции творили наши артиллеристы, минометчики и авиация.
К концу третьего дня полковник Вольф внезапно снова созвал к себе офицеров и, ни одним словом не напоминая о клятве, приказал разбиться на отряды и прорываться из окружения. Полковник был сильно взволнован. Он не дал никаких указаний, говорил невнятно, сбивчиво, и его приказ походил на сигнал бедствия: «Спасайся кто может».
С немым ужасом слушал этот новый приказ майор Вормс. В заключение полковник Вольф распорядился отыскать всех спрятавшихся в погребах жителей станции, согнать их в одно здание. Давно уже население станции разбежалось по окрестным селам. Но все же солдаты отыскали около ста стариков, старух, женщин с детьми и согнали их в полуразрушенный каменный дом. Комендант доложил полковнику, что жители заключены в один дом. Тогда Вольф приказал взорвать здание. И вдруг раздался дикий вопль. Майор Вормс, очнувшись от забытья, закричал:
— Этого нельзя сейчас делать.
Полковник велел всем удалиться и остался с Вормсом наедине. Неизвестно, о чем они говорили, но все время до слуха офицеров доносились пронзительные крики майора. Спустя десять минут майор Вормс быстро вышел от командира полка. Никого не замечая, он поднялся наверх, выбрался из подземелья и больше не возвращался. Майор Вормс застрелился недалеко от развалин станции.
Ночью стрельба прекратилась. Офицеры с солдатами, или, иначе говоря, остатки 208-го полка, попытались бежать во все стороны. Полковника Вольфа видели в последнюю минуту переодетым в солдатскую куртку. Он пробирался по ходу сообщения с каким-то свертком в руках. Предполагают, что то была штатская одежда.
Разбежавшихся из подземной крепости офицеров и солдат всю ночь ловили бойцы. Поиски гитлеровских молодчиков продолжаются. Не разыскан еще полковник Вольф.
На этом кончается история последних дней 208-го полка. Осталось досказать о том, что мы увидели на станции.
Пепелище. Заминированный дом, куда были заключены местные жители, немцы не успели взорвать, и бойцы, захватившие станцию, тотчас освободили страдальцев.
На станции захвачены большие трофеи: орудия, танки, боеприпасы, железнодорожные составы. В разрытой пыли улиц — горы трупов в зеленых куртках. У орудий лежали убитые наповал немецкие артиллеристы.
С утра железнодорожники начали восстановление пути. На следующий день раздался гудок, и к развалинам станции подошел первый поезд. // Мих.Розенфельд. ХАРЬКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
______________________________________________
Н.Тихонов: Кровавый унтер* ("Известия", СССР)
Автопортрет немецкого офицера ("Известия", СССР)**
**************************************************************************************************************************************************
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Бой за овладение лесным завалом.
Снимки нашего спец.фотокорр. Д.Минскера


**************************************************************************************************************************************************
Расправа гитлеровских палачей с советскими гражданами
СТОКГОЛЬМ, 19 мая. (ТАСС). По сообщению фашистской «Дейче цейтунг ин Остланд» в Минске на-днях казнено сто пятьдесят граждан.
Гитлеровский террор в прибалтийских советских республиках достиг чудовищных размеров. По словам той же газеты, в Вильно расстреляно шестнадцать литовцев. Германские особые суды «работают» круглые сутки. В Ковно казнен 24-летний Триионис, в Риге — Баратинскис и Янсон, немцы Руст и Зундмахер. В Верро арестовано 20 человек. 6 латышских железнодорожников приговорены в Риге к каторге от 2 до 3 лет.
Особенно участились приговоры «за незаконное хранение оружия». Оккупанты неоднократно под угрозой смертной казни приказывали населению «немедленно сдать оружие и боеприпасы». Гитлеровцы требуют также сдачи «всех книг, брошюр, газет, плакатов, открыток».
**************************************************************************************************************************************************
Бить врага без промаха до полного его истребления!
Взаимная выручка в бою
БРЯНСКИЙ ФРОНТ, 19 мая. (По телеграфу). С первого дня войны совместно сражаются летчики-истребители старшие лейтенанты Василий Евстифеев и Федор Мусатов. Их боевая дружба особенно окрепла после одного памятного боя.
Евстифеев повел тогда Мусатова и еще летчика Калинина на штурмовку вражеской колонны. Вынырнув из-за облаков, они обрушили всю мощь огня на головы фашистов, подожгли немало автомашин и повозок. Но вот очередь из крупнокалиберного пулемета настигла машину ведущего. Его самолет задымил и резко пошел вниз.
Мусатов увидел, как его друг Евстифеев приземлился метров за триста от немцев, которые кинулись к горящему самолету и открыли стрельбу. В эту напряженную минуту Мусатов принял смелое решение: он пошел на выручку другу. Поняв намерение товарища, старший лейтенант Калинин на бреющем полете начал кружить над местом посадки Евстифеева, преграждая огнем путь бегущим гитлеровцам. А Мусатов посадил свою машину в поле, втащил в кабину выбившегося из сил товарища и стремительно взмыл вверх.
Два испытанных летчика не уступают один другому в отваге и мастерстве. На-днях старший лейтенант Евстифеев совершил свой двухсотый боевой вылет. Он сбил в воздушных боях три немецких самолета лично и шесть в группе с товарищами, да еще два сжег на земле. Стремительными штурмовыми атаками Евстифеев нанес большой урон вражеским частям.
Не отстает от Евстифеева и старший лейтенант Мусатов. Хотя он совершил на двадцать боевых вылетов меньше своего друга, но сбил в воздушных боях шесть немецких самолетов и четыре уничтожил на земле. Оба отважных летчика награждены орденами Красного Знамени.
ПОД МОСКВОЙ СБИТ ФАШИСТСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ РАЗВЕДЧИК
Рано утром посты воздушного наблюдения, оповещения и связи на большей высоте обнаружили вражеский самолет «Дорнье-215». На перехват врага вылетел старший лейтенант Мирошниченко. Немецкий летчик, стремясь незамеченным пробраться к Москве, неоднократно менял направление полета и продолжал набирать высоту.
Тов. Мирошниченко с помощью радио был наведен на цель и смело ринулся в атаку на врага. Воздушный бой завязался на высоте 6.800 метров. Фашистский разведчик открыл яростный огонь, пытаясь вместе с тем улизнуть.
Старший лейтенант Мирошниченко неустанно преследовал врага и, наконец, улучив удобный момент, выпустил по фашистскому самолету несколько снарядов. Вражеская машина разлетелась в воздухе на несколько частей, похоронив под обломками весь экипаж.
НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ «В ПОМОЩЬ ПОЛИТРУКУ»
Главное политическое управление Красной Армии продолжает выпускать и рассылает в части новые книги для библиотеки «В помощь политруку».
Недавно вышли из печати брошюры: «Наши силы растут и крепнут» — Ем. Ярославского, «Что такое фашистский «новый порядок» в Европе» — академика Е.Варга. «Мужественный образ наших великих предков» — М.Нечкиной, «Кто такие «национал-социалисты» — А.Леонтьева, «Истребить немецко-фашистских оккупантов» — Н.Матюшкина и др.
Частям рассылаются еще «Памятка парторгу партийной организации стрелковой роты» и брошюра М.Толченова «Крушение германской стратегии».
**************************************************************************************************************************************************
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ. Перевозка раненого.
Снимок нашего спец. фотокорр. О.Кнорринга

________________________________________________
Психология болвана ("Правда", СССР)**
Н.Тихонов. Матерый волк** ("Красная звезда", СССР)
Немецкие офицеры в плену* ("Красная звезда", СССР)
Фибровый чемодан немецкого лейтенанта* ("Известия", СССР)**
О моральном облике гитлеровского офицера* ("Красная звезда", СССР)
Газета "Красная Звезда" №116 (5180), 20 мая 1942 года
|
Метки: оккупация Киева май 1942 весна 1942 газета Красная звезда 1942 |
О восьми повешенных в Волоколамске |
 «Не может быть сомнения, что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию». (СТАЛИН).
«Не может быть сомнения, что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию». (СТАЛИН).Н.Михайлов, "Правда", СССР (№31 [8802]).
Статья опубликована 31 января 1942 года.
Когда гвардейцы-танкисты части тов. Катукова ворвались в Волоколамск, они увидели на виселице на городской площади трупы восьми советских патриотов, замученных фашистскими палачами.


Никто не знал имен этих людей, принявших смерть с высоко поднятой головой, без страха и трепета. Бойцы Красной Армии сняли мучеников с виселицы и с воинскими почестями похоронили в городском саду, около памятника Ленину.
* * *
За последнее время, путем опроса местных жителей, сличения уцелевших фотографий и некоторых документов, удалось точно установить, кто были восемь повешенных в Волоколамске. Жертвами фашистских палачей явились московские комсомольцы. Вот их имена:
Константин Федорович Пахомов — конструктор завода «Серп и молот».
Николай Александрович Галочкин — конструктор завода «Серп и молот».
Павел Васильевич Кирьяков — крановщик завода «Серп и молот».
Виктор Васильевич Ординарцев — слесарь электрического цеха завода «Серп и молот».
Николай Семенович Каган — техник завода «Серп и молот».
Иван Александрович Маленков — рабочий завода «Москабель».
Александра Васильевна Луковина-Грибкова — студентка художественного училища имени Калинина.
Евгения Яковлевна Полтавская — студентка художественного училища имени Калинина.
Биографии этих патриотов обычны. Всех их вырастила родина-мать. Изо дня в день воспитывали они в себе качества советского человека, простого и мужественного в своем героизме, — презрение к смерти, храбрость и отвагу, беспредельную любовь к родине и преданность партии Ленина—Сталина.
Константин Пахомов пришел на завод в 1931 году и начал работать электромонтером. Упорный в достижении поставленной цели, он окончил заводской техникум, стал конструктором. На заводе Константина знали многие — его можно было встретить у мартеновских печей, прокатных станов, он работал в заводском спортивном обществе «Металлург», в редколлегии заводской газеты «Мартеновка». Его видели в аудиториях заводского института — он продолжал учиться. Вся жизнь тов. Пахомова принадлежала заводу, коллективу.
Павел Кирьяков — один из инициаторов стахановского движения на заводе. Его завалочная машина не знала ни простоев, ни аварий. Павел принимал активное участие в работе комсомольской и профсоюзной организаций. Он всегда находил время для военной подготовки и завоевал славу отличного стрелка.
Шура Луковина-Грибкова — энергичная и трудолюбивая комсомолка. Скромная и общительная, она относилась к любому комсомольскому заданию — будь оно самое малое — любовно и внимательно. Началась война, она проводила брата в Красную Армию, а сама пошла работать на фабрику.
— До войны можно было учиться, — говорила Шура подругам, — а сейчас этого мало: надо учиться и работать. Немцев прогоним — отдохнем.
В биографиях Виктора Ординарцева, Николая Галочкина, Ивана Маленкова, Николая Кагана, Жени Полтавской можно отыскать десятки черт, эпизодов, этапов, которые встретишь у любого молодого человека нашей родины.
Восемь комсомольцев до войны жили мирной жизнью — работали, учились. Началась война, и каждый из них в первый же день сказал себе: мое место в бою. Среди сотен тысяч заявлений с лаконической фразой «Прошу послать в Действующую армию» были и заявления Ординарцева, Маленкова, Полтавской, всех восьми.
Июльские дни прошлого года. Яростные попытки налетов врага на Москву. Во время одной из бомбежек по соседству с квартирой Пахомова враг сбросил фугасную бомбу. Запылал барак. Крепкий, плечистый человек первым бросился на помощь соседям. На нем загорелась одежда, ему обожгло руки, лицо, контузило, но он продолжал свое дело. Это был Пахомов.
Оборонительный рубеж под Смоленском. Изнурительный зной сменяется проливными дождями. Тысячи людей работают, не покладая рук. В одной из групп молодежи — хрупкая девушка. Мужским движением, широко расставив ноги, она ровно, без устали выбрасывает лопату за лопатой тяжелого грунта. Это — Полтавская.
Просторная площадка с макетом танка посередине. На краю группа бойцов. Идет занятие группы истребителей танков. Среди обучающихся — Кирьяков.
Заседание комитета комсомола. На повестке: прием в члены ВЛКСМ.
— По-моему, это не вопрос — почему я иду в комсомол, — говорит юноша, одетый в спортивную майку. — Ведь фашистов все равно мне придется бить, не сегодня, так завтра. А я хочу итти на фронт только комсомольцем.
Это — Ординарцев.
Октябрь—ноябрь 1941 года. Над Москвой нависла тяжелая угроза. И именно в этот момент восемь кровных братьев и сестер — русские, белорусска, еврей, рабочие, интеллигенты, учащиеся — взяли в руки оружие. Они пошли на врага: защищать свой завод, свою школу, свой дом, семью, родную Москву, страну, которая вырастила и взлелеяла молодое сталинское племя.
Четвертого ноября прошлого года отряд направился к линии фронта, решив перейти ее в районе деревни Ченцы. Все одеты по-походному, с котомками за плечами, вооружены пистолетами, винтовками, гранатами.
— Веселые были товарищи, дружные, — вспоминает их попутчик командир тов. Клейменов. — Всю дорогу шутили. Я на них удивлялся: идут в первый раз на врага и об опасности — ни одного слова. Больше всего разговаривали, как встретят октябрьский праздник.
Перейдя линию фронта, отряд решил пробиться к логову врага — штабу фашистских войск. У Волоколамска пробирались кладбищем и натолкнулись на немецкую засаду. Фашистских автоматчиков было в десятки раз больше, но группа решила принять бой.
Завязалась ожесточенная перестрелка. Перебегая от укрытия к укрытию, Кирьяков меткими выстрелами снимает вражеских автоматчиков. Один из бойцов вооружен пистолетом, оружием ближнего боя. Он смело пробирается вперед и открывает огонь по врагу.
Иссякают патроны, ранили двух комсомольцев. Тесней сжимается вражеское кольцо. Слышен гул автомобильного мотора. Это идет подкрепление к фашистским автоматчикам, не сумевшим сломить сопротивление горстки храбрецов.
Занималось утро. Все ближе враги. Раненые, собирая все силы, передвигаются от укрытия к укрытию, продолжая вести бой. Но силы далеко неравны. Перевес на стороне врага. Автоматчики замкнули кольцо — отряд был схвачен и обезоружен.
Пленных повели в Волоколамск, в дом гражданки Полины Даниловны Зиминой. Хозяйку выгнали на улицу. Двенадцатилетняя дочь Лина забралась на печку. Приехал фашистский генерал. Шесть комсомольцев стояли возле дома на расстоянии, не позволявшем им переговариваться. Раненые, обессилевшие от потери крови, лежали на земле. Вокруг — несколько десятков немецких автоматчиков.
Первым ввели на допрос Пахомова.
— Офицеры стояли, — рассказывает Лина, — а переводчик сидел и записывал. Когда Пахомов вошел, ему сказали: сядьте. Он сел. Его спросили: фамилия? Он не сказал. Спросили: сколько лет? Он сказал: 24 года. Потом спросили: откуда? Он сказал: из Москвы. Потом все допытывались: знает ли он остальных товарищей? Он сказал: нет. А потом Пахомов ничего не стал отвечать. Он был перед ними гордый и разговаривал резко. Когда офицеры замучились его допрашивать, то они сказали: так вы ничего и не скажете? Он сказал: нет! Тогда его увели.
Вслед за Пахомовым ввели девушку.
— Она была очень смелая, — говорит Лина. — Ее спрашивают: вы кто? Она говорят: студентка. Как вас зовут? — Клава. Потом она попросила попить, ей дали. Она попила и снова села. Тогда генерал начал расспрашивать про товарищей, про Красную Армию, про пушки, а она говорит: я ничего не знаю, и вы меня не спрашивайте. Генерал разозлился, сказал что-то солдатам и ее увели.
Ввели вторую девушку. Видимо, фашистские палачи рассчитывали, что девушки скорее заговорят, смалодушничают. Их надежды не оправдались. Лина рассказывает:
— Ее генерал спросил: у вас, наверное, мать есть? Есть, — ответила девушка.
— Вам ее не жалко? Она говорит: вы лучше себя пожалейте.
Офицер спросил ее: разве вы не боитесь смерти? Конечно, умирать не хочется, — сказала она. — Хотелось пожить, но если надо умирать за родину — умру.
Закончился допрос, из которого немцы ничего не узнали. После допроса, примерно в три часа дня, пленных повели по Солдатской улице на Солдатскую площадь. Герои шли в свой последний путь. Раненые отказались от помощи товарищей. Девушки шли, тесно обнявшись. Комсомольцы жали друг другу руки, обнимались и целовались. У них не вырвался вздох сожаления, слово о пощаде.
Отряд знал: за ними Москва, страна, многомиллионный народ-боец. Не смерть, а счастье и свободу родины, жизнь своего народа видели они сквозь муки и тяжести войны.
Пленных построили в ряд, сзади них, на расстоянии 10—15 шагов, стояли немецкие автоматчики. Офицер взмахнул рукой.
Семь человек упали. Восьмой обернулся к женщинам, детям, согнанным фашистскими убийцами на это кровавое зрелище:
— Не страдайте за нас, родные, бейте фашистов, жгите их проклятых! Не бойтесь, надейтесь — Красная Армия еще придет!
И вслед за этими словами несколько комсомольцев приподнялись из последних сил на колени, подняли руки, и над группой безмолвных женщин и детей, над родными полями и лесами Подмосковья разнесся предсмертный клич героев:
— Да здравствует наша родина!
— Да здравствует Красная Армия!
— Смерть немецким палачам!
— Да здравствует товарищ Сталин!
Снова загремели выстрелы. Немецкие автоматчики подбежали к комсомольцам и начали расстреливать их в упор. После расстрела комсомольцев потащили к виселице.
***
Сколько великих, мужественных героев вырастила наша родина, большевистская партия, товарищ Сталин!
В дни суровых, тяжелых испытаний все лучшие качества советского человека развернулись со всей силой. Беззаветно любить свою родину, отдать все свои силы, если надо, и жизнь за свой народ — к этому зовут подвиги восьми бесстрашных.
Погибли восемь — на их место пришли тысячи.
Под Волоколамском ни днем, ни ночью не давал покоя врагу партизанский отряд учителя Тагунова. Три сотни фашистов нашли себе могилу от руки партизан. На заводе «Серп и молот», воспитавшем героев отечественной войны, десятки новых юношей и девушек вступили в ряды комсомола. Из далеких тыловых областей в ряды бойцов Красной Армии вливаются новые комсомольские отряды: лыжники, десантники, истребители танков. Вся страна — единый военный лагерь. Весь комсомол — единый боевой отряд.
Расправил свои могучие плечи народ-богатырь, и вот уже покатились на запад под ударами частей Красной Армии фашистские захватчики. Уже давно стал снова советским Волоколамск. Крепнет сила народа, крепнет нажим на врага — он отходит, огрызаясь, на запад, битый, обмороженный, чующий свою черную смерть.
Услышь клич восьми патриотов, вся советская молодежь! Их героическая смерть зовет к непримиримой борьбе, к бесстрашию, к разгрому гитлеровских полчищ. Крепче удар по врагу! Все для фронта, все для победы! Пусть знает фашистское отребье, что пробил для него последний час! Месть беспощадная, всенародная — вот наш ответ гитлеровским убийцам-палачам.
Бессмертная слава погибшим!
Смерть немецким оккупантам! // Н.Михайлов. Секретарь ЦК ВЛКСМ.
______________________________________________
О.Курганов: Восемь повешенных* ("Правда", СССР)
8 повешенных в Волоколамске ("Красная звезда", СССР)***
Кто были 8 повешенных в Волоколамске* ("Красная звезда", СССР)
Н.Михайлов: Советская молодежь в боях за родину ("Красная звезда", СССР)
Е.Петров, Е.Кригер: Конец Волоколамского направления* ("Известия", СССР)
Газета "Правда" №31 (8802), 31 января 1942 года
|
Метки: январь 1942 зверства фашистов зима 1942 1942 газета Правда |
Тревога румынских холопов Гитлера |
 Не отступим ни на шаг. Умрем, но отстоим Сталинград. С железным упорством и большевистской настойчивостью будем бить врага беспощадно, до полного уничтожения. К этому мы призываем вас, братья по оружию! Из письма командиров, политработников и бойцов гвардейской дивизии.
Не отступим ни на шаг. Умрем, но отстоим Сталинград. С железным упорством и большевистской настойчивостью будем бить врага беспощадно, до полного уничтожения. К этому мы призываем вас, братья по оружию! Из письма командиров, политработников и бойцов гвардейской дивизии. Н.Васильев, "Красная звезда", СССР (№231 [5295]).
Статья опубликована 1 октября 1942 года.
В сентябре вся румынская пресса по данному свыше сигналу хором распевала хвалебные песнопения «маршалу» Антонеску и «достижениям» режима, установленного им в Румынии два года назад. Хор получился в общем довольно стройный — газетные борзописцы в Румынии прошли хорошую полицейскую муштру. Но «аудитория» — румынское население — восприняла казенные славословия прессы весьма прохладно, в чем нет ничего удивительного, ибо именно населению на своей собственной шкуре приходится испытывать все «блага» этого режима.

Население также подвело в эти дни свои итоги двухлетнему царствованию генерала Антонеску, ставшего по милости Гитлера «маршалом». Оно знает, что первым шагом Антонеску, провозгласившего себя в подражание Гитлеру «кондукатором» (вождем) Румынии, было полное подчинение Румынии воле Берлина. Потеря Северной Трансильвании и Южной Добруджи, оккупация Румынии германскими, так называемыми «учебными войсками», кровавая борьба между двумя фашистскими сворами — приверженцами «кондукатора» и легионерами — и, наконец, роковое вступление в войну против СССР на стороне Германии — таков был путь, на который толкнул Румынию гитлеровский холоп Антонеску.
Шестнадцатый месяц румынские крестьяне и рабочие воюют ради чуждых им целей германского разбойничьего империализма. Чем дольше длится война, чем дальше углубляется румынская армия на территорию СССР, тем сильнее кровопускание, которому подвергается румынский народ. Сотни тысяч убитых и раненых солдат — вот одно из «достижений» губительного нового режима. Германские газеты, внося свою лепту в ознаменование юбилея Антонеску, из всех его заслуг перед немцами больше всего подчеркивают тот факт, что румынская армия истекает кровью на востоке. «Румыны настолько помогли нашим войскам во время военных операций, — пишет «Дейче альгемейне цейтунг», — что без их участия решительные победы прошлого и нынешнего года были бы невозможны». Эта неумеренная похвала нужна лишь для того, чтобы позолотить горькую пилюлю. «В Германии хорошо известно, — тоном притворного сожаления добавляет газета, — что румынская армия принесла большие жертвы людьми». В Румынии это известно еще лучше.
Но эти кровавые итоги истекшего периода войны являются лишь началом счета, по которому Румынии придется платить сполна. Ведь война ни на шаг не приблизилась к обещанному Гитлером и его бандитской кликой победоносному завершению. Наоборот, все более очевидным становится провал всех планов зарвавшихся авантюристов из Берлина. Начинают вырисовываться контуры окончательного поражения «непобедимой» германской армии, что повлечет за собою катастрофу и для ее «союзников». А пока Румынии предстоит вторая военная зима. Гитлер требует новых поставок пушечного мяса, выколачивает последние ресурсы румынского сырья и продовольствия.
С этой последней целью недавно приезжал в Румынию Функ, главный организатор ограбления вассальных и оккупированных стран. Вслед за Функом недавно посетил Румынию и другой фашистский организатор — руководитель «трудовой повинности» Гирль. Фашистская «трудовая повинность» означает каторжный труд населения для удовлетворения военных нужд Германии. Нетрудно догадаться о причине прибытия Гирля в Румынию. Гитлер считает, что Антонеску еще в недостаточной мере превратил Румынию в каторгу, а румынский народ — в каторжников. Задачей Гирля является заставить румын работать до полного изнурения на фашистской каторге, чтобы давать Германии сырье и продовольствие в тех размерах, которые были продиктованы Функом.
Румыния стонет от «забот» и «помощи» своего германского «союзника». Стамбульская газета «Ля Тюрки» публикует письмо лидеров румынской буржуазной оппозиции — Маниу и Братиану. Характеризуя общее положение Румынии, они подчеркивают наряду с продолжающимся истреблением на фронте сотен тысяч румынской молодежи следующие факторы развала экономики страны: инфляцию, вызванную наводнением денежного рынка германскими «оккупационными» марками; разруху в тех отраслях промышленности, которые лишены немцами сырья и рабочей силы, вывезенной в Германию; повсеместный недостаток одежды, обуви и других товаров; продовольственные затруднения, вызванные германской политикой ограбления страны; расстройство транспорта; почти полное прекращение внешней торговли (если не считать одностороннего вывоза в Германию) и т.д. Невеселая картина, что и говорить!
Насколько злободневным стал сейчас продовольственный вопрос, видно хотя бы из того, что даже в привыкшей к повиновению румынской печати прорывается время от времени критика административных мероприятий по борьбе со спекуляцией, мер в области регулирования цен на сельскохозяйственные продукты и т.д. «Универсул», «Тимпул» и «Аргус» часто обвиняют власти в бесплодности борьбы со спекулянтами и взяточниками. Взяточничество чиновников, всегда широко практиковавшееся в Румынии, сейчас достигло небывалых размеров. «Аргус» откровенно намекает на это зло, заявляя, что «румынские чиновники и коммерсанты не проявляют чувства национальной солидарности».
Огромные потери на фронте, экономическая разруха и продовольственные трудности в тылу все больше накаляют атмосферу в стране. Население начинает открыто проявлять свое недовольство тяготами нового положения, создавшегося в результате превращения Румынии в германскую колонию. В широких слоях народа растет ненависть к немецким поработителям и подымается волна протеста против катастрофической для Румынии войны. По официальной терминологии это серьезное явление именуется «беспорядком». Оно стало столь распространенным, что некоторые газеты, как, например, «Курентул», приходят к пессимистическим выводам и откровенно заявляют: «С таким беспорядком невозможно выиграть войну».
Румынское правительство усиленно борется с «беспорядками». Но наивно было бы думать, что корень зла этих «беспорядков» обнаружен в Бухаресте, в учреждениях, где засели «кондукатор» и соучастники его банды, именующие себя «правительством». Румынские правители ищут его среди тех слоев населения, которые больше всего страдают от создавшегося положения. Иначе и быть не может. Антонеску не хочет подрубать сука, на котором он сидит. Не сослужил бы, однако, этот сук дурной службы для «маршала»: ведь в один прекрасный день кто-нибудь догадается повесить на нем его самого.
В сентябре правительство издало декрет, предусматривающий установление строжайшего контроля за служащими и рабочими как государственных, так и частных учреждений и предприятий. С целью выявления настроений и наблюдения за деятельностью всех работающих румын в каждом учреждении и предприятии будет создана секретная организация контроля. Тем же декретом установлены суровые наказания для «саботажников» и «смутьянов». Болгарская газета «Зора» показывает одну деталь применения этого декрета, столь характерную для уровня «юриспруденции» в этой новоиспеченной колонии Гитлера:
«По этому декрету Антонеску, — сообщает газета, — провинившийся чиновник должен будет в течение 5 дней сидеть со связанными руками под охраной полиции в коридоре того учреждения, где он работает, после чего будет передаваться судебным властям».
Такие меры, однако, в состоянии лишь подлить масла в огонь. Недовольство охватывает самые различные слои населения, проникая и в среду правящих классов, отдельные представители которых испытывают беспокойство за судьбу Румынии. Между ними обостряется борьба за право влиять на внутреннюю и внешнюю политику Румынии. Нередки аресты среди военных, в том числе среди высшего и командного состава. Весьма показательным в этом отношении является увольнение в отставку на протяжении этого года начальника генштаба генерала Якобичи, 14 других генералов и 18 полковников и арест некоторых из них. По сообщению газеты «Ля Тюрки», такой шаг Антонеску был вызван тем, что эти военные солидаризировались со следующим заявлением Маниу и Братиану в одном из их совместных манифестов: «Румыны хотят восстановления своих границ, но сомневаются, что оно сможет быть осуществлено, если страна и дальше будет ослабляться в военном и экономическом отношении». В последнее время арестован генерал Радулеску и один из оппозиционных лидеров Михалаке.
Неуверенный в эффекте своих мероприятий, Антонеску в конце сентября решился на новый шаг для укрепления своего шатающегося авторитета. Вернувшись неожиданно с фронта, «маршал» созвал экстренное заседание кабинета министров, которому он продиктовал постановление о сосредоточении в своих руках всей законодательной и исполнительной власти. Все конституционные гарантии этим декретом отменялись. Но всякий знает, что в Румынии уже и до того давным-давно забыли обо всем, что было мало-мальски связано с конституцией, хотя бы и такой куцой, как румынская.
Все же расширение полномочий «кондукатора» не обошлось без осложнений в самом кабинете. Два члена правительства — генерал Стоянеску и генерал Сигитиу — подали в отставку в знак протеста против узурпации прерогатив правительства. О том, как реагировали широкие массы на лишение их последних прав, свидетельствует новый декрет Антонеску о введении смертной казни за «антивоенные дискуссии на предприятиях».
Никакие жестокие репрессии не спасут цепляющуюся за власть камарилью Антонеску. Связанные душой и телом со своими берлинскими хозяевами, румынские наймиты Гитлера в час расплаты получат сполна за все свои преступления. // Н.Васильев.
Гитлеровцы требуют от своих вассалов новых поставок пушечного мяса
ЖЕНЕВА. 30 сентября. (ТАСС). Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс передает из Берна, что, согласно достоверным данным из балканских источников, на прошлой неделе состоялись совещания с участием представителей Румынии, так называемого «Хорватского королевства» и германских заправил. На этих совещаниях немцы ультимативно потребовали от Румынии и Хорватии дополнительной посылки войск на советско-германский фронт.
Корреспондент передает также, что, по сведениям хорошо информированных кругов, Берлин угрожает «послать в Венгрию вице-регента», если она не направит дополнительные контингенты войск на советско-германский фронт.
___________________________________________
И.Эренбург: Судьба шакалов* ("Красная звезда", СССР)
П.Павленко: Хозяева и вассалы на поле боя ("Красная звезда", СССР)**
**************************************************************************************************************************************************
Защищая Сталинград, упорно отстаивая каждый дом, каждую улицу, обескровить и истощить врага. Все бои вести на уничтожение живой силы и техники противника!
На горных тропах
Рано утром младший сержант Соболев с пятью красноармейцами отправился на разведку. Бойцы спустились в лощину, обогнули гряду небольших высот и стали подниматься по тропе в гору. Кругом было тихо. И вдруг резкая пулеметная дробь. Слева и справа застрочили автоматы, пулеметы, послышались разрывы вражеских мин.
Час спустя командир роты лейтенант Амбарьян слушал подробный доклад младшего сержанта. Тревожную весть на этот раз принесли разведчики: тропа оказалась под вражеским огнем…
На равнинах идут напряженные бои за шоссейные и грунтовые дороги, за железнодорожные магистрали. В горах подчас малозаметная тропка дороже, чем шоссе в долине. Вековой пеший след нередко решает судьбу целого участка фронта. И не случайно в предгорьях Кавказа разгорелась жестокая борьба за пешеходные горные тропы.
Двое суток взвод роты лейтенанта Амбарьяна вел бой против группы немецких солдат, перекрывших огнем горную тропу. В первый день бойцы вели разведку, выслеживали врага. Чуть ли не по отвесным скалам, цепляясь за каждый выступ, взбирались они на гору и, притаившись, ждали, когда на вершине появится немецкий солдат или офицер. Лейтенант Амбарьян и младший сержант Соболев сняли несколько наблюдателей и автоматчиков противника. Фашисты вели ответный огонь, но впустую. К вечеру разведчики благополучно спустились в лощину. Главного они все же не добились — не выяснили, где находятся вражеские пулеметы и минометы, перекрывающие огнем тропу.
На следующее утро командир предпринял разведку боем. Белые облака тумана медленно поднимались, обнажая угрюмые скалы, и наши разведчики прикрывались туманом, как дымовой завесой, не отставая от нее ни на шаг. Наконец, взвод добрался до вершины горы, и лейтенант выбрал удобное место для наблюдения. Разведчики открыли огонь, немцы ответили стрельбой из пулеметов. Командир засек цели.
В горах далеко разносится каждый звук. Минометчики, поддержавшие разведчиков, находились примерно в километре от наблюдательного пункта командира роты. И не каким-либо условным знаком, а просто голосом подал лейтенант первую команду. Он отчетливо слышал, как командир-минометчик повторил ее, и тут же грянул минометный залп. Неожиданный удар ошеломил противника. Потеряв несколько человек убитыми, немцы поспешно скатились с высоты. К исходу дня лейтенант доложил командиру батальона: «Враг отброшен, путь по горной тропе открыт».
Бойцы пришли на перевал из долин. Нелегко было им первое время в горах. Но все эти невзгоды отошли на второй план, как только в горах запахло порохом, и по ту сторону перевала появились немецкие передовые части.
Наша разведка, бродившая по ущельям, обнаружила колонну немецких войск, которая продвигалась к горному хребту. Наперерез врагу командование выслало, небольшой отряд — вернее, стрелковый взвод, усиленный станковым пулеметом и двумя минометами.
40 бойцов заняли указанные им позиции и стали готовить оборону. Командир взвода Заремба раз пять обошел район, поднимался на высоты, спускался вниз и в конце концов расставил свои огневые средства так, что все лощины, ущелья, все подступы к перевалу простреливались. Сержант Николай Долганов, пулеметчик, вместе со своим расчетом оборудовал на крутом скате маленький каменный дот с амбразурами, обеспечивавшими круговой обстрел. На соседней высоте расположились минометчики.
В горах выгодно держать оборону. Но в тех же горных районах есть много лазеек, по которым ночью могут пробраться в тыл обороняющимся и одиночки, и целые группы вражеских солдат. Патруль огибал скалу, нависшую тяжелыми каменными глыбами над горной тропой. Шедший впереди красноармеец остановился и подал рукой знак товарищам. Прислушались. Ветерок донес торопливые шаги. Потом из-за поворота вынырнули две темных фигуры. «Пропуск!» Пропуска у встреченных не оказалось, их задержали. Они были в красноармейской форме, и внешний облик не вызывал подозрений. К тому же один из них чисто говорил по-русски. Командир задал задержанным несколько вопросов. Потом их тщательно обыскали и в конце концов разоблачили. Это были фашистские лазутчики.
Утром в лощинах появились мелкие группы немецких разведчиков. Немного позднее заговорила вражеская артиллерия. Немцы, посылая в горы снаряды и мины, видимо, рассчитывали вызвать ответный огонь. Командир нашего маленького отряда не открывал огня, не желая преждевременно обнаруживать свою оборону. Фашистские разведчики скрылись, но вскоре наблюдатели заметили и в лощине, и на тропе новые разведывательные партии неприятеля, на этот раз более крупные. Ближайшая группа немецких солдат уже карабкалась на гору, прямо к позициям, занятым нашим отрядом.
Враг рядом, в каких-нибудь 150 метрах. Пора начать стрельбу. Командир приказывает открыть минутный огонь, чтобы внушить немцам, что перед ними большое, хорошо вооруженное подразделение. Пулеметы, минометы, автоматы, винтовки ударили одновременно. В горах раздался сильный грохот выстрелов, потом крики раненых гитлеровцев. Наводчик Соловьев, выпустивший из своего пулемета первую очередь, видел, как полетели в пропасть три немецких солдата. Разведывательная группа противника не выдержала дружного огневого удара и покатилась вниз.
С этого дня началась тяжелая боевая неделя. Немцы предпринимали одну атаку за другой, поддерживая свою пехоту огнем артиллерии. Не сумев добиться успеха малыми силами, они бросили в бой целый батальон. Но не дрогнули 40 отважных советских воинов. Цепи немецких горных стрелков пробираются по лощине. Вот они уже близко, но стрелять еще рано, надо выждать минуту-две. До первой немецкой цепи осталось 200 метров. Резкий свисток с командного пункта — и через секунду грянул огонь.
Атака немецкого батальона закончилась так же безуспешно, как и все предыдущие попытки противника сбить наш маленький отряд с занимаемых им горных позиций. Потеряв одними убитыми более 200 человек, фашисты отошли в исходное положение.
Немцы, обозленные неудачами, решили во что бы то ни стало разделаться с маленьким горным отрядом. В наступление они послали полк. Два батальона двигались в первом эшелоне, намереваясь взять отряд в клещи. Не дрогнули и на этот раз защитники перевала. Поредели их ряды — два бойца убиты, четверо ранены. Но, не умолкая, косят наседающих немцев пулеметы, автоматы, минометы.
Долганов возвращался с командного пункта в свой маленький дот. Он заметил, что в тыл его огневой точки заходят восемь вражеских альпинистов. Почему же не стреляет по ним Соловьев? Долганов делает рывок вперед. Немецкие автоматчики заметили сержанта и открыли по нему огонь. Пришлось снова лечь. Выждал две-три секунды, и опять вперед. Вот, наконец, и огневая точка. Соловьев, бледный, сидит у пулемета, пытается устранить задержку, а немцы уже в 50 метрах. Долганов быстро лег за пулемет, изменил натяжение возвратной пружины и тут же одной очередью срезал всех альпийских стрелков до единого.
Красноармеец шарит в подсумке рукой. Там пусто, патронов больше нет. А уже слышно, как сопят взбирающиеся на гору немцы. Тогда красноармеец поднимает с земли увесистый камень и кидает его вниз. Каменный дождь обрушился на головы гитлеровцев. В тяжелое положение попали минометчики. Немцы подобрались вплотную к их позициям — вести огонь из минометов нельзя. Но не растерялись бойцы. Они быстро отвинчивают колпачки, ударяют минами о камни и бросают их в фашистов. Атака отбита.
Немцы несут большие потери. Один батальон почти полностью уничтожен, другой потерял половину своего состава. Но враг продолжает лезть вперед. Командир нашего отряда видит, что к нему в тыл, огибая гору, заходит фашистская рота. Патроны на исходе, Долганов расстрелял последнюю ленту, у минометчиков осталось несколько мин. «Надо отходить на следующий рубеж», — решает командир и подает сигнал. Бойцы вырываются из окружения и занимают новые позиции на подступах к перевалу.
Ночью пришли вьюки с боеприпасами, подошло подкрепление. Так закончилась боевая неделя маленького горного отряда, уничтожившего в неравной схватке до тысячи гитлеровцев и закрывшего на крепкий замок горные тропы. // Майор Н.Прокофьев. Майор П.Слесарев. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.
**************************************************************************************************************************************************
Штурмовые группы в тылу врага
(От нашего корреспондента по Северо-Западному фронту)
Бои местного значения на одном участке Северо-Западного фронта характерны активными действиями наших штурмовых групп, которые ведут ожесточенные схватки за мелкие опорные пункты, отдельные огневые точки, укрепленные опушки леса. Эти штурмовые группы, натренированные в длительных боях, смело проникают в расположение врага, атакуют и захватывают его траншеи, дзоты, подавляют один за другим отдельные очаги сопротивления.
Батальону, которым командует старший лейтенант Еремин, было приказано силой нескольких штурмовых групп вклиниться в оборону противника, созданную в лесу, дезорганизовать ее, а затем продвинуться на высоту и удержать за собой рубеж. Чтобы достигнуть исходного рубежа для атаки, штурмовым группам предстояло прежде всего преодолеть широкую поляну, обстреливаемую немцами.
Бойцы выждали удобный момент, когда немцы ослабили, а затем и вовсе прекратили огонь. Пользуясь этим, первая группа по сигналу командира выдвинулась на поляну. Бойцы продвигались ползком по-пластунски, маскируясь в траве и за кочками. Немцы возобновили обстрел поляны. Снаряды и мины ложились рассредоточенно, покрывая большую площадь. Бойцы залегли в воронках. Искусно переползая от воронки к воронке, они незамеченными достигли опушки леса. Вслед за ними поползли через поляну бойцы других групп. Впереди двигались автоматчики и гранатометчики. Командир взвода Журавлев выдвинул вперед два расчета с противотанковыми ружьями.
Первая штурмовая группа, сосредоточившись у опушки леса в воронках от снарядов, открыла огонь из автоматов по немецким блиндажам, расположенным в лесу. Расчеты противотанковых ружей меткими выстрелами в амбразуры подавили огонь трех ближайших немецких дзотов. Не выдержав внезапного удара, уцелевшие гитлеровцы стали покидать передние дзоты и блиндажи, и наши бойцы немедленно заняли их. В дзотах осталось восемь вражеских трупов, два автомата, пять винтовок, много гранат и патронов. Зацепившись за отбитые дзоты и блиндажи и поддерживая друг друга огнем, штурмовые группы Еремина продолжали вгрызаться в оборону противника.
Немцы оказывали упорное сопротивление. Они несколько раз бросались в контратаки большими группами под прикрытием артиллерийского и минометного огня, но не имели успеха. Наши бойцы отбивали все попытки врага приблизиться к дзотам, используя, кроме своих огневых средств, также и гранаты, захваченные у немцев.
Группа младшего лейтенанта Штрайхера блокировала пять немецких дзотов. Немцы бросили в контратаку большую группу с тремя офицерами во главе. Младший лейтенант решительно повел своих бойцов на сближение с противником. Вскоре завязалась ожесточенная рукопашная схватка. Выстрелами в упор, гранатами, штыками и прикладами красноармейцы пробили себе дорогу вперед. Блокированные немецкие дзоты были захвачены. В этом бою младший лейтенант Штрайхер пал смертью героя. Бойцы дорого отплатили за его смерть. Они истребили несколько десятков гитлеровцев и в их числе трех офицеров.
Девять дней сражались штурмовые группы батальона в глубине обороны противника. Они отбили за это время около 30 вражеских контратак, захватили 12 дзотов, три пулемета, около ста винтовок, много патронов и ручных гранат, четыре радиостанции, ценные документы. Было уничтожено более 200 немцев. Взяты пленные. Штурмовые группы достигли высоты и закрепились на этом рубеже. Поставленная задача была выполнена. // Старший политрук К.Токарев.
Восемь против сорока пяти
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 30 сентября. (По телеграфу от наш. корр.). Стало известно, что большая группа немецких бомбардировщиков направляется к расположению одного нашего соединения. С ближайшего аэродрома немедленно поднялась группа наших самолетов в составе четырех истребителей под командованием летчика Чеботарева и четырех штурмовиков во главе с тов. Савченко.
Наши самолеты пересекли линию фронта и здесь произошла встреча с численно превосходившим врагом. На бомбежку наших войск летели тридцать немецких бомбардировщиков в сопровождении пятнадцати истребителей.
Савченко и Чеботарев решили навязать бой фашистам. Наши летчики смело врезались в строй немецких самолетов и открыли огонь из пушек и пулеметов. Гитлеровцы были ошеломлены внезапным нападением. Пока они перестраивали боевой порядок, наши летчики успели сбить несколько самолетов. Первый из них — бомбардировщик «Ю-88» — уничтожил тов. Савченко. Летчик Мшвениерадзе зажег истребитель «Ме-109».
В этом неравном и тяжелом воздушном бою отличился истребитель Комаров. Он вместе с товарищами переходил из атаки в атаку. Один за другим пошли к земле еще четыре вражеских самолета. Однако и наша восьмерка потеряла три самолета. Оставшиеся пять летчиков продолжали бесстрашно нападать на врага. В итоге немецкие бомбардировщики обратились в бегство. Они беспорядочно сбросили бомбы в лес и на расположение своих войск.
**************************************************************************************************************************************************
Ответ раненых бойцов Красной Армии солдатам чехословацкой армии
Мы, раненые бойцы Красной Армии, шлем вам, чехословацким солдатам, братьям по оружию, свой красноармейский привет и благодарность за ваше дружеское приветствие.
Каждый из нас, проливший свою кровь на полях ожесточенных сражений с озверелым врагом, знает, что только смелой, решительной и беспощадной борьбой можно добиться разгрома гитлеровского фашизма и освобождения от немецко-фашистского ига.
Мы внимательно следим за героическим сопротивлением чехословацкого народа гитлеровским разбойникам. Мы рады слышать слова привета от тех, кто готов с оружием в руках отстаивать право своего народа на свободное существование, кто вместе с нами готов беспощадно бить немецких оккупантов.
За боевую дружбу свободной чехословацкой армии и героической Красной Армии Советского Союза.
По поручению раненых бойцов и командиров Красной Армии: гвардии капитан П.Д.Флягин, старший сержант М.И.Кутник, младший политрук А.С.Кошман, ефрейтор В.Д.Арсланов, лейтенант Н.А.Капустин, гвардии красноармеец Я.Ф.Бобыль — раненые в боях за Сталинград.
________________________________________________
И.Эренбург: Наемники ("Правда", СССР)
Испанские «лыжники» ("Красная звезда", СССР)
Судьба "легиона" босяков "Фландрия"* ("Красная звезда", СССР)
Судьба норвежских наемников Гитлера* ("Красная звезда", СССР)*
Что осталось от норвежского "легиона"* ("Красная звезда", СССР)
С.Дангулов. Вассальный сброд в воздухе* ("Красная звезда", СССР)
Конец бельгийского батальона «добровольцев» ("Красная звезда", СССР)**
Газета "Красная Звезда" №231 (5295), 1 октября 1942 года
|
Метки: осень 1942 октябрь 1942 газета Красная звезда 1942 Румыния в ВОВ |
7 октября 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.
"Красная звезда": 1942 год.
"Красная звезда": 1941 год.
Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.
Напряжение в Сталинграде нарастает. Правда, немцы и здесь, как на Северном Кавказе, уже не в силах наступать по всему фронту. Они рвутся к Волге на узких участках. Продвижение врага измеряется не километрами, а шагами. И все же вызывают большую тревогу сообщения наших корреспондентов: «Вчера в течение дня противник продолжал яростные атаки на заводскую часть Сталинграда, намереваясь прорваться к Волге»; «Наши подразделения стойко отражают натиск превосходящего численностью противника, но все же вынуждены были оставить одну высоту»: «Немецкие автоматчики обтекают сад слева и справа»…

Ох уж этот эзопов язык на войне! Много мучений мы переживали из-за него. Спору нет, в годы войны меньше боялись горькой правды, чем в предвоенные и послевоенные годы, но и тогда давало себя знать застарелое стремление уклоняться от реальной неприятности. И вызывалось оно вовсе не соображениями секретности.
В связи с ухудшением обстановки в Сталинграде Ставка вновь потребовала от командующих фронтами во что бы то ни стало удержать город. «Сталинград не должен быть сдан противнику, — говорится в директиве Ставки, — а та часть Сталинграда, которая занята противником, должна быть освобождена». Ознакомившись с этим указанием, я сразу же вызвал к прямому проводу Высокоостровского. Не мог я, понятно, сказать ему о требованиях Ставки. Пришлось прибегнуть к разным намекам, мол, ознакомьтесь с «бумагой», посланной вчера начальству, и действуйте... Корреспондент даже не стал спрашивать: «Что за бумага? Чья? О чем?» Он ответил по-солдатски: «Все сделаем». Опытный спецкор сразу нашел нужную «бумагу» в Военном совете, понял, что от него требуется, и стал действовать.
Из Сталинграда начали поступать материалы, в которых снова прозвучали призывы: «Назад для нас дороги нет»... Рассказывали спецкоры и о многочисленных контратаках наших частей. То там, то здесь отвоевывается перекресток, дом, этаж или даже лестничная клетка, но не всегда удается их удержать. Сегодня упорной обороной закладываются первые камни освобождения.
* * *
Обстановка на Северном Кавказе по-прежнему напряженная. Если в Сталинграде идут бои за каждую улицу, каждое здание, то на Кавказе сражения разыгрываются в горах. Об этом говорят и заголовки корреспонденций: «Оборона горного перевала», «На горных тропах», «Бои за горные вершины»…
В газете много снимков. С Северного Кавказа — Кнорринга, из Сталинграда — Левшина. На фотографиях запечатлены характерные особенности того или иного театра военных действий. У Левшина — бои среди развалин зданий, у Кнорринга — утесы, вершины, ущелья. Можно сказать, что это фотографический обзор сражений. Напомню, что в ту пору у наших репортеров не было мощной увеличительной аппаратуры, все баталии сняты вблизи; многие снимки делались под огнем, они впечатляют своей достоверностью, свидетельствуя о мужестве корреспондентов.
* * *
В газете появились путевые очерки Ильи Эренбурга из района Ржева. Как он там очутился? Было это так. Зашел ко мне Илья Григорьевич и требует, не просит:
— Пошлите меня в Сталинград.
— Не могу, — ответил я.
— Тогда — на Кавказ.
— Тоже не могу.
Регулярно, словно по расписанию, он приходил ко мне с одной просьбой — дать ему командировку на Юг. Но не мог я надолго отпустить его из редакции. Он выступал в газете почти каждый день, он нужен был здесь. Когда фронт приблизился к Москве, поездка у Эренбурга занимала день, от силы — два. А ныне на дальнюю поездку, на Юг, уйдет неделя-две, а то и больше.
— Знаете что? — предложил я писателю. — Если хотите, поезжайте под Ржев. Это, конечно, не Сталинград и не Кавказ, но там недавно были сильные бои, да и сейчас не совсем затихли. Есть что посмотреть и о чем написать.
Илья Григорьевич согласился и еще попросил у меня командировку для американского корреспондента Стоу. Пробыл он там два дня и вернулся переполненный впечатлениями от встреч с нашими бойцами и жителями освобожденных сел. Написал три очерка. Первый из них, опубликованный в сегодняшней газете, называется «Ожесточение», Эренбург писал:
«Донбасс, Дон, Кубань, — каленым железом прижигал враг наше сердце. Может быть, немцы ждали стона, жалоб? Бойцы молчат. Они устали, намучились, многое претерпели, но враг не дождался вздоха. Родилось ожесточение, такое ожесточение, что на сухих губах трещины, что руки жадно сжимают оружие, что каждая граната, каждая пуля говорит за всех: «Убей! Убей! Убей!»
В этом очерке, как и во втором — «Так зреет победа», который готовится для очередного номера газеты, повествуется о том, как ожесточение преобразует чувство советских воинов в боевой порыв и беспощадность к врагу. А третий очерк — о немецких солдатах, какие они сегодня, во вторую осень войны. Очерк так и назван — «Осенние фрицы». Илья Григорьевич видел их там, под Ржевом, говорил с пленными, слушал их и, как тонкий психолог, улавливал, где пленные хитрят, а где обнаруживают свое нутро. Вылилось это в таких строках:
«О Бурбонах говорили: «Они ничему не научились и ничего не забыли». Мне хочется сказать это и об осенних фрицах. Вот передо мной лейтенант Хорст Краусгрелль. Он сначала орал: «Гитлер капут», но сейчас он отдышался, успокоился и преспокойно говорит: «Нам, немцам, тесно, а у вас много земли»... Его схватили у Ржева, но он тупо повторяет: «Покончив с Россией, мы возьмемся за англичан...»
Писатель предупреждает, чтобы мы не строили никаких иллюзий: «Не следует думать, что осенние фрицы более человекоподобны, нежели зимние или летние».
Есть в первом очерке Эренбурга примечательные строки о втором фронте. Об этом позже будет много написано и сказано. Солдатский юмор в те времена откликнулся на затяжку открытия второго фронта: им стали называть... банки с тушенкой, присланные из Америки.
— Второй фронт откроем? — говорили бойцы, вскрывая эти консервы.
До этой темы Эренбург давно добирался. Вспоминаю наши встречи с иностранными корреспондентами в Наркомате иностранных дел. Время от времени отдел печати наркомата устраивал приемы для зарубежных корреспондентов. Это не были пресс-конференции, которые ныне проводятся в изобилии. Инкоров собирали за относительно хлебосольным столом, чтобы отметить какую-нибудь дату или по другому поводу. Иногда приходил с нами Алексей Толстой. Как там неистовствовал Илья Григорьевич! Он буквально дышать им не давал, острыми и едкими репликами по поводу затягивания второго фронта портил им не только настроение, но и аппетит. Толстой, сидевший рядом с нами, время от времени дергал Эренбурга за пиджак:
— Да уймись ты, Илюша…
Илья Григорьевич огрызался:
— Ничего, пусть едят и пьют с этой приправой…
Однако до сих пор в газетах по вполне понятным причинам о затягивании второго фронта — ни слова. И все-таки Эренбург сумел сказать об этом, обходя дипломатические сложности:
«Недалеко от Ржева я зашел ночью в избу, чтобы отогреться. Со мной в машине ехал американский журналист (Леланд Стоу. — Д.О.). Старая колхозница, услыхав чужую речь, всполошилась: «Батюшки, уж не хриц ли?» (она говорила «хриц» вместо «фриц»). Я объяснил, что это американец. Она рассказала тогда о своей судьбе: «Сына убили возле Воронежа. А дочку немцы загубили. Вот внучек остался. Из Ржева...» На койке спал мальчик, тревожно спал, что-то приговаривая во сне. Колхозница обратилась к американцу: «Не погляжу, что старая, сама пойду на хрица, боязно мне, а пойду. Вас-то мы заждались...» Журналист, видавший виды, побывавший на фронтах в Испании и Китае, Норвегии и Греции, отвернулся: он не выдержал взгляда русской женщины».
Кстати, когда Эренбург вернулся из поездки, он мне рассказал любопытную историю, которая произошла со Стоу. Встретились они с командиром дивизии Чанчибадзе. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь. Невозмутимый комдив произносил цветистые тосты. Стоу пить умел, но не выдержал: «Больше не могу», — сказал он Чанчибадзе. Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на донышке и сказал Илье Григорьевичу: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют американцы». Стоу рассмеялся: «В первый раз радуюсь, что мы плохо воюем».
Конечно, этот эпизод по дипломатическим соображениям не вошел в очерк Эренбурга, но Илья Григорьевич мне рассказал, что Стоу напечатал в своей газете статью, в которой рассказал, как колхозница и генерал его подкузьмили...
* * *
Побывал в эти дни под Ржевом и Алексей Сурков. Вернулся со стихами «Под Ржевом». Сколько в них боли и печали!
Завывают по-волчьи осколки снаряда
В неуютном просторе несжатых полей.
Но когда на минуту замрет канонада,
В небе слышен печальный крик журавлей.
Вот опять — не успели мы с летом проститься,
Как студеная осень нагрянула вдруг.
Побурели луга, и пролетная птица
Над окопами нашими тянет на юг.
На поляне белеют конские кости,
В клубах черного дыма руины видны.
Не найдете вы нынче, залетные гости.
На просторной земле островка тишины.
Вот как неожиданно увидел поэт войну...
* * *
Братья Тур прислали новый очерк «Тризна». Они рассказали о драматической истории, происшедшей на Брянском фронте в Башкирской кавалерийской дивизии. Шестеро боевых разведчиков, среди которых были воины разных возрастов от седобородого Юлты, знатного чабана, до совсем еще юного Салавата Габидова, недавнего студента Уфимского педагогического института, отправились ночью в разведку. Никто не знает, как они погибли, но только на следующее утро их растерзанные трупы были выброшены немцами на простреливаемую минометами «ничейную» полянку. Под огнем противника смельчаки из дивизии вытащили своих товарищей, чтобы предать их воинскому погребению. Их похоронили на опушке леса, под русскими березками, завернув в бурки и положив под головы уздечки. Так хоронили в степи всадников. Тела их положили в могилах лицом на восток, к родным степям.
А когда стемнело, двадцать башкир в безмолвии выехали из полка. Они пробрались на огневые позиции немецкой батареи. Тридцать восемь гитлеровцев заплатили своей жизнью за наших товарищей. Споров с убитых погоны и захватив 50 лошадей, мстители вернулись в полк.
Приведу заключительные строки корреспонденции:
«Подобно тому, как прах шести башкирских разведчиков войдет животворным соком в корни русских берез, слава о подвиге двадцати мстителей войдет в память народа русского. Преклоним же колени и постоим в раздумье перед священной красотой этой воинской тризны, в которой отразилось благородное сердце старинного степного народа!»
***
# Е.Ерохин. Оборона горного перевала // "Красная звезда" №236, 7 октября 1942 года
# Н.Прокофьев, П.Слесарев. На горных тропах // "Красная звезда" №231, 1 октября 1942 года
# Н.Прокофьев. Бои за горные вершины // "Красная звезда" №238, 9 октября 1942 года
# И.Эренбург. Ожесточение // "Красная звезда" №237, 8 октября 1942 года
# И.Эренбург. Так зреет победа // "Красная звезда" №238, 9 октября 1942 года
# И.Эренбург. Осенние фрицы // "Красная звезда" №239, 10 октября 1942 года
# А.Сурков. Военная осень // "Красная звезда" №231, 1 октября 1942 года
# Братья Тур. Тризна // "Красная звезда" №236, 7 октября 1942 года
______________________________________________________________
Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 369-373
|
Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг осень 1942 октябрь 1942 газета Красная звезда |






