Аксаков Михаил Георгиевич |
Аксаков Михаил Георгиевич
Выпускник 1926 года

.
От Администратора.
Любому образованному человеку известна фамилия Аксаковых.
Люди, интересующиеся историей, знают о существовании древнего русского дворянского рода Аксаковых. Многие из этих людей могут назвать имена, и знакомы с биографиями известных представителей рода Аксаковых. Но немногие знают, что среди славных представителей рода Аксаковых есть и лётчик-истребитель, выпускник Борисоглебской военной школы лётчиков. Речь идёт о Михаиле Георгиевиче Аксакове, рассказ о трагической судьбе которого вы найдёте на этой странице.
.
Все материалы любезно предоставлены Аксаковой Татьяной Михайловной.
Подробное повествование о роде Аксаковых вы найдёте на этом сайте: http://aksakoff.ru/
*****
.
«Это было, когда улыбался Только мёртвый,
Спокойствию рад…»
А. Ахматова
.
После октября 1917 года гонения по отношению к дворянству, как социальной категории, интегрировались с репрессиями, которые проводились в отношении других социальных и профессиональных групп.
Не избежали репрессий и оставшиеся в СССР представители рода Аксаковых. Особенно трагично сложилась судьба Михаила Георгиевича Аксакова...
Михаил Георгиевич Аксаков родился 28 июля 1903 года в Калуге, крещен 6 августа того же года в церкви Божьей матери Одигитрии Смоленской там же. Восприемниками были его бабушка Юлия Владимировна Аксакова (ур. Воейкова) и потомственный дворянин Николай Григорьевич Петров.
.

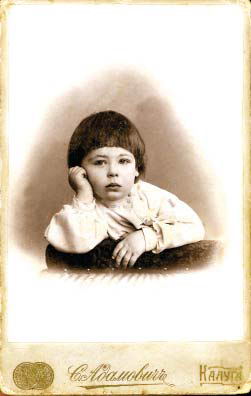

Миша Аксаков. Калуга. Фото ок. 1905 года. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.

 Определением Московского дворянского собрания от 25 октября 1914 года он вместе с матерью был внесен во 2 часть губернской родословной книги.
Определением Московского дворянского собрания от 25 октября 1914 года он вместе с матерью был внесен во 2 часть губернской родословной книги.
.
На фотографии слева:
Мария Михайловна Аксакова (ур. Лебедева) с сыном Михаилом.
Одними из последних дворян Аксаковых 25 октября 1914 года были внесены в Российскую дворянскую родословную книгу. Московской губернии Калуга.
Фото ок. 1905 года.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
На фотографии справа:
Мама Михаила Георгиевича – Мария Михайловна Аксакова.
Козельск. 1911 год.
Личное собрание Т. Б. Лебедевой. Зеленоград. Россия.
.
.
.
.
Его отец, надворный советник Георгий Николаевич Аксаков, 1 июня 1914 года внезапно скончался от сердечного приступа на станции Сухиничи.
Окончив 4 класса гимназии в Белеве и не имея средств к существованию, Миша Аксаков с 14 лет (с 1917 по 1921 гг.) вынужден был работать деревообделочником на заводе в Калуге. Однако воспитанное в семье уважение в воинской службе оказало влияние на выбор окончательной профессии.
.

Михаил Георгиевич Аксаков – гимназист.
Белев. Фото ок. 1916 года.
Личное собрание М. М. Аксакова.
Москва. Россия.
.
.
В 1921 году в восемнадцатилетнем возрасте он поступил в школу мотористов в г. Егорьевске, затем окончил Ленинградскую теоретическую школу Военно-воздушных сил, а в 1926 году – Борисоглебское военное авиационное училище.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Весельчак по характеру, летчик по призванию, он быстро вписался в коллектив сослуживцев, выступал душой компании, писал и публиковал стихи.
Одно из стихотворений Михаила опубликовано в первом номере газеты "Красный взлёт": http://www.bvvaul.ru/UserFiles/Image/vipuskniki/go...ov_mg/gazeta/aksakov_gaz27.jpg
.

Борисоглебская школа военных летчиков. Художественная самодеятельность.
Слева направо: А. Курбан, Т. Максимов, М. Аксаков. 4 июля 1926 года
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
Поступая в военное учебное заведение, Михаил Георгиевич Аксаков скрыл дворянское происхождение.
В 1921 году он стал членом Российского коммунистического союза молодежи, где состоял до 1927 года, пока не выбыл по возрасту, или, как было указано в личном деле, «по механическим причинам».
Жена двоюродного брата Бориса, Татьяна Александровна Аксакова, на допросе в 1935 году так описывала внешний вид Михаила Георгиевича: «Он был высокого роста, стройный худощавый, большие светло-голубые глаза, русые волосы».
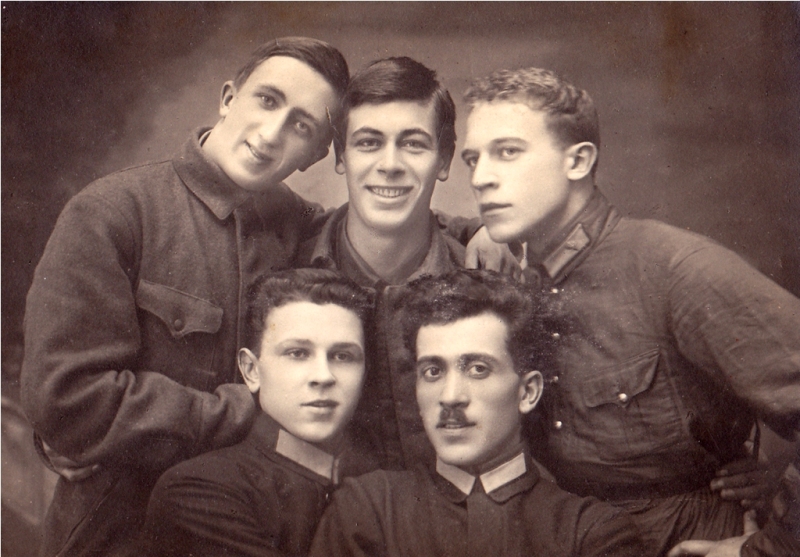
В Борисоглебской школе военных летчиков. Член РКСМ Михаил Георгиевич Аксаков (в центре), слева А. Курбан, справа Т. Максимов. Борисоглебск. 1926 год. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
По окончании училища М. Г. Аксаков был направлен в Северо-Кавказский военный округ в город Ростов-на-Дону.
 Обладая несомненными способностями к летному делу, он делал заметные успехи в воинской службе.
Обладая несомненными способностями к летному делу, он делал заметные успехи в воинской службе.
За короткий срок в совершенстве освоил различные типы самолетов: У-1, Р-1, И-3, И-4, И-5, И-7, И-15.
За два года стал сначала командиром звена, а затем командиром 9-го отдельного отряда 26-й истребительной авиационной эскадрильи.
..
.
.
.
.
.
Командир звена 26-й истребительной авиаэскадрильи лейтенант М. Г. Аксаков.
Северо Кавказский военный округ. Ростов-на-Дону. 1928 год.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Осенью 1929 года в составе той же эскадрильи под руководством И. Я. Лейцингера Михаил Георгиевич Аксаков на истребителе Р-1 был направлен для оказания поддержки в разрешении военного конфликта на КВЖД.
 И. Я. Лейцингер, командир 26 истребительной авиаэскадрильи, бывший офицер белой армии. С обратной стороны фото рукой Юлии Гавриловны написано: «Погиб в 1937»
И. Я. Лейцингер, командир 26 истребительной авиаэскадрильи, бывший офицер белой армии. С обратной стороны фото рукой Юлии Гавриловны написано: «Погиб в 1937»
.
В ходе боёв Аксаков М. Г. проявил себя с лучшей стороны и был представлен к высшей на тот период государственной награде – ордену Красного Знамени, которым был награжден 31 октября 1930 года.
В 1927 году в Ростове-на-Дону М. Г. Аксаков женился на Юлии Гавриловне Покровской – младшей дочери известного в Кисловодске священнослужителя.
 Кисловодск. Лето 1926 года.
Кисловодск. Лето 1926 года.
Юлия Гавриловна Покровская – будущая жена Михаила Георгиевича Аксакова.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
 Фотографии Юлии Гавриловны и Михаила Георгиевича Аксаковых, сделанные в Ростове-на-Дону в 1928 году.
Фотографии Юлии Гавриловны и Михаила Георгиевича Аксаковых, сделанные в Ростове-на-Дону в 1928 году.
После ареста мужа в 1937-м, Юлия Гавриловна вырезала себя и Михаила Георгиевича из старых фотографий, чтобы (по ее мнению) обезопасить тех, кто был запечатлен на снимках вместе с ними.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
..

 В 1928 году у них родился сын Михаил, который в годовалом возрасте вместе с мамой последовал за отцом в Читу, для оказания тыловой поддержки уже главе семейства. Именно в поезде маленький Миша сделал свои первые шаги в этой нелегкой неоднозначной жизни.
В 1928 году у них родился сын Михаил, который в годовалом возрасте вместе с мамой последовал за отцом в Читу, для оказания тыловой поддержки уже главе семейства. Именно в поезде маленький Миша сделал свои первые шаги в этой нелегкой неоднозначной жизни.
.
Одни из первых фотографий Миши Аксакова.
1929 год. Чита.
Малыш на руках у отца, Михаила Георгиевича, который в составе 26-й эскадрильи совершил перелет на самолете Р-1 из Ростова-на-Дону в Забайкалье для участия в боевых действиях на КВЖД.
Миша с мамой прибыли в Читу для оказания тыловой поддержки главы семьи.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
.
.
.
.
Во время службы в Северо-Кавказском военном округе Михаил Георгиевич Аксаков познакомился с Владимиром Антоновичем Кушаковым – в то время комбригом и командующим Военно-воздушными силами округа. С ним они в 1928 году полгода проживали в одной служебной квартире, а их отношения продолжались и после того, как М. Г. Аксаков в 1930-е был переведен в Смоленск.
Это знакомство, с одной стороны, способствовало карьере молодого летчика, а с другой – сыграло в его судьбе роковую роль.
В гражданскую войну Владимир Антонович Кушаков воевал в частях Червонного казачества у В. М. Примакова, а затем находился на различных командных должностях в Военно-воздушных силах Советской России. Оценивая происходящее в стране, он не в полной мере разделял политическую линию руководства. За «троцкистские» взгляды был исключен из ВКП (б), несмотря на боевые заслуги и членство в партии с 1914 года. Встречаясь с видными троцкистами, Владимир Антонович Кушаков попал в поле зрения органов государственной безопасности. От репрессий его спасла только смерть в начале 1937 года.
Другим столь же важным обстоятельством оказалась дружба Михаила Георгиевича Аксакова, которая началась там же, в Ростове-на-Дону, с Павлом Митрофановичем Монархо, впоследствии командиром 92-й истребительной авиационной бригады ПВО. Они дружили семьями, вне службы, в шутку называли Павла Монархо – «Монархом».
В апреле 1930 года Михаил Георгиевич Аксаков стал командиром отряда отдельной авиационной эскадрильи, расквартированной в Смоленске, а 31 октября 1933 года – командиром 33-й истребительной авиационной эскадрильи, которая располагалась в Бобруйске.
 М. Г. Аксёнов с родителями на пикнике.
М. Г. Аксёнов с родителями на пикнике.
Смоленск. 27 мая 1931 года. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
31 мая 1935 года он получил очередное назначение по службе, заняв должность командира 117-й истребительной авиационной эскадрильи, которая входила в состав 92-й истребительной авиационной бригады. Вскоре, 15 февраля 1936 года, Михаилу Георгиевичу Аксакову было присвоено звание майор, а весной в бригаду на должность комбрига прибыл его друг Павел Митрофанович Монархо.
.
92-я истребительная авиационная бригада базировалась в подмосковных Люберцах и входила в систему противовоздушной обороны Москвы. Ее основной задачей являлось обеспечение обороноспособности столицы и мест пребывания руководства страны на подмосковных объектах. Учитывая близость к Москве и элитность подразделения, бригада в первую очередь комплектовалась новыми истребителями, но личный состав, не имея необходимой летной подготовки, не успевал переучиваться и осваивать новые виды самолетов. В связи с этим командиры требовали детального изучения техники перед летной практикой, что позволяло снизить травматизм и аварийность.
.

Один из первых истребителей - монопланов с убирающими в воздухе шасси, которые вводили в строй летчики подмосковной 92 авиабригады ПВО Москвы. Российский Государственный военный архив. Москва. Россия.
.
Как вспоминает сын М. Г. Аксакова, Михаил Михайлович, жизнь в Люберецком авиационном городке № 5 была однообразной.
Для мальчишки 7-летнего возраста она осложнялась еще и неудобством внезапного контроля со стороны отца. Заходя на посадку или делая вираж при очередном тренировочном полете, тот частенько наблюдал, как компания ребят «чистила» соседские яблочные сады, снижал высоту, сбрасывал скорость и, паря над сорванцами, показывал им огромный кулак. Отец сам очень любил яблоки, но только приобретенные законным путем.
.
 Высокий рост является отличительной чертой мужской части калужско-московской ветви Аксаковых. Михаил Георгиевич – 2 метра 3 сантиметра, его сын, Михаил Михайлович и внук Андрей также ростом под два метра. Когда Михаилу Георгиевичу случалось болеть и лежать в постели, ему подставляли табуретку под ноги, просунутые между металлическими прутьями спинки кровати, а при прыжках с парашютом ему приходилось раскрывать сразу два – основной и запасной, так как один парашют его не держал.
Высокий рост является отличительной чертой мужской части калужско-московской ветви Аксаковых. Михаил Георгиевич – 2 метра 3 сантиметра, его сын, Михаил Михайлович и внук Андрей также ростом под два метра. Когда Михаилу Георгиевичу случалось болеть и лежать в постели, ему подставляли табуретку под ноги, просунутые между металлическими прутьями спинки кровати, а при прыжках с парашютом ему приходилось раскрывать сразу два – основной и запасной, так как один парашют его не держал.
.
15 февраля 1936 года командиру 117-й истребительной авиаэскадрильи Аксакову Михаилу Георгиевичу присвоено очередное воинское звание – майор. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия
.
Наличие служебного автомобиля, который М. Г. Аксаков часто водил сам, и возможность покататься с отцом скрашивали однообразие гарнизонной жизни. Должность командира авиационной эскадрильи по тем временам была достаточно высокая. В начале Второй мировой войны на основе эскадрилий формировались авиационные полки.
Жилось трудно, процветало воровство. После очередной кражи у Аксаковых в квартире практически ничего не осталось. Унесли все, в том числе и постельное белье. Тогда комбриг В. А. Кушаков подарил им списанный шелковый парашют, который частично был распорот на постельное белье, а оставшаяся его часть фигурировала впоследствии как вещественное доказательство шпионской деятельности главы семейства.
Когда в гарнизонном городке случился очередной инцидент и был украден велосипед Аксаковых, Михаил Георгиевич сел на велосипед соседа и, пытаясь догнать вора, выстрелил в шину заднего колеса, но промахнулся и попал в пятку жулика. Это вызвало одобрительный гул собравшихся соседей, а вор, бросив свой трофей и прихрамывая, быстро скрылся.
.
Назначение под Москву М. Г. Аксаков воспринял спокойно, поскольку оно позволяло освоить другие типы самолетов (У-2, Р-5, УТИ-2, И-16, СМ-22 и СМ-25), к февралю 1937 года он имел 1286 часов дневного и 82 часа ночного налетов.

 Летчик-истребитель Красной Армии Командир 117-й истребительной авиационной эскадрильи 92 авиабригады ПВО Москвы майор Аксаков Михаил Георгиевич. Фото ок. 1936 года.
Летчик-истребитель Красной Армии Командир 117-й истребительной авиационной эскадрильи 92 авиабригады ПВО Москвы майор Аксаков Михаил Георгиевич. Фото ок. 1936 года.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
Однако его друг, П. М. Монархо, перевод в глубь страны расценил как политическое недоверие и был явно этим недоволен.
С занятием должности комбрига Павлом Митрофановичем Монархо служба М. Г. Аксакова должна была бы пойти еще более успешно. Однако осенью 1936 года в части случилось происшествие: прыгая с парашютом, погиб лейтенант Юненко.
Разбитые в результате тренировочных полетов истребители ремонтировались медленно и содержались не в лучшем техническом состоянии. Поставленная перед бригадой задача создания вокруг Москвы дополнительных аэродромов реально оказалась невыполнима, а предложение использовать для взлета и посадки подмосковные дороги было признано легковесным.
 Ситуацию держал на контроле командующий Военно-воздушными силами СССР, заместитель Наркома обороны, командарм второго ранга Я. И. Алкснис, которому П. М. Монархо и М. Г. Аксаков лично докладывали о боеготовности эскадрилий во время его инспекционных проверок бригады, в том числе вместе с наркомом обороны К. Е. Ворошиловым.
Ситуацию держал на контроле командующий Военно-воздушными силами СССР, заместитель Наркома обороны, командарм второго ранга Я. И. Алкснис, которому П. М. Монархо и М. Г. Аксаков лично докладывали о боеготовности эскадрилий во время его инспекционных проверок бригады, в том числе вместе с наркомом обороны К. Е. Ворошиловым.
.
Майор Аксаков Михаил Георгиевич.
Фотография из справки, составленной по запросу органов госбезопасности 17 февраля 1937 года по материалам личного дела военнослужащего.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
Осенью 1936 года все они присутствовали на заседании Политбюро ВКП (б), где обсуждался вопрос о снижении травматизма в Военно-воздушных силах СССР.
В подобной ситуации командование бригады приняло верное, по сути, решение об уменьшении количества тренировочных полетов и о повышении за счет освободившегося времени качества теоретической подготовки молодого летного состава на земле. Одновременно нужно было осваивать поставленные на вооружение и поступившие в октябре 1936 года новые самолеты И-16, первые советские истребители с убирающимися шасси.
Однако данные мероприятия по обеспечению безопасности полетов были признаны «политически ошибочными» и трактовались как ухудшение подготовки летных кадров, что, в категориях 1930-х годов, называлось вредительством.
.
 22 апреля 1937 года (по традиции, в годовщину рождения вождя мирового пролетариата – об этом уже писалось ранее) Михаил Георгиевич Аксаков был арестован.
22 апреля 1937 года (по традиции, в годовщину рождения вождя мирового пролетариата – об этом уже писалось ранее) Михаил Георгиевич Аксаков был арестован.
.
Фотография из сфабрикованного следственного дела, сделанная в ночь ареста М. Г. Аксакова 22 апреля 1937 года.
Дела репрессированных в 1930–1940 годы направлялись по месту их рождения в архивы органов госбезопасности.
Архив управления ФСБ России по Калужской области.
Калуга. Россия
.
Подверглись аресту и другие офицеры 92-й бригады: начальник штаба 116-й авиационной эскадрильи Иван Алексеевич Мещеряков, командир 118-й авиационной эскадрильи Аркадий Васильевич Малышев, метеоролог бригады Илья Михайлович Тимохин и другие.
9 августа 1937 года был арестован командир 92-й авиационной бригады Павел Митрофанович Монархо. Одновременно происходили аресты в руководстве противовоздушной обороны Москвы и Московского военного округа.
.
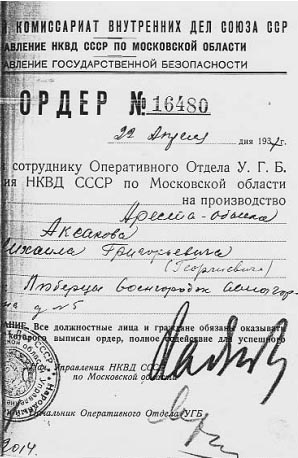 Ордер на арест М. Г. Аксакова от 21 апреля 1937 года.
Ордер на арест М. Г. Аксакова от 21 апреля 1937 года.
Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия.
.
Подлинные причины массовых арестов раскрывают показания одного из организаторов этой акции, начальника 3-го отдела 3-го управления НКВД СССР, старшего майора государственной безопасности Александра Павловича Радзивиловского. Сам он был арестован позже, 3 сентября 1938 года как участник контрреволюционного заговора и агент германской разведки (расстрелян 25 января 1940 года). Он показал, что в соответствии с личными указаниями Н. Ежова и М. Фриновского требовалось, используя арестованных военных из Московского военного округа, «развернуть картину большого и глубокого заговора в Красной Армии». Было приказано немедленно приступить к допросам арестованного начальника Противовоздушной обороны РККА Медведева и добиться от него показаний на широкий круг участников заговора для доклада Н. И. Ежова в ЦК ВКП (б). Как показывал А. П. Радзивиловский, Н. И. Ежов дал ему прямое указание «применять методы физического воздействия, не стесняясь в их выборе».
Одним из элементов сфальсифицированного заговора должно было стать разоблачение «врагов народа» в 92-й истребительной авиационной бригаде. Михаил Георгиевич Аксаков идеально подходил на эту роль.
Дворянское происхождение, которое он скрыл при поступлении в Красную армию, чрезвычайно «подозрительные» родственные связи. Большинство его родственников сражались в Белой армии или находились в эмиграции, а оставшиеся в Советской России – осуждены или подвергались аресту.
М. Г. Аксакову было предъявлено обвинение в том, что он является участником контрреволюционной вредительской троцкистской организации в системе Противовоздушной обороны Москвы. По утверждению следствия, организация ставила задачей «подрыв обороноспособности пролетарской столицы», и по ее заданиям вела «систематическую подрывную работу, направленную к выведению из строя 117-й авиаэскадрильи путем систематического срыва учебных заданий по боеподготовке». Согласно обвинению, М. Г. Аксакову вменялись пункты 6, 7, 8 и 11 статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР. Следствие вел начальник особого отдела 92-й истребительной авиационной бригады младший лейтенант государственной безопасности Федосей Иванович Васильев.
Арест Михаила Георгиевича являлся только одним из эпизодов большого дела о якобы существовавшей в Противовоздушной обороне Москвы «контрреволюционной троцкистской вредительской организации». Эти события были впрямую увязаны с показаниями бывшего командира полка ПВО Москвы Ивана Нестеровича Бердника, который был допрошен 7 апреля 1937 года и назвал Михаила Георгиевича Аксакова как члена «вредительской организации», сославшись на слова бывшего начальника штаба ПВО Москвы полковника Анатолия Федоровича Заколодкина.
.
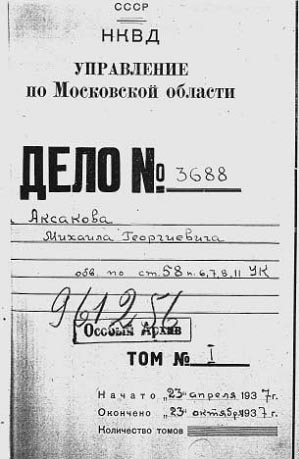 Следственное дело, заведенное на М. Г. Аксакова по указанию Н. И. Ежова, в котором на момент ареста обвиняемого отсутствовало даже определение состава преступления.
Следственное дело, заведенное на М. Г. Аксакова по указанию Н. И. Ежова, в котором на момент ареста обвиняемого отсутствовало даже определение состава преступления.
Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия.
.
В ночь с 22 на 23 апреля 1937 года в квартире М. Г. Аксакова состоялся обыск, в ходе которого, были изъяты три пистолета, (со слов Михаила Михайловича у отца были: наградной ТТ, «Маузер» – видимо, штатное оружие, и малокалиберный спортивный «Вальтер», с которым играл маленький Миша), парашют («в распоротом виде»), переписка, топографические карты, фотографии, орденская книжка и билет члена Российского коммунистического союза молодежи.
Содержался Михаил Георгиевич Аксаков на Лубянке, а затем в Таганской тюрьме. Во время следствия он был уволен со службы в РККА по пункту «в» статьи 44 (Приказ НКО СССР № 00101 от 26 апреля 1937 года).
Во время следствия Михаил Георгиевич Аксаков допрашивался 11 раз, наиболее интенсивные допросы пришлись на май 1937 года.
Допрос № 1. 23 апреля 1937 года.
Первый и второй допросы состоялись в один день – 23 апреля 1937 года. Следователя интересовали, в основном, родственные связи арестованного по отцу и матери, свойственные связи по жене, а также круг знакомств. Среди лиц, с кем поддерживались отношения, М. Г. Аксаков указал на преподавателя Военно-воздушной академии майора Виталия Ивановича Чайкина, с кем участвовал в боях на КВЖД в 1929 году, и слушателя Академии Генерального штаба Всеволода Матвеевича Лозового-Шевченко, с которым познакомился еще в Смоленске. Особенно подробно следователь расспрашивал об отношениях с Владимиром Антоновичем Кушаковым и о круге его знакомств. Кроме того, интересовались командиром 26 авиационной эскадрильи И. Я. Лейцингером, бывшим офицером Белой гвардии, непосредственным командиром Михаила Георгиевича Аксакова во время боев на КВЖД, представившим его к ордену.
Основная тема, интересовавшая следствие на данном этапе – троцкизм. Тон первого допроса был вполне мирным, никаких конкретных обвинений, в том числе и о принадлежности к троцкистской организации Михаилу Георгиевичу Аксакову не предъявлялось, а сам он утверждал, что о троцкистских взглядах Владимира Антоновича Кушакова узнал только после его смерти.
Допрос № 2. 23 апреля 1937 года.
В тот же день, 23 апреля 1937 года, М. Г. Аксаков был допрошен вторично. Допрос оказался более тяжелым. На нем впервые речь зашла о «троцкистском формировании» Кушакова-Чайкина-Зюки. Михаил Георгиевич Аксаков прямо не отвечал на поставленные вопросы, ограничиваясь констатацией известных фактов, – об исключении В. А. Кушакова за троцкизм из ВКП (б), об аресте Зюки, как троцкиста, и о том, что Виталий Иванович Чайкин пытался добиться партийной реабилитации Владимира Антоновича Кушакова. Он не признал своего участия в «троцкистской группе», заявив, что с В. А. Кушаковым и В. И. Чайкиным был только в дружеских отношениях.
Очередной вопрос следствия, заданный М. Г. Аксакову во время допроса, был провокационным: «Следствие располагает данными, что вы были участником группы. Признаете это?». Разумеется, что никаких данных подобного рода у следователя не было, как не было и самой «группы». Михаил Георгиевич мужественно отрицал все лживые утверждения.
Хотя в протоколе отсутствуют указания на хронологию допроса, исходя из объема текста, который занимает более четырех страниц, можно сделать вывод, что он был довольно длительным.
Допрос № 3. 8 мая 1937 года.
Третий допрос Михаила Георгиевича Аксакова состоялся после двухнедельного перерыва. К этому моменту в качестве свидетеля был допрошен его шофер Александр Михайлович Зарубин, который подробно рассказывал, кого посещал М. Г. Аксаков во время поездок в Москву.
Характер предъявленных обвинений на нем кардинально изменился. О троцкизме не упоминалось, и обвиняемый допрашивался о снижении боеспособности в 117-й эскадрильи и в 92-й авиабригаде в целом. Следователя особенно интересовали взаимоотношения Михаила Георгиевича Аксакова с Павлом Митрофановичем Монархо, а также с иностранцами. Обвиняемый признал, что в 1935 году в квартиру бывшего командира эскадрильи Фердинанда Фердинандовича Меча приезжали немцы и англичанка, которых тот называл «коминтерновцами», но ничего конкретного о них не сказал.
Допрос № 4. 10 мая 1937 года.
На следующем допросе следователь Ф. И. Васильев, продолжая общую линию на выяснение недостатков в боевой подготовке, попытался получить от М. Г. Аксакова компрометирующие факты на руководство бригадой. Он спрашивал, была ли сорвана огневая подготовка всей 92-й авиабригады? Но Михаил Георгиевич ответил, что несет ответственность только за состояние своей эскадрильи. Однако, следователь настойчиво интересовался деятельностью П. М. Монархо. Именно на допросе 10 мая 1937 года разрозненные сведения о недостатках в боевой подготовке были квалифицированы как «вредительство».
Допрос № 5. 13 мая 1937 года.
Очередной допрос, произошедший 13 мая, стал в определенном смысле переломным. Следователь все более активно переходил к прямым обвинениям, а выдержанность ответов М. Г. Аксакова постепенно слабела. Начался допрос с утверждения о том, что обвиняемый является участником контрреволюционной организации. Оно было категорически отвергнуто. Тогда в качестве компрометирующего факта было указано на то, что служба обвиняемого в РККА началась с обмана, с сокрытия дворянского происхождения, в чем М. Г. Аксаков признался, поскольку отрицать это не представлялось возможным. Затем в вину было поставлено, что к ордену его представил командир 26-й авиаэскадрильи И. Я. Лейцингер, «бывший белогвардеец», а награда истолковывалась как покровительство. М. Г. Аксаков заявил, что покровительства со стороны И. Я. Лейцингера не замечал.
Обоснованные возражения обвиняемого заставили следователя заявить: «У Вас все получается случайно: случайно все почти родственники оказались в белоэмиграции, случайно вы обросли знакомыми троцкистами, случайно ваша сестра оказалась замужем за активнейшим контрреволюционером Смирновым Иваном Никитичем» (двоюродная сестра Нина была замужем за другим Смирновым – заместителем Наркома связи, Смирновым Николаем Ивановичем). На это Михаил Георгиевич ответил, что с родственниками отца давно не виделся, знакомых знал не как троцкистов, а «как членов партии и командиров РККА». Тогда следователь, вновь вернувшись к теме «вредительства», с явным сарказмом спросил: «А на путь вредительства встали тоже случайно, без чьего-либо воздействия?» Подобные обвинения М. Г. Аксаков вновь отверг, пояснив, что даже если он и предпринимал действия, которые шли во вред боевой подготовке, то вредительскими их не считал.
Однако далее, видимо после определенной «обработки», в тексте протокола допроса появилась запись от имени обвиняемого: «непринятием зависящих от меня мер и несообщением в судебные органы о срыве боеподготовки, я содействовал срыву боевой подготовки эскадрильи».
Добившись ожидаемого признания, следователь продолжал развивать версию о заговоре и потребовал сообщить, по чьим указаниям действовал подследственный, ожидая, что будут названы имена вышестоящих командиров. М. Г. Аксаков продолжал упорствовать, заявив, что это были исключительно его личные ошибки. Такой ответ снова не устроил следователя Ф. И. Васильева. Собирая воедино основные пункты обвинения («сомнительное родство», «троцкистское окружение»), он указал, что «ошибки не были случайными», находясь с компрометирующими фактами в «полном соответствии», и стал настаивать на влиянии «враждебных советскому строю лиц». В итоге следователь потребовал сделать «чистосердечное признание» и назвал Михаила Георгиевича Аксакова «активным участником» срыва боевой подготовки.
Обвиняемый сделал заявление, которое явно отличалось от всего сказанного им ранее, где он не только признал себя виновным в срыве боевой подготовки, но и отметил, что «должен понести судебную ответственность».
Это было важное признание и первая серьезная победа следователя. Однако даже после него М. Г. Аксаков отверг связь с троцкистами, заявив, что с Виталием Ивановичем Чайкиным, Владимиром Антоновичем Кушаковым и другими у него были только дружеские или исключительно служебные отношения.
Допрос № 6. 16 мая 1937 года.
На следующем допросе, 16 мая, выбивание признаний продолжилось. Допрос начался с прямого вопроса: «Вы являетесь представителем враждебного класса?», на который был дан странный и путаный ответ: «Я происхожу из дворян, класса враждебного советскому строю, но я являюсь выходцем из этого класса».
Повторно перечисляя родственников, находящихся в эмиграции, М. Г. Аксаков признал, что его двоюродный брат Сергей Сергеевич Аксаков ведет «контрреволюционную работу». Тем не менее он продолжал утверждать, что ему было неизвестно о троцкистских взглядах знакомых, хотя Владимир Антонович Кушаков уже прямо был назван «троцкистом». В конце допроса следователь снова потребовал признать, что Михаил Георгиевич Аксаков являлся «участником контрреволюционной организации», по заданию которой занимался «вредительством». Однако обвиняемый вновь стал это категорически отрицать, признавая себя виновным только в том, что руководимая им 117-я эскадрилья являлась «не боеспособной».
Допрос № 7. 17 мая 1937 года.
Аналогичные требования следователя и ответы М. Г. Аксакова повторились 17 мая 1937 года. В ходе допроса позиция обвиняемого менялась. Следователь заявил, что из показаний других лиц известно, что подследственный являлся членом контрреволюционной организации, на что М. Г. Аксаков, уже не отрицая ее существования, заявил, что, возможно, из-за дворянского происхождения его считали «вполне подходящим для вербовки в свою организацию». Кроме того, он уже не сопротивляется утверждению следователя, что проводимая им деятельность называлась вредительской. По его словам, «вредительство» заключалась в «торможении» боевой подготовки, уменьшении количества летных дней, в отсутствии должного контроля за состоянием материальной части и, таким образом, летный состав оказался неподготовленным к выполнению боевых задач. С одной стороны, М. Г. Аксаков признавал, что «вредительская деятельность» была известна вышестоящему командованию, а с другой стороны, он сам выполнял приказы вышестоящих командиров, в частности П. М. Монархо, которые наносили «вред» боевой подготовке.
Опираясь на полученное в ходе прошлого допроса мнение о том, что в контрреволюционную организацию «была возможна вербовка», следователь Ф. И. Васильев потребовал признать этот факт, но это было категорически отвергнуто. Отрицал обвиняемый и троцкистское влияние на его «вредительскую деятельность». Однако на повторный вопрос следователя – «Следовательно, троцкистское влияние в вашей деятельности было?», последовал краткий, логически не оправданный ответ: «Да. Признаю». На этом допрос завершился.
Допрос № 8. 19 мая 1937 года.
Добившись необходимых признаний, следователь Федосей Иванович Васильев допрос 19 мая 1937 года начал с утверждения, что обвиняемый признал свою виновность в ведении «вредительской деятельности» и влиянии на нее троцкистов. Теперь его интересовала «контрреволюционная организация», якобы существовавшая в бригаде. Первоначально Михаил Георгиевич отрицал ее существование, но затем почти сразу признал, что вредительская деятельность велась и в других эскадрильях (хотя ранее говорил, что может свидетельствовать только о своей). Аналогичная, практически моментальная эволюция позиции произошла и в отношении другого важного для следователя вопроса – о командовании бригадой. Сначала М. Г. Аксаков сказал, что не знает, являются ли членами «контрреволюционной организации» Павел Митрофанович Монархо и командиры эскадрилий Аркадий Васильевич Малышев и Федор Григорьевич Курдубов, но в следующем ответе признал «молчаливое соглашение» во вредительской деятельности между Монархо, им, Малышевым и Курдубовым.
Далее следователь выяснял «вредительскую деятельность» П. М. Монархо. Трактовка высказываний М. Г. Аксакова была истолкована следователем однозначно – он допускал возможность существования вполне оформленной вредительской организации.
Допрос № 9. 21 мая 1937 года.
«Вредительская деятельность» Павла Митрофановича Монархо интересовала также следователя на следующем допросе, который произошел – 21 мая 1937 года. В конце допроса М. Г. Аксаков признал все, что пытался отрицать на предыдущем допросе – существование в бригаде «вредительской организации» и заявил, что может назвать лиц, в нее входящих.
Допрос № 10. 22 мая 1937 года.
«Успех» следствия был окончательно закреплен на допросе 22 мая 1937 года, который носил итоговый характер. Вопросы и ответы были лаконичными и четкими, они фиксировали то, что с таким трудом удалось добиться ранее в неопределенной форме. Михаил Георгиевич Аксаков уже не отрицал, что занимался «сознательным вредительством», которое вел после получения в сентябре-октябре 1936 года директивы от командира бригады Павла Митрофановича Монархо и поводом для которого стало его дворянское происхождение. Осуществлять же вредительство было возможно только при осведомленности командования бригады.
Допрос № 11. 24 ноября 1937 года.
Последний допрос М. Г. Аксакова состоялся 24 ноября 1937 года, когда дело было официально закончено. Ему предшествовала очная ставка с метеорологом бригады Ильей Михайловичем Тимохиным, которая была проведена 20 октября 1937 года.
Допрос оказался самым продолжительным, его протокол занимает 6 страниц плотно напечатанного текста. Длительный перерыв связан с тем, что одновременно происходили допросы многочисленных свидетелей и других обвиняемых. Версия о существовании в бригаде «контрреволюционной организации» активно разрабатывалась и к этому времени окончательно оформилась как основная.
В начале Михаил Георгиевич кратко повторил все, что касалось существования в бригаде «контрреволюционной троцкистской организации», связанной с общей негативной ситуацией в системе Противовоздушной обороны Москвы, и его «работы» в ней.
Следователь Ф. И. Васильев квалифицировал организацию как «фашистскую». В отличие от предыдущих допросов М. Г. Аксаков не предпринимал попыток отстаивать какую-либо личную позицию, полностью подчинился версии следствия. Он не только подробно рассказал о «вредительстве», но и о том, как его «завербовал» П. М. Монархо. Из участников организации неожиданно назвал метеоролога Илью Михайловича Тимохина, которого якобы сам привлек в организацию в марте 1937 года, поставив задачу – содействовать в отмене полетов, предоставляя ложные метеосводки.
По всей видимости, к этому времени М. Г. Аксаков был полностью психологически сломлен. Из непоследовательности его показаний и изменений подписи под протоколами допросов напрашивается вывод о сильном физическом воздействии на подследственного.
Затем, новым поворотом дела, выявившимся на допросе 24 ноября 1937 года, стало обвинение М. Г. Аксакова в шпионской деятельности в пользу Польши, которое основывалось на показаниях арестованного в сентябре 1937 года Сергея Владимировича Алексеева, сослуживца по 26-й эскадрильи. Несмотря на абсурдность подобного утверждения, Михаил Георгиевич Аксаков дал подробные показания, каким образом B. А. Кушаков завербовал его для шпионажа, потребовав предоставлять сведения о состоянии Люберецкой авиабригады.
Протокол допроса Сергея Владимировича Алексеева от 26 сентября 1937 года находился среди копий протоколов допросов других лиц, обвиненных в принадлежности к «вредительской и шпионской деятельности». Во время допроса В. А. Алексеев подробно рассказал о своей шпионской деятельности в пользу Польши. М. Г. Аксаков упоминался им только один раз, как знакомый В. А. Кушакова, которому Михаил Георгиевич передал письмо, чье содержание для С. В. Алексеева осталось неизвестным.
C. В. Алексеев был арестован не столько из-за знакомства с М. Г. Аксаковым, сколько благодаря его дворянскому происхождению.
Арестованный полковник Анатолий Федорович Заколодкин на допросе 29-30 мая 1937 года, называя членов «контрреволюционной организации», сославшись на П. М. Монархо, заявил, что в нее входил М. Г. Аксаков, с которым лично связан не был.
Участие И. М. Тимохина в «организации» «доказывалось» протоколом допроса его бывшей жены Марии Александровны Новиковой, состоявшегося 19 июля 1937 года. Она сообщила, что 3 июля супруг подробно рассказал ей о контрреволюционной организации, о ее планах, среди которых: переправка заграницу трех эскадрилий самолетов из Люберецкого гарнизона, подрыв обороны Москвы, совершение налетов на дачи членов правительства, арест И. В. Сталина и даже взрыв Кремля.
На допросе 22 июля 1937 года Илья Михайлович Тимохин отрицал, что говорил жене подобное и что он принадлежал к контрреволюционной организации, но затем неожиданно признал все обвинения. Он заявил, что П. М. Монархо 12 марта 1937 года через него передал командиру 117 эскадрильи М. Г. Аксакову письмо. По мнению И. М. Тимохина, в нем была директива совершить террористический акт во время воздушного парада 1-го мая 1937 года, проведение которого планировалось с имитацией элементов воздушного боя.
Предложенная версия обвинения по расстрелу Московского Кремля у следствия не имела продолжения, поскольку парад 1-го мая 1937 года прошел без терактов, а среди так называемых «террористов» на момент его проведения был арестован только М. Г. Аксаков. Остальные подозреваемые были на свободе.
На допросе 19 октября 1937 года И. М. Тимохин вновь категорически отрицал все обвинения. Но потом, видимо по подсказке следователя, заявил, что его завербовал М. Г. Аксаков в марте 1937 года. Причинами «вербовки» стали хранение И. М. Тимо-хиным троцкистской литературы, его исключение из РКСМ и «неустойчивое поведение в быту». Причинами «согласия» на сотрудничество назывались – недовольство служебным положением и обещание карьерного продвижения. Остальные сведения отличались от показаний, данных ранее.
20 октября 1937 года между Михаилом Георгиевичем Аксаковым и Ильей Михайловичем Тимохиным была проведена очная ставка, на которой последний заявил о том, что М. Г. Аксаков является членом «контрреволюционной троцкистской вредительской организации», завербовал его и требовал фальшивых прогнозов погоды, которые позволяли срывать полеты. Оба обвинения М. Г. Аксаков категорически отверг.
В показаниях Павла Митрофановича Монархо (которому следствием отводилась роль руководителя «вредительской организации»), данных им на допросах 23 августа, 9 и 13 октября 1937 года, сообщалось, что проводниками «вредительской политики» являлись Михаил Георгиевич Аксаков, Аркадий Васильевич Малышев и Федор Григорьевич Курдубов, однако то, что он давал им «вредительские установки», отрицалось. Основным виновником вредительства П. М. Монархо называл начальника политотдела бригады Котова, который использовал М. Г. Аксакова и А. В. Малышева. К факту «вредительства» со стороны М. Г. Аксакова П. М. Монархо отнес выступление последнего на совещании командиров и комиссаров частей. В нем М. Г. Аксаков называл план боевой подготовки Военно-воздушных Сил РККА нереальным. Кроме того, ему в вину ставилось снижение количества летных дней до 4-х в декаду и отчисление якобы неспособных летчиков из эскадрильи. Из-за вредительства М. Г. Аксакова и А. В. Малышева в боевой подготовке, как показал П. М. Монархо на другом допросе, 92-я авиабригада стала небоеспособной. В показаниях не упоминается эскадрилья Федора Григорьевича Курдубова, хотя там дела обстояли не лучшим образом, за что он и был отстранен от руководства ею. Павел Митрофанович Монархо признал, что давал М. Г. Аксакову и А. В. Малышеву «ряд вредительских установок, направленных к свертыванию летно-боевой подготовки» и даже утверждал, что подобных установок требовали они сами. Факт вербовки Михаила Георгиевича Аксакова П. М. Монархо отрицал.
Одним из доказательств подготовки террористического акта против Советского правительства стало упомянутое ранее письмо, которое П. М. Монархо передал через И. М. Тимохина для М. Г. Аксакова. П. М. Монархо не отрицал, что письмо было, но содержало только указания по плановой боевой подготовке. Тем не менее, это служебное письмо, которое так и не было обнаружено, стало «важным доказательством» террористических намерений обвиняемых.
Собирая сведения о родственниках и знакомых М. Г. Аксакова, следователь Ф. И. Васильев допросил его жену Юлию Гавриловну (11 мая 1937 г.) и мать Марию Михайловну (25 мая 1937 г.).
К следственному делу также было приобщено адресованное начальнику особого отдела 92-й авиационной бригады Ф. И. Васильеву письмо майора Н. Трифонова, датированное 7 июня 1937 года. В нем давалась отрицательная характеристика состояния дел в 117-й авиационной эскадрильи. Указывалось, что «весь летный состав имеет очень малый налет», летчики не знакомы с новой техникой, которая к тому же медленно собиралась. М. Г. Аксакову автор письма ставил в вину то, что в «самый ответственный момент» тот находился в отпуске. Вывод следовал однозначный: «Аксаков сознательно делал все возможное, чтобы сделать эскадрилью небоеспособной и делалось это при попустительстве полковника Монархо». Под влиянием М. Г. Аксакова, якобы, находились начальник штаба эскадрильи Кириченко и военком Килин.
Со своей стороны военком Килин также обратился с письмом к начальнику особого отдела 92-й авиационной бригады. В нем сообщалось, что после ареста М. Г. Аксакова как «врага народа» он проанализировал состояние боевой подготовки в эскадрилье и взаимоотношения арестованного с полковником П. М. Монархо. В результате пришел к убеждению, что «полковник Монархо не мог не знать о вредительской деятельности врага народа Аксакова и более того, некоторые факты нужно расценивать как факты вредительства – проводились по прямым приказаниям Монархо». В вину ставилось отчисление из эскадрильи ряда летчиков (особенно подчеркивалось, что все они состояли в ВКП (б)), а также то, что вылеты тормозились под предлогом неблагоприятной погоды. При отправке в зимний лагерь на 2-3 летчиков бралась всего одна машина, и что Павел Митрофанович Монархо запрещал летать помощнику начальника штаба Ковбе, а слишком длинный инструктаж Монархо перед началом одного из полетов привел к его срыву из-за низкой облачности и дождя и т. п.
В основном в документе сообщалось о «вредительской деятельности» П. М. Монархо. О Михаиле Георгиевиче Аксакове упоминалось вскользь и без конкретных подробностей.
24 августа 1937 года в адрес НКВД СССР на Павла Митрофановича Монархо поступило аналогичное заявление от Федора Григорьевича Курдубова.
«В своем заявлении я квалифицировал работу МОНАРХО как вредительскую под общим впечатлением того времени» – так ответил на допросе 29 декабря 1955 года член КПСС с 1927 года, начальник военной кафедры Московского Лесотехнического института Ф. Г. Курдубов.
23 октября 1937 года следствие по делу Михаила Георгиевича Аксакова было завершено.
Обвинительное заключение в декабре 1937 года утвердили Прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский и начальник управления НКВД Московской области Реденс.
Михаил Георгиевич Аксаков обвинялся по двум пунктам.
Во-первых, в том, что на протяжении 1936 года имел связь с «агентом польской разведки» Владимиром Антоновичем Кушаковым, по заданию которого вел разведывательную работу в пользу Польши, собирая сведения о состоянии 92-й авиационной бригады.
Во-вторых, в том, что являлся активным участником контрреволюционной троцкистской вредительской организации, существовавшей в системе Противовоздушной обороны Москвы, и по ее заданиям проводил вредительство в боевой подготовке 117-й авиационной эскадрильи, а также завербовал в нее метеоролога Илью Михайловича Тимохина.
Дело подлежало рассмотрению в Военной коллегии Верховного суда СССР. Доказательствами по нему стали признание обвиняемого, показания Сергея Владимировича Алексеева, Анатолия Федоровича Заколодкина, Ивана Нестеровича Бердника и Ильи Михайловича Тимохина, а также очная ставка с последним. Тяжесть обвинений не оставляла М. Г. Аксакову никаких шансов остаться в живых.
Еще до начала суда наказание в виде расстрела было решено руководством страны.
.
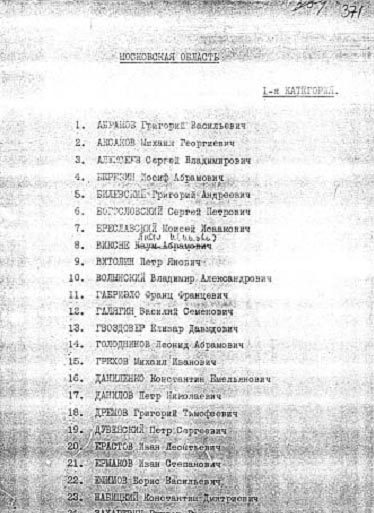 Первый лист списка лиц от 3 января 1938 года, определенных к преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 1-й категории (расстрел).
Первый лист списка лиц от 3 января 1938 года, определенных к преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 1-й категории (расстрел).
В списке числятся летчики-истребители Аксаков М. Г. и Алексеев С. В.
Список подписан начальником 8 отдела ГУГБ НКВД СССР старшим майором госбезопасности Цесарским.
Санкция на расстрел дана Молотовым, Кагановичем, Ждановым, Ворошиловым и Сталиным.
Архив Президента Российской Федерации. Москва. Россия.
.
В «Списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР» от 3 января 1938 года Михаил Георгиевич Аксаков значился по 1 категории, что означало неизбежный расстрел (следом за М. Г. Аксаковым в списке из 71 человека значился С. В. Алексеев). Этот список был подписан И. В. Сталиным, К. Е. Ворошиловым, В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем.
8 февраля 1938 года состоялось подготовительное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором было определено согласиться с обвинительным заключением, принять дело к производству, заслушать его на закрытом судебном заседании «без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей». Некоторых из «свидетелей» к тому времени уже не было в живых.
Суд над полковником Павлом Митрофановичем Монархо, 1904 года рождения, командиром 92 истребительной авиабригады состоялся 15 декабря 1937 года. П. М. Монархо виновным себя не признал. Расстрелян 15 декабря 1937 года.
Суд над Аркадием Васильевичем Малышевым, 1905 года рождения, командиром 118 истребительной авиаэскадрильи, состоялся 15 декабря 1937 года. А. В. Малышев виновным себя не признал. Расстрелян 15 декабря 1937 года.
Суд над Ильей Михайловичем Тимохиным, 1911 года рождения, метеорологом 92 истребительной авиабригады, состоялся 19 декабря 1937 года. И. М. Тимохин признал себя виновным и просил о снисхождении. Расстрелян 19 декабря 1937 года.
9 февраля 1938 года, состоялось закрытое судебное заседание, которое заняло всего 15 минут.
Подсудимый Михаил Георгиевич Аксаков виновным себя не признал, данные на предварительном следствии показания отверг, сказав, что И. Н. Бердника не знает, а полковника А. Ф. Заколодкина видел всего один раз.
В последнем слове Михаил Георгиевич Аксаков заявил, что показания на предварительном следствии дал ложно и что участником антисоветской организации не является.
Военная коллегия Верховного суда СССР, приговорила Михаила Георгиевича Аксакова к высшей мере наказания – расстрелу, лишению воинского звания с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. Приговор был окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежал приведению в исполнение немедленно.
Председательствующий – Диввоенюрист т. Никитченко; Члены: Военные юристы 1 ранга т.т. Кандыбин и Климин; Секретарь – Военный юрист 3 ранга т. Козлов.
.
Однако произошла задержка на сутки, поскольку машина политических репрессий не успевала за валом судебных решений. В связи с этим, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульрих направил коменданту Главного управления государственной безопасности НКВД СССР приказ № 00621/л от 10.02.1938 г. с требованием немедленно привести в исполнение приговоры относительно 71 осужденного, вынесенные Военной коллегией Верховного суда СССР 9 февраля.
10 февраля 1938 года приговоры, в том числе, в отношении Михаила Георгиевича Аксакова были приведены в исполнение. Вместе с ним были расстреляны 70 человек, в том числе его сослуживец Сергей Владимирович Алексеев. Официально сообщили, что все приговорены к 10 годам лишения свободы «без права переписки».
..
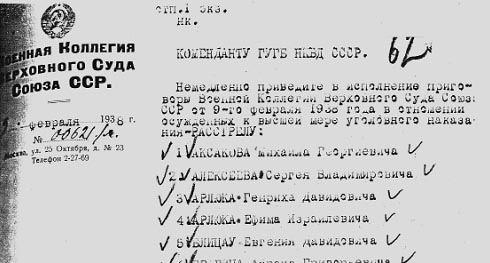
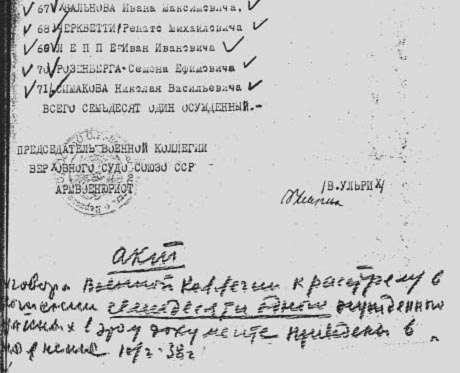
Список (начало и окончание страниц) тех же лиц (71 человек), расстрелянных 10 февраля 1938 года на Лубянке по экстренному указанию Председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР В. В. Ульриха.
Красным карандашом, видимо по шершавой стене, написан Акт о приведении приговора в исполнение.
Фамилии подписавших акт копировать запрещено.
.
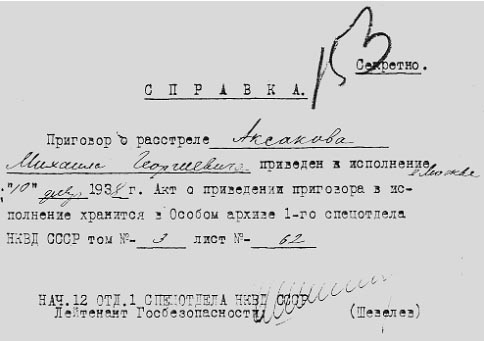
Справка с грифом «Секретно», зашитая в следственное дело Михаила Георгиевича Аксакова о приведении приговора в исполнение.
Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия
.
В середине 1950-х годов, когда начался процесс реабилитации жертв политических репрессий, было пересмотрено дело о «заговоре» в системе Противовоздушной обороны Москвы.
Дело вел старший следователь особого отдела КГБ при Совете министров СССР по Московскому округу ПВО майор Андронов.
В течение декабря 1955 – февраля 1956 годов качестве свидетелей им были допрошены: бывший командир авиационной эскадрильи полковник Федор Григорьевич Курдубов; бывший уполномоченный особого отделения 92-й истребительной авиабригады Иван Иванович Демичев; бывший инструктор политотдела бригады и комиссар эскадрильи полковник Никанор Иванович Западалов; бывший политработник 92-й истребительной авиабригады Федор Матвеевич Лосев. Ведший дело следователь Федосей Иванович Васильев, как выяснилось в ходе следствия, после тяжелой болезни уже умер от язвы желудка.
Во время допросов следователя Андронова интересовало, в основном, применялись ли к М. Г. Аксакову и другим подследственным меры «физического воздействия», что, естественно, отрицалось. Одновременно были осмотрены архивно-следственные дела Ильи Михайловича Тимохина и Аркадия Васильевича Малышева, составлены обзорные справки по делу Александра Павловича Радзивиловского, расстрелянного в качестве участника заговора в НКВД СССР, а также материалы по делу Павла Мит-рофановича Монархо.
30 декабря 1955 года был проведен анализ архивно-следственного дела Михаила Георгиевича Аксакова, в результате которого появилось заключение Главной военной прокуратуры СССР от 29 апреля 1956 года. В нем давалась вполне адекватная оценка данному делу. Было установлено, что Павел Митрофанович Монархо, который проходил как вербовщик М. Г. Аксакова, также на суде виновным себя не признал, и его дело также представлено в Военную коллегию Верховного суда СССР с заключением о прекращении. Полковники Федор Григорьевич Курдубов и Никанор Иванович Западалов, знавшие М. Г. Аксакова по совместной службе, охарактеризовали его «исключительно положительно, как примерного летчика».
На вопрос следователя, как Вы можете охарактеризовать Аксакова за время совместной службы в 92-й авиабригаде, бывший комиссар 117 эскадрильи Н.И. Западалов ответил:
«АКСАКОВА я считал как достаточно подготовленного, грамотного и культурного командира эскадрильи. Сам он был хорошим летчиком, много времени уделял боевой подготовке летного состава. Во время работы комиссаром эскадрильи ко мне от летчиков поступали жалобы на то, что Аксаков затягивает ввод их в строй. Я об этом докладывал комиссару бригады Котову, и сам беседовал с Аксаковым. Аксаков мне заявил, что пока он не будет уверен в полной готовности того или иного молодого летчика, он выпускать не будет. Позже, когда я овладел достаточными знаниями летного дела, я пришел к выводу, что Аксаков в принципиальной постановке этого вопроса был прав. Такая всесторонняя подготовка летного состава уменьшала аварийность». Показания Ивана Нестеровича Бердника и Анатолия Федоровича Заколодкина были дезавуированы, поскольку они знали об «участии» М. Г. Аксакова в «антисоветской организации» со слов других лиц. Вывод был однозначен – приговор отменить, а дело прекратить.
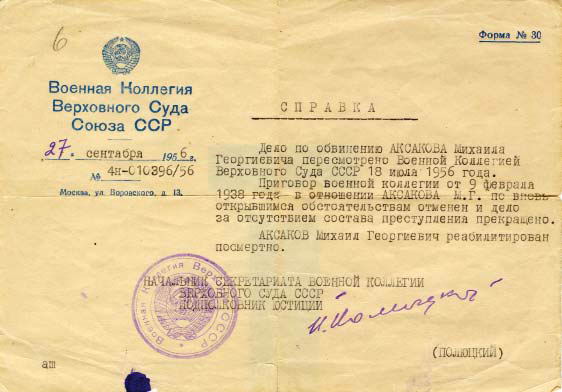 18 июля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело по обвинению Михаила Георгиевича Аксакова, приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» был отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Михаил Георгиевич Аксакова был реабилитирован посмертно.
18 июля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело по обвинению Михаила Георгиевича Аксакова, приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» был отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Михаил Георгиевич Аксакова был реабилитирован посмертно.
.
Справка (Форма № 30) о посмертной реабилитации М.Г. Аксакова за отсутствием состава преступления.
Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.
.
Немаловажную роль в реабилитации, как указано в определении Верховного суда СССР, сыграло то обстоятельство, что Михаил Георгиевич Аксаков был арестован по указанию бывшего руководящего работника НКВД Леплевского. И по ордеру, подписанному бывшим заместителем начальника Управления НВКД по Московской области А. П. Радзивиловским, «которые впоследствии были привлечены к уголовной ответственности за массовые, необоснованные аресты и фальсификацию следственных дел». В определении также отмечалось, что доказательства виновности обвиняемого в шпионаже в деле отсутствуют.
В августе 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР обратилась к начальнику Управления КГБ СССР по Московской области с просьбой найти родственников Михаила Георгиевича Аксакова для объявления им определения о реабилитации. При этом на бланке письма типографским способом было отпечатано, что сообщение о реабилитации необходимо сделать «не объявляя полностью содержания определения», а только результат его рассмотрения.
По данным Центрального адресного бюро города Москвы была найдена мать Михаила Георгиевича, Мария Михайловна Аксакова, проживавшая на станции Сходня Химкинского района Московской области, которой 28 сентября 1956 года и сообщили о посмертной реабилитации сына.
Дело М. Г. Аксакова являлось типичным для периода политических репрессий. Как и другие подобные дела, оно было полностью фальсифицировано, не содержало никаких доказательств вины обвиняемого и нарушало нормы права. Несомненно, что к Михаилу Георгиевичу Аксакову применялись методы физического воздействия. Об этом свидетельствуют не только методы следствия, применявшиеся в 1930-е годы. Косвенным доказательством является текст самих протоколов допросов, в которых в ряде случаев отсутствует логика в ответах, появляются неожиданные признания фантастических, полностью вымышленных обвинений, а также прослеживается изменение почерка обвиняемого при подписании протоколов.
В этом контексте показателен один из эпизодов.
Доказательством «связи» М. Г. Аксакова с троцкистами являлся брак его двоюродной сестры Нины Сергеевны Аксаковой с Иваном Никитичем Смирновым. Следователь подробно развивал эту тему в допросе 13 мая 1937 года. На самом деле Нина Сергеевна Аксакова была замужем за другим Смирновым, тоже высокопоставленным партийным работником, заместителем Наркома связи – Смирновым Николаем Ивановичем (арестован НКВД 6 ноября 1937 года). М. Г. Аксаков прямо не признал, что его сестра состоит в браке с Иваном Никитовичем Смирновым, но, даже не предпринял попытки отрицать очевидную путаницу (а может быть, был не в состоянии это сделать). Он сказал только, что полагал, что речь идет о другом Смирнове.
В первые дни после ареста Михаил Георгиевич Аксаков оказывал довольно последовательное сопротивление нелепым обвинениям, однако затем оно стало слабеть. Стратегия следствия заключалась в том, чтобы сначала добиться признания личной виновности обвиняемого, а затем – получить сведения о контрреволюционной организации в авиационной бригаде в целом. «Вредительская деятельность» самого Михаила Георгиевича Аксакова интересовала следствие только в контексте общего заговора в системе Противовоздушной обороны г. Москвы. Следствие больше внимани
|
Метки: аксаковы |
Чебышёв, Пафнутий Львович |
Чебышёв, Пафнутий Львович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии


Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Чебышёв.
| Пафнутий Львович Чебышёв | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|||||||||
| Дата рождения | 4 (16) мая 1821[1] | ||||||||
| Место рождения | |||||||||
| Дата смерти | 26 ноября (8 декабря) 1894[2][1] (73 года) | ||||||||
| Место смерти | |||||||||
| Страна | |||||||||
| Научная сфера | математика, механика | ||||||||
| Место работы | Санкт-Петербургский университет | ||||||||
| Альма-матер | ИМУ (1841) | ||||||||
| Учёная степень | доктор математики и астрономии (1849) | ||||||||
| Учёное звание | академик СПбАН (1859) | ||||||||
| Научный руководитель | Н. Д. Брашман | ||||||||
| Известные ученики | Е. И. Золотарёв, А. Н. Коркин, А. М. Ляпунов, А. А. Марков, П. О. Сомов, Ю. В. Сохоцкий | ||||||||
| Известен как | один из основателей современной теории приближений | ||||||||
| Награды и премии |
|
||||||||
 Произведения в Викитеке Произведения в Викитеке |
|||||||||
 Пафнутий Львович Чебышёв на Викискладе Пафнутий Львович Чебышёв на Викискладе |
|||||||||
Пафну́тий Льво́вич Чебышёв (4 [16] мая 1821, Окатово, Калужская губерния — 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт-Петербург) — русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (с 06.02.1859)[4] и ещё 24 академий мира[5].
Чебышёв — «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX века»[6]. Он получил фундаментальные результаты в теории чисел (распределение простых чисел) и теории вероятностей (центральная предельная теорема, закон больших чисел), построил общую теорию ортогональных многочленов, теорию равномерных приближений и многие другие. Основал математическую теорию синтеза механизмов и разработал ряд практически важных концепций механизмов.
Содержание
- 1 Произношение и написание фамилии
- 2 Биография
- 3 Научная деятельность
- 4 Педагогическая деятельность
- 5 Оценки и память
- 6 Публикации
- 7 См. также
- 8 Примечания
- 9 Литература
- 10 Ссылки
Произношение и написание фамилии[править | править код]
Фамилию учёного — по его собственному указанию — следует произносить «Чебышо́в»[7]; в XIX веке
|
Метки: чебышевы |
Чебышёвы |
Чебышёвы
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Чебышёвы | |
|---|---|
 |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Губернии, в РК которых внесён род | Калужская |
| Часть родословной книги | VI |
| Подданство | |
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Чебышёв.
Чебышёвы — старинный русский дворянский род, восходящий к первой половине XVII века. Сообщения о нём находятся в родословных книгах Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской губерний. По Калужской губернии записан во вторую часть родословной книги в 1832 году[1], в шестую часть — в 1835 году[2]. Все четыре ветви рода были связаны с Калужским краем.
При определении родословной Чебышёвых и времени вступления их в дворянское сословие большое значение имели данные родословных книг и источники XVII—XVIII веков, среди которых наиболее важна роспись, поданная Чебышёвыми в Разрядный приказ в 1686 году. По ней Чебышевы — младшая ветвь боярского рода князей Старковых (происходивших от Серкиза), на рубеже XVI—XVII веков, угасший или захудавший, но внесённый в «Бархатную книгу»[3]. К этому времени произошло разделение рода на 4 ветви.
Известный математик Пафнутий Львович Чебышёв (1821—1894) происходил из II ветви рода — от московского дворянина (1658) Ивана Ивановича Чебышёва (ум. 1677)[4]. Другие представители этой ветви:
- Чебышёв, Николай Львович (1830—1875) — генерал-майор
- Чебышёв, Николай Николаевич (1865—1937) — русский судебный деятель
- Чебышёв, Владимир Львович (1832—1905) — конструктор стрелкового оружия
От другого московского дворянина, Абросима Ивановича Чебышёва (ум.1668) сформировалась III ветвь рода; в ней:
- Чебышёв, Сергей Васильевич (1749—1818) — премьер-майор
- Чебышёв, Павел Сергеевич (1787—1829) — полковник
- Чебышёв, Дмитрий Сергеевич (1783—1870) — полковник
- Чебышёв, Николай Дмитриевич (1815—1866) — генерал-майор Свиты
- Чебышёв, Сергей Сергеевич (1788—1856) — генерал, сенатор, участник наполеоновских войн
К IV ветви рода относятся:
- Чебышёв, Пётр Афанасьевич (1821—1891) — вице-адмирал.
- Чебышёв, Алексей Афанасьевич (1824—1883)
- Чебышёв, Алексей Алексеевич (1852 — после 1937) — судебный деятель, сенатор, российский консул в Канаде.
- Чебышёв, Николай Алексеевич (1852—1926) — судебный деятель, сенатор, товарищ министра юстиции (1917).
Описание герба
В золотом поле, с двумя башнями крепость, лазуревая с золотыми швами, глава щита червлёная: в ней золотой, с червлёными глазами и языком орлик, между двумя золотыми же крестами.
Щит увенчан дворянскими же шлемом и короною. Нашлемник: возникающий золотой орёл с червлёными глазами и языком. Намёт справа лазуревый с золотом, слева червлёный с золотом. Герб Чебышёвых внесен в Часть 16 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесенных в Общий Гербовник, стр. 1.
Примечания
- Н.Булычов. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года. — Калуга: Типо-Литография Губернского Правления, 1908. — С. 84. — 444 с.
- Н.Булычов. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года. — Калуга: Типо-Литография Губернского Правления, 1908. — С. 262. — 444 с.
- Лебедев. Герб дворян Чебышевых.
- Возможно к этой ветви относится и Пётр Петрович Чебышёв.
Источники
- Чебышевы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Герб Чебышевых / ДС, том XVI. — С. 1
- Лопатин Н. В. О происхождении фамилии «Чебышёв» // Летопись Историко-родословного общества в Москве. — 1997. — Вып. 4—5 (48—49). — С. 160—164
- Лопатин Н. В. и др. История рода Чебышёвых. — Калуга : Издательство ИРО в Москве, РРФ, 2004. — Вып. 8.
- Лебедев С. Л. Герб дворян Чебышевых: амбиции или ностальгия (историческая версия). О Чебышёве и вокруг него. Проверено 5 февраля 2014.
|
Метки: чебышевы |
ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА" СТОЛЫПИНА |
Миндлин А."ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА" СТОЛЫПИНА |
= ГЛАВНАЯ = УРОКИ = ИЗРАНЕТ = ИСТОРИЯ = ШОА = ИЕРУСАЛИМ = РОССИЯ =
Первая статья Манифеста 17 октября 1905 г. “Об усовершенствовании Государственного порядка“ гласила: “Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы в началах действительной неприкосновенности личности“ (1). Но о какой неприкосновенности личности можно было говорить, когда в ответ на революционные манифестации по поводу указанного акта буквально на следующий день начались погромы, охватившие почти всю страну и являвшиеся кровавыми “патриотическими“ манифестациями. Погромы были направлены, главным образом, против евреев, но громили также демократические и революционные слои населения.
Достоянием гласности стал рапорт от 15 февраля 1906 г. министру внутренних дел заведующего особым отделом Департамента полиции, чиновника особых поручений Н. А. Макарова. 3 мая рапорт без комментариев напечатала газета “Речь“ под заголовком “Из истории нашей контрреволюции“ (2).
Каким образом секретный документ попал в периодическую печать сказано далее. Здесь же необходимо подчеркнуть резонанс, вызванный публикацией в российском обществе, так как из нее стало известно о роли Департамента полиции в организации погромов.
Возмущенные члены I Государственной думы 8 мая единогласно приняли срочное заявление о запросе министру внутренних дел по поводу печатания погромных воззваний в Департаменте полиции и происшедших в Вологде, Калязине и Царицине беспорядков, подписанное 81 членом Думы (3). Погромы в Калязине и Царицине, и еврейский погром в Вологде произошли 1 мая, как противодействие первомайским демонстрациям. 8 июня в Думе на запрос отвечал министр внутренних дел П. А. Столыпин, недавно назначенный на эту должность. Выступление было пробным камнем его “еврейской политики“.
В историографии советского периода в значительной степени укоренилось представление о Столыпине как о “реакционере“, “вешателе“ и “антисемите“. Его современные биографы, например, П. Н. Зырянов и И. В. Островский не оперируют подобными эпитетами и их оценки не столь жестки. Анализируя аспекты деятельности Столыпина, которые опосредованно можно было бы связать с перечисленными эпитетами, они делают акценты на первых двух, уделяя третьему существенно меньше внимания (4). Поэтому интересно проследить, каким было отношение Столыпина к евреям, выражавшееся, в основном, в его позиции по законам о евреях.
Значительную часть жизни Столыпин провел в своем имении Колноберже, в Ковенской губернии, населенной преимущественно поляками, литовцами и евреями. В процессе активной хозяйственной деятельности он тесно общался с местным населением, в том числе с евреями, и не понаслышке знал положение последних. Возвращаясь к запросу, следует отметить, что Столыпин хотел быть в Думе при его формулировании, приезжал туда. В это время обсуждался другой вопрос; он уехал, рассчитывая вернуться, но опоздал (5).
За неделю до выступления Столыпина — 1 июня начался еврейский погром в Белостоке, продолжавшийся три дня. 2 июня 49 членов Думы внесли срочное заявление о запросе министру внутренних дел, где говорилось: принимаются ли меры к защите еврейского населения Белостока и что намерен министр предпринять для предупреждения убийств, грабежей и насилий над еврейским населением в других местностях. Выступавшие при обсуждении запроса обвиняли власти в прямой организации погромов или в попустительстве им, либо, в крайнем случае, в бездействии и категорически отвергали в качестве причины погромов национальную вражду. Выдвигалось требование отставки правительства. Запрос единогласно был принят как спешный (6).
Дума поручила своей комиссии по исследованию незаконных действий должностных лиц немедленно собрать сведения на месте погрома (7).
8 июня, выступая с ответом на первый запрос, Столыпин прежде всего заявил, что согласно статуту Государственной думы разъяснения министров могут касаться незакономерных действий, произошедших лишь после ее учреждения, то есть после 27 апреля. Но все же он решил ответить на запрос, так как весь Департамент полиции обвинялся “в возбуждении одной части населения против другой, последствием чего было массовое убийство мирных граждан” (8).
Макаров в рапорте докладывал министру о том, что в помещении Департамента полиции была оборудована тайная типография, печатавшая погромные прокламации. Ей руководил жандармский ротмистр М. С. Комиссаров. Другой же жандармский ротмистр, помощник начальника екатеринославского губернского жандармского управления по александровскому и павлодарскому уездам А. И. Будогоский не только распространял такие воззвания, но и побуждал черносотенцев г. Александровска выпускать свои подобные прокламации с молчаливого одобрения высокопоставленных чиновников Департамента полиции (9). Описанные действия должностных лиц, — завершал Макаров рапорт, — ведущие к возникновению среди населения междоусобной розни, составляют уголовно наказуемое преступление (10).
Столыпин свел дело к “неправильным” поступкам отдельных людей, действовавших якобы только по собственной инициативе, отрицал факт оборудования Департаментом полиции “преступной типографии” и утверждал, что последствиями действий департамента “не могла быть масса убитых” во время погромов (11). В Александровске погром произошел 14 декабря 1905 г. Столыпин снисходительно говорил о Будагоском, внесшим значительную лепту в его организацию, Комиссарове и других. Одним из основных доводов в попытке смягчить резонанс от разоблачений Столыпин считал нераспостранение в Александровске “после 14 декабря новых воззваний против революционеров и евреев”. В отношении нареканий за неприятие департаментом мер против погромов объяснения министра были совершенно неубедительными. Повторения “неправильных” действий не будет, — утверждал он (12). Затем Столыпин отвечал на вторую часть запроса — о погроме в Вологде, бесчинствах в Царицыне и убийствах в Калязине (13). Необходимо указать, что в запросе, в выступлении министра и последующем обсуждении не говорилось именно о еврейском погроме в Вологде, хотя по данным советского историка А. А. Черновского еврейские погромы 1 мая были не только в Вологде, но и в Муроме и Симбирске (14). Объяснения министра были путанными. Вообще он считал действия властей, если и не вполне правильными, то и не беззаконными, меры правительства — не реакцией, а порядком, необходимым “для развития самых широких реформ” (15). На эти слова Дума ответила шумом.
Член думы князь С. Д. Урусов, выступавший первым после Столыпина, был уверен в его искренности. При таком министре никто не осмелится “воспользоваться зданием министерства и министерскими суммами, чтобы устраивать подпольные типографии” и организовать погром. Но, — как заявил далее Урусов, — главные вдохновители находятся вне сферы действия министерства внутренних дел, поэтому его обещания не имеют твердого основания; никакое правительство не сможет обеспечить порядок и спокойствие, пока “на судьбы страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики” (16). Р. Ш. Ганелин полагает, что под такими людьми Урусов, в частности, подразумевал бывшего товарища министра внутренних дел, петербургского генерал-губернатора, а во время работы I Думы — дворцового коменданта, оголтелого антисемита, сторонника самых крайних правых взглядов, обладавшего огромным воздействием на царя, генерала Д. Ф. Трелова (17). После Урусова в том же ключе выступили еще несколько членов Думы. Основная мысль министра, вновь взявшего слово, заключалась во фразе: “То, что нехорошо, того больше не будет”. Но в зале возник сильный шум и крики: “А белостокский погром?” (18).
В решении Думы, принятом в обычной форме перехода к очередным делам, говорилось, что в проходивших погромах и массовых избиениях мирных граждан есть признаки общей организации и явное соучастие в них должностных лиц, оставшихся безнаказанными, что объяснения министра свидетельствуют о его бессилии прекратить погромы, что создается неизбежность их повторения и что только немедленная отставка правительства и передача власти кабинету, пользующемуся доверием Думы, способны вывести страну из погромного состояния (19).
Инициатором раскрытия дела о тайной типографии и погромных прокламациях был бывший директор Департамента полиции А. А. Лопухин, получивший сведения от Макарова. Именно после того, как Лопухин в январе 1906 г. дважды беседовал об этом с ничего не подозревавшим председателем Комитета министров С. Ю. Витте, тот приказал уничтожить типографию, но не наказал виновных. Поэтому Лопухин передал копию рапорта Макарова для опубликования в газете “Речь” (20). Кроме того, летом 1906 г., находясь в Мюнхене и прочитав выступление Столыпина 8 июня в Думе, Лопухин увидел в нем существенные искажения событий. 14 июня он написал министру официальное письмо, в котором повторил рассказанное ранее Витте (21).
В письме Лопухин, не показывая существовавшего у него недоверия к Столыпину (22), представил свое видение изложения событий министром как следствие извращения обстоятельств дела его подчиненными. В частности, Лопухин указал, что прокламации, призывавшие к избиению евреев, распространялись в Александровске и после погрома 14 декабря 1905 г. Но основная мысль письма заключалась в поддержке мнения Урусова о том, что министр и его центральный аппарат практически бессильны, полиция и жандармерия, а также ряд сотрудников министерства “считают себя вправе вести самостоятельную политику” вследствие поддержки не только некоторых высших чиновников, но и таких фигур как генерал Трепов. “Только осведомленная прессой Государственная дума в сидах навсегда прекратить систематическое подготовление властями еврейских и иных погромов” — таково было глубокое убеждение Лопухина. Им и объяснял он факт передачи копии рапорта Макарова в газету (23).
Урусов и Лопухин попали точно в цель — министр внутренних дел не мог предотвратить или остановить еврейские погромы. Так, 22 июня руководитель группы, командированной в Белосток, член Думы М. П. Араканцев после поездки выступил от имени комиссии с докладом о белостокских событиях. Он сказал, что утром 2 июня Столыпин обещал членам Думы В. Я. Якубсону и М. И. Шефтелю немедленно телеграфировать о принятии “действительных мер” против погрома. Но “особенно многочисленные расстрелы евреев” происходили с 5 часов дня 2го июня до утра 3-го. В этом комиссия увидела существование “тайной власти, для которой власть министра была ничтожной” (24).
Член Думы от Гродненской губернии, в состав которой входил Белосток, М. Я. Острогорский заявил о получении телеграммы с сообщением о погроме в ночь с 1 на 2 июня; в 4 часа утра сам послал телеграмму Столыпину и в 11 часов утра был у него. Министр обещал “принять немедленно самые энергичные меры”, сказав, что Острогорский может успокоить своих земляков. Однако вскоре погром “стал бушевать с необыкновенной силой”(25).
Известный исследователь истории евреев в России С. М. Дубнов 35-летнюю историю еврейских погромов в царствования Александра III и Николая II делил на три эпохи: первая 1881 — 1882 гг., вторая 1903 — 1906 гг., третья — военные погромы в прифронтовой полосе и изгнание сотен тысяч евреев из западных губерний ( 1914 — 1916 гг. ) (26). Четвертая эпоха уже после свержения царизма — погромы, которые организовывали белые, гайдамаки, петлюровцы, белополяки и Первая конная армия. Дубнов считал 1906 г. конечным годом второй эпохи.
Следует уточнить его высказывание. После белостокского погрома 9 июля произошел погром в Нижнем Новгороде, 10 июля в Одессе (27), 27 - 28 августа в Седлеце, в Царстве Польском (28), а в 1907 г. 28 февраля в Елизаветграде Херсонской губернии, 8 12 августа в Одессе (29). Без сомнения Столыпин не желал погромов, однако остановить их как министр внутренних дел, а тогда и председатель Совета министров не сумел.
Антисемиты — представители власти не скрывали и даже афишировали легкость, с которой они могли бы прекратить погромы. Например генерал-майор Бессонов ( инициалы установить не удалось — А. М.), начальник охраны второго отдела Киева, куда входили Подол и Старо-киевский участок, где жили преимущественно евреи и располагались богатые еврейские фирмы, во время погрома 18 - 21 октября 1905 г. заявил, будь его воля, “погром окончился бы в полчаса, но евреи приняли слишком большое участие в революционном движении и потому должны поплатиться”. В то же время начальники двух других отделов охраны города старались прекратить погром (30).
С ответом на запрос о белостокском погроме Столыпин собирался выступать 10 июля, как он заявил председателю Думы (31). Но 8 июля 1906 г. I Дума была распущена, и министр освободился от, по-видимому, крайне неприятных для него объяснений.
15 мая 151 член Думы в порядке законодательной инициативы внесли предложение об основных законах о гражданском равноправии, где вторая группа предполагаемых законов относилась к ограничениям, обусловленным национальностью и вероисповеданием; речь шла о полной отмене всех ограничений (32).
Обсуждение проводилось на нескольких заседаниях при единодушной поддержке выступавших за немногими исключениями. Аналогичное решение требовали принять некоторые ораторы в процессе рассмотрения запроса о погромных воззваниях. В связи с неожиданным для членов Думы ее роспуском проблема не получила логического завершения.
После вступления Столыпина на пост председателя Совета министров его первой публичной декларацией была программа правительства, опубликованная 24 августа 1906 г. Предлагаемый перечень мероприятий состоял из двух частей. Одни реформы предполагалось провести в сравнительно короткие сроки, до открытия II Думы, в соответствии с 87 статьей Основных законов, дающей правительству право в периоды “междудумья” представлять законопроекты непосредственно царю. Другие же должны были разрабатываться для внесения в Думу.
На втором месте в первой группе стояли “некоторые неотложные мероприятия в смысле гражданского равноправия и свободы вероисповедания”. Далее говорилось, что “в области еврейского вопроса безотлагательно будет рассмотрено, какие ограничения, как вселяющие лишь раздражение и явно отжившие, могут быть отменены немедленно” (33).
Правительство, не мешкая, приступило к реализации программы. Товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко вспоминал, что в сентябре — ноябре 1906 г. Совет министров неоднократно собирался для рассмотрения законопроектов, которые должны были приниматься по 87 статье (34). Второй проект касался еврейского вопроса (35).
А. С. Тагер предполагал, что инициатором проекта закона, касающегося евреев, был министр финансов В. Н. Коковцов (36). Вероятно, Тагер исходил из письма Коковцову 28 июля 1906 г. директору ПарижскоНидерландского банка Э. Нецлину, где сообщал о принятии в 1904 г. по его инициативе двух законов, снявших некоторые ограничения прав евреев (“Об отмене законов о праве жительства евреев в пятидесятиверстной от западной границы полосе” и “О некоторых изменениях в действующих постановлениях о правах жительства евреев в различных местностях Империи” (37) — А. М.). Продолжая, Коковцов указывал, что в ближайшее время представит в Совет министров предложение об отмене ограничений для евреев по торговле, промыслам, их участию в акционерных предприятиях и отмене Временных правил о евреях от 3 мая 1882 г. (эти правила запрещали евреям вновь селиться вне городов и местечек, приостанавливали совершение купчих крепостей и арендных договоров на недвижимые имущества, находящиеся в сельской местности; указанные меры относились к черте оседлости (38)). Кроме того, Коковцов предполагал предоставить евреям право повсеместного жительства (39).
Коковцов говорил Гурко, что не любит евреев и понимает, что они очень опасны. Но принимаемые против них меры не эффективны, ибо евреи всегда смогут обойти законы (40). Подобное высказывание, по-видимому, можно считать побудительным мотивом Коковцова.
Когда во второй половине двадцатых — начале тридцатых годов Коковцов писал воспоминания, инициатором проекта он называл не себя, а Столыпина (41). В документе Совета министров, названном “О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев”, отмечалось, что его первоначальную разработку выполнили министерства финансов и внутренних дел. Министр финансов считал единственной возможностью правительства изменять или отменять по 87 статье только временные меры по отношению к евреям; коренные же изменения законов о евреях, “существующих почти полтора столетия”, можно было проводить лишь через Государственную думу и Государственный совет (42). Таким образом, Коковцов отказался от мысли об упразднении черты оседлости.
Хотя в теме, поименованной как “еврейская политика” Столыпина, Коковцов не является фигурой первого плана, его вклад в такую “политику” заметен. Кроме того, он в течение всего времени премьерства Столыпина был одним из его ближайших сотрудников. Поэтому целесообразно привести эпизод, более точно характеризующий отношение Коковцова к национальному, а значит и к еврейскому вопросу.
А. Я. Аврех указывал, что Коковцова “в помещичье-буржуазном общественном мнении, особенно в кадетско-прогрессивных кругах” считали либералом, ибо он как министр финансов чаще, чем другие министры, общался с буржуазией и должен был считаться с ее интересами. Когда после покушения на Столыпина, но еще до его кончины, Коковцов замещал премьера, либеральная пресса восприняла его назначение как конец столыпинского националистического курса, а партия националистов сильно обеспокоилась (43).
3 или 4 сентября 1911 г. Коковцова посетила группа членов фракции националистов III Думы во главе с П. Н. Балашовым. Тот сказал, что партия националистов взволнована покушением на Столыпина как на человека, слившегося с этой партией и оказывавшего ей покровительство. Партия не доверяет Коковцову и опасается его симпатий “к элементам международного капитала и инородческим”. Коковцов ответил: “Вашей политики угнетения инородцев я не разделяю и служить ей не могу”. Он завершил разговор так: “Оказывайте какое хотите покровительство русскому элементу, будем вместе возвышать его, но преследовать сегодня еврея, завтра армянина, потом поляка, финляндца... в этом нам не по пути” (44).
При обсуждении Советом министров законопроекта “О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев”, Гурко выступил против проекта и предложил отказаться от любых притеснений евреев, особенно в черте оседлости. Далее он заявил, что частичное уравнивание их в правах с остальным населением приведет лишь к негативным результатам; не лишая евреев революционных симпатий, такой курс даст им оружие, облегчающее борьбу против правительства. Большинство членов Совета министров высказалось за проект. Столыпин, по словам Гурко, поначалу тоже был за, потом он стал путаться и сбиваться, после чего предложил представить царю стенограмму заседания для утверждения мнения большинства или меньшинства. Совет поддержал это предложение. Подобным ходом Столыпин как бы перекладывал на царя ответственность за принятие решения. Если царь одобрит законопроект, возмутятся правые, в ином случае возникнет негативная реакция евреев. Далее Гурко привел “курьезный” факт — Столыпин был среди меньшинства, хотя сам предложил проект (45).
Основные положения законопроекта состояли в следующем. В губерниях черты оседлости евреям разрешалось жить и в сельской местности. Евреи, имеющие право жительства вне черты оседлости, также могли обосноваться в сельской местности. Разрешались торговля, промыслы, участие в акционерных компаниях и приобретение в городских поселениях и ряде поселков недвижимого имущества (46). Таким образом, частично отменялись Временные правила о евреях. Завершался проект “сомнением” в том, следует ли его издавать по 87 статье или внести в Думу нового созыва. Принять решение должен был сам царь (47).
В примечании к законопроекту, помещенному в книге “Убийство Столыпина: Свидетельства и документы”, ее составитель А. Серебренников утверждает, что опубликованная формулировка заключения существенно отличалась от первоначально предложенной Советом министров; в ней испрашивалось соизволение царя на проведение закона только по 87 статье (48).
В самом начале декабря 1906 г. Столыпин направил законопроект царю на утверждение. При подготовке проекта члены Совета министров, как вспоминал Коковцов, представляли, что Столыпин “не решился бы поднять такой щекотливый вопрос, не справившись заранее со взглядом Государя”, хотя он сам об этом не говорил. У Столыпина был убедительный аргумент — личное близкое знакомство с еврейским вопросом в западном крае, где он прожил много лет. Ссылаясь на такой аргумент, Столыпин доказывал несостоятельность многих ограничений жизненными фактами (49).
Скорее всего, Столыпин ожидал положительного решения царя, тем более, что правительственная программа от 24 августа 1906 г. получила “высочайшее одобрение” (50). Если обещанные программой преобразования не будут осуществлены, — было записано в проекте, — доверие общества к правительству поколеблется (51).
Однако опыт общения Столыпина с царем показывал — на него нельзя положиться. Даже если премьер убеждал в чем-то царя, в решающий момент тот мог отказаться от принятого решения. Так случилось и на этот раз.
10 декабря Николай II вернул Столыпину журнал Совета министров, где был помещен законопроект, неутвержденным, мотивируя свое решение в письме, в котором говорилось: “Несмотря на самые убедительные доводы, внутренний голос твердит, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала” (52). Ганелин полагает, что резолюция царя на журнале (ее текст неизвестен) соответствовала по содержанию его письму (53).
В тот же день Столыпин отправил Николаю II ответное письмо, где указывал: “Исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться полного равноправия”; частичная отмена ограничений дает возможность Государственной думе отложить разрешение проблемы “в полном объеме на долгий срок”; принятие законопроекта успокоит “нереволюционную часть еврейства“ и избавит “законодательство от наслоений, служащих источником злоупотреблений”. Затем Столыпин вновь подчеркнул мысль о царском одобрении правительственного сообщения от 24 августа, а также, что Николай II сам указывал “на неприменимость к жизни многих из действующих законов“ и лишь не желал их изменения без Думы.
При полном соблюдении тайны, — продолжал премьер, — слухи о подготовке журнала проникли в общество и прессу, поэтому царь ставил себя в невыгодное положение, ибо Совет министров единогласно высказался за проект (следует напомнить, что Коковцов говорил о его принятии большинством Совета — А. М.).
Осталось неясным, хотел ли Столыпин ответственность взять на себя, чтобы не компрометировать Николая II, или хотел не подрывать авторитет Совета министров.
Так как о возвращении журнала царем еще никто не знал, Столыпин просил, по крайней мере, переделать “резолютивную часть журнала”, а именно, испрашивать царя не на утверждение им журнала по 87 статье, а на двоякую запись — внести ли вопрос в Думу или разрешить его по 87 статье. В том случае, — завершал письмо премьер, — правительство “в глазах общества не будет казаться окончательно лишенным доверия Вашего Величества, а в настоящее время Вам, Государь, нужно правительство сильное” (54).
Николай II не заставил себя долго ждать и уже на следующий день, 11 декабря в письме согласился с предложением Столыпина (55). Практически царь предпочел более краткую резолюцию. “Собственной Его Величества рукой начертано: Внести на рассмотрение Государственной думы”. 15 декабря 1906 г. в Царском Селе. Председатель Совета министров Столыпин” — такая запись сделана на первой странице журнала (56).
Столыпин говорил Коковцову, что не ожидал подобного решения, так как ему приходилось делиться мыслями на основании опыта в Западном крае, и Николай II “ни разу не высказал принципиального несогласия”. Однако Столыпин отнесся к решению царя спокойно (57).
Гурко писал, что царь взял на себя ответственность за отклонение проекта, спасая от нее правительство. Далее он упоминал о различных версиях, циркулировавших в Санкт-Петербурге относительно законопроекта. По одной из них решение царю подсказал Столыпин. Сам Гурко утверждал, что не знал, какая из версий правильна (58).
Чтобы понять, чем действительно руководствовался царь, необходимо хотя бы кратко остановиться на роли черносотенного движения в антисемитской политике в стране.
При первом посещении Витте Лопухин высказал убеждение в том, что погромы организуют черносотенные организации и “крайний правительственный антисемитизм” (59), получивший меткую характеристику “зоологического антисемитизма”. Было бы неправильно относить подобную характеристику только к правительственным и чиновным кругам. В еще большей степени она относилась к черносотенцам. Однако, говоря о двух указанных группах, следует оперировать более широким понятием — “зоологический национализм”, направленный против всех “инородцев” в России — евреев, поляков, финнов, армян и др. Но антисемитизм был особенно грубым и резким проявлением зоологического национализма.
За делом о погромных прокламациях стоит “группа лиц, составляющих как бы боевую дружину одного из наших самых патриотических собраний”, — утверждал Урусов (60). Непонятно, почему он говорил завуалированно, однако ясно, что речь шла о “Союзе русского народа”, созданном в ноябре 1905 г. в качестве инструмента борьбы с революционным движением. Антисемитизм был необходимым признаком каждого “союзника” (так для краткости называли членов союза).
По мнению Лопухина, высказанному им в Витте, правительственный антисемитизм доходил по иерархической лестнице до чиновных низов, затем в виде призывов к избиениям евреев спускался к черносотенцам и реализовывался ими (61). Дубнов антиеврейские законы называл “тихими, легальными, канцелярскими” погромами (62). Но эти же законы были одним из основных факторов существования антисемитизма и возникновения уже кровавых погромов.
С момента основания за “Союзом русского народа” стояла имеющая несравненно большее значение организация — “Совет объединенных дворянских обществ”. Она была не политической организацией, а объединением самых правых дворян, целью которого являлась защита их сословных интересов.
Программа союза воспроизводила программу совета объединенного дворянства, косвенно руководившего деятельностью союза и других правомонархических организаций и партий. Официально союз не выступал от имени совета, но объединенное дворянство проводило через союз свою политику.
С 14 по 18 ноября 1906 г. заседал второй съезд уполномоченных дворянских обществ. В это время просочились слухи о рассмотрении Советом министров вопроса расширения прав евреев. 15 ноября делегат съезда, товарищ председателя союза В. М. Пуришкевич заявил с трибуны съезда, что Главный совет союза обратился к своим отделам с предложением просить императора воздержаться от утверждения законопроекта. “По прошествии 24 часов у ног Его Императорского Величества было 205 телеграмм” с указанной просьбой (63) (в союзе было 205 отделов — А.М.).
Резолюция съезда выступала против всяких уступок “еврейским притязаниям”, каждая уступка расценивалась как проявление слабости государственной власти. В резолюции высказывалось требование производить любые изменения законов о евреях только в общем законодательном порядке, но не по 87 статье (64).
Известный адвокат, член Думы В. А. Маклаков по поводу упомянутого законопроекта писал, что “при диких формах современного антисемизма (написано в 1942 г. — А. М.) тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым”. В проекте полного равноправия не было, “но евреи так не избалованы, что оценили бы и это”. Говоря о получении царем 205 телеграмм от союзников, Маклаков, ссылаясь на письмо Николая II Столыпину, резюмировал: “Вот источник того внутреннего голоса, который Государя будто бы никогда не обманывал” (65).
Наверняка это и была истинная причина отклонения законопроекта царем — Николай II поддержал антисемитов “дорогого” ему “Союза русского народа”.
В начале 1907 г. П. А. Тверской, независимый русский и американский журналист, как он сам себя называл, специальный корреспондент агентства “Американ Ассошиэйтод Пресс”, взял интервью у Столыпина. Тверской говорил о еврейских погромах, как уже о хроническом явлении, к которому присоединились другие явления, например, избиения интеллигенции. Он обвинял власть не только в бездействии, но и в их поощрении и указывал на черносотенную агитацию и апатию “в преследовании ее кровавых последствий, несмотря на существование военных положений и полевых судов” (66).
О том, что полевые суды не рассматривали дела погромщиков, Тверской, возможно, не знал. Впрочем, далее рассказано о помиловании многих осужденных обычными судами погромщиков.
Отвечая Тверскому, Столыпин говорил, что в этой области и он и правительство бессильны вследствие постоянно действующих на них “различных давлений и влияний”. Поэтому он не раздумал об отставке. Затем Столыпин заметил, что ему только остается лавировать. Закончил он, сказав: “Погромы теперь пока прекратились, и пока я у власти, их больше не будет” (67).
Если напомнить о двух последних погромах, организованных как раз в 1907 г., то Столыпин не выполнил обещание.
Возвращаясь к вопросу о сопротивлении правых сил, на которое натолкнулись первые шаги правительства Столыпина, следует подчеркнуть, что премьер не собирался отступать от реформ. В январе — феврале 1907 г., получив записку крайних правых членов Государственного совета о внутренней политике, Столыпин написал на ней замечание: “Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большой мере недостатки внутреннего уклада... К тому же путь реформ торжественно возвещен, создана Государственная дума и идти назад нельзя. Признанием бессилия власти будет обращение всех сил на полицейские мероприятия”, — закончил премьер (68). Приведенная запись не предназначалась для опубликования и ее нашли в письменном столе после кончины Столыпина.
20 февраля 1907 года была открыта II Дума, а 6 марта на ее заседании председатель совета министров более подробно изложил программу правительства от 24 августа 1906 г. И вновь, несмотря на недавнюю неудачу, обусловленную позицией царя, он, в частности, говорил о шагах предусматривающих облегчение положения евреев: “С целью проведения в жизнь высочайше дарованных узаконений об укреплении начал веротерпимости и свободы совести министерство (т. е. правительство — А. М.) вносит в Государственную думу и Совет ряд законопроектов, определяющих отмену связанных исключительно с исповеданием ограничений” (69). Однако за три с половиной месяца существования II Думы столыпинское правительство не внесло никаких законопроектов по отмене ограничений для евреев.
Став во главе Совета министров в разгар революции, Столыпин хотел противопоставить демократическому движению и либеральной Думе активную массовую организацию правого толка и пытался делать ставку на “Союз русского народа”. Например, член Главного совета союза П. Ф. Булацель сообщал о переговорах в сентябре 1906 г. премьера с союзом; видным “союзникам” тот обещал, что, если они составят большинство в Думе, то к изменению основных законов в их духе “вряд ли бы встретилось препятствие” (70). Подобному высказыванию едва ли стоит предавать значение, ибо, как известно, союз был ярым противником и столыпинских реформ и самого существования Думы. Все же это не мешало правительству финансировать союз и его черносотенную прессу; такие факты подтверждал товарищ министра внутренних дел С. Е. Крыжановский (71), тесно сотрудничавший с Пуришкевичем.
К представителям власти, являвшимся вдохновителями еврейских погромов, никакие репрессивные меры, как указано ранее, не принимались. Но непосредственных участников погромов, убийств и грабежей приходилось судить и осуждать, что очень не нравилось Николаю II. В беседе с руководителем одесского отдела “Союза русского народа” графом А. И. Коновницыным он говорил, что русские суды относятся к участникам погромов излишне строго. “Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбам дорогого мне “Союза русского народа” (72) (царь был почетным членом союза (73) и носил его значок (74)). Николай II выполнял свое слово и подписывал большинство “всеподаннейших докладов” министра юстиции И. Г. Щегловитова о помиловании осужденных за еврейские погромы, составлявшихся по ходатайствам различных отделов союза (75).
Это подтвердил с думской трибуны Пуришкевич, говоривший о многих осужденных “безвинно по голословным доказательствам еврейского кагала. Когда впоследствии монархические организации одна за другой возбуждали ходатайства о помиловании, все они получили полное удовлетворение” (76). Через некоторое время к тому же вернулся член Думы Е. П. Гегечкори, но в совсем противоположном ракурсе: “Г. Щегловитов напрягает все усилия, пользуется всеми находящимися в его руках средствами, чтобы погромщики — “союзники” не понесли заслуженной кары” (77).
Витте утверждал, что помилованием царя пользовались “явные убийцы и подстрекатели к убийствам”, и помилование происходило “не без участия Столыпина” (78). Учитывая явную неприязнь Витте к Столыпину, видную во многих главах его “Воспоминаний” (79), можно усомниться в истинности подобного утверждения. Но если в действительности премьер сам и не присоединялся к ходатайствам о помиловании, то наверняка знал о докладах царю министра возглавляемого им правительства.
От массовых погромов “союзники” перешли к террористическим актам. 18 июля 1906 г. они убили члена I Думы профессора М. Я. Герценштейна, 29 января 1907 г. покушались на Витте, 14 марта того же года убили редактора газеты “Русские ведомости” Г. Б. Иоллоса, также бывшего члена Думы.
Связь с “союзниками” дискредитировала Столыпина. Причиной этого был не только их бандитизм. Они поносили премьера и правительство, не стесняясь в выражениях, несмотря на получаемые деньги. Поэтому отношения Столыпина с союзом летом 1907 г. стали ухудшаться, произошла заминка в выдаче средств. Глава союза А. И. Дубровин попросил начальника Петербургского охранного отделения полковника А. В. Герасимова, близкого сотрудника Столыпина, быть посредником. Он отказался из-за резкой компании, проводимой против премьера газетой Дубровина “Русское знамя”. Глава союза все же уговорил Герасимова и тот убедил Столыпина, который нехотя “распорядился о выдаче 25 тысяч рублей” союзу (80). На следующий день в “Русском знамени” говорилось будто “Столыпин дал эту сумму за то, чтобы Дубровин не печатал известных статей, как бы подкупил его” (81). Премьер стал добиваться смещения Дубровина и в 1910 г. Главный совет союза полностью обновился. Дубровин был вынужден сам уйти и впоследствии создал новую черносотенную организацию — Всероссийский Дубровинский союз русского народа (82).
Видный кадетский публицист, член ЦК партии народной свободы В. П. Обнинский, характеризуя Николая II, писал: “Царь не раз говаривал преданному слуге Петру Аркадьевичу: “Отчего Вы не запишитесь в “Союз русского народа” ? Ведь Дубровина теперь там нет”. Затем Обнинский добавлял: “Да, Дубровина — то не было, зато Николай оставался” (83).
До своей кончины Столыпин продолжал контактировать с “Союзом русского народа”, но не дубровским, а обновленным, более умеренным (84).
22 мая 1907 г. Столыпин издал циркуляр № 20 по министерству внутренних дел, предложивший Курскому губернатору приостановить “впредь до пересмотра общего вопроса о праве жительства евреев” выселение евреев, поселившихся вне черты оседлости на законном основании, но утратившим по каким-либо причинам это право, а также имеющих семью и “домообзаводство”. Решение дополняли существенные ограничения. Административная власть должна быть уверенной в том, что еврей, оставленный в запрещенной ему местности, “не вреден для общественного порядка и не вызывает неудовольствия” населения. Затем циркуляр предписывал категорически не допускать впредь “незаконного водворения” евреев вне черты оседлости (85).
Хотя под действие циркуляра подпадало всего несколько тысяч еврейских семейств, правые фракции III Думы 26 ноября 1908 г. внесли заявление о запросе министру внутренних дел, в котором обвинили его в превышении власти, а также незаконности циркуляра, разосланного по всей России, и нарушении Свода законов. Запрос требовал точного соблюдения действующих законов о евреях и утверждал, что закон нельзя отменить министерским циркуляром (86). По решению Думы заявление было передано в комиссию по запросам (87), но осталось нерассмотренным (88). Однако это не помешало властям отреагировать на запрос массовым выселением евреев в местности черты оседлости. Например, из Киева зимой 1910 г. выслали 1200 еврейских семейств (89).
Третьеиюньский переворот стал переломным моментом во внутренней политике Столыпина, в том числе, в еврейском вопросе. “Правительство Столыпина объявило войну русскому еврейству”, — писал Витте (90). Конечно же, утверждение Витте, относившегося к Столыпину с нескрываемой антипатией, не является убедительным доказательством, хотя факты говорят сами за себя. Так, 14 сентября 1907 г. общее собрание членов Киевского губернского отдела “Союза русского народа” потребовали в письме Столыпину очистить Киевский политехникум от “засилия” евреев. Резолюция премьера на полях письма была такой: “Наконец, среди грубой брани и требований, вызванных политиканством и интригой, дождался я от “Союза русского народа” мыслей правдивых и серьезных. Безобразный прием евреев в Киевский политехникум уже обратил на себя мое внимание, и я принял соответствующие меры” (91). Столыпин приказал исключить из политехникума 100 студентов-евреев, выдержавших конкурсные экзамены, а на их места принять русских, получивших меньше баллов (92).
1 ноября 1907 г. была открыта III Дума; 16 ноября Столыпин изложил в ней правительственную декларацию, в которой уже не было ни одного слова об отмене ограничений для евреев (93). До 16 ноября Столыпин более или менее считался со всем, “что было левее того настроения, в котором он сам находился в данный момент. После 16 ноября он считался только с крайними правыми по тем немногим вопросам, по которым с ними расходился”, — писал Тверской (94).
Впрочем, изредка председатель Совета министров отступал от жесткого курса, по крайней мере, на словах.
Один из всего двух евреев — членов III Думы Л. Н. Нисселович решил внести законодательное предложение об отмене ограничений политических и гражданских прав евреев, предварительно выяснив у лидеров правых фракций, как они отнесутся к передаче подобного предположения в комиссию.
Весной 1908 г. Нисселович был на приеме у премьера по поводу полученных из черты оседлости известий о готовящихся там выступлениях “союзников”. Он воспользовался посещением, чтобы сообщить Столыпину ответы лидеров фракций и узнать, как правительство отнесется к указанному предположению. Сами ответы Нисселович не привел, но писал, что глава правительства категорически заявил о безусловном недопущении погромов. И действительно, как отмечено ранее, после 1907 г. в период премьерства Столыпина погромов не было. По главному вопросу он заявил: “Если в самой Думе возникнет законодательное предположение насчет евреев, то правительство пойдет Думе навстречу в отношении улучшения быта и положения еврейской бедноты, как в черте оседлости, так и вне ее” (95).
Необходимо подчеркнуть, что Столыпин ушел от ответа на главный вопрос — об отмене ограничений политических и гражданских прав евреев, заменив его частностями. Кроме того, вне черты оседлости еврейской бедноты почти не было.
Циркулярами министра народного просвещения от 1 и 6 июля 1887 г. № № 9817 и 10313 были введены процентные нормы лиц иудейского исповедания для средних и высших учебных заведений: в черте оседлости 10% общего количества обучающихся, в столицах 3%, в прочих местностях 5% (96). В 1901 г. они были снижены, соответственно, до 7,2 и 3%. Циркуляр от 7 июня 1903 г. восстановил прежние нормы (97).
В 1905 — 1906 г.г. эти нормы во многих местностях перестали соблюдать, чему содействовал циркуляр, предоставлявший руководству учебных заведений право заполнять евреями почему либо не занятые христианами места. В университетах решение принимали советы, пользовавшиеся неразберихой и противоречиями между прежними, не отмененными постановлениями, и новыми, вызванными волной революционных выступлений (98). Практически администрация высших учебных заведений явочным порядком отменила процентные нормы.
А. Н. Шварц, назначенный министром народного просвещения в начале 1908 г., отмечал, что томский епископ в письме царю жаловался на полное нарушение процентной нормы в Томске. Николай II передал письмо Столыпину, а тот поставил вопрос на обсуждение Совета министров (99). В результате 16 сентября 1908 г. был утвержден закон “Об установлении процентных норм для приема в учебные заведения лиц иудейского исповедания”, подтвердивший нормы 1887 г. для высших учебных заведений (100), 22 августа 1909 г. — закон “Об условиях приема евреев в средние учебные заведения”, установивший нормы 15% для черты оседлости, 5% для столиц и 10% для прочих местностей (101).
Казалось бы, первый из упомянутых законов не ужесточил прежние нормы для высших учебных заведений, а второй — повысил их для средних. Но по сравнению с положением, существовавшим в 1905 - 1906 г.г., это был шаг назад, возмутивший не только евреев, но и либеральную общественность. Витте писал, что “мера эта законодательного характера... Это было новое ограничение евреев и сделано вопреки закону, помимо Государственной думы и Государственного совета” (102).
Правительство продолжало идти по пути ограничений, и 11 марта 1911 г. был подписан закон “Об ограничении установленными Высочайше утвержденным 22 августа 1909 года положением Совета Министров процентными нормами допуска евреев к экзаменам в качестве экстернов в предусмотренных в означенном положении учебных заведениях”. Закон распространял на евреев, сдающих экзамены в средних учебных заведениях в качестве экстернов, установленные для этих заведений нормы, но исчисляемые по отношению к общему количеству экстернов (103). Действительный смысл закона состоял в практическом запрещении сдавать евреям экзамены экстерном, ибо у христиан, имеющих право на обучение без всяких ограничений, не было никакой необходимости в экстернате. Поэтому лишились такой возможности и евреи.
Сын Столыпина, А. П. Столыпин, писал об отце: “Живя и работая в крае, в котором сказывалось влияние трех народностей — польской, литовской и еврейской, Петр Аркадьевич узнал их сильные и слабые стороны. Широко просвещенный и воспитанный в культурных русских традициях, он привык с уважением относиться к правам инородцев, но огонь национального самосознания разгорелся в нем ярким пламенем” (104).
Но панегирик А. П. Столыпина был неоправдан — “огонь национального самосознания” сжег уважение к правам инородцев, если оно и было. Так, в начале 1910 г. Столыпин издал циркуляр, указавший губернаторам, что культурно-просветительные общества инородцев содействуют пробуждению в них “узкого национально-политического самосознания” и “ведут к усугублению начал национальной обособленности и розни” и потому должны считаться “угрожающими общественному спокойствию и безопасности”. Поэтому циркуляр признавал учреждение подобных инородческих обществ (особо были выделены общества украинцев и евреев) недопустимым. Губернаторы также должны были тщательно ознакомиться с деятельностью уже существующих обществ с указанных позиций и в необходимых случаях закрывать их (105).
В националистическом духе был разработан законопроект “О применении Положения о земских учереждениях 12 июня 1890 г. к шести губерниям Западного края”. В III Думу он был внесен министром внутренних дел 20 января 1910 г., а 25 января постановлением Думы передан на рассмотрение в комиссию (106). 7 апреля комиссия по местному самоуправлению внесла доклад по этому проекту в общее собрание Думы. 7 мая — в день первого заседания, посвященного обсуждению законопроекта, выступил Столыпин (107). Отстаивая интересы русского населения Западного края (белорусы и украинцы официально причислялись к русским) перед поляками, законопроект одним острием был направлен против евреев — его 6 статья гласила, что евреи не допускаются к участию в выборах и не могут быть избраны в земские гласные. При этом, как обычно, было включено якобы смягчающее условие — “впредь до пересмотра действующих о них (о евреях — А. М.) узакононений” (108).
Дума приняла закон 1 июня 1910 г. (109), но 4 марта 1911 г. Государственный совет отклонил основную статью законопроекта. Тогда по инициативе Столыпина царь распустил обе палаты с 12 по 14 марта, чтобы провести законопроект по 87 статье, и 14 марта утвердил закон (110).
15 марта фракция “Союза 17 октября”, группа прогрессистов, социал-демократическая фракция и фракция народной свободы внесли заявление о запросах (каждая отдельно) председателю Совета министров о нарушении им основных законов в связи с проведением закона о западном земстве по 87 статье (111)111.
20 марта, в весьма напряженные для Столыпина дни, к нему обратился с письмом Балашев. Тагер полагал, что автором письма был глава думской фракции националистов (112). Однако лидером фракции был Петр Николаевич Балашов, а в письме, опубликованном в “Красном архиве”, указана фамилия Балашев, без инициалов (113). Подлинным автором письма являлся Иван Петрович Балашев, издавший еще в 1906 г. брошюру, которая по названию посвящалась вопросу изменения закона о выборах в Думу, но основным в ней были грубые и резкие антисемитские выпады (114).
В письме автор призывал Столыпина не уходить со своего поста, пока он не выполнит “национальную” программу. Он предлагал “явиться на думский запрос с роспуском в кармане”. “Сделайте это предстоящим летом и в октябре соберите “обновленную” Думу. Тем временем введите на основании 87 статьи окончательно принцип черты оседлости для евреев и полное устранение их от школы, суда и печати” (115). Эта программа Балашева полностью совпадала со взглядами националистов, утверждавших, что равноправие евреев недопустимо (116).
Крайние правые и националисты ужесточали политику антисемизма. Например, на заседании Постоянного совета объединенных дворянских обществ 27 марта в резолюцию по еврейскому вопросу были включены категорические требования изгнания евреев из армии, строгого исполнения всех ограничений, существующих для евреев, а также была указана желательность их недопущения к законодательной, административной и педагогической деятельности и полного разобщения русской и вообще христианской учащейся молодежи от еврейской (117).
В 1910 г. Совет министров разработал законопроект “О преобразовании управления городов в губерниях Царства Польского”, который должен был распространить Городовое положение 1892 г. на Западный край (1118). Но принципиально новым по сравнению с указанным положением были национальные курии и нормы представительства от них. Здесь еще в более сильном националистическом духе продолжалась та же линия, что и в законопроекте о западном земстве в отношении евреев . Предлагалось в городах и городских поселениях, где жили более 50% евреев, избирать им не более 20% от общего количества гласных; если евреи составляли менее 50% жителей, они смогли бы избирать не более 10% ; в тех городах и местечках, где евреев было меньше 10% , количество гласных от еврейской курии определялось бы процентным отношением числа евреев ко всему населению; и, наконец, при 2% евреев, они имели бы право избирать всего двух гласных. Обсуждение законопроекта в Думе происходило уже после смерти Столыпина (119).
С последней публичной речью он выступил 27 апреля 1911 г. в Думе, отвечая на запросы четырех фракций по закону о западном земстве. Председатель Совета министров, в частности сказал: “В законе проводятся принципы не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охрана прав коренного русского населения” (120). Таков был его комментарий к 6 статье закона.
Националисты и крайние правые одобрили эту статью. Например, член Думы Пуришкевич заявил, что основными положениями государственного национализма должны быть следующие: русский народ является народом хозяином; евреям строжайше запрещается занимать в стране какие-либо должности в области государственного управления (121).
Обнаружение 20 марта в Киеве убитым подростка А. Ющинского, ставшее отправным пунктом “дела Бейлиса”, вызвало дикую антисемитскую истерию в стране. Киевское охранное отделение получило через директора Департамента полиции приказ Столыпина “собрать подробные сведения по делу об убийстве мальчика Ющинского и сообщить подробно о причинах этого убийства и о виновных в нем” (122).
Этот приказ можно расценивать двояко. Газета “Русское знамя” писала, что “убитый премьер был единственным ни за какие деньги не соглашавшимся прикрыть дело Юшинского” (123). С другой стороны, Столыпин к его чести не поддался общей истерии, не верил в ритуальное убийство и потому желал, чтобы были найдены настоящие преступники.
Упомянутый приказ, по-видимому, явился последним актом “еврейской политики” Столыпина.
Как же оценить такую его “политику”?
Столыпин был представителем своей эпохи и того строя жизни, в рамках которого он сформировался. И его попытки провести какие-то законодательные облегчения для евреев определялись не душевной склонностью, а рассудком, сознанием, что существующее положение евреев вредно для России. Однако давление на него правых кругов оказалось сильнее.
Подытоживая сказанное о различных аспектах “еврейской политики” Столыпина, можно утверждать, что она никакого улучшения жизни евреям не принесла, а в ряде моментов ужесточила антиеврейские законы.
Примечания
1. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. XXV. 1905. Спб., 1908. № 26803.
2. Ганелин Р. Ш. Первая государственная дума в борьбе с черносотенством и погромами // Освободительное движение в России. Вып. 15. Саратов, 1992. С. 113 - 140; Лурье Ф. М. Из истории правительственных провокаций: Опыт исторического расследования // Вестник Евр. унта в Москве. М., 1993, № 4, с. 168 - 179.
3. Государственная дума. Созыв 1-й. 1906 г. Сессия 1я. Стенографические отчеты. Т. I. Спб., 1906. С. 270 - 271, 277.
4. Севрянов П. Н. Петр Столыпин: Политический портрет. М., 1992; Островский И. В. П.А. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992.
5. Стенографические отчеты. Т. I. С. 275.
6. Там же Т. II. С. 952 - 961.
7. Там же. С. 961.
8. Там же. С. 1125 - 1126.
9. Материалы к истории русской контрреволюции. Т. 1. Спб., 1908. С. LXXXVIII — XCII.
10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Пг., 1916. Ст. 341.
11. Стенографические отчеты. Т. II. С. 1127.
12. Там же. С. 1126.
13. Там же. С. 1126 - 1129.
14. Черновский А. А. Союз русского народа. По материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 1917 г. М. — Л., 1929. С. 420.
15. Стенографические отчеты. Т. II. С. 1129.
16. Там же. С. 1129 - 1131.
17. Ганелин Р. Ш. Черносотенные организации, политическая полиция и государственная власть в царской России // Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Ч.1. СПБ., 1992. С. 98.
18. Стенографические отчеты. Т. II. С. 1141.
19. Там же. С. 1173, 1196.
20. Витте С. Ю. Воспоминания. Т. III. Таллин — М., 1994. С. 81 - 84; Лопухин А. А. Отрывки из воспоминаний. М.; Пг., 1923. С. 81 - 91.
21. Лопухин А. А. Указ. соч. С. 95.
22. Там же.
23. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни // Известия Томского ун-та. Кн. 33. Томск, 1909. Приложения. С. 41 - 48
24. Стенографические отчеты. Т. II. С. 1595 - 1598.
25. Там же. С. 1785 - 1786.
26. Дубнов С. М. Погромные эпохи (1881 - 1916) Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Т. 1., 1919. С. IX - XIII.
27. Левицкий В. Правые партии // Общественное движение в России в начале XX века. Т. 3. Кн. 5. Спб., 1914. С. 432 - 433.
28. Материалы к истории... С. 405 - 414.
29. Черновский А. А. Указ. соч. С. 421.
30. Материалы к истории... С. 249 - 251.
31. Успенский К. Н. Очерк царствования Николая II // Голос минувшего. 1917, № 4, С. 28.
32. Стенографические отчеты. Т. I. С. 378 - 379.
33. Правительственный вестник. 1906. 24 августа.
34. GurkoV. I. Features and Figures of the Past Government and Opinion in the Reign of Nicholas II. Stanford, 1939. P. 502.
35. Ibid. P. 504.
36. Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. М., 1934. С. 48.
37. ПСЗ. Т. XXIV. 1904. Спб., 1907. №№ 24736, 25016
38. ПСЗ, Т. II. 1882. Спб., 1886. № 834.
39. Красный архив. 1923, № 4, С. 134135.
40. Gurko V. T. Op. cit. P. 504.
41. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903 - 1919 гг. Кн. 1. М., 1992. С. 206 - 207.
42. О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев // Особые журналы Совета министров царской России. 1906 год. IV. М., 1982. С. 759 - 760.
43. Аврех А. Я. Столыпин и третья Дума. М., 1986. С. 27 - 28.
44. Коковцов В. Н. Указ. соч. С. 413 - 415.
45. Gurko V. T. Op. cit. P. 505 - 506.
46. О пересмотре постановлений... С. 796 - 800.
47. Там же. С. 800.
48. Убийство Столыпина: Свидетельства и документы. Составитель А. Серебренников. НьюЙорк, 1989. С. 69.
49. Коковцов В. Н. Указ. соч. С. 208.
50. О пересмотре постановлений... С. 794.
51. Там же.
52. Красный архив. 1924, №5, с. 105.
53. Ганелин Р. Ш. Первая государственная дума... С. 140.
54. Красный архив. 1924, №5, с. 106 - 107.
55. Там же. С. 107.
56. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1276, оп. 20, д. 4, л. 215.
57. Коковцов В. Н. Указ. соч. С. 208 - 209.
58. Gurko V. T. Op. cit. 506.
59. Лопухин А. А. Указ. соч. С. 85.
60. Стенографические отчеты. Т. II. С. 1130.
61. Лопухин А. А. Указ. соч. С. 85.
62. Дубнов С. М. Указ. соч. С. XI - XII.
63. Труды второго съезда уполномоченных дворянских обществ 31 губернии. Спб., 1906. С. 52.
64. Там же. С. 136.
65. Маклаков В. А. Вторая государственная дума: Воспоминания современника. Париж, 1942. С. 40.
66. Тверской П. А. К историческим материалам о покойном Столыпине // Вестник Европы. 1912, №4, с. 189.
67. Там же. С. 189190.
68. РГИА, ф. 1284, оп. 185, 1907 г., д. 5а., ч. 3, л. 150.
69. Государственная дума. Созыв 2-й. 1907 г. Сессия 2я. Стенографические отчеты. Т. I. Спб., 1907. Стб. 110.
70. Приведено по: Изгоев А. С. П. А. Столыпин. Очерк жизни и деятельности. М., 1912. С. 50.
71. Крыжановский С. Е. Воспоминания. Берлин, 1938. С. 100.
72. Успенский К. Н. Указ. соч. С. 34.
73. Островский И. В. Указ. соч. С. 37.
74. Daily Telegraph. 1907. № 251.
75. Тагер А. С. Указ. соч. С. 47; Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905 - 1914 гг. М., 1992. С. 81 - 82.
76. Государственная дума. Созыв 3-й. 1908 г. Сессия 1-я. Стенографические отчеты. Ч. II. Спб., 1908. Стб. 2306.
77. Там же. 1909 г. Сессия 2-я. Ч. II. Спб., 1909. Стб. 2880.
78. Витте С. Ю. Указ. соч. С. 464.
79. См.: Витте С. Ю. Указ. соч. С. 335.
80. Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 156.
81. Черновский А. А. Указ. соч. С. 75.
82. Степанов С. А. Указ. соч. С. 192.
83. Обнинский В. П. Последний самодержец // Голос минувшего. 1917, № 4, с. 78.
84. Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 97.
85. Найхин Б. Л. Сборник законов о евреях. М., 1911. С. 26.
86. Государственная дума. Созыв 3-й. 1908 г. Сессия 2-я. Стенографические отчеты. Ч. I. Спб., 1908. Стб. 1850 - 1851.
87. Там же. Стб. 1857.
88. Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва 1907 - 1912 гг. Ч. I. Спб., 1912. С. 464 - 465.
89. Новый восход. 1910, № 3, стб. 2; Кандель Ф. Очерки времен и событий из истории российских евреев. (Часть третья: 1882 - 1920 годы.). Иерусалим, 1994. С. 246.
90. Витте С. Ю. Указ. соч. С. 468.
91. РГИА, ф. 1270, оп. 3, д. 941, л. 107.
92. Дубнов С. М. Евреи в царствование Николая II (1894 - 1914). Петербург, 1922. С. 76.
93. Государственная дума. Созыв 3-й. 1907 г. Сессия 1-я. Стенографические отчеты. Ч. I. Спб., 1908. Стб. 307 - 312.
94. Тверской П. А. Указ. соч. С. 201.
95. Нисселович Л. Н. Еврейский вопрос в III Государственной Думе. Спб., 1908. С. 33 - 35.
96. Мыш М. И. Руководство к русским законам о евреях. Спб., 1904. С. 360 - 361.
97. РГИА, ф. 733, оп. 153, д. 3, лл. 40 - 40 об.
98. Шварц А. Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о Государе. М., 1994. С. 33, 118.
99. Там же. С. 33 - 34.
100. ПСЗ. Т. XXVIII. 1908. Спб., 1911. № 31008.
101. ПСЗ. Т. XXIX. 1909. Спб., 1912. № 32501.
102. Витте С. Ю. Указ. соч. С. 486, 504.
103. ПСЗ. Т. XXXI. 1911. Спб., 1914. № 34900.
104. Столыпин А. П. П. А. Столыпин. 1862 - 1911. М., 1991. С. 6.
105. Новый выход. 1910, № 6, стб. 16.
106. Государственная дума. Созыв 3-й. 1910 г. Сессия 3-я. Стенографические отчеты. Ч. II. Спб., 1910. Стб. 214.
107. Там же. Стб. 774 - 791.
108. Там же. Стб. 3062.
109. Там же. Стб. 2981.
110. ПСЗ. Т. XXXI. 1911. Спб., 1914 № 34903.
111. Государственная дума. Созыв 3-й. 1911 г. Сессия 4-я. Стенографические отчеты. Ч. III. Спб., 1911. Стб. 718 - 725.
112. Тагер А. С. Указ. соч. С. 57.
113. Красный архив. 1925, № 2 (9), С. 291 - 294.
114. Балашев И. П. Записка о необходимости изменения закона о выборах в Государственную думу. Спб, 1906.
115. Красный архив. 1925, № 2 (9), С. 292 - 293.
116. Националисты в 3-й Государственной Думе. Спб., 1912. С. 144.
117. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 584, оп. 1, д. 81., л. 11.
118. Аврех А. Я. Указ. соч. С. 93.
119. Государственная дума. Созыв 3-й. 1911 г. Сессия 5-я. Стенографические отчеты. Ч. I. Спб., 1911. Стб. 2436.
120. Там же. Сессия 4-я. Ч. III. Стб. 2861 - 2862.
121. Там же. Стб. 2910 - 2911.
122. Цит. по: Тагер А. С. Указ. соч. С. 98.
123. Русское знамя. 1911. 8 сентября.
= ГЛАВНАЯ = УРОКИ = ИЗРАНЕТ = ИСТОРИЯ = ШОА = ИЕРУСАЛИМ = РОССИЯ =
|
Метки: столыпины |
В разрушенном поместье. Петр Столыпин и Литва |
В разрушенном поместье. Петр Столыпин и Литва
16 Сентябрь 2018

Петр Столыпин (крайний справа) на террасе поместья в Калнабярже, 1888 год
Поделиться
Об этом периоде жизни выдающегося реформатора в России знают далеко не все. Литовские архивы, с этим связанные, мало исследованы, а вошедшее в историю Российской Империи имение Столыпиных на литовской земле много лет простояло никому не нужным и находится в удручающем состоянии.
<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud....t;SoundCloud</a>
..Студент, блестящими знаниями и умом которого восхищались петербургские профессора Менделеев и Чебышев, благородный аристократ, предпочитавший честь свою и близких защищать на дуэли, барин, вопреки русским помещичьим традициям не любивший охоту и игру в карты, при этом – уже будучи премьер-министром – лично заботившийся о покосах и быте крестьян, успевавший из скромной, по тем временам провинциальной усадьбы, в которой родились пятеро его детей, руководить громадной империей.
Все это – о выдающемся российском реформаторе Петре Столыпине. Известнейшая историческая личность, модная в России в последние годы, наследию и жизни которой – российской – посвящены книги, фильмы, фонды. Изучено все, буквально по дням. Но вот про период пребывания Столыпина в Литве так не скажешь. А ведь это в общей сложности 40 лет его жизни, начиная с детства и кончая той самой усадьбой – она называется Калнабярже (Kalnaberžė), в переводе с литовского "Березы на горе" – где, по собственному признанию, он был так счастлив в семейной жизни и откуда по тенистой аллее в сентябре 1911-го Петр Аркадиевич отправился в свою последнюю дорогу.
В Литве он жил с детства и был привязан к этим краям всю жизнь – учился со второго по шестой класс в виленской гимназии, c 1889 по 1902 год являлся предводителем Ковенского уездного, а затем губернского дворянства. Потом губернаторство в разных местах, куда назначали, – работать ему приходилось в переломное, бурное для России время, требующее личного мужества, в чем недостатка Столыпин никогда не выказывал. С 1906-го – премьер-министр правительства Российской империи, который и в этом чине много времени проводил в Литве. Кстати, названия очень важных тогда мест в его судьбе – Каунас, Кедайняй, Калнабярже и Киев – все начинаются с буквы К.
В литовской деревне Калнабярже Кедайняйского района и располагается знаменитая усадьба Столыпиных. Вернее, то, что от нее осталось. Руины.

Историк Милда Янюнайте
Имением в 85 гектаров в живописном месте у реки Невежис до Столыпиных владели Радзивиллы, Чапские и Кошелевские. Его окружает мощный парк, заложенный в XIX веке: вековые дубы, липы, ясени, клены, березы, тополя. Почему это историческое поместье забыто, оказалось никому не нужным – ни Литве, ни России, ни фондам, носящим имя Столыпина, – а поросло травой выше человеческого роста? Почему дом – когда в нем жили Столыпины, богатый, полный дорогой мебели и картин, с ценнейшей библиотекой в 10 тысяч томов, – несколько десятилетий простоял с провалившейся крышей и сейчас представляет жалкое зрелище? Отчего ценный опыт, накопленный неутомимым реформатором России, и не только в сельском деле, не востребован? Почему период жизни выдающегося человека, одного из символов России – страны, все так же нуждающейся в преобразованиях, – столь мало интересует исследователей?
Об этом беседуем с литовским историком, автором недавно вышедшей книги "Столыпин и Калнабярже" Милдой Янюнайте:
"Я тоже удивляюсь! Ведь, действительно, много времени он провел здесь. Упущение какое-то. У нас лежат почти нетронутые архивы. Такая личность, как Столыпин, на мой взгляд, рождается раз в сто лет. Как мог один человек столько много сделать... Это и притягивает.
Сейчас у меня нет свободных денег, но есть имение где-то в Литве
Поместье Калнабярже – тогда эти территории входили в состав Российской империи – его отец приобрел по некоторым данным в ходе забавной истории. Однажды Аркадий Дмитриевич играл в карты со своим закадычным другом-генералом, и тот крупно проиграл. Говорит: сейчас у меня нет свободных денег, но есть имение где-то в Литве. Правда, я там никогда не был и не буду, хочешь – забирай. Почему бы не съездить, посмотреть? Тем более, там рядом польские земли. Когда он увидел реку Невежис, холмы, березы – ему понравилась эта живописная местность, климат, покой, так Столыпины и попали сюда. Петр поступил учиться в виленскую гимназию, которая находилась в закрытом на тот момент здании Виленского университета.

Петр Столыпин, 1881 год
После учебы в Вильнюсе Петр поступил в Петербургский университет. Это был начитанный, интеллектуальный юноша с широким кругозором, отлично учившийся, – его ждала наука, блестящая карьера, однако он попросился после учебы в Литву, чтобы быть ближе к Калнабярже. Отработав несколько лет на госслужбе в Петербурге, он при первой возможности поехал туда с семьей. Имение было ухожено, в прекрасном состоянии, хоть и не такое огромное, как другие владения Столыпиных, оно им очень понравилось. И как раз освободилось место маршалки – предводителя дворянства Ковенской губернии. Столицу он покинул без сожаления и втянулся в работу здесь. Старшая его дочь Мария родилась в Петербурге, где он совсем еще молодым женился на Ольге Нейдгардт и был единственным женатым студентом на факультете, чем вызывал любопытство. В Калнабярже родились потом еще четыре дочки и позже, наконец, сын".
Если родится дочь, выстрелить в ружье один раз, если сын – два
Биограф семьи так описывал те события: "Опасаясь оставить жену одну, в имение прибыл и Петр Аркадьевич. В какой-то момент он, не совладав с тревожным чувством ожидания конца родов, ушел в парк. А перед этим приказал слуге Казимиру: если родится дочь, выстрелить в ружье один раз, если сын – два. При этом усмехнулся: за восемнадцать лет супружеской жизни у них было пять одиноких выстрелов... Он мечтал о мальчике, но на все воля Божья! Итак, Столыпин в беспокойном ожидании ходит в парке, слышит: выстрел. Перекрестился: шестая... Вздохнул и пошел к дому. Но тут – еще выстрел. Двойня? Он понесся к дому, в дверях чуть было не сшиб Штейна, доктора, принимавшего роды.
Сын, Петр Аркадиевич, сын, поздравляю! – Столыпин расцеловал Штейна: – Спасибо, голубчик, Господь услышал наши молитвы! А почему же ты сразу, – притворно-грозно спросил он Казимира, – не дал два выстрела? – Так это... Петр Аркадьевич, палец дрогнул от волнения".
Казимир служил у Столыпиных до конца жизни. Другой литовец, слуга Матулайтис, тоже был предан этой семье, он погиб в Петербурге на Аптекарском острове во время покушения на Петра Аркадьевича в 1906 году.

Имение Калнабярже. 1900 г
К земельному вопросу автор российской реформы прикипел с детства: живя в Калнабярже среди великолепной природы, еще мальчиком мог близко познакомиться с крестьянскими работами. А став полноправным хозяином поместья, перешедшего к нему от отца, который к тому времени получил назначение на должность коменданта Московского Кремля, Петр Столыпин сделал его полигоном для своих экспериментов по организации труда на земле. По словам старшей дочери Марии, он весь уходил в заботы о посевах, работах в садах. "Вот мой отец, – вспоминала она, – в своей непромокаемой куртке, в высоких сапогах, веселый и бодрый, большими шагами ходит по мокрым скользким дорогам, наблюдая за пахотой, распоряжаясь, порицая или хваля управляющего. Подолгу мы иногда стоим под дождем, любуясь, как плуг мягко разрезает блестящую землю…"
Высокий, красивый, благородный – в представлении крестьян настоящий барин. Однако за барской внешностью этого человека скрывалось то, что сделало его преобразователем не только своего поместья, но и всей России. И именно в Литве он знакомится с хуторскими хозяйствами. К нему тянутся и крестьяне соседних с Ковенским уездов. Имелось у Столыпиных кроме Калнабярже и еще одно имение, расположенное тогда у границы с Германией. Прямой железнодорожной ветки в те места не было, и Петр Столыпин ездил туда через Пруссию. Его восхищало устройство тамошних хуторов, организация работ на земле. И многое из увиденного легло потом в основу известной земельной реформы. Суть ее состояла в том, что время господствовавшего в те годы в России общинного землевладения прошло, оно не стимулирует заинтересованность в результатах личного труда, в общине человек не свободен, закрепощен.
Столыпин, изучив опыт литовской и прусской хуторских систем, стал ратовать за то, чтобы и в России земля могла закрепляться за крестьянами в качестве личной собственности, за создание самостоятельных хозяйств. При этом государственная помощь должна была оказываться прежде всего крепким хозяйствам, кто уже доказал, что умеет работать на земле.
До сих пор у многих непонимание того, что Столыпин тогда сделал. Из учебника в учебник: "реакционер", "столыпинские вагоны", "столыпинские галстуки"
Милда Янюнайте: "Идея, родившаяся в Литве, что нужно помогать крестьянам, дать им землю, зажиточный народ потом будет опорой государства – основы этому были положены здесь. Для этого был создан банк, на льготных условиях давались кредиты. Крестьяне, вышедшие из общины, могли уехать в края с плодородной землей, которые предлагались: Дальний Восток, Алтай, Урал. Им было разрешено увезти не только свой скарб, но и скот. И для этого были построены специальные вагоны: не ехать же людям в одном вагоне с коровой и лошадью. Вот эти вагоны для скота и остались в истории, которую исказили! Якобы насильно вывозили крестьян, да еще в нечеловеческих условиях, в Сибирь. Миф такой дошел до наших дней. За смелым реформатором пошла вот такая ложная, плохая слава. И до сих пор у многих непонимание того, что Столыпин тогда сделал. Из учебника в учебник: "реакционер", "столыпинские вагоны", "столыпинские галстуки". Мы это в прежнее время слышали и в литовском университете.
А что на самом деле? Земли можно было взять сколько хочешь. Люди брали ссуды, уезжали и обосновывались на новых землях. Те, кто хорошо работали, когда семья была большая, трудолюбивые, стали зажиточными. А кто, получив деньги, пропили-проели их, прогуляли – вернулись недовольные. Куда? В большие города, в Москву, в Петербург. И влились в ряды кого? Нередко – будущих революционеров".
В целом же тогдашняя столыпинская реформа сельского уклада в России при всех противоречиях и острейшей критике даже за короткий период дала обнадеживающий результат. Она не была осуществлена полностью вследствие начала Мировой войны и Февральской революции. Сам Столыпин считал, что все задуманные им меры – и не только в аграрной сфере – обязательно дадут эффект в будущем. При условии, если у страны по его словам будет "двадцать лет покоя внутреннего и внешнего".
В 1900 году в Литве по инициативе Столыпина организовывается Ковенское сельскохозяйственное общество. Среди основных задач – просвещение крестьян, внедрение современных методов хозяйствования. Открыли и опытную станцию в Байсогале. Другой проект – сельскохозяйственная школа с опытной животноводческой станцией в Дотнуве, где и ныне работает Литовская сельскохозяйственная академия, а в Байсогале – Институт животноводства. Это все плоды работы Столыпина.
"Такой уклад у литовцев был гораздо раньше, чем в России. Хозяйствование велось лучше. Это старые традиции, да и порядок было проще наводить в маленьком крае. Здесь Столыпин прорабатывал и идеи, чем выгоднее всего заниматься крестьянам зимой, когда нет сельхозработ. Ратовал за местные промыслы, чтобы изделия потом вывозить продавать. Организация в этих краях первых больших сельскохозяйственных выставок – заслуга Столыпина.
Проходил тут в Саратове мимо витрины ателье, заметил шляпки, по-моему, недурны
Рядом с ним жил помещик по фамилии Кунат, они дружили по-соседски. Это был дед поэта Чеслава Милоша, будущего нобелевского лауреата. Кунат – пример удачной организации местного крестьянского ремесла зимой – занимался выработкой пледов из овечьей шерсти, которые отправлял для продажи в Петербург. Однажды такую ярмарку посетил государь, которому помещик лично подарил плед, что оказалось очень к месту. Император обрадовался, поблагодарил за подарок и, сев в карету, укрыл им ноги.
Столыпин охотно давал крестьянам советы по всем вопросам, как сеять, как выращивать, какие методы и технику использовать. Вникал досконально, как помочь каждому. Был человеком чрезвычайно отзывчивым. К нему за советом приходили даже издалека, говорили: "Едем к барину Петру".
– Барин Петр, став главой правительства, действительно руководил всей Российской империей по телефону, сидя дома в своем литовском поместье Калнабярже, куда был специально проведен кабель?
– Да. Он получил тогда длительный отпуск, чтобы поправить пошатнувшееся от чрезмерной нагрузки здоровье. Император – в Петербурге, премьер – в Калнабярже. Для связи провели телефон и телеграф, Столыпин без конца принимал депутации, туда-сюда сновали курьеры. И все это охранялось жандармами.
Меня поражает сочетание: человек волевой, отважный, на высшем посту сложнейшей государственной службы и одновременно – трогательный, нежный, заботливый муж и отец. Ольга была единственной женщиной в его жизни. Без нее он не мыслил своего существования. Жена отвечала исключительной преданностью. Когда семье грозила опасность – сколько было покушений! – она вынуждена была быстро собирать детей и уезжать, но при первой возможности рвалась к мужу. Друг без друга они не могли. Их любовь за столько лет супружества оставалась свежей, что отмечали окружающие. Меня это особенно поразило при чтении писем Столыпина жене и архивных документов – из этого восхищения и родилось желание написать документальную повесть о человеке Петре Столыпине. В понимании многих – если выдающийся политический деятель или большой ученый, то ему не до семьи и преданности. У Столыпина – трогательное отношение всегда. В письмах жене и дочерям – при его-то нагрузке и масштабе государственных проблем – могло проскользнуть, например, такое: "Душки мои, проходил тут в Саратове мимо витрины ателье, заметил шляпки, по-моему, недурны". Думал о семье все время.

Петр Столыпин с супругой Ольгой, 1906 год
Из письма Петра Столыпина жене 18 мая 1904 года: "Родная моя, когда я сегодня вошел в наш счастливый дом, мне стало горько без тебя, подумал, что мы напрасно мучаемся расставаниями. Жизнь коротка, а мы в разлуке. Пиши мне почаще! Как бы мне хотелось быть с тобой, утешать тебя. Насколько сумел бы. Оля, как без тебя пусто и тоскливо! Дай Господь, чтобы все вы были сохранены. Нежно целую".
Судьба решилась: я министр внутренних дел. В стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть мира
30 мая 1904 года: "Такое сегодня ласковое от тебя письмо, и у меня соловьи на сердце запели. Так мило ты пишешь, что Адя теперь улыбается, я счастлив, что драгоценный мальчик здоров. Счастлив такой жизнью, так как в работе забываю тосковать о тебе и детях. Как останусь один, загляну в окно на Волгу – вспоминаю наши прогулки, нашу милую жизнь в Калнабярже. Прости, что мало написал, очень устал. Люблю тебя, единственная, Оля моя".
Апрель 1906 года, из Петербурга: "Бесценное мое сокровище! Судьба решилась: я министр внутренних дел. В стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть мира. И это в одну из самых трудных исторических минут. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога. Крепкая надежда, что он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги нам".
Из последнего письма Столыпина жене. 25 августа 1911 года:
"Дорогой мой ангел, всю дорогу я думал о тебе. В поезде было душно, в Вильне прицепили еще вагон. В Киев прибыли в час ночи. А с утра меня запрягли. Приемы земских депутаций, которые приехали приветствовать царя. Я сказал им маленькую речь. Все волнуются, что будет к приезду Государя. Мне тягостны многолюдные обеды и встречи. Целую крепко и нежно, как люблю".

Дети Столыпиных. Наталья, Елена, Александра, Мария, Аркадий, Ольга. Фото 1905 г.
В воспитании дочерей Петр Столыпин был против изнеженности, учил их жизни физически активной. Настрой отца передался детям. В Первую мировую войну две дочери Столыпина совершают отчаянный поступок, можно сказать, подвиг по примеру кавалерист-девицы войны 1812 года Дуровой. Девушки, хорошо освоившие в Калнабярже искусство верховой езды, переодеваются в казачью форму и добираются до фронта. Их сумели опознать, только когда сестры поучаствовали в двух столкновениях с немцами. Девиц арестовали и, несмотря на бурные протесты, отправили домой…
Милда Янюнайте: "Столыпин сделал в Литве невероятно много – это создание производств, организаций, школ, банков, системы землепользования и страхования. Это все в достаточной мере не исследовано. Может быть, поэтому россияне мало знают о литовском периоде жизни Столыпина. Его друг Константин Гуковский, например, это был журналист, археолог, основал в Каунасе первый музей. Теперь это городской музей. Наследие Столыпина работает! Надо думать, что весь материал по этому историческому периоду лежит не в Петербурге, а в наших архивах".
Что только ни располагалось в имении Столыпина! Детский дом, правление колхоза, колония для несовершеннолетних преступников... Здание переоборудовалось под очередные нужды, людям было не до воспоминаний о жившем здесь знаменитом "реакционере". Период современной Литвы: поместье в списке объектов, охраняемых государством. Известный местный богач русского происхождения Виктор Успасских перенимает его с обязательством отремонтировать. За долгие годы предприниматель ничего не предпринимает, постройки разрушаются, крыша проваливается, сады зарастают бурьяном. Избежав наказания за невыполненные обязательства перед государством, Успасских благополучно освобождается от многострадального поместья. Его – уже в виде руин – снова берет на свой баланс государство.
Милда Янюнайте: "В 1922 году имение на очень льготных условиях приобрел Казис Бинкис – поэт, драматург. Талантливый, веселый, богемный человек. Он возомнил себя помещиком, купил красивую бричку, чтобы пофрантить, в которой и разъезжал. Но дальше этого дело не пошло, хозяйство приходило в упадок. Правительство отобрало у него имение и передало его детской колонии. Калнабярже очень пострадало во время Первой мировой войны. Ольга с детьми уехала к тому времени на Украину. Немцы здесь вырыли блиндажи, все использовалось как казармы. Но все же не дошло тогда до такого состояния, как потом. В 1921 году Ольга вернулась с детьми в уже независимую Литву, пыталась вернуть имение, но ей отказали. С большим трудом добилась возвращения библиотеки. Вернее, того, что от нее осталось. Книги вернули с условием, что возвращения самых ценных изданий, которые исчезли, она добиваться никогда не будет.
Вторая мировая война: опять здесь обосновались немцы, потом советские солдаты. Пострадали подсобные здания, которых было множество: конюшни, мастерские, баня, сторожевые, теплицы. Также сады и пруды. После войны колхоз, туда вселившийся, еще что то поддерживал, а уже в наше время все стало по сути бесхозным. Здание – когда-то нарядное, настоящий неоготический дворец – много лет простояло мертвым и полуразваленным. Местные жители растаскивали отсюда кирпичи и другие материалы.
От Успасских имение тогда отобрали, и вновь эти развалины – на балансе государства. Я не знаю, как можно спасти его. Чтобы такое имение поднять, нужен не один миллион".
Еще ведь существует и дорога от имения, хоть порядком и заросшая, по которой в 1911 году Петр Столыпин отправился в Киев на торжества по случаю открытия памятника Александру II, ставшие для него роковыми. Получается, это последняя дорога его жизни.
"1 сентября 1911 года. В Киеве – перерыв во время спектакля. Столыпин стоит у балюстрады, беседует. А в Калнабярже в тот вечер – как я вычитала – началась жуткая гроза. У Ольги стало тяжело на сердце, она не могла себе места найти. 9 вечера, темно, холодно, она поднялась на второй этаж. Вдруг от ветра распахивается окно, и на подоконник падает черная птица с окровавленным клювом. Это было в тот момент, когда в Киеве в Петра Аркадьевича стреляли. Ольга испугалась, закричала, сбежались девочки, долго не могли ее успокоить. Через несколько часов она получила известие, что муж тяжело ранен".
5 сентября 1911 года Столыпин скончался. 9 сентября был похоронен в Киево-Печерской лавре.
Среди документов был "План управления Россией", составленный Столыпиным на 10 лет вперед
Почти сразу после этого в Калнабярже прибыла Государственная комиссия для просмотра оставленных Столыпиным документов, они были опечатаны и отправлены в столицу. Во время этой процедуры в кабинете присутствовал зять Петра Аркадьевича Борис фон Бок, который вспоминал потом, что среди документов был "План управления Россией", составленный Столыпиным на 10 лет вперед, который он вскоре собирался представить Государю и членам правительства. Над этим важнейшим в его жизни документом по переустройству всей российской жизни и управления, включая правовую и судебную системы, Столыпин работал несколько лет.
По косвенным сведениям план содержал прогрессивные, смелые идеи, воплощение которых могло бы, остановив революционное брожение, значительно продвинуть развитие российского государства. Хранил он его в папке, которую никому не показывал. Она находилась в портфеле премьера, в котором, как говорят, после ряда покушений всегда лежал стальной лист – в случае нападения он мог бы послужить хоть какой то защитой. В поездку в Киев Столыпин портфель не брал, оставил в Калнабярже. Во время работы госкомиссии, вспоминал фон Бок, портфель с заветной папкой, которую он видел при обыске, исчез. Сведения о его содержании в архивах отсутствуют. Как и сам текст плана. Нет данных и о том, были ли вообще ознакомлены с ним Государь или министры.

Поместье Калнабярже. 2016 г.
...Кто только за эти годы ни пытался придумать, как вдохнуть в поместье Калнабярже жизнь, сохранив память о знаменитом его обитателе! Историки, политики, журналисты собирали специальные конференции, бизнесмены, дипломаты и юристы строили планы, как договориться Литве и России по этому вопросу. Потомки Столыпина, наведывавшиеся из-за границы, – право наследования имущества в Литве из-за национализации земель и после пакта Молотова – Риббентропа ими было потеряно – порывались искать средства на ремонт поместья вплоть до ЮНЕСКО. Но не сложилось.
Внук Столыпина Дмитрий Аркадиевич в 2000 году приезжал из Франции в Вильнюс с радостным чувством, но, увидев развалины поместья, сник. Можно только догадываться, что творилось у него в душе.
Есть общее видение, как с российской, так и с литовской стороны, чтобы усадьба была восстановлена
Из многочисленных тогдашних дискуссий запомнилось мнение главы Фонда изучения наследия Столыпина Константина Могилевского, высказанное им в 2011 году: "Есть общее видение, как с российской, так и с литовской стороны, чтобы усадьба была восстановлена. Вопрос о средствах – не главный. Если мы найдем концепцию, которая была бы интересна в первую очередь для Литвы, и формы участия в этом России, остальные вопросы будут решаться проще. Усадьба Столыпина могла бы стать музеем, историко-культурным заповедником, – считал Могилевский, указывая, в качестве примера позитивного опыта на усадьбу классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса в Калининградской области. – Мы открыты для предложений. Но если это не будет нужно литовцам, деньги уйдут в песок. В любом случае эта история не должна породить конфликтов, а быть мостиком для интеграции и нашего культурного взаимодействия".

Состояние усадьбы Калнабярже в 2010 г.
Эти планы не осуществились. Ни музея, ни мостика... Сейчас здание в Калнабярже – на балансе литовского государства, им по-прежнему формально охраняется.
Недавно поместье было передано неправительственной организации Fondas In Corpore LT для – наконец-то! – ремонта и дальнейшего использования. Как сказано, под будущий реабилитационный центр для сотрудников правоохранительных органов Литвы.

Состояние усадьбы Калнабярже, 2010 г.
Память о Столыпине, по словам учредителя этого фонда Эгидиюса Йонявичюса, в этом здании наверняка останется:
"У меня такая идея есть, если восстановим усадьбу. Я хорошо знаком с ее историческим прошлым. Это, кстати, и род Радзивиллов. На первом этаже несколько комнат могли бы быть выделены для музея. Знаю, насколько важна была усадьба для Столыпиных, для истории России, поэтому с радостью приложил бы все усилия, чтобы такая экспозиция была.
С 2016 года мы стремились получить финансирование со стороны Литвы, что удалось. С российской стороны предложений не слышали, интерес не проявлялся. Только однажды приезжала съемочная группа из Петербурга, работающая над документальным фильмом об истории семьи Столыпиных. Я им показал усадьбу. Сейчас мы имеем возможность восстанавливать только фасадную часть здания. По внутренней части проекта пока нет – для этих работ нужны большие деньги, которых у нас нет. Мы надеялись на европейские фонды, но нет подходящей программы.

Ремонт здания поместья в Калнабярже начали с крыши. 2018 г.
К 2020 году, когда кончается нынешнее финансирование восстановительных работ, скорей всего, средств так и не будет. Сейчас мы сконцентрировались на ремонте фасадов и крыши главного здания.
– Вас лично что подтолкнуло учредить такой фонд и заниматься этим сложным делом?
– Я небезразличен к истории. Литовской, российской, европейской. Родился в этих местах, живу здесь, и мне очень не нравилось, что такой исторический памятник стоит в руинах. Пока очень трудно, но надеюсь, получится все восстановить.
– Если здесь планируется реабилитационный центр, возможно ли будет сочетать с его работой создание мемориального музея о бывших хозяевах поместья?
– Это не мешало бы центру быть отчасти и туристическим объектом. Я бы очень хотел, чтобы местные жители и российские туристы, интересующиеся историей, могли осматривать усадьбу, в которой жил Столыпин".
Из мемориального – кроме существующей записи на православной Преображенской церкви в Кедайняй, которую в прошлом веке посещала семья Столыпиных, – за эти годы удалось одно: в Вильнюсе в 2009 году на улице Швянто Стяпоно усилиями местных русских организаций была установлена памятная доска "В этом доме в 1876–1892 годах жил российский министр-реформатор Петр Аркадьевич Столыпин".
Приезжавший тогда в Литву из Сан-Франциско правнук реформатора Николай Случевский, основатель "Столыпинского центра регионального развития", дал интервью журналисту литовской газеты "Обзор" Татьяне Ясинской. Вот фрагменты из него:
Калнабярже – это одно из ключевых мест для России, для понимания ее истории
"Конечно, очень больно видеть такое состояние Калнабярже. Для меня это просто катастрофа, но вовсе не по семейным причинам. Это не ностальгия. Просто я осознаю, что поместье – важнейшее место в историческом наследии Петра Аркадьевича Столыпина. Он создал здесь образцовую ферму, где тогда использовались самые современные сельскохозяйственные знания и технологии. Это было его личной задачей, которую он с успехом решил. Сначала в своем имении, а потом положил этот опыт в основу реформ в масштабе всей России. Считаю, что Калнабярже – это одно из ключевых мест для России, для понимания ее истории.

Николай Случевский в Вильнюсе. 2010 г.
Я приехал из Калифорнии, где преподаю в Университете Дэвиса. Это один из крупнейших сельскохозяйственных вузов мира. У него аналогичные образцовые фермы повсюду, грандиозные программы. Чтобы что-то подобное оборудовать, например, в Калнабярже, не требуется большого воображения. Здесь можно было бы сделать много полезного для Литвы и России. В любом случае нельзя терять такие судьбы, такие исторические объекты, которые связывают, а не разделяют страны".
Почему ярчайшая личность, Петр Столыпин, оставивший немалый зримый результат своих трудов на литовской земле, для современной Литвы остается очень далеким, каким-то подозрительным историческим персонажем, точно не ставшим своим?
Он своей реформой окончательно уничтожил средневековое феодальное землевладение
Историк Альгимантас Каспаравичюс: "Царская Россия, куда входила и Литва, – это была наша общая история. Петр Столыпин работал 14 лет в Каунасе, и опыта хозяйственника, будущего реформатора огромной империи, он набирался именно здесь. Самое важное – он своей реформой окончательно уничтожил средневековое феодальное землевладение. И в принципе заложил основы современного фермерского хозяйства. Это не всем тогда нравилось, но с исторической точки зрения эти шаги были направлены на хозяйственный и политический прогресс. Как Российской империи, так и Литвы. Поместье все-таки находится за пределами России. И может быть, еще время не пришло для широкого интереса.
Что касается литовских исследователей, здесь есть три причины. Во первых, они считают Столыпина чужой личностью для нашей истории. Потом большинство историков, не совсем это осознающих, придерживаются большевистской традиции в историографии: смотреть на него, как на реакционера – все свои силы он прилагал к укреплению Империи. Если иметь в виду, что Литва стремилась освободиться от этого ига, то Столыпин получается у них отрицательным персонажем. И третье – на фоне не самых лучших теперешних литовско-российских взаимоотношений такие личности, которые связывают (и не худшим образом) две страны, сейчас остаются в тени.
Но я думаю, что раньше или позже придет время, когда жизнь и наследие государственного деятеля такого масштаба будут достойно изучены и в Литве, и в России, и шире".
Калнабярже как символ. Поместье, больше 20 лет простоявшее в руинах, можно сравнить с руинами современных литовско-российских государственных отношений. Но вот чудо: здание, бывшее при смерти, начали ремонтировать.
|
Метки: дворянские владения столыпины |
Столыпин П. А. - губернатор Саратовской области |
Столыпин П. А. - губернатор Саратовской области
Первые шаги на "карьерной" лестнице
Столыпин Пётр Аркадьевич (1862-1911 гг.) - русский государственный деятель России начала XX века, проделавший типичный для людей его круга путь чиновника от служащего министерства земледелия и государственных имуществ до высших государственных постов. Столыпин обладал личным мужеством, имел сильный, властный и настойчивый характер, мог быстро решать и энергично действовать в сложной обстановке.
Родился Петр Аркадьевич Столыпин в 1862 г. в родовитой дворянской семье, и детство провел в имении Средниково под Москвой, а затем в родительском имении Колнобереже под г. Ковно (Каунас) в Западном крае. П. А. Столыпин происходил из старинной и знатной дворянской семьи. Его дед был наместником Польши, а отец - комендантом Кремля.
В 1884 г. с блеском закончил естественный факультет Петербургского университета. Причём, один из выпускных экзаменов у него принимал Д. И. Менделеев. Известный учёный был поражён блестящими знаниями выпускника. Перед П. А. Столыпиным открывалась блестящая научная карьера, но он избрал государственную службу.
С 1884 г. начал службу в Министерстве земледелия и государственных имуществ, где работал в департаменте земледелия. В 1889 г. перешел на службу в Министерство внутренних дел, где П. А. Столыпин стал работать юристом. Позже был назначен Ковенским (г. Ковно, ныне Каунас, Литва) уездным предводителем местного дворянства. Эта служба дала ему первый значительный административный опыт и близко познакомила с проблемами и нуждами сельского хозяйства. В 1899 г. он получил должность Ковенского губернского предводителя дворянства, а в 1902 г. назначается Гродненским губернатором. В 1903 г. по рекомендации министра внутренних дел В. К. Плеве был назначен губернатором Саратовской губернии, которая в это время была охвачена крестьянскими бунтами. В марте 1903 г. Столыпин П. А. приступил к исполнению своих обязанностей, в качестве губернатора Саратовской губернии.
Деятельность Столыпин П. А. на посту губернатора Саратовской области
В начале XX в. самодержавная Россия вступила в период острейшего социально-экономического и политического кризиса. Особое опасение властей вызывали крестьянское движение, оживившееся в 1902 г., и распространение либеральных идей в земской среде, расшатывавших опору самодержавия - дворянство. Этот процесс особенно ярко проявлялся в Саратовской губернии. Здесь в 1902 г. крестьянские волнения охватили Балашовский, Аткарский, Петровский уезды, а на их фоне в губернском земстве упрочили свои позиции либералы. Они возглавили Аткарскую, Кузнецкую, Петровскую, Саратовскую управы. Император Николай II, напутствуя нового начальника губернии, обозначил цель: "…даю вам губернию поправить".
Министр внутренних дел В. К. Плеве надеялся, что его ставленник сумеет навести в губернии должный порядок. Плеве недаром назвал Саратовскую губернию “трудной". Здесь малоземельное крестьянство с вожделением смотрело на богатейшие помещичьи латифундии, а в портовых волжских городах шло глухое брожение рабочих. Плеве говорил, что для обуздания революции России нужна “маленькая победоносная война", но русско-японская война принесла сплошные неудачи. Позорный финал войны министр внутренних дел не увидел, погибнув от взрыва бомбы, брошенной под колеса его кареты террористом.
Назначение Столыпина саратовским губернатором не было случайным. Пробыв до назначения в Саратов 10 лет в Северо-западном крае с его особыми социально-экономическими и геополитическими условиями (наличием польско-католического влияния), Столыпин сформировался прежде всего как чиновник-государственник, склонный рассматривать возникавшие проблемы с точки зрения отстаивания интересов самодержавия. Это в полной мере соответствовало основной цели политики Плеве, направленной на упрочнение основ существовавшей власти.
Основное направление деятельности Столыпина в губернии определялось исключительно необходимостью отвечать на попытки разнообразных оппозиционных сил дестабилизировать политическую ситуацию в крае. Борьба с антиправительственными силами в губернии, в свою очередь, влияла на формирование представлений будущего реформатора о путях приспособления самодержавия к меняющимся историческим условиям.
Ознакомившись в течение весны 1903 г. с положением дел в губернии, Столыпин наметил ряд мер и предложений по исправлению ситуации. В крестьянском движении он видел основной источник нестабильности, "так как спокойствие крестьянского населения служит залогом спокойствия в государстве". Недовольство сельского населения создавалось, по его мнению, малоземельем, что в принципе было верно. Однако масштабы его Столыпин занизил, ограничившись лишь дарственниками (25% крестьянских хозяйств), главным образом Балашовского уезда. Отсюда, по его уверениям, недовольство, благодаря агитации революционеров, распространялось на всю губернию.
По оценкам же современных исследователей, малоземельных крестьян в губернии насчитывалось от 60 до 80% да и крестьянские волнения имели место в районах крупных помещичьих латифундий. Революционная агитация в это время лишь начинала проникать в сельскую местность.
В высочайшем отчете за 1902-1903 гг. Столыпин указал на цели крестьян, которые, уничтожая помещичьи усадьбы, стремились к новому распределению земельной собственности "с целью уравнять крестьян с крупными землевладельцами и к установлению для всех свободного пользования землей; снизить арендную плату и даже заставить землевладельцев продать землю за бесценок крестьянам". Столыпин видел свою задачу в пресечении этого процесса.
Нередко Столыпин сам лично объезжал бунтующие деревни, и уговаривая крестьян прекратить бунты и вернутся к своим дела. Так, один из земских начальников вспоминал, что молодой губернатор либеральничал и обещал крестьянам прирезку земли. Но терпение Столыпина было не безграничным, и в одной из деревень, где крестьяне заговорили с ним в дерзком тоне: “Столыпин не выдержал и разразился относительно их бранью... Крестьяне, видимо, не ожидали этого и сразу опешили".
В другой деревне один из крестьян вспоминал, как Столыпин строго-настрого запретил самовольно косить траву в помещичьем имении: “Но угрозы Столыпина на помогли. В июле крестьяне развезли хлеб с полей помещицы. Стражники открыли стрельбу. Двоих крестьян поймали, высекли и отправили в тюрьму. Вскоре опять приехал Столыпин с сотней вооруженных до зубов казаков. Губернатор приказал собрать сход крестьян и оцепить его казаками. Адъютант губернатора по заранее заготовленному списку называл крестьян, а казаки отводили их в специально отведенное для этого помещение. Из 70 человек, числившихся в списках, арестовали 45, остальных на сходе не было. Через несколько дней схватили и остальных. Арестованных отправили в Аткарскую тюрьму. Столыпин уехал, оставив в деревне на три недели казаков”.
Другую угрозу стабильности в губернии он усматривал в политической деятельности земства, оказывавшего влияние на население губернии и прежде всего на крестьянские массы. Наибольшие опасения Столыпина вызывала политическая деятельность земских служащих. Низкое материальное положение, бесправие делало их противниками самодержавия. Именно с их революционной деятельностью губернатор связывал стремление крестьян решить проблему малоземелья за счет помещичьих земель, отмечая при этом неизбежность конфликтов земских служащих с властью и дворянством: "люди с ложными представлениями и воззрениями, извращенными представлениями о правящих классах, не прикрепленные к земле, они всегда будут идти вразрез с интересами земельных собственников".
Внимание Столыпина привлекала и деятельность либерально настроенных земских гласных, так называемой "либеральной партии". "Ее критика и осуждение действий даже высшего правительства заходит очень далеко. Она имеет большое влияние на разрешение дел, так что многие, если не большинство земских деятелей, с ней считаются и часто подлаживаются под ее мнение". Пропагандируемые либералами конституционные идеи Столыпин называл не иначе как "туманные мечтания", усматривая в них лишь дополнительный фактор радикализации настроений в губернии.
Определив таким образом очаги нестабильности в губернии, Столыпин наметил способы борьбы с ними. Добиться успокоения в губернии он надеялся не только с помощью силового подавления крестьянских восстаний, предложив свое видение проблемы крестьянского землеустройства, которое полностью укладывалось в рамки правительственной крестьянской политики того времени и соответствовало пониманию крестьянского вопроса комиссией МВД, работавшей в 1903 г. Предложения Столыпина сводились к увеличению земельных наделов дарственников за счет сдачи им в аренду на льготных условиях земель Крестьянского банка, более рациональной организации выкупных платежей, разграничения помещичьих и крестьянских земель, что являлось источником покушений крестьян на помещичьи земли. Основы крестьянской жизни оставались неизменными: сохранялась крестьянская поземельная община, неотчуждаемость надельной земли и сословная обособленность крестьян. Неприкосновенной оставалась и помещичья земля. Столыпин полагал, что это позволит избежать ситуации, при которой "крестьянство обратиться и против землевладельцев и против охраняющей их администрации". Однако меры, ничего не менявшие в деревне по существу, не отражавшие коренных интересов крестьян не могли привести к успокоению. Практические же шаги Столыпина, такие как сдача крестьянам государственной земли в аренду без торгов, поддержка земской идеи об организации общественных полей и т.д., предпринимались в рамках существовавшей системы и не меняли принципиально положение дел на селе к лучшему. Очертив "планы земельного переустройства" деревни, губернатор отдал приоритет, мерам репрессивного характера, находя их более действенными.
В отчете за 1903 г. Столыпин писал: "Пока однако крестьянский быт не получил переустройства, администрация Саратовской губернии должна быть неослабно на страже порядка, т.к население местами весьма разнузданно, склонно снисходительность считать за слабость и чуть ли не за поражение со стороны правительства".
В течение весны 1903 г. Столыпин добился образования в губернии конно-полицейской команды на постоянной основе, считая ее "при малочисленности войск в губернии необходимым органом сохранения порядка". Команда была опробована в Балашовском и Аткарском уездах, с целью "показать местным крестьянам пример того, как русский человек и честный солдат служит царю и охраняет местных землевладельцев". Для активизации сыскной деятельности полиции в 1903 г. им была вытребована в МВД 1000 руб. Был укреплен и штат земских начальников в качестве противовеса антиправительственной агитации в деревне, улучшена координация деятельности земских начальников и исправников по выявлению неблагонадежных, с последующим удалением их за пределы губернии.
Действия Столыпина были положительно оценены правительством. Летом 1904 г. он получил благодарность от министра внутренних дел В. К. Плеве за наведение порядка.
Репрессии оставались основной мерой и против земских служащих. "всякая снисходительность к ним, - отмечал Столыпин в послании правительству, - в случае использования ими своего служебного положения для распространения своих политических идей, недопустима и что при первых же признаках такого рода деятельности должны приниматься самые решительные меры". В 1903 г.38 человек не было допущено на службу, а 10 - уволены. Такая политика в отношении земских служащих была одобрена Николаем II.
В отношении земских гласных Столыпин придерживался иной тактики. Так как для губернатора они были прежде всего дворянами - опорой власти, попавшими под воздействие модных либеральных идей. С помощью личного воздействия на них он стремился оторвать основную массу земцев от действительно оппозиционного ядра. Задачу свою губернатор видел в направлении земства исключительно в русло культурно-хозяйственной деятельности и блокировании попыток либеральных гласных использовать земство в политических целях. Опираясь на главу местной епархии Гермогена, Столыпин сеял недоверие к земским оппозиционерам среди населения губернии. Губернатор прекрасно осознавал, что невозможно осуществить весь комплекс репрессивных мер в рамках нормального судопроизводства, требовавшего формальных оснований для преследования. Он неоднократно отмечал большую пользу "Положения об усиленной охране", введенного в губернии с 1903 г. Благодаря ему Столыпин осуществлял увольнения земских служащих, высылал неблагонадежных за пределы губернии, издавал "обязательные постановления". По его просьбе "Положение" было продлено еще на год, до 1 декабря 1904 г. Осенью 1904 г. Столыпин трижды (12 сентября, 15 и 31 октября) обращался в МВД с просьбой продлить действие "Положения". Лишь в январе 1905 г. он получил право издавать "Обязательные постановления", а затем - вслед за революционными событиями - добился расширения своих полномочий вплоть до возможности подвергать обыскам и предварительному аресту лиц, подозреваемых в политических преступлениях.
Деятельность Столыпина на посту саратовского губернатора в предреволюционные годы (1903-1904 гг.) определялась стремлением - опираясь на чрезвычайное законодательство, укрепить существующий режим и его опору - дворянство - и полностью соответствовала правительственной политике МВД. Так, Николай II, побывавший проездом летом 1904 г. в Кузнецком уезде, одобрил действия Столыпина: "…продолжайте действовать так же твердо, разумно, спокойно, как до сего времени".
Революция 1905 г. принципиально изменила ситуацию в стране и в губернии. Крестьянское движение в губернии, нараставшее в течение года, осенью достигло своего пика. Волнениями были охвачены все десять уездов губернии, уничтожено 293 помещичьи "экономии", что в шесть раз превышало общероссийский уровень. Выросло число выступлений крестьян против власти, активизировалась революционная деятельность земских служащих, ширилось рабочее движение. Земские либералы, используя недовольство населения, пытались объединить все антиправительственные силы под конституционными лозунгами. Столыпин отмечал, что "все лица свободных профессий являются сторонниками освободительного движения, к ним примыкает молодежь и, если присоединяться нелегалы, то получиться внушительная сила под лозунгами всеобщей, равной, тайной подачи голосов". Революционное движение сливалось в единый поток.
События в стране оценивались Столыпиным "как болезненный процесс, для преодоления которого без потрясений всей системы, требуется особое напряжение всей власти и особые полномочия". Под влиянием этих событий губернатор скорректировал характер принимаемых мер в направлении ужесточения и внесудебных расправ. В связи с немногочисленностью местной полиции, оказавшейся не в состоянии противодействовать революции, главную ставку Столыпин делал на привлечение войск, которыми постепенно наводнял губернию.
С целью оградить помещиков от насилия крестьян, губернатор приказал войскам применять оружие. С подобными приказами он десятки раз обращался к военным и исправникам. Лично выезжал с войсками в сельскую местность для наведения порядка. Чтобы ослабить земских либералов, он содействовал отставке либерального состава управы Петровского земства, аресту председателя Аткарской уездной управы. Широко практиковались Столыпиным высылки из губернии политически неблагонадежных, предварительные аресты и многократные их продления. В качестве превентивной меры губернатор допускал аресты и содержание в тюрьме неблагонадежных лиц без каких-либо формальных оснований, лишь при наличии подозрений. Действия Столыпина находили поддержку министра внутренних дел П. Н. Дурново.
Вместе с тем для укрепления устоев власти, пошатнувшихся в ходе революции, Столыпин предложил ряд мер. С целью расширения социальной опоры власти в деревне и превращения крестьян из противников помещиков в их союзников, будущий реформатор считал необходимым сформировать слой крестьян-собственников, для чего следовало "способствовать единоличным сделкам с помощью Крестьянского банка, и разрешить для этого продажу и залог надельной земли". Это означало ликвидацию общины, по мнению Столыпина, разложившейся под влиянием революционной ситуации. Дополнительную прирезку земли крестьянам считал паллиативом. Крестьянин-собственник станет "той ячейкой, на которой покоится устойчивый порядок в государстве". Его появление, уверял Столыпин, создает "возможность мирного труда в деревне на почве полной солидарности интересов землевладельца и крестьянина". Имея в виду непреодолимую жажду крестьян получить помещичью землю, губернатор предупреждал, что в противном случае "деревня станет сплошь мужицкой и дело мятежа, который был бунтом не против правительства, а против частной собственности, будет выиграно". Реорганизации, по мнению Столыпина, требовала и система местного самоуправления. Решение проблемы он видел в упрочнении власти губернатора, в том числе репрессивной.
Длительная конфронтация с либерально настроенными уездными предводителями дворянства подвела Столыпина к мысли о замене уездных предводителей коронными чиновниками, что должно было позволить устранить из уездной власти нежелательные элементы и упрочить вертикаль власти.
Осуществление этих планов Столыпин связывал с непременным усилением правительственной власти, считая это "фактором первостепенной важности".
Однако пребывание П. А. Столыпина в губернии не планировалось, видимо, длительным: уже через год, в апреле-мае 1904 г., когда в губернии благодаря усилиям администрации наступило относительное затишье, в столице рассматривался вопрос о переводе Столыпина губернатором в Екатеринославль, где было еще более беспокойно.
Твердая рука губернатора получила высокую оценку. Столыпин был удостоен высочайшей благодарности за успокоение края, хотя его недоброжелатели отмечали, что по числу сожженных помещичьих имений подведомственная ему губерния опережала все остальные. В апреле 1906 г. он был вызван срочной телеграммой в Петербург, где узнал, что С. Ю. Витте на посту Председателя Совета министров сменяет И. Л. Горемыкин, а его, Столыпина, назначают министром внутренних дел.
Таким образом, деятельность Столыпина на посту Саратовского губернатора свидетельствует о всемерном отстаивании будущим реформатором интересов самодержавия в сложной ситуации в Российской Империи начала XX в.http://biofile.ru/bio/37592.htm
|
Метки: столыпины |
Аркадий Александрович Столыпин |

Аркадий Александрович Столыпин
Аркадий Александрович Столыпин
Биографический очерк
При использовании и цитировании ссылка на публикацию обязательна:
Столыпин А.А. Дневники 1919-1920 годов. Романовский И.П. Письма 1917-1920 годов. – Москва - Брюссель: Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2011.
Аркадий Александрович Столыпин родился в Москве 26 сентября 1894 года. Он принадлежал к знатному состоятельному роду служилых дворян Столыпиных, представители которого известны с XV-XVI века.
На щите фамильного герба Столыпиных изображён серебряный одноглавый орёл – символ власти и господства, великодушия и прозорливости. Задушенная змея в лапе орла символизирует наказанное зло, а подкова – счастье. Девиз на гербе гласит «Deo spes mea», что значит «Бог – моя надежда». Этого девиза придерживались в своей деятельности многие Столыпины, прославившиеся служением на военном и гражданском поприщах, достижениями в области литературы и искусства. Потомком рода по женской линии был великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, троюродный дед А.А. Столыпина: родной сестрой его прадеда Дмитрия Алексеевича Столыпина являлась бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева. Сам Дмитрий Алексеевич был офицером-артиллеристом, участвовал во всех значимых военных компаниях своего времени, сражался с французами под Аустерлицем в 1805 году, вошёл в Париж вместе с русскими войсками в 1814 году, дослужился до генерал-адъютанта императора, имел множество боевых наград.
Семейные традиции продолжил его сын Аркадий Дмитриевич Столыпин, дослужившийся до того же звания. Он был героем обороны Севастополя в 1854-1856 гг. и Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Его жена Наталья Михайловна, урождённая княжна Горчакова (племянница знаменитого канцлера А.Д. Горчакова, лицейского однокашника А.С. Пушкина) тоже участвовала в войне с турками: служила сестрой милосердия в полевом госпитале. Дед А.А. Столыпина был человеком творческим, серьёзно увлекался скульптурой, неплохо играл на скрипке, печатал статьи о своих военных впечатлениях в петербургских журналах, интересовался богословием. Литературой и историей увлекалась и Наталья Михайловна. Столыпины были знакомы с Львом Николаевичем Толстым (А.Д. Столыпин воевал с ним вместе в Крыму), Николаем Васильевичем Гоголем, другими известными литераторами и музыкантами того времени. Лучшие черты характера и творческие наклонности они передали своим детям, самым известным из которых является, безусловно, Пётр Аркадьевич Столыпин, премьер-министр правительства Российской империи в 1906-1911 годах.
Отец А.А. Столыпина Александр Аркадьевич был на год младше П.А. Столыпина и рос под его опекой на литовской даче в Колноберже (близ современного Каунаса) и в подмосковном имении Середниково, где много раз в конце 1820-х - начале 1830-х годов живал М.Ю. Лермонтов. В детстве и юности братья Столыпины были похожи внешне и душевно близки; добрые родственные отношения, хотя и не очень тесные, они сохранили в зрелом возрасте, несмотря на некоторые разногласия во взглядах. Александр Аркадьевич, как и его старший брат, учился в Санкт-Петербургском университете, но не на физико-математическом, а на филологическом факультете, дружил с сыном Л.Н. Толстого Сергеем, с которым потом около года служил в Министерстве внутренних дел. Молодые люди, пытаясь скоротать скучную службу, в шутку именовали себя «полуграфом Толстыпиным», составив одну фамилию из двух своих.
Настоящее призвание Александр Аркадьевич обрёл на журналистском поприще. В 1882 году в «Вестнике Европы» он напечатал несколько своих стихов, а в 1889 году в «Русском вестнике» - поэму «Сандэлло» и лирику. Начал он с сотрудничества в газете «Кавказ», а стал известен в 1902 году, когда редактировал «Петербургские ведомости». С 1904 года до революции 1917 года он работал в газете «Новое время», плодотворно писал и часто печатался. Его политические взгляды были несколько более либеральными, чем у старшего брата, деятельность которого он всячески поддерживал, будучи активным членом монархической партии октябристов («Союз 17 октября»), название которой связано с царским Манифестом от 17 октября 1905 года. Правда, статьи эмоционального брата-журналиста не всегда помогали, а иногда даже мешали П.А. Столыпину.
Пытался поддерживать Александр Аркадьевич и сельскохозяйственные Столыпинские реформы. Сам он был довольно успешным помещиком, имел владения в Саратовской губернии, в Литве, под Батуми. Долгое время он возглавлял добровольное общество «Русское зерно», главной целью которого было изучение и распространение передового зарубежного аграрного опыта. В 1908-1915 годах общество посылало на практику в Европу сотни молодых крестьян, которые потом развивали первые в России фермерские хозяйства.
Несмотря на некоторые размолвки, в самые трудные моменты жизни братья Столыпины были вместе. До назначения премьер-министром П.А. Столыпин во время приездов в Петербург останавливался у своего брата. В августе 1906 года, когда была взорвана премьерская дача на Аптекарском острове в Петербурге, Александр Аркадьевич заботился о племянниках как о родных детях. Летом 1911 года, незадолго до своей трагической гибели, П.А. Столыпин с радостью побывал у младшего брата на его литовской даче «Бече», расположенной близ Колноберже. В начале сентября 1911 года Александр Аркадьевич практически неотлучно находился у постели смертельно раненого брата, проводил его в последний путь, опубликовал в «Новом времени» резкую антисемитскую статью (П.А. Столыпин был убит анархо-коммунистом евреем М.Г. Богровым). Ежегодно с женой П.А. Столыпина Ольгой Борисовной и детьми он приезжал в Киев почтить память брата.
Кипучая журналистская деятельность Александра Аркадьевича продолжилась вплоть до 1917 года. Одной из интересных его статей стали воспоминания о детстве в имении Середниково, опубликованные в начале 1914 года в журнале «Столица и усадьба». Статья начинается с поэтического описания имения и вся проникнута лермонтовскими мотивами: «Этот сад за дремлющим прудом, этот старинный барский дом, увенчанный бельведером, соединённый подковообразной колоннадой с четырьмя каменными флигелями, это строгое и простое в своей классической красоте произведение Растрелли дорого созвучиями своего имени любителям нашей родной поэзии: несколько лучших своих стихотворений Лермонтов пометил словом: "Средниково"…» Чувствуется, что автор сожалел о продаже Середникова, которое уже не принадлежало тогда Столыпиным.
Деятельность отца и дяди даёт преставление о той атмосфере, в которой вырос Аркадий Александрович Столыпин. Он был единственным сыном Александра Аркадьевича и его жены Ольги Николаевны, урождённой Мессинг, и старшим отпрыском мужского пола в своём роду, отчего получил родовое имя Аркадий и из рук П.А. Столыпина - родовую икону. Его двоюродный брат, родившийся девятью годами позже, также был назван в честь дедушки Аркадия Дмитриевича.
Детство и раннее отрочество Аркадия Александровича, которые прошли в Петербурге, Москве и на дачах семьи, были счастливыми. Об этих годах он писал в своём дневнике: «Вспоминаются огромные пасхальные столы, на них рядом с барашком из сливочного масла лениво возлежал заливной поросёнок, красовалась фаршированная индюшка, окорока всех сортов – и варёный, и копчёный, и цельный, и маленький без костей. А язык? А колбасы всех сортов? Уж не стану говорить про куличи, бабы, пасхи сметанные, творожные, ванилевые, сливочные, с изюмом, цукатами и классическим маленьким розаном, похожим скорее на камелию, нежели на розан, воткнутым в самую вершину.
Сколько во всём этом было поэзии и своеобразной красоты! Как горели пёстрые яички, когда скользили по ним солнечные лучи… Красные, синие, зелёные, жёлтые, они красивыми сочными пятнами оживляли и без того пёстрый стол, уставленный цветами. И погода как-то всегда устанавливалась ясная, солнечная, свежая от ещё не совсем стаявшего снега.
А может быть, всё это и не было так хорошо, как кажется теперь, и кажется всё это так мило только потому, что это было в прошлом, в детстве, когда всё скрашивается жаждой жизни и беспечной весёлостью. Длинный пост, мрачные в своём грустном величии службы, невольный трепет перед исповедью, умилённая торжественность причастия, любовь и ласка от всех, подарки и наконец впереди после экзаменов каникулы, деревня, поля, леса, купание в светлой, быстрой реке, прогулки верхом в свежем лесу, ещё сыром от ночной росы…»
Отец брал Аркадия в свои заграничные путешествия, производившие на него неизгладимые впечатления, которые впоследствии скрашивали трудности его полевой жизни: «Это было в роскошном купе вагона международного общества, который быстро и бесшумно уносил меня среди сырости и тумана северных болот куда-то за границу. Тогда я тоже смотрел, не отрываясь, через покрытое инеем окно, и искры сливались в какую-то причудливую смесь огненных нитей. Ах, эти путешествия за границу! После серых, пасмурных полей, болот, иссечённых мелким дождём, и лесов, окутанных туманом, попасть в жаркую, залитую неумолимым летним солнцем Италию! Приятно вспоминать прошлое; понемногу мысли путаются, искры всё летят и летят то редкой сетью, то сплошным роем, как маленькие золотые пчёлки».
Омрачить отроческие годы Аркадия могли только события русской революции 1905-1907 годов и непосредственно коснувшийся семьи взрыв дачи П.А. Столыпина на Аптекарском острове, когда пострадали его двоюродный брат Адя и особенно серьёзно кузина Наташа: у неё были раздроблены ноги.
Аркадий с блеском учился в 6-й Петербургской гимназии и окончил её с отличием, поступил в Петербургский университет, но когда в 1914 году началась 1-я мировая война, в порыве патриотических чувств, не доучившись, он пошёл в Пажеский корпус на ускоренный курс. Уже 1 июня 1915 года его произвели в подпрапорщики и приняли в 17-й драгунский Нижегородский полк, славный своими боевыми традициями, в котором некогда служил М.Ю. Лермонтов.
Воевал Аркадий Александрович по-столыпински доблестно. Вот как дальше кратко и точно он сам описывает свою судьбу: «Прибыл в полк на Турецкий фронт осенью 1915 г. Вскоре полк переведён на Австрийский фронт, но снова переброшен на восток (в Экспедиционный корпус генерала Баратова). 1 января 1916 года двинут на Багдад. В начале 1917 года полк на отдыхе на Кавказе. После революции двинут на Западный фронт. Я покинул полк и вернулся в конце 1917 года в Батум. В Добровольческую армию прибыл весной 1919 г. в г. Керчь. Ранен. Из Керчи Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии двинут в направлении на Киев. Вторично ранен. Полк интернирован (армия генерала Бредова) поляками в Силезии. Бежал из лагеря в Сербию. Оттуда прибыл в Крым и зачислен в армию генерала Врангеля. В бою против кавалерии Будённого тяжело ранен около Перекопа и эвакуирован в Севастополь и дальше в Константинополь. Кончил службу в чине ротмистра».
За этими скупыми строками – тяжелейший период жизни Аркадия Александровича, полный военных лишений, страданий, ранений и болезней (возвратного тифа, в частности) и отчаянной борьбы за свои убеждения. После развала полка в декабре 1917 года он уехал на дачу к родителям в Махинджаури под Батуми, попал вместе с ними в турецкую, а затем в английскую оккупацию. Англичане хорошо относились к русским офицерам, поэтому у Аркадия Александровича появилась возможность ухать из Батуми и примкнуть к Белому движению, чем он и воспользовался. Будучи храбрым офицером, он несколько раз после ранений и побега из лагеря для интернированных возвращался в эскадрон своего Нижегородского драгунского полка, воссозданного в Добровольческой армии.
Всё это время А.А. Столыпин вёл дневники, делая записи в тетрадях хорошим разборчивым почерком, очень грамотно. В них он рассказывал о происходивших событиях и своих впечатлениях то по-военному кратко и точно, то красиво и даже поэтично, умело рисуя словами картины боёв и пейзажи окружающей местности. В дневниках много литературных и музыкальных ассоциаций, что совершенно неудивительно, ведь автор вырос в высококультурной семье и блестяще учился. Вот, например, фрагмент описания победоносного для Добровольческой армии боя у деревни Карабачин 18 ноября 1919 года:
«Промелькнуло несколько всадников, скачущих карьером по мокрой улице. Вылетев на окраину деревни, я приостановил коня, подождал несколько секунд, пока выехал эскадрон, тоже выхватил шашку и вместе с нашей лавой кинулся к пехоте на выстрелы.
Вместе со свистом ветра в ушах прожужжало несколько пуль. Какие-то фигурки промелькнули у крайних домов. Выскочила стриженая рыжая лошадка под офицерским седлом без всадника. Я оглянулся и невольно улыбнулся: от края и до края весь угол деревни охвачен огромной лавой – это наш эскадрон. Тёмная масса коней ещё толпится и выскакивает из улицы непрерывной струёй. Картина внушительная.
Постепенно тёмные пятна всадников отчётливо, как будто вырезанные из тёмного картона, выделяясь на снегу, приходят в движение. Раздаётся сначала робкое, потом более громкое «ура!». Сверкает одна, потом другая шашка. Затем вдруг все выхватывают оружие. Выходит красиво – совсем картинка для иллюстрированного журнала. Всё несётся, как вихрь; куда – в сущности, неизвестно, так же как и не выяснено количество красных…»
Значительная часть дневников А.А. Столыпина чудом уцелела и легла в основу его «Записок драгунского офицера», впервые опубликованных в России в 1992 году в 3-й книге сборника «Русское прошлое» (СПб.: СП «Свелен», 1992, с. 6-104). Утерянную часть автор восполнил воспоминаниями, среди которых эпизоды его бегства из польского лагеря Стржалково (Щалково) для интернированных военных: «Я решил бежать, долго готовился, достал штатское платье и всё остальное, нужное для побега, ждал случая. Таковой представился, когда поляки решили выпустить из лагеря ещё находившийся там немецкий элемент, главным образом, немцев-колонистов. Один из них (некий Кристиан Кристман) в то время заболел. Мне состряпали документы на его имя, и я попал таким образом в «немецкий» транспорт. Колонисты прекрасно знали, кто я такой, но дружески скрывали при перекличках под видом больного. С этими документами доехал я до Варшавы и явился к нашему военному агенту. Мне выдали документы на моё имя, дали секретное донесение генералу Врангелю. Пробыв дней десять под Варшавой, сел я с корнетом Балашовым (Переяславского драгунского полка) в поезд, шедший в Вену…»
Далее А.А. Столыпин описывает дорожные злоключения: ошибочный арест на станции Скерневице польскими жандармами, ночь в заключении, напрасно съеденное в камере донесение, пропажу вещей, бедствия в Вене, дорогу в Белград с тремя краюхами хлеба на двоих, возвращение в Крым через Варну. В августе он уже воевал в Русской армии генерала Врангеля. В своём последнем бою с конницей Будённого 26 сентября 1920 года близ села Рождественское под Перекопом он командовал эскадроном и был тяжело ранен в грудь: пуля прошла около сердца, едва не задев его.
Столыпину суждена была ещё очень долгая жизнь. Из Константинополя он перебрался в Белград, где жили в эмиграции его родители. Там в 1925 (по другим сведениям, в 1930) году скончался его отец. Личная жизнь самого Аркадия Александровича так и не сложилась, во всяком случае, в официальном браке он не состоял и потомства не оставил, жил с матерью Ольгой Николаевной, служил в посольстве США в Белграде. Вскоре после фашистской оккупации его арестовали, и он полгода просидел в лагере гестапо. В конце 1944 года А.А. Столыпин перебрался в Австрию, а в 1945 голу в Швейцарию, в Берн, где снова устроился на работу в посольство США. Здесь в 1953 году скончалась его мать. В 1957 году он вышел в отставку и много лет прожил в курортном городе Монтрё. Своих талантов он не «закопал в землю»: был хорошим акварелистом, фотографом, знатоком геологии, увлекался альпинизмом. Даже в очень преклонных летах он выглядел бодрым и подтянутым. Скончался А.А. Столыпин в возрасте почти 96 лет 8 сентября 1990 года и похоронен на кладбище Глион близ Монтрё.
Его «Записки драгунского офицера», особенно дневники, представляют собой важные исторические свидетельства переломной эпохи русской революции 1917 года и Гражданской войны как бы «изнутри». Хотя сам автор с сожалением считал часть своих дневников безвозвратно утраченной, две тетради сохранил Иван Николаевич Янцен, служивший с июля 1919 по июль 1924 года в Учреждениях Помощи Русским Беженцам (бывшей Миссии Российского Красного Креста в Польше) где, по-видимому, рукописи к нему и попали. Можно предположить, что они находились в том самом багаже, который польские жандармы не дали А.А. Столыпину вынести из вагона при аресте на станции Скерневицы. Воспользовавшись вещами, имевшими хоть какую-то материальную ценность, жандармы могли отдать ненужные им рукописи на русском языке в бывшую российскую миссию. Для публикации эти две тетради переданы Архиву Русской Эмиграции в Брюсселе внуком И.Н. Янцена доктором Алексеем Борисовичем Янценом.
В первой тетради «Добровольческая армия» А.А. Столыпин описывает военные действия в Крыму (преимущественно в районе Керчи) в апреле-мае 1919 года, начиная с прибытия в эскадрон и кончая ранением и лечением в Таманском Алексеевском госпитале. Вторая рукопись «Гражданская война 1919-1920 гг.» рассказывает о событиях ноября 1919 – начала апреля 1920 года: о многочисленных боях на Украине, о неудавшейся попытке отступления через Одессу в Румынию и, наконец, о переходе через Молдавию и Галицию в Польшу (походе генерала Н.Э. Бредова), об интернировании армии и начале её пребывания в польских лагерях.
События июня-октября 1919 года, вероятно, были описаны в других тетрадях (одной или двух), которые к И.Н. Янцену не попали. О судьбе А.А. Столыпина в этот период мы знаем по его воспоминаниям. Выписавшись из госпиталя в Тамани, он прибыл в свой эскадрон, вновь участвовал в сражениях и 8 августа 1919 года был серьёзно ранен в ногу в бою с махновцами у деревни Ново-Александровки (Гапсино). Его эвакуировали в Новороссийск, где он лечился в госпитале, после чего долечивался и отдыхал на даче своих родителей в местечке Махинджаури под Батуми, а в ноябре 1919 года вернулся в полк.
Впервые публикуемые дневники А.А. Столыпина - очень ценный материал для историков, так как события в них описываются по живым впечатлениям, буквально день за днём, порой час за часом, бой за боем. Это позволяет уточнить даты и подробности отдельных событий, а также имена и судьбы некоторых их участников. Поэтому дневники печатаются без сокращений и литературной правки. Для удобства восприятия текст записей скомпонован в естественно выделяемые абзацы, как это делал сам автор при публикации других своих дневников, орфография и пунктуация приведены к современным нормам правописания.
Протоиерей Павел Недосекин,
настоятель храма Живоначальной Троицы - Патриаршего подворья в Брюсселе
и храма Живоначальной Троицы в Шарлеруа
Елена Николаевна Егорова,
литературовед, член Союза писателей и
Союза журналистов России
На фото: Аркадий Александрович Столыпин. Начало 1910-х гг.
При подготовке очерка и текста комментариев помимо "Записок драгунского офицера" А.А. Столыпина и его дневников использованы краткие биографические данные о нём и его родственниках из книги: Фёдоров Б.Ф. Пётр Аркадьевич Столыпин. - М: Горячева, 2003. С. 13-43.
© Copyright: Аркадий Александрович Столыпин, 2011
|
Метки: столыпины |
Корпоративный жест |
Оригинал взят у 
Мастера второй завесы
Также основатель Турции Ататюрк
|
Метки: столыпины |
Тематические группировки |
|
|
 |
||||||||
     |
|||||||||
|
|||||||||
|
Метки: столыпины |
СЛУЧЕВСКИЙ Николай Владимирович ( род. 1953) |
СЛУЧЕВСКИЙ Николай Владимирович ( род. 1953)
Статьи | О Человеке | Аудио
 Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ (род.1953) - президент НП «Столыпинскй центр регионального развития». Правнук Петра Аркадьевича Столыпина: Видео | Статьи | О Человеке | Аудио | Фотогалерея.
Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ (род.1953) - президент НП «Столыпинскй центр регионального развития». Правнук Петра Аркадьевича Столыпина: Видео | Статьи | О Человеке | Аудио | Фотогалерея.
Николай Владимирович Случевский родился 18 ноября 1953 года в Сан-Франциско (Калифорния).
Образование: в 1975 г. с отличием окончил Калифорнийский университет в г. Беркли. Получил степень бакалавра по специальности инженер-электрик.
Николай Случевский является президентом НП «Столыпинский Центр регионального развития», названного в честь его прадеда – великого русского реформатора и патриота Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпинский Центр ставит перед собой задачи возрождения села и устойчивого развития российских сельских территорий посредством практической реализации актуальных идей Столыпина.
Николай Владимирович также является членом попечительского совета «Международного Пушкинского Лицея», членом правления Международного Совета Российских Соотечественников (Москва) и членом правления Global Society Institute Inc. (Сан-Франциско).
.
.
Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ: статьи
Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ (род.1953) - президент НП «Столыпинскй центр регионального развития». Правнук Петра Аркадьевича Столыпина: Видео | Статьи | О Человеке | Аудио | Фотогалерея.
НЕТ ПРИМИРЕНИЯ БЕЗ РАСКАЯНИЯ
Почему современную российскую элиту нельзя считать наследницей исторической Руси
Наследник двух именитых дворянских родов, Столыпиных и Случевских - представителей первой волны российской эмиграции директор Столыпинского центра регионального развития Николай Случевский о своем видением того, как Россию разделила революция и почему примирение красных с белыми по-прежнему невозможно.
***
Чтобы разобраться в том, что происходит в России сегодня, крайне важно понять, что на самом деле случилось тогда - в переломный момент 1917-го. Это отчасти проясняет, есть ли у сообщества русских эмигрантов, которые покинули страну сразу после революции, и у россиян, оставшихся на постсоветском пространстве, нечто общее, общая идентичность.
Здесь стоит оговориться, что в данном контексте под "сообществом эмигрантов" я понимаю только тех, кто уехал сразу после 1917-го, то есть представителей так называемой первой волны. Вторая, третья, четвертая волны были другими - и тоже непохожими на первую. На них повлиял опыт советской жизни.
Позвольте мне начать с главного вопроса: похожи ли русские эмигранты на "постсоветских людей"? Мы все - те же самые "русские люди", описанные классиками литературы, или нет?
Мой ответ - нет, мы категорически не похожи, мы разные. Несмотря на то что мы еще говорим на общем языке, опыт двух сообществ - уехавшего и оставшегося - после 1917 года настолько различен, настолько фундаментально разошлись наши ценности, отношение к истории и традиции, настолько по-разному мы воспринимаем сами себя, что любая возможность "понимания" между нами представляется чем-то спорным. Говоря это, я вовсе не имею в виду, что стоит прервать всякий диалог и попытки взаимодействия между эмиграцией и современной Россией. Но различие исходных позиций, "образов мира" у двух групп с самого начала нельзя недооценивать. 1917 год был не эпизодом в истории России, а ее концом: в определенном смысле слова Советская Россия и почитатели ее идей относятся к России царской как убийца к убитому. Со всеми вытекающими последствиями.
Мне вспоминается знаменитая цитата Черчилля, относящаяся к британо-американским отношениям: "Ничто не разделяет нас так сильно, как наш общий язык". Она вполне применима к ситуации постсоветско-эмигрантских отношений. Действительно, кажется, что мы произносим одни и те же слова: "Возрождение России", "встать с колен", "святая Русь", но реальность, скрывающаяся за ними, оказывается совсем иной. Святость, возрождение, вставание мы попросту связываем с разными вещами.
Наиболее яркий пример непонимания, шокирующий потомков первой волны, - это вопрос о "примирении и раскаянии". В России на каждом шагу можно услышать утверждение: пусть мои предки сражались и за красных, и за белых, или пусть я вовсе не помню, в чьем стане они были, главное - они все сражались за великую Россию! Главное - мир между всеми нами! Даже юбилей революции российская власть заповедала отметить в этом "примирительном ключе". Для нас это совершенно неприемлемо. Потому что не может быть никакого примирения без раскаяния, и пока Россия транслирует такую точку зрения, для нас она остается "окаянной" страной. Пока государство ищет такого "примирения", где все кошки серы, сталинский миф останется популярным, его не вытравишь ничем. Будут появляться и появляться ораторы, требующие человеческих жертвоприношений во имя построения "великой России". Позвольте мне быть предельно ясным: это чистое зло. Такое примирение - чистое зло, потому что лишает современных россиян хоть каких-то нравственных ориентиров.
Что и говорить, ленинская попытка создать "советского человека" увенчалась успехом. Православные символы, традиции, иконы были "оптом" заменены советскими эквивалентами. Тем не менее смыслы, которые несла традиционная российская культура, оказались "нетрансплантируемыми", их не получилось перенести на новую почву. Служба Богу, Царю и Отечеству была заменена тотальным подчинением Государству. Не всякому россиянину даже сегодня удастся объяснить, что служба - совсем не то же самое, что подчинение. Подмена значений базовых понятий жива в умах, она актуальна для современной России, и, видимо, останется актуальной для страны и в обозримом будущем.
Многие представители политической и интеллектуальной элиты России сегодня стремятся построить или восстановить (хотя бы в своих умах) "российскую идентичность". Они надеются "возродить историческую память" или, если быть более точным, расширить с помощью этой памяти свою ближайшую советскую идентичность, которая по каким-то причинам их больше не устраивает. Для этих "реконструкторов" образы и символы Белого движения, эмиграции первой волны являются крайне важным ресурсом легитимации своих амбициозных построений. Впрочем, смотреть на порожденные ими химеры нам, как правило, тяжело. Какая реконструкция может быть без глубокого эмоционального вживания, без отдания долга традициям 1000-летней Руси? Без понимания, что в них было хорошо, а что косно? Возьмем, к примеру, такую тривиальную вещь, как повязывание женщинами платочков при входе в российский православный храм. Все ведь думают, что это наша исконная традиция. Но вы посмотрите на фотографии эмигрантов первой волны в европейских и американских церквях: очень редко вы увидите женщин с покрытой головой, и уж, конечно, покрытой не платочком, а шляпкой. Потому что ношение платков - всегда и везде - было типичной крестьянской традицией на Руси, которая никогда не распространялась на города. И сейчас, памятуя своих бабушек и прабабушек, я могу заметить только, что постсоветская Россия выдумала для себя новую, небывалую традицию, прикрываясь авторитетом Святой Руси,- ношение платков православными горожанками в XXI веке. Понятны причины: ко времени революции почти 80 процентов населения империи составляли крестьяне. В конце концов, можно ориентироваться и на их традиции, творчески их развивать... Но нужно четко понимать, отдавать себе отчет, что и зачем вы восстанавливаете, а что вообще "творите заново".
Россия, конечно, всегда страдала от 1000-летней привычки больше полагаться на мифы и хроники, чем на объективную сторону истории (достаточно вспомнить, на основании чего были канонизированы многие наши святые, скажем, тот же Дмитрий Донской). Мифы любит и современная Россия, и эмигрантская. Но мотивы и стратегии мифотворчества у них существенно отличаются: в излюбленных мифах постсоветской России - о вставании с колен, о возвращении статуса великодержавности - почти не осталось места человеку, если хотите, рыцарству, личному усилию отдельного гражданина по воссозданию себя и возрождению страны. Современные российские мифы всегда обращены к массе, которую призывают сплотиться, поддержать стабильность перед лицом внешнего врага и прочих ужасов. При этом подразумевается, что россиянина уже не "положение обязывает", а "ситуация обязывает", и это чувствительная разница, связанная с потерей ответственности за собственные действия.
Подытоживая свою, возможно, резкую колонку, скажу: современную российскую элиту никак нельзя считать наследницей исторической Руси, исконных русских ценностей. Парадоксально, но кажется, что у нее больше общего с современной американской элитой, на которую российская, видимо, очень хочет быть похожа... Никакого исторического сознания, которое долгое время питало российскую государственность, в постсоветской России не просматривается, а потому плохо просматривается будущее и остается свежим ужас перед прошлым, о котором без раскаяния правдиво не вспомнишь. В этих условиях у эмиграции, пока она жива, остается скромная миссия: как католическим монахам в средневековье, хранить память и культуру былых веков в надежде, что когда-нибудь кому-нибудь она понадобится.
Записала Нелля Бедеркина
Источник: Журнал "Огонёк" №2 от 16.01.2017, www.kommersant.ru/doc/3187064.
О Человеке: Наталья Лайдинен о Николае Случевском
Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ (род.1953) - президент НП «Столыпинскй центр регионального развития». Правнук Петра Аркадьевича Столыпина: Видео | Статьи | О Человеке | Аудио | Фотогалерея.
«ДУША БОЛИТ ЗА РОССИЮ…»
С Николаем Владимировичем Случевским мы пьем кофе в центре Москвы, в небольшой, уютной кофейне. В ней все, даже "яти" в меню, пропитаны стариной: это любимое место для встреч "русского американца", потомственного дворянина Случевского - ему здесь комфортно. Передо мной сидит высокий голубоглазый человек, в котором перемешалось несколько российских дворянских кровей - правильный профиль, длинные нервные пальцы и благородная седина нелишние тому доказательства. Несмотря на то, что Николай Случевский родился в Сан-Франциско и закончил знаменитый университет Беркли, а в его русской речи уловим заокеанский акцент, он считает себя русским. Много десятилетий он жил, не отрекаясь от российских корней даже в американских реалиях.
Судьба рано или поздно приводит к истинному призванию: правнук знаменитого реформатора Петра Столыпина (по материнской линии) и не менее знаменитого в свое время поэта Константина Случевского, у которого учились мастерству символисты и акмеисты (по отцовской) вернулся на родину предков. Он не собирается оставаться здесь в статусе заграничного гостя - как раз сейчас оформляет вид на жительство. Скитаться - надоело. С начала года был в России пять раз, уезжал-приезжал, хочется остаться на длительный промежуток - предстоит многое сделать!
Бабушка Николая Случевского, старшая дочь Петра Столыпина, Мария после революции с мужем Борисом фон Боком и дочерью Екатериной жила в Литве. Революция разбросала родственников по всему миру - однажды фон Боки собрались в гости к брату мужа, известному иезуиту и профессору (в прошлом посланнику России в Ватикане) Николаю. Когда наступило время собираться обратно в Литву, заключенный между Россией и Германией в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа сделал возвращение невозможным.
Потомки Столыпина перебрались в Польшу, где обосновались заново, купили имение "Франческова" и проживали там до 1945 года. Именно там Екатерина фон Бок впервые вышла замуж и родила сына - Германа фон Ренненкампфа. Дальше наступила череда новых испытаний и трагических обстоятельств в жизни семьи: скончался муж Екатерины, ужасы войны вновь вынудили к бегству.
Оказавшись в Австрии, внучка Столыпина вышла замуж вторым браком за Владимира Николаевича Случевского, выпускника Первого Русского Кадетского корпуса имени Великого Князя К.Романова в Сербии, а также белградского Политехнического института, внука великого русского поэта Константина Случевского. Владимир Случевский родился в Царском Селе, вынужден был с семьей эмигрировать через Крым, как многие русские дворяне первой волны эмиграции, с армией Врангеля попал в Сербию... Его мать умерла довольно рано, а отец пропал без вести. "Между прочим, мой дед Николай был инженером, одним из основных строителей Мурманска! - с гордостью рассказывает Николай Случевский. И продолжает с горечью, - Вероятно, за свои достижения он был расстрелян в Петропавловской крепости"... Кстати, Николай назван именно в честь безвременно ушедшего деда-инженера.
Но бедствия семьи на этом не закончились: после была Германия, лагерь для перемещенных лиц. В 1948 году Случевским удалось эмигрировать в США. Там и родился мой собеседник Николай Случевский, в крови которого поровну политики и поэзии.
Жизнь в США не была для дворянской семьи безоблачной: Владимир не чурался любой работы, пока наконец не устроился инженером-механиком в окрестностях Сан-Франциско. Мария Петровна Столыпина, бабушка Николая Владимировича, между тем написала мемуары о знаменитом отце, которые вышли в Америке на русском и английском языках. Вместе с мужем она похоронена на православном сербском кладбище.
Потомки Случевских и Столыпиных часто встречаются в разных городах мира. Но общение со Случевскими, по словам Николая, - всегда более теплое, домашнее - встречи происходят в основном в России и Эстонии. До недавнего времени Николай и не подозревал о том, что у него столько родственников по линии отца! Профессор американского колледжа Татьяна Смородинская, которая писала книгу о Константине Константиновиче, подсказала ему, что у него есть родственники в Петербурге. Так Николай познакомился с Софией Федоровной Случевской и ее мамой Надеждой Семеновной, именно с этими российскими родственниками переписывалась долгое время его мама. Николай поехал в Петербург, очень подружился с новыми родственниками.
Потом исследовательница творчества К.К. Случевского в Нарве Ирина Евгеньевна Иванченко вышла на Николая, они стали активно общаться, и уже через год организовали первый небольшой съезд Случевских... Тогда по приглашению Николая в Эстонию приехала его двоюродная сестра Мария Чиканьяни, она из рода Волконских, но ее муж - итальянец. Поскольку двоюродный брат Марии Петя Волконский живет в Эстонии, все Случевские объединились в Нарве, получилось сентиментальное, приятное общение с театральными выступлениями.
Сейчас семейное древо Случевских ветвится и ширится, находятся новые родственники. В Москве нити рода Случевских перекрещиваются с Воронцовыми и Лермонтовыми... Ольга Константиновна Случевская, прабабушка ныне здравствующей Анастасии Воронцовой, родная сестра поэта, была знаменита тем, что написала первую в России книгу о вегетарианском питании "Я никого не ем" - 365 рецептов на каждый день года! Как ни странно, среди современных потомков Случевских - абсолютное большинство женщины. Николай и Петр в этом славном роду - в меньшинстве. Тем не менее, Николай искренне рад, что история рода Случевских проясняется. Несмотря на то, что многие факты установить трудно - сказываются эмиграция и годы репрессий...
Когда Ирина Иванченко по своим обстоятельствам приехала в США, Николай Случевский решил передать ей для разбора свои архивы - многочисленные ящики, которые у него в доме хранились. До сих пор эта исследовательница рода Случевских не может простить Николая, что он так долго не разбирал хранившиеся у него дома материалы! Ирина создала каталог архива Николая Случевского. Среди прочих раритетов, в нем вдруг открылись две так называемые "гостевые книги" с автографами гостей дома - одна из них датирована 1936-1946 г.г., берлинским периодом жизни семьи. Отец Николая Случевского как раз до войны приехал из Сербии по приглашению его матери и жил с ней в Берлине во время самых страшных бомбежек. Примерно половина архива погибла тогда, но эта книга уцелела. Там оказались десятки знаменитых имен: например, несколько строчек нот и подпись "Сергей Прокофьев", маленькая повесть на страницу, автор которой - Владимир Набоков, автограф Анны Павловой... Сейчас Случевские намерены издать эту книгу с комментариями.
Кроме того, настоящим сокровищем, как выяснилось, оказался гобелен, размером полметра на полметра, который всегда висел над роялем Николая - он его помнит с детства. Через музей Пушкина, Эрмитаж была проведена экспертиза ткани - оказалось, потомок Случевского хранит единственный прижизненный образ Ганнибала в юности! Такие порой совершаются находки в архивах потомков.
А вот заграничные потомки Столыпина, наоборот, не ощущают себя русскими, очень боятся того, чтобы имя великого предка не превратилось в модный конъюнкурный бренд, они не хотят маркетинга на его имени. Дмитрий Столыпин, внук Петра Аркадьевича, живет в Париже, он очень болен. Его супруга - француженка, дети несколько раз были в Москве, внуки, к сожалению, уже практически не говорят по-русски...
Среди русской эмиграции в Европе были довольно типичными случаи, когда русские дворяне боялись внедренных российских агентов. Поэтому итальянские потомки великого реформатора сознательно стали стопроцентными итальянцами, у них другое мировоззрение. На итальянских просторах дворяне Столыпины перекрестились с прямыми потомками Данте Алигьери! "С ними мы стали близки по замужнему родству дочери сестры моей бабушки, Мэри. Мою работу в России эти родственники не поддерживают", - с грустью констатирует Николай. - Они совершенно не разделяют советской власти и новой российской власти, хотя это спорный вопрос".
Из рода Столыпина: "России нужны реформы!"
Николай Случевский рассказывает, что Россия и события в ней всегда были в центре внимания его семьи, несмотря на то, что она находилась далеко от родины и афиширование русских дворянских кровей в Америке не сильно приветствовалось. В семье говорили по-русски, и для маленького Коли именно этот язык стал родным. По воскресеньям он ездил в Сан-Франциско в русскую приходскую школу при православной церкви. Его наставником был легендарный Иоанн Шанхайский! "Я помню его посох на моей спине! - со смехом говорит Случевский. - Но это был удивительный человек, всегда с улыбкой". Он был озорным и любопытным, шаловливым ребенком, поэтому ему частенько доставалось от наставников. Но и сегодня Николай с теплотой вспоминает Иоанна Шанхайского, частенько в Тихоно-Задонской церкви в Сан-Франциско, где когда-то основал приют владыка, участвует в напутственных молебнах в его честь...
С момента отъезда из родного дома и поступления в Беркли до сравнительно недавнего времени Николай очень редко говорил по-русски. Он много лет проработал инженером в военной отрасли. Потом что-то поменялось в жизни - привычная рутина дала сбой, правнук Столыпина стал навещать родственников в России, задумался о программе политических реформ... и однажды он встретился с Михаилом Маргеловым, председателем Комитета по международным делам в Совете Федерации России.
Состоялся важный и интересный разговор, Случевский понял, что может сделать нечто полезное для своей далекой родины. Он не боится того, что прежде не занимался такими масштабными политическими проблемами. "По образованию я инженер и убежден, что у любой задачи может быть решение. Ключевое - именно постановка задачи! С этим в России всегда были проблемы", - считает потомок Столыпина.
Николай Владимирович начал работать над программой Столыпинского мемориального центра развития и реформ, все больше и больше людей подключаются сейчас к этому проекту. Главный штаб центра будет в Москве, филиал - в Петербурге. В составе центра планируется создание трех подразделений: музея-архива, института развития государственных реформ и института образования.
Николай Случевский убежден в необходимости диалога между Россией и США и наличии потенциала для ведения эффективных переговоров с обеих сторон. Его родственники работают в команде Обамы, он сам общается с представителями высоких кругов российской элиты. Потомок политика и поэта, русский дворянин американского происхождения хотел бы видеть себя мостом, соединяющим две ментальности, две непохожих страны.
Случевский считает, что на вершине государственной системы России немало способных людей, которые пронзительно точно понимают всевозможные задачи, вызовы национальным российским интересам и национальной безопасности, тугой узел демографических проблем. Но реально осознает всё это очень тонкий слой управленцев. А вот под ним - среднее звено бюрократии, которое способно затормозить любое движение. Так было в царской России, при большевиках, в советское время, так есть сейчас - ничего не изменилось, по мнению моего собеседника! Бюрократия и коррупция - страшный тормоз любого развития. При этом коррупция - это вовсе не единичные факты преступных действий персоналий. Она масштабна настолько, что втягивает значительную долю взрослого населения России, начиная, например, с дачи взяток сотрудникам ДПС.
"Все участники этой порочной цепи становятся ее заложниками. Я считаю, что вовлеченность в коррупцию - предательство интересов России. У людей душа начинает болеть за личную выгоду, но никак не за судьбу страны!" - сетует Николай Владимирович и делает неожиданный вывод. - При этом самые высокие лица государства тоже, как ни печально становятся заложниками этой системы, не могут выйти из нее. Я полагаю, что 80% населения России до сих пор живет в Советском Союзе! Причем, не в идеологическом смысле, а в бюрократическом!"
В России, по мнению Случевского, очень низкий уровень законопослушания, по сути - законы существуют лишь для среднего класса: богатые могут себе позволить откупаться, бедные озабочены исключительно снисканием хлеба насущного. А прослойка среднего класса является очень тонкой. Коррупция в России препятствует формированию и росту среднего класса.
"Вопрос будущего России весьма жёсток: есть ли у нас два поколения, чтобы успеть изменить неблагоприятный ход событий? Я считаю, что нет! Я чувствую свой исторический долг перед моей исторической Родиной, моя душа болит за ее будущее.
Мне думается, что времени - максимум лет пятнадцать, чтобы попытаться ситуацию комплексно изменить... Нельзя забывать тяжелый опыт 1917 года, трагедию революции. Повторения недопустимы", - говорит потомок Столыпина. - Одной из главных задач столыпинских реформ в свое время было - укрепить низы, другими, не менее важными, стали юридическая реформа и борьба с коррупцией. Столыпин интуицией великого политика чувствовал, что в обществе и в экономике необходимы перемены для того, чтобы в стране не было революционного взрыва".
Правнук Столыпина приветствует обращение нового российского Президента к гражданину в первую очередь. Он считает символичным, что в своем первом Послании к Федеральному Собранию от 5 ноября прошлого года, Президент России Д.А.Медведев, юрист по образованию, прогрессивный, либеральный политик, процитировал Столыпина, сказав, что "прежде всего надлежит создать гражданина, и, когда задача эта будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот". Лидер большевиков Владимир Ленин в 2009 году говорил, что реформы Столыпина не должны быть успешными, иначе никому не будет нужна революция, - в этих словах звучит презрение к народу, последствия этого - налицо. Президент Медведев в своем Послании отмежевывается от такой позиции, делая шаг навстречу гражданам.
К слову сказать, среди потомков великого реформатора никто не верит, что Столыпина убили левые. "Возможно, причиной его смерти стала как раз активная борьба с коррупцией, - говорит Николай Случевский. - Если рассекретят однажды архивы ВЧК, я уверен, они сохранились, мы можем узнать истинных виновников и причины гибели моего прадеда".
Удручает потомка Столыпина и состояние российской духовности. При том, что по-прежнему на высоте театр, балет, общий культурный уровень россиян шокирует. Николай Владимирович для того, чтобы лучше узнать российскую жизнь, всегда пользуется только общественным транспортом, разговаривает с людьми в маршрутках. "Вот так поговоришь с этими бедными людьми и поймешь, что им не до театра, только бы выжить!" - сетует Случевский. На его взгляд, православие может стать одной из основ развития России. Но вместе с тем, на его взгляд, надо развивать в обществе толерантность, поскольку на территории России проживают люди с разными корнями и вероисповеданиями. Так в Казани с одной стороны - собор, с другой - мечеть... Важно иметь уважение друг к другу и понимание.
Правнук Столыпина считает, что многие проблемы России оттого, что до сих пор не выработана так называемая "русская идея", о которой писал еще Николай Бердяев в XIX столетии. Никто с тех пор не разрабатывал всерьез вопрос о сути национального самосознания. А между тем, при отсутствии такой идеи в обществе наступает разброд и упадок, поскольку людей ничего не связывает между собой... Как раз выработкой национальной идеи и планирует заняться в ближайшее время Столыпинский центр. Культура, политика, гражданское общество, - взаимосвязанные явления, поэтому все возникающие проблемы необходимо решать комплексно.
Наследник Случевского: я тоже пишу стихи!
В роду Случевских - несколько потомственных увлечений. По петербуржской линии - все Случевские - психиатры. По орловской ветке - священники. А вот по американской мужской линии, как выясняется, - поэты!
Знаменитый прадед Случевского, поэт Константин Константинович, собирал на своих "пятницах" самых выдающихся поэтов Серебряного века: его гостями были В. Брюсов и К. Бальмонт, Д. Мережковский и З. Гиппиус, И. Бунин и М. Лохвицкая... Тем не менее, американский правнук Константина Случевского достаточно долго не мог понять, что вообще такое - поэзия, даже ненавидел ее. Но гений рода понемногу брал свое: в Сан-Франциско, если побродить по городу, еще чувствуется душа 50-х-60-г.г., времен протеста, музыки и поэзии. Символизм современных ему поэтов - битников вроде Аллена Гинсбера, Лоуренса Ферлингетти или Джека Керуака в молодости не оставлял Николая равнодушным. Он также бывал на концертах Д.Моррисона, Д.Джоплин, Д.Хендрикса...
К поэзии Случевский пришел довольно поздно. Сначала неожиданно отыскалась тетрадь со стихами его отца Владимира. Оказалось, внук поэта Случевского тоже писал втайне от всех очень красивые романтичные стихи. Правда, он был вынужден закрыть эту главу своей жизни при выезде из Европы в 1948 году, поскольку для него с чистого листа началось совсем другое время. Под псевдонимом "Лейтенант С." писал и публиковал стихи брат деда Николая Случевского - Константин, он погиб в годы русско-японской войны.
Уже в зрелом возрасте Николай Владимирович начал читать стихотворения Райнера-Марии Рильке. И тут-то правнука поэта Случевского вдруг осенило: он чувствует и понимает, что такое поэзия! Тогда, следуя семейной традиции, он стал сам тоже писать стихи, правда - на английском языке. Они немного похожи на стихи его прадеда: в них преимущественно поднимаются философские вопросы жизни и смерти, бренности бытия. Хотя, Владимир, как и его прадед поэт Константин Случевский, - в общении человек легкий и веселый. Возможно, дело просто в том, что все Случевские - немного романтики...
Источник: www.viperson.ru.http://www.sinergia-lib.ru/?page=sluchevskiy_n_v
|
Метки: столыпины |
ПОТОМКИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА (воспоминания) |
ПОТОМКИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА (воспоминания)
14 (1) сентября 1911 года, 105 лет назад, в Киеве был убит премьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин.
Его могила на территории Киево-Печерской Лавры.
Для меня при поездке в самый русский город, в Киев, отдать дань памяти Столыпина, положить цветы на его могилу – обязательные действия.
К сожалению, из-за государственного переворота в соседней стране ПОКА невозможные.
******
Сегодня фигура Петра Аркадьевича очень востребована и актуальна. Настолько, что слепленная за три месяца до выборов либеральная «Партия Роста» идя в Думу не гнушается спекулировать на памяти Столыпина. Но Бог и избиратель им судья!
Сегодня хотелось бы поговорить о детях Столыпина. О той судьбе, которая постигла эту семью во времена смуты, которая наступила через несколько лет после убийства её главы. И что важно – явилась его прямым следствием. При Столыпине-премьере возможность втягивание России в войну было минимальным, а именно война стала точкой вхождения нашего государства в хаос и гибель.
У Петра Аркадьевича Столыпина и его супруги Ольги Борисовны было шестеро детей.
Пятеро дочерей и один сын — самый младший ребенок в семье.
_________________________________
ПАРИЖСКОЕ ИНТЕРВЬЮ СО СТОЛЫПИНЫМ Д.А. (внуком)
В истории Российской империи, пожалуй, трудно найти более противоречиво оцениваемую фигуру, чем Петр Столыпин. 15 апреля 2002 г. в Москве отметили 140-летие со дня рождения Великого Реформатора, как называют его в России.
В Саратове нашлись деньги на открытие многофигурного памятника Столыпину, в чем-то перекликающегося с киевским, снесенным 16 марта 1917 года. В нашей стране этот юбилей, как и 90-летие его смерти, никто не заметил. Может возникнуть вполне закономерный вопрос «Зачем нам Столыпин? Что он сделал для Украины? Пусть в России им и занимаются».
В этом, безусловно, отражается негативная оценка и ярлыки, навешанные на Столыпина еще его антиподом — Лениным. О крахе «столыпинской политики» написан не один десяток монографий. По-прежнему муссируются темы от «столыпинских галстуков» до «столыпинских вагонов». Он то «гонитель евреев», то «кат українського народу» (это надпись в течение десятилетий присутствовала на его могиле в Лавре). Да и сегодня восхищаться Столыпиным — все равно, что расписываться в шовинизме.
Большинству читателей более известны подробности смерти Столыпина, чем его деятельность на государственном посту. К множеству свидетельств обстоятельств его гибели, приведенных в десятках книг и сотнях статей, добавлю свои размышления. Для меня, киевлянина, непостижимо, почему, признав состояние раненого чрезвычайно опасным, его повезли в НЕ САМУЮ БЛИЗКУЮ клинику Маковского, к тому же расположенную на улице, покрытой неровным булыжником? Чтобы сильнее растрясти рану?
Клиника св. Владимира была ближе, а Анатомический театр совсем рядом. Думаю, в данном случае была применена та же модель политического убийства, что впоследствии и в убийствах Кирова, Кеннеди. Убийце вручают оружие, дают возможность приблизиться к жертве, чтобы после покушения в течение нескольких дней убрать исполнителя. До сих пор нет ответа на вопрос: кто был заказчиком этого самого трагического по последствиям для России убийства?
Удивительно и то, что из неоднократных покушений на семью Столыпиных удавались только те, которые совершались в Украине. О смерти своей тети Ольги рассказал мне в Париже внук Великого Реформатора — журналист Дмитрий Аркадьевич Столыпин. Внук не любит встречаться с нашими соотечественниками-журналистами. Для меня Д.Столыпин сделал исключение лишь потому, что я был непосредственным инициатором восстановления могилы его деда.
Вкратце об этом. Премьер-министра похоронили возле Успенского собора Киево-Печерской лавры. Весной 1961 года, рано утром, когда на территории заповедника никого не было, приехал кран, надгробные крест и плиту выкорчевали и куда-то оттащили. Спустя 28 лет на месте захоронения П.Столыпина встретились И.Глазунов, С.Грабарь и я. Илья Сергеевич обратился к нам, киевлянам, с просьбой найти надгробие и принять меры по восстановлению могилы.
Мы знали, что снос мемориального захоронения производили наспех, до прихода посетителей и сотрудников. Плита и могильный крест были невероятно тяжелые, далеко их переместить не могли, скорее всего, они находятся на ближайшей свалке. Таким местом оказался первый ярус Большой колокольни. Там под хламом, засыпанные тридцатилетней пылью, и валялись плита с крестом.
Илья Глазунов обратился тогда к первому секретарю ЦК Компартии Украины С.Гуренко, и тот дал указание администрации Киево-Печерского заповедника вернуть надгробие на могилу. Многотонную плиту притащили на первоначальное место, а следом водрузили и каменный крест. Дмитрию Аркадьевичу эти обстоятельства были известны, поэтому и состоялась наша встреча.
Внук П.Столыпина рассказал о том, что произошло с детьми Петра Аркадьевича после рокового выстрела в Киевском городском театре:
— Мой дед, Петр Аркадьевич Столыпин, еще студентом женился на Ольге Борисовне Нейдгарт: кстати, она потомок А.Суворова по прямой линии. У них было пять дочерей и один сын, мой отец. Моя старшая тетя Мария Бок (родилась в 1885 г. и прожила почти сто лет) опубликовала воспоминания о своем отце, где много внимания уделила покушениям на него. Она и сама пострадала в результате взрыва 12 августа 1906 г. на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Тогда погибли 23 человека, 35 были ранены.
Пострадавших детей перевезли в покои Зимнего дворца, где они прожили три года.
Сестра отца Наталья, по мужу Волконская, была изувечена и осталась инвалидом на всю жизнь. Однако и она, и ее сестра Ольга, став сестрами милосердия, отправились на фронт, где участвовали в сражениях на территории нынешней Украины. Ольга Петровна Столыпина нашла свою смерть в Украине. Хочу подробно об этом рассказать.
Ее сестра Елена (умерла 90-летней в 1985 г. во Франции), была замужем за Владимиром Щербатовым. Его сестра и мать приютили вдову Столыпина Ольгу Борисовну с детьми в своем Немировском дворце (сейчас Винницкая область).
Учитывая симпатии местных жителей к Марии Григорьевне Щербатовой и ее благотворительную деятельность, председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский дал указание ревкому о неприкосновенности семьи, их дворца и парка. Под это покровительство попадала невестка Елена, урожденная Столыпина, и ее родственники.
Но в январе 1920 г. в Немиров вошло подразделение Красной армии, в ряды которого затесался некий Андрей Лесовый, бездельник и пьяница, люто ненавидевший Щербатовых. Вместе с тремя красноармейцами, напившись до бесчувствия, Лесовый ночью 20 января расстрелял в парке возле дворца трех женщин — саму графиню, ее дочь Александру и их подругу Марию Гудим-Левкович. Потом отправились на поиски Столыпиных.
Нашли 23-летнюю Ольгу и смертельно ее ранили — несколько дней она была в агонии. У ее кровати постоянно находилась младшая сестра. Не сумев заступиться за женщин, местные жители расстреляли убийц. Щербатовых и Ольгу Столыпину похоронили в монастыре.
Мой отец Аркадий, единственный сын П.Столыпина, родился 2 августа 1903 г. в семейном имении Колноберже, что в Литве. В детстве он воспитывался вместе с крестьянскими детьми, так что в Немирове за короткое время сдружился с местными ребятами. Они и провели его вместе с матерью и сестрами мимо не спускавших глаз с дворца бандитов. Правда, пришлось всю ночь сидеть в канаве. Немировцы пять месяцев прятали Столыпиных.
Выручило их короткое пребывание на Виннитчине украинских и польских войск, сражавшихся против большевиков. В июне 1920 г. оставшиеся в живых члены семейства Столыпиных на поезде Красного Креста отправились в Варшаву. Оказавшись за границей, рассеялись кто куда. Через Варшаву, Тироль и Рим отец попал во Францию. Поселился в Париже.
В 1924 г. Аркадий Петрович поступил в знаменитую офицерскую школу Сен-Сир, но учебу пришлось оставить по состоянию здоровья. В 1929 г. он встретил Грасилу Луи, дочь посла Франции в России. Они обвенчались, и через два года у них родился мой брат Петр, довольно способный художник. Я родился в 1934 г. Отец вступил в НТС (Народно-трудовой союз), организацию, с гуманистических позиций выступающую против коммунистической идеологии классовой борьбы.
В 1944 г. его арестовали гестаповцы, он чудом остался жив. В 1946 г. Аркадий Петрович участвовал в издании журнала эмиграции «Голос Свободы», а с 1949 г. работал в агентстве «Франс Пресс». Всю свою жизнь Аркадий Столыпин был на стороне лиц, выступающих против коммунистической тирании, дружил он и с украинскими диссидентами. За ним постоянно следило КГБ. Аркадий Петрович не принял французского подданства, оставшись до последнего дня политическим эмигрантом. Скончался 13 декабря 1990 г. Похоронили мы его на Русском Православном кладбище в Сэнт-Женевьев де Буа возле бабушки Ольги Борисовны, умершей в 1944 г.
Я много сотрудничал с отцом, вместе мы выпустили три книги на французском языке, напечатали много статей. В 1957 г. я поступил в агентство «Франс Пресс», где и проработал до пенсии. Но, в отличие от отца, меня больше интересовали искусство и литература, чем политика. В 1971 г. вышла книга «Литературная жизнь в СССР», которую я написал вместе с М.Славинским. Особой своей заслугой считаю то, что вместе с Франсуа Мориаком сделал все для представления к Нобелевской премии друга отца Александра Солженицына.
Я долгое время являюсь одним из трех вице-президентов французского Пен-Клуба. В браке с Анной Дюфур де Новиль у нас родились трое детей: Аркадий — юрист, работает в автомобильной фирме; София посвятила свою жизнь учению и воспитанию подрастающего поколения, даже провела шесть месяцев в Индии; Александр — художник и декоратор. Все дети носят знаменитую фамилию Столыпин. Моя гордость — это внуки, их шестеро, а мальчик только один — Николай. Внешне, в отличие от меня, он унаследовал столыпинские черты, высокую худощавую фигуру.
В нем все, даже ногти, свидетельствует о дворянском происхождении! Когда произошли демократические преобразования на родине моего отца и деда, я старался посетить места, связанные с их деятельностью, в первую очередь — Саратов, где П.Столыпин был губернатором. Побывал и в Москве, и в Киеве — на могиле деда. Это замечательно, что вы с Грабарем и Глазуновым водрузили на место надгробие и крест. Большая просьба ничего не менять и поддерживать могилу в приличном состоянии. Жаль, что здоровье не дает мне возможности участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Москве, Саратове и Киеве в честь моего деда.
14 февраля 2003
Виктор Киркевич
http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/parizhskoe_intervyu_so_stolypinym.html
В первом ряду (слева направо) : дочери Ольга (1895-1920) и Александра (1897-1987).
Во втором ряду (слева направо) : неизвестная (1), дочь Наталья (1891-1949), сын Аркадий (1903-1990).
В третьем ряду (слева направо) : неизвестная(2), дочь Елена (1893-1985), жена Ольга Борисовна (1859-1944), дочь Мария (1885-1985) и сам П.А. Столыпин (1862-1911).
Дети Столыпина перенесли ад, чувство постоянной опасности и обреченности не покидало семью с момента первого покушения, но это их не сломило. Для всех них была характерна прямая осанка, подчеркивающая силу воли и способность к сопротивлению, трезвый ум. Они всегда оставались русскими.
В США живет ещё один правнук Столыпина – Николай Владимирович Случевский. Он является внуком Марии Петровны Столыпиной.
Вот небольшое интервью с ним:
http://www.pravoslavie.ru/64082.html
А теперь предлагаю вашему вниманию несколько фрагментов интервью со Столыпиными.
-Интервью Аркадия Петровича Столыпина (он скончался в 1990 году):
«— Аркадий Петрович, что вы помните о Февральской революции?
— Вначале никто ничего как следует не понимал. Мы смотрели из окон нашего дома на солдат, которые шли к Думе. Смутно доходили вести об отречении Государя. Вообще, было ощущение какой-то бестолковщины, мы не понимали, что произойдет далее, и надеялись, что жизнь опять войдет в нормальное русло. Не было ни малейшего подозрения, что раскрылась какая-то бездна.
— А где был ваш дом в Петрограде?
— На Гагаринской улице, в той части, что между набережной и Сергиевской. Наша улица как раз вела к Таврическому саду и Таврическому дворцу. Так что все эти шествия проходили мимо нас. Раньше, после падения Перемышля, там проводили австрийских военнопленных, и мы так же на них смотрели, как из театральной ложи. Через некоторое время после революции у нас начались едва ли не ежевечерние обыски. Приходили какие-то солдаты, которые сами не знали, что они ищут, задавали всякие бестолковые вопросы. Казалось, что им просто было любопытно погулять по дому, посмотреть, что в нем происходит.
Тогда моя мать написала очень раздраженное письмо военному министру Временного правительства Гучкову о том, что так жить невыносимо, и нам поставили в передней охрану, которая никого не пускала. И вдруг в один темный вечер, без предупреждения, к нам приехал сам Гучков, якобы посмотреть, все ли в порядке, довольны ли мы тем, что он устроил, но на самом деле чтобы завязать с нами какие-то отношения. Он чувствовал себя виноватым после всего, что натворил, и ему хотелось опять войти в наш дом, где он бывал при жизни моего отца.
Помню, как он сидел, рассказывал про отречение Государя, и, в известной степени, все это звучало оправданием, дескать, он и другие заговорщики иначе поступить не могли. Как будто перед тенью отца, в этом доме, ему хотелось объяснить свое поведение. В его раздражении против Государя было что-то мелочное. Помимо критики того, что делала царская власть в последнее время, было чувство личной неприязни. Кроме того, мне запомнился его напускной оптимизм. Мать его спросила: «А где теперь Государь?» Гучков ответил: «Он себя прекрасно чувствует, живет спокойно в Царском Селе с семьей». То есть он совершенно не понимал, что это был шаг к дальнейшим ужасным событиям, которые, в конце концов, и привели к екатеринбургской трагедии.
— А как вы прожили весну и лето 17-го года?
— Жизнь текла более или менее нормально, я продолжал посещать гимназию. Помню, как с аптек срывали орлов, некоторые люди вдруг стали говорить вещи, которые они раньше не говорили, критиковать решительно все до мелочей, как теперь критикуют Хрущева, когда он свалился. Но особых страданий не было. Люди больше боялись войны, чем революции. Не было предчувствия того полного хаоса, который приближался.
Весной мы поехали в Скандинавию, просто прогуляться. Тут война, лишения, и мы захотели в нормально живущую страну, в Норвегию. Мы там катались на автомобиле, играли в теннис. У матери сделалось какое-то жуткое предчувствие, что Государя могут казнить, пошли слухи о том, что его вывозят из Царского Села. В июле произошло первое восстание большевиков, и мы решили как можно скорее возвращаться домой. Осенью мы приехали в Петроград и были поражены, застав его совсем угрюмым. Знакомых становилось все меньше, начались трудности с продовольствием, появились хлебные карточки. То есть обстановка нас потрясла, но уму-разуму не научила. Мы думали, что это все из-за войны, из-за того, что немцы взяли Ригу, но, в конце концов, все уладится.
— Скажите, а ведь после смерти отца ваша семья не испытывала финансовых трудностей?
— Нет, у нас были доходы от имения, а, кроме того, Государь назначил матери пенсию в размере жалования отца.
— Положение как-то изменилось после Февральской революции?
— Начинали уже поговаривать, что из имения больше ничего не приходит, что, может быть, придется сдать часть петроградского особняка. Что и произошло в действительности, когда мы вернулись из Норвегии в сентябре.
Тогда же я вернулся в свою гимназию, хотя уже все вокруг скрипело. Я стал один на трамвае, а не в автомобиле с гувернанткой, как раньше, ездить на занятия, мы ютились в пяти или шести комнатах, что для тех времен казалось известным лишением. Но все-таки было стремление сохранить привычный образ жизни: в день, когда был октябрьский переворот, мне пришла прихоть непременно купить скаутский костюм, потому что все мои друзья в гимназии были скаутами. Транспорт не ходил, и я потащил мать пешком через весь город в большой магазин, где продавались эти костюмы.
И вот мы увидели Петроград в исторический день Великого Октября. Вышли мы из дома, вероятно, часа в 3 дня, пошли по Сергиевской, потом по Литейному, где все было более или менее нормально, потом мы вышли на Невский проспект и там уже натолкнулись на какой-то базар. Масса людей, бестолково толкающихся в разные стороны, солдаты, старающиеся проложить себе дорогу, не то правительственные, не то восставшие, дальше какие-то грузовики с пулеметами, направленными в сторону Адмиралтейства. Кажется, я даже спросил одного из солдат — что происходит, он ответил «отстань!», или что-то в этом духе, он сам не знал.
Я отчетливо помню, что мы, в тот момент, не думали ни о какой революции, а все происходящее казалось нам простым ярмарочным беспорядком. Мы повернули по пустынной Морской и вышли на Дворцовую площадь, совершенно пустую, прошли через арку Генерального штаба. Никакого всенародного восстания, никакого штурма Зимнего дворца не было. Стояли баррикады из дров перед фасадом Зимнего, за ними мелькали какие-то фигуры, кажется, женские. Мы медленно шли через площадь и смотрели на них. И они высовывали головы и с любопытством нас разглядывали, по-видимому, думали, что пожилая дама и отрок вдвоем идут на штурм дворца. Мы повернули на Миллионную, и там, на подъезде к Эрмитажу, где знаменитые Атланты, нам встретился маленький отряд казаков, подтянутых, но хмурых, молчаливых, они топтались на холоде в полной растерянности.
Дальше на Миллионной мы наткнулись на отряд красноармейцев. Им тоже было скучно. Они стояли там, очевидно, уже два или три часа, было холодно, один затеял ссору с каким-то суетливым бородатым старичком, который крутился рядом. Просто чтобы отвести душу и чем-нибудь себя занять. Старик спросил: «Зачем с вами штатские?» И тот заорал: «Тебе какое дело?! Это красноармейцы, если хочешь знать!» Никаких поручений и приказов они, вероятно, не получали, стояли там и смотрели на казаков, а казаки смотрели на них.
Так что не было никакого всенародного восстания, и миф Великого Октября кажется просто смехотворным. Судя по всему, так и толкались все до вечера, защитники дворца понемногу разбредались, а красноармейцы, видя, что им никто не препятствует, просочились во дворец и заняли его. Я уверен, найдись какой-нибудь небольшой организованный отряд офицеров, все красноармейцы разбежались бы, и никакого Великого Октября и не было бы.
Вечером мы с мамой вернулись домой раздосадованные оттого, что напрасно потеряли время: магазин был закрыт. Кажется, вечером у нас были гости, говорили о всякой всячине, а на следующий день узнали, что произошел переворот, и Временное правительство, которое всем осточертело, ушло, и что какие-то другие, совершенно незнакомые люди, стоят у власти.
— А имена Ленина или Троцкого вы тогда знали? Помните ли вы, что говорили об этих людях до Октября?
— Говорили о Ленине, о том, что он произносит с балкона особняка Кшесинской речи. Мои старшие сестры, в частности, Александра, даже ходили туда, слушали. А я не ходил.
— Жизнь вашей семьи резко изменилась после Октября?
— Абсолютно не изменилась. Я ездил в ту же гимназию, только некоторые испуганные родители моих товарищей обсуждали — не нужно ли уехать на Дон или в Крым. То есть настроение изменилось, но темп жизни был тот же самый.
— Когда же вы покинули Петроград?
— 21 ноября, меньше, чем через месяц после переворота. Пошли, наняли места в спальных вагонах, которые ещё ходили, и уехали себе преспокойно в Киев. Была толпища солдат, нас провожали управляющий дома и несколько друзей. Уезжали мы, скорее, от недостатка провианта, уезжали от войны, но не от большевиков, не потому что предчувствовали какие-то ужасные расправы.
— Вы застали в Киеве все главные события тех времен — подписание Брест-Литовского мира, немецкую оккупацию, потом петлюровскую?
— Да, мы все это видели своими глазами. В январе в Киев пришли большевики, потом петлюровцы вернулись вместе с немцами, потом провозгласили гетмана. При гетманстве всех обуяла эйфория: гремели оркестры в Купеческом саду, и все петербургское общество, которое поселилось тогда в Киеве, смотрело, как пылал Подол, потому что какие-то местные коммунисты устраивали пожары.
Конец восемнадцатого, весь девятнадцатый и начало двадцатого года мы жили в Подольской губернии, в сорока верстах от Винницы. Власть менялась каждый день, приходили то одни, то другие банды. Кончилось все это для нас трагически — убили семью Щербатовых и семью моей сестры. Потом пришли поляки, и мы уехали с ними за границу.
— В каком году вы покинули пределы России?
— В июле 20-го года. Мы поехали сначала в Берлин, 2-3 года прожили в Литве. Потом я жил в Италии у моей сестры Щербатовой, потом во Франции.
— А как вы сейчас оцениваете то, что произошло в России в 1917 году?
— Упадок власти начался ещё в царское время, происходила хаотичная смена министров, власть обнаруживала недостаток воли. У меня такое чувство, что нужно было десять лет России побыть без войны, нужно было время, чтобы укрепился этот новый конституционно-монархический строй, парламентаризм, который спотыкался на каждом шагу. Тогда, может быть, России удалось бы избежать катастрофы.
Александра Петровна Кайзерлинг:
— Какие у вас лично остались воспоминания о Февральской революции?
— Магазины стали вдруг пустыми, в один день пропали все продукты. Остались одни огурцы. Потом начались митинги, там выступали люди, которые были одеты рабочими, говорили о том, что Керенский никуда не годится и надо передать власть Совету рабочих и крестьянских депутатов, которые заключат мир, накормят народ и отдадут ему землю. Когда я говорила с этими агитаторами, они никогда по делу не отвечали, только перекрикивали оппонентов. Вообще была ужасная кутерьма, все кричали друг на друга.
— Вы рассказывали как-то, что помните выступление Ленина?
— Да. Мой двоюродный брат сказал мне, что Ленин устроился в доме Кшесинской и я бросилась его слушать. Небольшого роста, в пальто, без шляпы, Ленин гулял взад-вперед по балкону особняка, говорил отрывисто, не очень внятно и недостаточно громко. Никто не аплодировал. Как только он закончил, появились агитаторы, которые начали пояснять и комментировать его речь. Никто ему не возражал. Вернувшись домой, я застала там моего дядю, брата матери, который был членом Государственного совета, и спросила его: «Знаете ли вы, что делается на улице?» Он мне сказал: «Мы уже назначили оппонентов Ленину». Я пошла их слушать. Они говорили не по существу, их никто не слышал, а люди Ленина были очень хорошо подготовлены и произносили ударные речи.
— А Октябрьскую революцию, 24, 25, 26 октября 17-го года, вы помните?
— Были страшные бунты на улицах. Я пошла с подругой, дочерью норвежского посланника на улицу, и мы увидели, что толпа бежит к городской Думе. Мы бросились с этой толпой, а красноармейцы с красными бантами начали в нас стрелять. На меня набросилась с криком какая-то женщина. Я кричала, что я не большевичка, а она мне сказала, что теперь все большевики, а кто не согласен, тех будут расстреливать.
Шли постоянные митинги, но нечего было есть. Когда кто-нибудь высказывался в том смысле, что раньше голода не было, агитаторы отвечали, что это богачи забрали всю еду и убежали. А теперь надо передать власть рабочим депутатам.
Когда мы приехали на Украину, там была совершенно другая картина: много еды, спокойная жизнь. Потом начались бои, большевики пытались захватить Киев. А защищали его белогвардейцы. Бои длились, кажется, дней десять. Все сидели по подвалам, однажды мать сказала нам, что нужно купить еды, а прислугу послать нельзя — могут убить. Мы с сестрой пошли. На улице лежало много трупов — сначала я пыталась их обходить, а потом прямо по ним гуляла. Мы пришли на крытый рынок, в который как раз накануне попал снаряд, похватали все, что могли.
Через десять дней все замолкло, мы вышли с сестрой на улицу и услышали, как в Царском саду расстреливают белогвардейцев, офицеров.
Это продолжалось недолго, пришли немцы, потом Петлюра, затем город перешел в ведение гетмана Скоропадского, его поставили немцы, опять началась спокойная жизнь, но моя мать говорила, что это противно.
Мы уехали в деревню, очень тихую, расположенную в шестидесяти верстах от вокзала. Тем не менее туда все время приходили банды: то Петлюра, то Махно. И делалось все хуже и хуже в смысле еды.
Однажды приехала женщина с двумя вооруженными охранниками. Она была дворянка, но говорила, что левая. Она с нами обедала, потом ночевала. Никто не хотел стелить ей постель. Я сказала, что сделаю это. Во время обеда она сказала, что мы неправомерно занимаем такой большой дом, надо у нас его отнять, сделать в нем музей или библиотеку. «Вы могли бы работать здесь, но вы не так думаете, как предписывают Советы. Я — друг Ленина, я его хорошо знаю…»
— Она была его представительница?
— Не его, а украинской советской власти. В конце концов, она сказала: «Придется вас завтра всех расстрелять». Я спросила ее: «Неужели вы детей четырех-пяти лет будете расстреливать?» Она ответила: «Да, потому что все равно из них ничего толкового не выйдет».
На следующее утро, когда мы проснулись, ее уже не было, она ночью удрала, потому что пришел Петлюра, но и его власть держалась совсем недолго.
Однажды мы услышали выстрелы и вместе с моей сестрой собрались бежать на улицу. У меня в это время был сыпной тиф, но я уже вставала. В передней мы увидели группу солдат, спросили их, кто они. В ответ услышали: мы большевики. И тут же нас всех арестовали. Ночью мой брат и моя мать убежали. Мы же остались, так как моя сестра лежала больная, у нее тоже был сыпной тиф.
В какой-то момент к нам пришел комиссар, спросил: «Вы — Столыпины?» Мы ответили: «Да». Он сказал: «У меня с вами личные счеты». Поставил часового перед дверью в коридор и перед дверью в сад. И мы слышали через галерею, что он арестовывает людей, которые находились на втором этаже — семью Щербатовых. Тогда моя сестра сказала, что мы не будем, как овцы, ждать пока нас зарежут. Мы дождались, пока часовой отвернулся или отлучился, вышли в сад. Были сумерки, часов пять утра.
Мы с трудом перелезли через высокий забор, вдруг я вижу, что за нами бегут с винтовками. Моя сестра и ее муж побежали в одну сторону и были оба убиты. Я побежала в другую, постучала в первый дом, меня не хотели пускать, и я встала у двери в растерянности. И слышу как в дом, откуда меня прогнали, стучатся мои преследователи и спрашивают: «У вас Столыпина?» А хозяева отвечают: «Она дальше пошла». А я за дверью стояла. Хозяева дома меня увидели и спрятали на чердаке. Потом пришла девчонка, дала мне какое-то платье деревенское и велела мне идти к какой-то женщине, та меня заперла в погребе, я там прожила у нее десять дней. И вдруг в этот дом явился политический комиссар, Черкасский.
— Тот, который намеривался сводить с вами счеты?
— Нет, тот комиссар расстрелял всех и ушел, а это был политический комиссар полка, он возглавлял Совет, который сразу образовался в местечке.
— А это не брат издателя газеты «Копейка» Черкасского?
— Да. Так вот он пришел и сказал, что сестра моя, в которую стреляли при побеге, жива, но находится при смерти. Я, разумеется, сказала, что хочу ее видеть. Он ответил: «Только идите не рядом со мной, а за мной». Потом он мне показал на какой-то амбар, где сестра лежала, его охраняли два солдата, они спросили: «Как ваша фамилия?» Я сказала: «Сам знаешь — Столыпина». Один из солдат обрадовался: «А-а-а! Нам тебя расстреливать надо». Я ответила: «Расстреляешь, когда моя сестра умрет». Отстранила их винтовки, пошла к сестре и не отходила от нее, пока она не умерла. Гроб с ее телом я повезла в местный монастырь, а там другая шайка солдат хотела выбросить ее из гроба. Мне пришлось с ними драться.
После смерти сестры я поселилась в местечке, в каком-то сарае. Меня искали, спрашивали у местных жителей про меня, но никто не выдал. Я выходила на улицу только ночью или вечером, местные меня подкармливали, у меня же ничего не было.
Потом пришли поляки, оккупировавшие часть Украины. Они меня просили указать, кто из местных жителей сотрудничал с советской властью, но я никого не выдала.
— В каком месяце какого года происходило все то, что вы описывали?
— В декабре 19-го и в январе 20-го.
— А когда же вы покинули территорию России?
— Весной 20-го.
— А после этого?
— Жили в Берлине, потом в Литве, потом я вышла замуж, и только потом приехала в Париж..
20.09.2016
https://nstarikov.ru/blog/70951
Столыпин (в белом мундире справа) при представлении императору еврейской делегации и поднесении ею Торы. 30 августа 1911 г.
Рубрика: Наши гости | Опубликовано 21.09.2016http://www.klaipeda1945.org/nashi-gosti/potomki-petra-stoly-pina-vospominaniya/
|
Метки: столыпины |
Понравилось: 1 пользователю
Граф Григорий Орлов: красавец и неуч |
Граф Григорий Орлов: красавец и неуч
Он был скандальной личностью при жизни, остался таким в памяти потомства, хотя хорошего он оставил после себя, пожалуй, больше, чем плохого. Судите сами.
В постель к Императрице
Дети тверского помещика и новгородского губернатора Орлова не отличались утончёнными нравами и образованностью. Выучились они кое-как. Григорий ни в науках не понимал, ни французского языка не знал. Зато у него была природная смекалка и чутьё, как решать порученные ему дела. Это в придачу к привлекательной внешности, весёлому нраву и личной храбрости.
За смелость в Семилетней войне офицера Григория Орлова приметил генерал Пётр Шувалов и взял к себе адъютантом. Но Григорий закрутил роман с любовницей своего покровителя – княгиней Еленой Куракиной. Говорят, от этой связи даже родилась дочь – воспитанница Орлова Наталья Алексеева. Шувалов удалил от себя Орлова.
Этот случай обратил на себя внимание петербургского высшего света и в том числе – Екатерины, супруги наследника престола Петра Фёдоровича. Она и Орлов сблизились… В 1762 году у них родился сын – родоначальник графов Бобринских.
Администратор и эстет
Братья Орловы сыграли главную роль в перевороте 28 июня 1762 года, свергнувшем Петра III и возведшем Екатерину на престол. Начался период наивысшего могущества Григория Орлова. Одно время Императрица даже хотела официально оформить свои с ним отношения, но не посмела пойти против общественных предрассудков.
Пожалованный в 1763 году в графское достоинство Григорий Орлов успешно выполнял государственные поручения Императрицы. Особенно прославился он во время ликвидации чумы в Москве в 1771 году. Эпидемия была страшная, люди мёрли десятками тысяч. По Первопрестольной прокатился бунт, когда толпа растерзала архиепископа Амвросия и убивала «дохтуров».
Орлов, хоть и неучем был, принял разумные и энергичные карантинные меры. Порядок был восстановлен, и чума пошла на спад. Императрица отметила заслуги своего возлюбленного возведением арки-памятника в Царского Селе со словами благодарности: «Орловымъ отъ бҍдъ избавлена Москва». Арка и надпись сохранились по сей день.
Орлов начал возведение монументального дворцово-паркового ансамбля в подаренной ему Екатериной Гатчине.
1990 - Царская охота (в роли Григория Орлова актер Александр Голобородько)
Роковая любовь
Орлов привлекал женщин и сам был охоч до них. Князь Михаил Щербатов в своей не предназначенной к публикации книжке «О повреждении нравов в России» писал, что Орлов изнасиловал свою 13-летнюю двоюродную сестру Екатерину Зиновьеву, на которой потом женился. Этот брак наделал большого скандала в свете.
С трудом граф нашёл храм, где его обвенчали с кузиной. Но вопрос был вынесен на рассмотрение Сената, который постановил признать брак незаконным и обоих прелюбодеев разослать по монастырям. Тут общественное мнение возмутилось уже таким приговором. Сам граф Кирилл Разумовский едко высмеял его.
Императрица в ту пору уже увлеклась Потёмкиным. Она ничего не имела против женитьбы своего бывшего возлюбленного, на ком он хочет. Екатерина отменила решение Сената. Более того, она пожаловала свою тёзку Орлову в свои статс-дамы.
Но Григорий недолго прожил в браке. Екатерина Орлова скончалась в возрасте 22 лет от чахотки. Действительно любивший её граф не выдержал горя и впал в безумие. Он пережил супругу только на два года и скончался в 1783 году в возрасте 48 лет.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/graf-g...acc35d390d00a97639c7?from=feed
|
Метки: орловы |
Понравилось: 1 пользователю
Откуда взялось выражение «голубая кровь» |
Откуда взялось выражение «голубая кровь»
Устойчивое выражение «голубая кровь» издревле используется для обозначения людей высшего сословия, аристократии и знати. Появилось оно в средние века, в эпоху рыцарей и времена, когда народом правили «серые кардиналы», плелись интриги, а знать и вельможи всеми своими силами хотели максимально отдалиться от простых людей, показывая свое превосходство.
Пока крестьяне трудились в полях, под лучами жгучего солнца, получали заряд энергии и загорали, высшее общество прятало свою бледную кожу от солнечных лучей под полями шляп и зонтами. Знать высоко ценила каноны тогдашней моды и считала эталоном красоты бледное тело. Это стало показателем достатка и статуса. Так знать подчеркивала, что ей нет необходимости трудиться, чтобы себя содержать. В моде широко была распространена косметика с использованием лимонной кислоты, кисломолочных продуктов, отбеливающая кожу и волосы.
Люди делали все возможное, чтобы окружающие заметили их белоснежную кожу, через которую хорошо просвечивались голубые вены. Так и появилось выражение «голубая кровь» как ассоциация с людьми высшего общества.https://zen.yandex.ru/media/id/5a695e0bad0f22f7fbd...bab6cad1bd00abc065ac?from=feed
|
Метки: дворянство |
Понравилось: 1 пользователю
Алексей фон Эссен: «Дворянством нельзя кичиться» |
Алексей фон Эссен: «Дворянством нельзя кичиться»
 Татарстанские дворяне готовятся встретить главу Императорского дома.
Татарстанские дворяне готовятся встретить главу Императорского дома.
Через месяц Казань посетит великая княгиня Мария Владимировна Романова, которая приезжает в столицу Татарстана по приглашению руководства республики. Как собираются встретить ее потомки дворянских фамилий, живущих в Казани? Есть ли шансы России вновь обрести монарха, и стоит ли лоббировать закон о реституции? Эти и другие вопросы корреспондент «БИЗНЕС Online» задала предводителю татарстанских дворян Алексею фон Эссену.
«Дед пообещал отказаться от своих детей, если они вступят в комсомол»
— Алексей Григорьевич, в пору вашего детства, как я понимаю, о дворянском происхождении говорить было небезопасно. Когда вы узнали, к какому роду принадлежите?
Предводитель татарстанских дворян Алексей фон Эссен
— Мой дед пострадал во время репрессий в 1937 году. У моей бабушки на пианино стоял портрет его брата-адмирала, только на снимке он был еще не адмирал, а просто капитан первого ранга. Но наше дворянское происхождение нигде не афишировалось. В 1956 году деда реабилитировали, и тогда в семье начали говорить о нашем происхождении. А до этого времени вскользь говорили про прадеда, бывшего министром юстиции, товарищем министра, его уважал сам император. Мы после войны все жили ровно и одинаково, и задача моих родителей в сословном плане заключалась в том, чтобы внушить детям, что дворянством нельзя кичиться. Мы такие же, как и другие россияне.
— Вы в это время жили в Тбилиси?
— Да, и Грузия в этом отношении была немного иной, там у народа был пиетет перед дворянами. Они всегда уважали и свое дворянство. Большую роль в моей жизни и в осознании рода сыграла книга «Порт-Артур», у отца было три или четыре этих книги, ему все их дарили – хотели сделать приятное. В этой книге много места уделено адмиралу Николаю фон Эссену, любимцу адмирала Макарова, Эссен тогда был еще капитаном второго ранга. Это была история семьи. Когда я уже стал взрослым, отец рассказал мне о том, что в свое время дед пообещал отказаться от своих детей, если они вступят в комсомол.
— Они вступали?
— Нет, никто. И когда я уже был в армии, отец прислал мне письмо, в котором писал, что если ты хочешь сделать карьеру, то в партию тебя примут только в армии.
— Вступили?
— Нет, не тянуло меня. Хотя комсомольцем я был и был активным, был заместителем секретаря комсомольской организации, работал в молодежном движении. Боролся за чистоту рядов, был строгим.
«Это был пиар-ход русского флота»
— Наверняка в какой-то период вы начали изучать жизнь адмирала Николая фон Эссена. Чем он все-таки был славен?
Адмирал Николай фон Эссен. 1907 год
— Повторюсь и скажу, что книга «Порт-Артур» была катехизисом нашей семьи. Адмирал был братом моего деда, и у нас было много его фотографий, братья ими обменивались. Разница между братьями была большая – около 10 лет. Мой дед был самым младшим. У нас в семье был даже рукописный вариант его книги о войне с японцами, но он пропал, возможно, его конфисковали. Николай фон Эссен был единственным моряком в Порт-Артуре, который сумел свой боевой корабль не сдать японцам, а вывести его в открытое море и там принять бой. Две недели они готовились к прорыву блокады, и каждую ночь японцы их расстреливали. Это был броненосец «Севастополь». Будущий адмирал был лихим командиром, прославился он на «Новике». Однажды он пошел в атаку на целый флот, он совершил три маневра, но огонь противника заставлял его возвращаться. Это был, как сейчас выражаются, пиар-ход русского флота, потому что противники увидели, что русский флот не сдался, он ведет боевые действия. Наместник Квантунской области потом вызвал его и сказал: «Как вы смели? Я думал, что вы погибли! Молодец!» Позже, когда был приказ военного министра описать военные действия с японцами, Эссен написал критически. Кстати, одно из его писем жене, где тоже содержалась критика, попало в руки императору. Когда война завершилась, Эссен написал большой труд – описание военных действий. Его доклад был заслушан на офицерском собрании, его слушали от адмиралов – до гардемаринов. Они слушали не дыша, это была правда о войне.
— Уже будучи адмиралом, ваш предок участвовал и в войне 1914 года…
— Он занимался минированием, он целым флотом выходил на охоту. В первые дни войны фон Эссен он вывел весь флот на Балтике и направил его на Швецию, на свою историческую родину. Это был период, когда Швеция колебалась: выступить на стороне немцев или соблюсти нейтралитет. Это был факт устрашения.
— Валентин Пикуль хорошо пишет об адмирале в романе «Моонзунд».
Крейсер II ранга «Новик» и эскадронный броненосец ‘Победа’ под Золотой Горой в Порт-Артуре. 1904 г.
— Он пишет хорошо, но Пикуль был своеобразным человеком. Эссен, кстати, подготовил 6 адмиралов, четверо из них по очереди командовали флотом. Один из его учеников, например, вывел весь флот из Гельсингфорса.
— Род ваш пошел из Швеции?
— Да, это было за 12 поколений от меня. Основателем рода был Томас фон Эссен. Они был не из Швеции, а из Вестфалии, но так как эта территория перешла Швеции, они там оказались. Томас был тевтонским рыцарем, они были рыцари-монахи, но потом он женился и пошел наш род.
— Вам приходилось бывать в Вестфалии?
— К сожалению, нет.
— Как ваша семья попала в Грузию?
— Мой дед после окончания училища правоведения в Санкт-Петербурге немного работал в суде, но чтобы сделать карьеру, надо было ехать в провинцию, он был товарищем прокурора в Кутаиси. И там, как я понимаю, пресекались его пути и пути Иосифа Джугашвили. Думаю, что это правда, потому что через много лет мой дед оказался в списке 100 человек от Грузии, которых решено было расстрелять. И против его фамилии расписались и Жданов, и Молотов. Были такие списки во всех союзных республиках.
— Как же уцелели остальные члены вашей семьи?
— Это для нас загадка. Наверное, сыграло роль то, что мы жили в Грузии, там все-таки репрессии были как-то помягче. Там были сильны человеческие связи. Хотя когда деда арестовали, отцу пришлось уйти с работы. А деда сразу же расстреляли.
«Революция – это беспредел»
— Как так случилось, что вы вдруг решили перебраться в Казань?
Николай фон Эссен с супругой Марией Михайловной. 1913 — 1914 гг.
— Когда про меня говорят швед, немец, это неверно. Мой дед был православным, русским по духу. Я тоже русский уже. Хотя приставка «фон» в семье сохранялась. Во время войны 1914 года многие от нее избавлялись и даже фамилии меняли. Я, конечно, мог бы прожить в Грузии, потому что говорю по-грузински, я знал людей, но как бы там жили мои дети? Мой дед, кстати, тоже собирался уезжать. В национальных республиках надо ассимилироваться или уезжать.
— Вы оставили в Тбилиси квартиру?
— Там оставались моя мать и сестра, они там жили еще некоторое время. А я в 1993 году переехал в Казань, в Грузии в это время президентом был Звиад Гамсахурдиа. В Казань поехали, потому что это родина моей жены, здесь жили мои тесть и теща. Когда читаешь какие-то исторические материалы о революции, все они написаны под каким-то углом. Но когда сам прочувствуешь революцию, как это было в Грузии… Революция – это беспредел. Это страшно. Поэтому я должен был уехать. У меня было два пути: используя фамилию фон Эссен, уехать в Вестфалию, которую в XIV веке покинули мои предки, или остаться русским и переехать в Россию.
— Приставка «фон» у вас сохранилась?
— У меня в паспорте ее нет, но она есть у сына, Николая, с этим были связаны канцелярские проблемы. Ему даже пришлось подавать в суд. Нужно было собрать много бумаг, и даже в Грузии их собирали. К счастью, там в это время жила моя сестра. Николай восстановил нашу фамилию ради потомков. Я не стал это делать, потому что пришлось бы менять много документов.
— Вы приехали и сразу же стали создавать в Казани дворянское собрание?
— Нет, я стал создавать условия для жизни семьи. Но в 1996 году потомки казанских дворян начали создавать дворянское собрание и через Москву вышли на меня. Сын знаменитого артиста Юрия Катина-Ярцева занимался Николаем Карловичем фон Эссеном — знаменитым историком, он был полковником Семеновского полка. Катин-Ярцев заинтересовался потомками полковника, нашел меня. Я в это время еще жил в Тбилиси. Он-то и рассказал про меня казанцам.
— В начале 90-х годов по всей стране, включая Москву, начали организовывать дворянские собрания.
— Да, мы в Тбилиси об этом знали. Моя мама этим интересовалась. Но мы не верили тогда, что это возможно. Но мне всегда казалось, что правильнее было бы называться потомками дворян, потому что дворянство передается по мужской линии. В этом смысле у нас в дворянском собрании, мне кажется, все устроено разумно, мы можем привлечь многих людей, не только тех, у кого дворянство передано по мужской линии.
— Для того, чтобы вступить, нужно пройти геральдическую комиссию?
— Да. Мы помогаем, подсказываем, в каких архивах можно найти документы. Не все так просто. Например, как-то ко мне обратились потомки польских дворян. Посоветовался в Москве и мне сказали, что не все польские дворяне стали российские дворянами. Но я дал им направление поиска, возможно, нужные бумаги и обнаружат. Сейчас многие архивы переведены в электронный вариант, это удобно. В Казани сильные историки, они одни из первых в стране начали поднимать дворянскую тему. Хотя многие архивы в Казани были уничтожены – пожары, революция. Церковные архивы тоже уничтожены. Но дворянский архив уцелел процентов на 70. Выпущена книга «Казанское дворянское собрание», где расписаны все фамилии. Это тоже помогает.
«Все документы мы жестко проверяем»
— Бывают случаи, когда из Москвы, из геральдической комиссии, возвращаются документы?
— Практически нет, мы очень жестко их проверяем. Бывают случаи, когда мы предлагаем людям участвовать вместе с нами в работе, представляем к награде, и если Великая Княгиня дает орден, это право на личное дворянство.
— Для чего люди сейчас вступают в дворянское собрание?
— С точки зрения выгоды, это ничего не дает. Создать положительный образ в глазах людей – этого тоже нет, иногда даже наоборот, могут посмеяться, наверное, это смешно, когда человек что-то бесплатно делает. Но моя цель была иная – восстановление исторической справедливости. Я понимал, что воссоздать дворянское собрание, каким оно было до 1917 года, это невозможно. Но привлечь людей к изучению своего рода, возродить этикет – это все возможно. Вы же видите, что сейчас происходит – деньги определяют все, власть покупается и продается. Дворянский дух – это дух чести. Это культ свободы духа. Если мы сможем привить это нашим детям, это будет только на пользу родине. Мы должны создавать лидеров. Они идут не в политику, они ни на что не влияют, но они дают пример.
— А как строятся отношения с центром и Российским дворянским собранием? Там ведь не все благополучно – предводители меняются. Начинал все князь Андрей Голицын, но ему пришлось уйти.
 — Ситуация такова, что все мы люди, хотя и потомки дворян. Власть меняет человека, слаб человек. Власть проверяет, раскрывает положительные и отрицательные качества. Был князь Голицын, он получил большой аванс от властей, государство выделило на Знаменке под дворянское собрание огромный особняк. Помещение было упущено. Пушкинский музей отвоевал, возможно, это было справедливо, но взамен он мог бы что-то получить.
— Ситуация такова, что все мы люди, хотя и потомки дворян. Власть меняет человека, слаб человек. Власть проверяет, раскрывает положительные и отрицательные качества. Был князь Голицын, он получил большой аванс от властей, государство выделило на Знаменке под дворянское собрание огромный особняк. Помещение было упущено. Пушкинский музей отвоевал, возможно, это было справедливо, но взамен он мог бы что-то получить.
— Здание казанского дворянского собрания уцелело, там сейчас ратуша. Не пытались попросить там какую-нибудь комнату?
— Возможно, я всю свою жизнь неправильно поступаю, но мне не хотелось бы быть просителем. Мне хочется, чтобы дела нашего сообщества дворян, куда входят уважаемые издревле в Казани фамилии Алябьевы, Радзиевские, Костырко-Стоцкие, Любарские, Хованские и другие, действия этих людей должно быть оценено.
— То есть вы хотите, как у Булгакова, «сами придут и все отдадут сами»?
— Не так, я просто хочу, чтобы власти поняли, что нас надо поддерживать, мы можем принести и приносим пользу. Я скажу о себе. Моя первая обязанность как главы семьи – сделать моей семье достойный жизненный уровень. Но у меня есть еще и общественная нагрузка – дворянское собрание, и я там делаю все, что от меня зависит. Мы дружим с обществом мурз, с краеведами, нас объединяет любовь к истории, к своей родине. Я уважаю краеведов, которые готовы сражаться на каждый исторический угол.
— Почему в татарстанском дворянском собрании не платят членские взносы?
— Это мое ноу-хау. Деньги обязывают. Но, наверное, с будущего года введем взносы. Мы сейчас просто по необходимости собираем деньги на какие-то акции. Когда я работал на двух работах, я делал так: одна зарплата для дома, вторая – на общественные дела. Хотел как-то у президента помощь попросить для наших членов, даже письмо подготовил, но потом стыдно стало просить, так и не отправил. Исторически так всегда было, что предводитель дворянства свои деньги вкладывал.
«Теоретически монархию можно реставрировать»
— Российское дворянское собрание признает Марию Владимировну. В мире Кирилловичей не очень жалуют, не все Романовы ее признают. Как вы можете это прокомментировать?
 — Кирилл Владимирович был реальным родственником императора. У него был вполне официальный статус. Этому никто не противился. Разбираться, кто сейчас ближе по крови, наверное, не стоит. Каждый должен выбрать определенную линию, Российское дворянское собрание выбрало Владимира Кирилловича, потом это перешло к его дочери. Сделали ставку на вполне конкретных людей. Метаться, искать, создавать – зачем? Мария Владимировна с точки зрения политической – нейтральный человек, она не стремится к реставрации монархии, она полагает, что должно пройти время.
— Кирилл Владимирович был реальным родственником императора. У него был вполне официальный статус. Этому никто не противился. Разбираться, кто сейчас ближе по крови, наверное, не стоит. Каждый должен выбрать определенную линию, Российское дворянское собрание выбрало Владимира Кирилловича, потом это перешло к его дочери. Сделали ставку на вполне конкретных людей. Метаться, искать, создавать – зачем? Мария Владимировна с точки зрения политической – нейтральный человек, она не стремится к реставрации монархии, она полагает, что должно пройти время.
— То есть вы полагаете, что монархия может быть реставрирована?
— Теоретически, может быть. У нас есть президент, а в Англии – королева. Она символ страны. А испанский король? Он, кстати, сумел повлиять на внутренний климат в Испании. Король – это символ нации.
 — Как вы полагаете, разумным ли было бы принять закон о реституции?
— Как вы полагаете, разумным ли было бы принять закон о реституции?
— Сложный вопрос, я не хотел бы противоречить Марии Владимировне. Она полагает, что это несвоевременно. Прошло почти 100 лет. Но с другой стороны… Наверное, могла бы быть какая-то компенсация людям, все потерявшим во время революции. Сейчас дают возможность взять ранее принадлежавшие дома и усадьбы не в собственность, а в аренду с условием их реставрации.
— Я знаю один такой случай – дом Пороховщикова на Арбате. Он был передан в аренду покойному ныне актеру Александру Пороховщикову. Но там другая ситуация – Пороховщиков был родственником патриарха Пимена.
— Сейчас такая возможность есть у многих – берите родовую усадьбу и восстанавливаете. Но вы же понимаете, каких денег это стоит. Реально ли это? Если мне такое предложат, я точно не смогу. Наши дворяне предлагали мне взять какой-нибудь разрушенный особняк для дворянского собрания и восстановить, но я на это не пошел, у нас нет финансовой базы. Дом Фукса восстановили, это прекрасно, но там же есть инвестор. То другая ситуация. Когда в Тбилиси в нашу семью пришли чекисты, чтобы все реквизировать, они пригнали три машины. Но вещей набрали только на две машины и они были очень разочарованы. Они очень разозлились. А моя бабушка, которая коллекционировала ковры, ответила: «А вы не спросили меня, на что мы эти годы жили». Она эти иранские ковры продавала и на это семья жила. Что мне теперь, этот список найти? Для меня эти ковры не имеют ценности, для меня ценна рукопись книги Николая Оттовича, которую он прислал моему деду.
 — В ноябре в Казань приезжает Великая Княгиня Мария Владимировна. Цель ее визита?
— В ноябре в Казань приезжает Великая Княгиня Мария Владимировна. Цель ее визита?
— Наверное, поднятие нашего духа. Она приезжает по приглашению правительства Татарстана.
Справка
Алексей фон Эссен родился в Тбилиси в 1944 году. Окончил политехнический институт по специальности инженер-механик. Имеет около 20 научных трудов по безопасности дорожного движения, опубликованные на русском и грузинском языках. В 1993 году переехал в Казань. Сейчас работает преподавателем учебно-производственного комбината. Женат, двое детей и два внука.
Татарстанское дворянское собрание было организовано в 1997 году, зарегистрировано как общественная организация, в нем состоят 20 родов, количество членов — 60. За эти годы организовано 12 выставок, читались лекции, члены дворянского собрания участвовали в конференциях и благотворительных акциях. Проводятся соревнования судомоделистов на приз Н.О. фон Эссена. Подготовлен родословный справочник членов собрания. Тесно сотрудничает с потомками мурз.
Татьяна Мамаева
фото: Сергей Елагин
видео: Максим Тимофеев
www.business-gazeta.ru/article/88849/
06.10.2013
Навигация по записям
Общественная палата выделила «самые полезные» НКО
«Лекции по этикету» от барона фон Эссена
http://www.nd-rt.ru/2015/12/05/aleksej-fon-essen-dvoryanstvom-nelzya-kichitsya/
|
Метки: эссен |
Штер, Матвей Петрович |

Штер, Матвей Петрович
Из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Штер (значения).
| Матвей Петрович Штер | |||||||
 |
|||||||
|
|||||||
| Предшественник | Сонцов, Александр Борисович | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Преемник | Бравин, Михаил Иванович | ||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| Рождение | 1 (12) февраля 1776 | ||||||
| Смерть | 25 января (6 февраля) 1847 Санкт-Петербург, Россия |
||||||
| Награды |
|
||||||
Матвей Петрович Штер (1776—1847) — российский государственный и общественный деятель, сенатор. Действительный тайный советник (1838).
Содержание
Биография
Основатель дворянского рода Штер.
С 1808 года статский советник, председатель Комиссии по земельным сборам на Крымском полуострове. В 1810 году произведён в действительные статские советники. С 1811 года Воронежский губернатор.
С 1816 года директор Департамента внутренней торговли Министерства финансов Российской империи. С 1820 года директор Департамента полиции. В 1823 году произведён в тайные советники с назначением заведующим Статистическим отделом при Министерстве внутренних дел Российской империи. С 1828 года сенатор Правительствующего Сената
С 1838 года действительный тайный советник и почётный опекун Опекунского совета Учреждений императрицы Марии Фёдоровны.
Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками пожалованные ему в 1840 году.
Труды
- «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год» Сост. из офиц. сведений под руководством дир. Деп. полиции исполнительной Штера. - Санкт-Петербург : тип. Ивана Глазунова, 1829 (обл. 1830). — 95 с
- «Записки почетного опекуна, действительного тайного советника Штера, о московских училищах Ордена св. Екатерины и Александровском, об Александринском сиротском институте и о Московской Мариинской больнице для бедных» / Москва : Унив. тип., 1838 г. — 40 с.
Примечания
- ↑ Штер Матвей Петрович // Высшие чины Российской Империи (22.10.1721—2.03.1917) / сост. Е. Л. Потёмкин. — М.: Б. и., 2017. — Т. 2. — С. 519.
- ↑ РГБ 1
- ↑ РГБ 2
Литература
- Штер Матвей Петрович // Высшие чины Российской Империи (22.10.1721—2.03.1917) / сост. Е. Л. Потёмкин. — М.: Б. и., 2017. — Т. 2. — С. 519.
- Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7
- Лысенко Л. М. «Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века)». Издание 2-е, исправленное и дополненное. Издательство МПГУ. — Москва, 2001 г. — С. 358
- Курков К. Н. Члены Правительствующего Сената—высшего законосовещательного органа Российской империи: 22 февраля 1711—3 марта 1917 / Готика, 2005 г. — 132 с.
|
Метки: штер |
«Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи всё более и более сгущались...» |
[]
«Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи всё более и более сгущались...»
Костюмированный бал, состоявшийся во время Масленицы 1903 года в Зимнем дворце, был грандиозен. А его изюминкой стала идея императрицы Александры Фёдоровны – запечатлеть для потомков участников, облачённых в исторические костюмы XVII века. Причём силами лучших фотографов Санкт-Петербурга. На основе дворцовой съёмки Экспедиция заготовления государственных бумаг издала роскошный «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце», состоявший из десяти увражей (папок) большого формата. 21 гелиогравюра и 174 фототипии.
В 1913 году, накануне празднования 300-летия Дома Романовых, появится колода игральных карт «Русский стиль». А на них – участники того самого бала. Эта карточная колода переживёт всех участников костюмированного праздника в Зимнем, вынесет смену политических режимов и благополучно доживёт до наших дней.

Вспоминает баронесса София Карловна Буксгевден, фрейлина императрицы Александры Фёдоровны:
«Императрица проявила особенный интерес ко всем приготовлениям к этому балу; она сама, с помощью директора музея Эрмитажа Ивана Александровича ВСЕВОЛОЖСКОГО, представившего ей необходимую историческую информацию, оформила свой костюм и костюм императора. ...Мужчины и женщины из высшего общества соперничали друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально для этого случая извлекли великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры нарядились в мундиры того времени, а придворные оделись в платья, принятые при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты подобно своим прародительницам, а их наряды создавались лучшими современными мастерами. Очаровательнее всех смотрелась на этом балу великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Все танцевали старинные русские танцы, заранее тщательно разученные, – зрелище было поистине завораживающим» (1).
Не склонный к сантиментам император Николай II не скрывал радостных эмоций по поводу бала, растянувшегося на три вечера:
«11-го февраля. Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми. После ужина был небольшой котильон, во время которого 12 пар танцовали русскую пляску. Все вышло весьма удачно и кончилось в 2 1/2.
13-го февраля. Четверг. В 9 1/2 начался бал в костюмах времён Алексея Михайловича в Концертной зале – повторение предыдущего для Мама [вдовствующая императрица Мария Фёдоровна]. Миша [великий князь Михаил Александрович, младший брат царя] тоже приехал. Бал прошёл весело, красиво и дружно. Русская пляска была очень удачна. Ужинали в Николаевской зале.
14-го февраля. Пятница. В 10 (2) поехали на бал к графу А.Д. Шереметеву [Александр Дмитриевич, шталмейстер Двора Е.И.В., меценат и музыкант-любитель, начальник Придворной певческой капеллы]. Половина общества была "наша" – в исторических костюмах. Было повторение вчерашней русской пляски» (3).
Конечно, спустя годы многое стало восприниматься иначе. Великий князь Александр Михайлович, удачно избежав гибели в Смуту и оказавшись в эмиграции, через десятилетия представит веселье в Зимнем роковым знамением: «Новая, враждебная Россия смотрела чрез громадные окна дворца. Я грустно улыбнулся, когда прочёл приписку в тексте приглашения, согласно которому все гости должны были быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Никки хотел вернуться к славному прошлому своего рода. ... Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи всё более и более сгущались на Дальнем Востоке» (4). Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Но в 1903 году двор веселится, не задумываясь о будущем.

В колоде «Русский стиль» у некоторых карточных фигур были реальные и вполне узнаваемые прототипы. Создатель русской военной авиации великий князь Александр Михайлович был женат на сестре царя Ксении Александровне – её фотография в костюме боярыни XVII века послужила основой для создания червовой дамы.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, старшая сестра императрицы и супруга великого князя Сергея Александровича, облачившаяся в княжеский наряд XVII века, – это не кто иная, как дама треф.

В пиковой даме проявилось сходство с княгиней Зинаидой Николаевной Юсуповой графиней Сумароковой-Эльстон, представшей на балу в костюме боярыни.

Бубновый валет – великий князь Андрей Владимирович (сокольничий в праздничном одеянии).

Трефовый валет – великий князь Михаил Александрович, младший брат царя, в полевом наряде царевича XVII века.

Прототипом бубновой дамы стала графиня Александра Дмитриевна Толстая, фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, в костюме боярышни. Впрочем, на эту карту могут претендовать и княгиня Вера Максимилиановна Кудашева, урожденная графиня Нирод, и София Петровна Дурново, урожденная светлейшая княжна Волконская. Очевидно, что в данном случае неизвестный автор эскиза не стремился добиться портретного сходства, а создавал выразительный обобщенный образ. И ему это удалось.

Неординарна ситуация и с червовым королём. Его костюм – это маскарадное одеяние Николая II. «На императоре была одежда, в точности воспроизводившая ту, которую носил в своё время царь Алексей, – "малиновая и белая с золотой вышивкой", писала императрица» (5). Однако король лишь отдалённо напоминает царя Николая: придать большее портретное сходство с императором было бы непозволительной дерзостью и оскорблением верховной власти.

Зато пиковый король вне всякого сомнения похож на царя Ивана Грозного – достаточно взглянуть на известную картину художника Александра Дмитриевича Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею». Кстати, на этой исторической картине можно обнаружить щиты, окружённые древнерусским оружием и доспехами, – точь в точь, как на тузах в нашей колоде.

Прообразом трефового короля стал адъютант великого князя, главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа Владимира Александровича есаул граф Михаил Николаевич Граббе (6) в одежде жильца 1647 года.

Оттолкнувшись от образа действительного статского советника, в должности шталмейстера высочайшего Двора Николая Николаевича Гартунга (фон Гартонга) и его костюма боярина XVII века, неизвестный художник нарисовал бубнового короля.

А пиковый валет – это штабс-ротмистр, командир эскадрона Кавалергардского полка, адъютант великого князя Николая Михайловича Александр Николаевич Безак в костюме боярина XVII века.

Одним из прототипов червового валета послужил адъютант великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича, лейтенант Николай Александрович Волков (7) в костюме боярина XVII века. А ещё – подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Николай Петрович Штер в наряде начального человека из жильцов времён царя Алексея Михайловича и корнет лейб-гвардии Конного полка Алексей Романович Тиздель в наряде сокольничего...

Костюмированный бал на масленицу 1903 года стал последним радостным событием времён царствования императора Николая II. Следом непрерывной чередой пошли лишь горести и печали: неудачная война с Японией, Кровавое воскресенье, Смута... А карты «Русский стиль» остались красивым напоминанием о самом зрелищном бале Российской империи.

Эскизы для карт «Русский стиль» были разработаны на немецкой фабрике карточных игр фирмы Дондорф (Франкфурт-на-Майне) в 1911 году. В 1913 году карты были отпечатаны на Императорской Карточной фабрике (до 1860 года – Александровская мануфактура).
Фабрика с 1819 года осуществляла монопольный выпуск игральных карт в Российской империи: ввоз карт из-за границы был запрещён, чем устранялась всякая конкуренция. Самовольная выделка карт частными лицами преследовалась по закону и влекла за собою конфискацию орудий производства и выделанных карт и денежный штраф от 100 до 500 рублей (ст. 1351 Уложения о наказаниях).
Если в 1901 году фабрика выпустила 5460 тысяч колод, то в 1912 – свыше 12 миллионов. Дюжина колод обходилась фабрике примерно в 98 копеек, а продавалась, в зависимости от сорта, по цене от 5 рублей 50 копеек до 12 рублей.
После революции карточная фабрика была закрыта на несколько лет. В 1923 году фабрика снова стала выпускать карты по дореволюционным эскизам.
На картах колоды «Русский стиль» первого выпуска было изображение пеликана, кормящего детей мясом своего сердца. Этот аллегорический знак сопровождался надписью: «Себя не жалея питает птенцов». Подразумевалось, что правительство вовсе не думает о собственной выгоде, а печётся исключительно о благе детей-сирот: доход, получаемый от продажи карт, правительство обращало в доход Воспитательного дома и его несовершеннолетних питомцев – сирот и подкидышей. Азартные карточные игроки были убеждены в том, что они своей пагубной страстью помогают детям. В рассказе Николая Семеновича Лескова «Интересные мужчины» один из героев говорит: «... а сами – чтобы не заскучать – сели под вечерний звон «резаться», или, как тогда говорилось, «трудиться для польз Императорского Воспитательного дома».
Примечания:
1. Цит. по: Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 776.
2. Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 711, 712, 713.
3. Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний. Глава XIII. Гроза надвигается // http://militera.lib.ru/memo/russian/a-m/13.html.
4. Цит. по: Дневники императора Николая II (1894-1918). Т. I (1894-1904). М.: РОССПЭН, 2011. С. 776.
5. С 1911 г. – командир лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, с которым вступил в Первую мировую войну. Был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Позднее командовал 3-й бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1915), 4-й Донской казачьей дивизией (1915-1917). В мае 1916 года был назначен наказным атаманом области Войска Донского. Донской атаман в эмиграции. Председатель Союза Георгиевских кавалеров.
6. Командир императорской яхты «Нева» (1909-1910) и канонерской лодки «Хивинец» (1910-1911). В 1912-1913 гг. – флаг-капитан штаба начальника бригады линейных кораблей эскадры Балтийского моря. В июле 1913 г. назначен военно-морским агентом в Англии и одновременно – членом русского правительственного комитета в Лондоне. В 1916 г. получил чин контр-адмирала и одновременно зачислен в Свиту Его Императорского Величества. После революции оставался в Лондоне морским агентом белых русских правительств.
7. Гарин Л.Ф. Художник и карты // Панорама искусств. Вып. 11: [Сб. статей и публикаций]. М.: Советский художник, 1988. С. 252-265 // http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=986.
С. Экштут «С короля – на бал» («Родина» №716 [7], 2016 г.)
Метки: Александр Михайлович (внук Николая I), Александра Фёдоровна (жена Николая II), Алексей Михайлович, Андрей Владимирович (внук Александра II), Бал, Германия, Елизавета Фёдоровна, Зимний дворец, Иван IV, История костюма/причёски, Карты игральные, Костюмированный бал 1903 года, ЛИТОВЧЕНКО Александр Дмитриевич, Лесков Н.С., Литература/цитаты, Мария Фёдоровна (жена Александра III), Маскарад, Масленица, Михаил (сын Александра III), Николай II Александрович, Русский народный головной убор, Фотография XIX-нач.XX века, Юсуповы
|
Метки: дворянские развлечения |
Фредерикс Владимир Борисович |
Фредерикс Владимир Борисович
Материал из Офицеры русской императорской армии
барон Фредерикс Владимир Борисович
- Даты жизни: 16.11.1838-05.02.1927
- Биография:
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из дворян Петербургской губернии. Из шведского рода, состоявшего с 1-й половины XVIII в. на русской службе и получившего в 1773 баронский титул. C 1913 граф. Общее образование получил дома, военное - на службе. 16.03.1856 поступил на службу в 4-й дивизион Л.-Гв. Конного полка унтер-офицером на правах вольноопределяющегося. В том же году произведен в юнкеры. Корнет (пр. 1858; ст. 25.03.1858; за отличие). Поручик (ст. 30.08.1860). Штабс-Ротмистр (ст. 17.04.1863). Ротмистр (ст. 30.08.1866). Командир 4-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка (1867-69; 1 г. 8 м.). Полковник (пр. 1869; ст. 30.08.1869). Флигель-адъютант Его В-ва (1871). Командир дивизиона того же полка (5 м.). Командир лейб-гвардии Конного полка (27.07.1875-14.07.1883) и 1-й бригады 1-й гв. кав. дивизии (19.06.1881-16.03.1891). Генерал-майор (пр. 1879; ст. 30.08.1880; за отличие) с зачислением в Свиту Его В-ва. Генерал-лейтенант (пр. 1891; ст. 30.08.1891; за отличие). Шталмейстер и управляющий придворной конюшенной частью (16.03.1891-04.12.1893). Помощник министра (04.12.1893-06.05.1897) и министр (06.05.1897-1917) императорского двора и уделов. Генерал-адьютант (1896). Канцлер Российских императорских и царских орденов (06.05.1897-1917). Ген. от кавалерии (пр. 01.01.1901; ст. 06.12.1900; за отличие). Командующий Императорской главной квартирой (14.06.1898-1917). Член Государственного Совета (с 04.11.1905). С 28.03.1917 в отставке. После Октябрьской революции жил в Петрограде. В 1924 эмигрировал в Финляндию, где и скончался.
- Чины:
на 1 января 1909г. - Императорская главная квартира, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, командующий
он же - Свита Его Императорского Величества, генерал от кавалерии, генерал-адъютант свиты ЕИВ
- Награды:
Св. Станислава 2-й ст. (1868)
Св. Владимира 4-й ст. (1873)
Св. Анны 2-й ст. (1876)
Св. Владимира 3-й ст. (1880)
Св. Станислава 1-й ст. (1883)
Св. Анны 1-й ст. (1886)
Св. Владимира 2-й ст. (1889)
Белого Орла (1895)
Св. Александра Невского (1899
бриллиантовые знаки - 1903)
Св. Владимира 1-й ст. (1906)
Св. Андрея Первозванного (ВП 25.03.1908)
Украшенные бриллиантами соединенные портреты Императоров Александра II, Александра III и Николая II для ношения на груди на Андреевской ленте (ВП 10.04.1916)
украшенный бриллиантами портрет Шаха Персидского для ношения на груди (1900)
Высочайшие рескрипты: 25.03.1908 (при ордене Св. Андрея Первозванного), 22.02.1913 (о возведении в графское Российской Империи достоинство), 10.08.1913 (с изъявлением искренней Его Имп. Вел-ва благодарности).Знаки отличия беспорочной службы за 40 лет (1903) и 50 лет (1911); знаки: Коронационный, Красного Креста, в пам. 300-летия Царств. Дома Романовых, 100-летия Императорского женского патриотического общества, 200-летия г. Царское Село, за землеустройство в Алтайском крае
Медали в пам. войны 1853-56; в пам. Коронаций 1883 и 1896; в пам. царствования Имп. Александра III; Красного Креста; в пам. войны с Японией 1904-05, 200-летия Полтавской победы, 100-летия Отечественной войны 1812, 300-летия Царств. Дома Романовых, 200-летия Гангутской победы, за мобилизацию 1914
Кавалер более чем 50-ти орденов 29-ти иностранных государств.
- Дополнительная информация:
-Поиск ФИО по «Картотеке Бюро по учету потерь на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 гг.» в РГВИА
-Ссылки на данную персону с других страниц сайта "Офицеры РИА"
- Источники:
(информация с сайта www.grwar.ru)
- Брусилов А.А. Мои воспоминания. М. 2001
- Список генералам по старшинству. Составлен по 15.04.1914. Петроград, 1914
- Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916
- ВП 1914-1916; Список генерал-адъютантам, генерал-майорам и контр-адмиралам Свиты Его Вел-ва и флигель-адъютантам по старшинству. Составлен по 20.03.1916. Петроград, 1916; Придворный календарь на 1917. Петроград, 1917. Информацию предоставил Вохмянин Валерий Константинович (Харьков)
-
Николай Второй, министр двора граф В.Б.Фредерикс и вел. князь Николай Николаевич. Ставка. Барановичи. Сентябрь 1914 г.
-
Совет министров, Царская ставка. Станция Барановичи, 14 июня 1915 г.
-
Свита Его Императорского Величества, Царское Село, 1916 год.
Источник — «http://ria1914.info/index.php?title=Фредерикс_Владимир_Борисович&oldid=405512»
|
Метки: фредерикс |
Красота в изгнании: о русских красавицах изменивших мировую моду |
[]
Красота в изгнании: о русских красавицах изменивших мировую моду
October 22nd, 2011
Оригинал взят у 

Александр Васильев. Красота в изгнании: королевы подиума
Книга повествует о том времени, когда русские художники и артисты оказывали огромное воздействие на развитие мировой моды. Благодаря "Русским сезонам" Сергея Дягилева и творческой деятельности выходцев из России, Европа познакомилась с культурой великой страны, в моду вошли "русский стиль" в искусстве и русский тип красоты. Перед читателем предстанут "русские" Константинополь, Берлин, Харбин 1920-1930-х годов. И, конечно, судьбы и несравненные лица русских светских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами в европейских домах моды.
Хорошо было бы прочитать, тема эта интересная и заслуживающая внимания.
Русские аристократки-эмигрантки не придумали модельный бизнес. Он и до этого существовал в Англии. Но именно они стали эталоном красоты, изящества и вкуса. Они придали модельному бизнесу шарм и гламур. Ими восхищалась Франция. Вот только об этом как-то особо не любят вспоминать русофобы, которым так и хочется, чтобы образ русской женщины продолжал ассоциироваться с толстыми крестьянками и совковыми безвкусно одетыми колхозницами. Одного только примера русских аристократок-топ-моделей достаточно, чтобы развеять в пух и прах этот нелепый миф.
Нина Твердая, манекенщица дома "Арданс" и одна из финалисток конкурса "Мисс Россия" в 1930 г. в Париже, в черном платье из джерси
Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным. Первые школы моделей возникли в Англии и лишь потом - во Франции. При наборе в школу предпочтение отдавали девушкам-танцовщицам, умевшим красиво двигаться. В 30-е годы XX века профессия манекенщицы становится престижной, а лучшие модели - почти такими же известными, как кинозвезды. В то время в каждом Доме моды работали от трех до восьми постоянных манекенщиц. Во Франции особенно ценились русские эмигрантки-аристократки: они обладали прекрасной осанкой и умели с достоинством ходить. Ими восхищался весь Париж. Русские манекенщицы стали эталоном изящества и вкуса. Самой красивой женщиной Парижа и лучшей фотомоделью считалась Натали Лелонг, урождённая княжна Палей, дочь Великого Князя Павла Александровича. Ее портреты были главным украшением журнала Vogue.
США. 1925 г. Обложка журнала “Вог” с рекламой “оптического платья” от Сони Делоне
Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день.
Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.
До этого...
...пока в СССР мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления.
Стамбул, середина 30-х годов. Реклама русского шляпного ателье "Мод Ольга" из турецкого журнала "Мода"
Уже после 1920-го г., на первой остановке русского беженства, в Константинополе, стали открываться профессиональные и полупрофессиональные ателье русской моды. Сохранились объявления того времени об открытии меховых ателье московских и петербургских меховщиков, шляпные мастерские и др. Открывались также т.н. "магазины взаимопомощи", т.е. комиссионные магазины.
Появление русских женщин на Востоке произвело фурор, поскольку мусульманский Восток того времени прятал женщину под паранджой и чадрой. Русские женщины подарили Оттоманской империи моду на платья, короткие стрижки и открытое лицо. В эту же пору впервые распространилась мода на загар.
Вена, 1924 г. Русские танцовщики-эмигранты в "Русской пляске" в костюмах работы Г. Пожедоева
Загар как таковой, разумеется, не был русским изобретением. Однако именно благодаря нему появилась такая популярнейшая до сих пор во всем мире косметическая процедура, как пилинг. Московский косметолог Анна Пегова, прибыв в Константинополь, обгорела на солнце настолько сильно, что кожа сходила с ее лица пластами. Увидев, что это дает заметный омолаживающий эффект, она запатентовала способ пилинга и до сих пор пилинг является патентом Анны Пеговой.
Эмигранты первой волны, для того чтобы заинтересовать общество своими изделиями, стали проводить выставки кустарного творчества. Женщины-эмигрантки делали всевозможные изделия - вышитые скатерти, рубахи, деревянные бусы, портсигары и многое другое, и продавали на таких выставках. Поскольку это были изделия высокого качества и отмеченные тонким вкусом, люди в Европе стали интересоваться русским стилем и изделиями русской работы.
Русские дамы, поселившиеся за границей, выбрали для себя сарафан, душегрею и кокошник в качестве парадной одежды для праздников и выходов, что, несомненно, также способствовало популяризации русского стиля.
Париж, 1922 г. Зимние пальто в русском стиле домов "Уорт", "Шанель", "Женни". Рисунок из французского журнала "Искусство и мода"
Русский стиль в одежде выражался, в первую очередь, в косой застежке, а также в вышивках и отделках, имитировавших русский народный орнамент. Вообще русский костюм и, в особенности, головной убор в виде кокошника, вызывал большой интерес. 1920-е гг. стали триумфом головных уборов на основе кокошника. После 1920-го г. в моду входят головной убор ярко-красного цвета, напоминающий по форме кокошник; трикотаж с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента. Еще одной новинкой 1920-х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями по шелку в стиле русского лубка. Вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался - "боярский воротник". В верхней одежде русский стиль проявился в популярности длинных объемных пальто, обильно декорированных мехом, вышивкой и т.п.
На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды "Поль Каре" открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.
Париж, 1925 г. "Прелестные вышивки Китмира". Рисунок из журнала "Жардан де мод"
Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом "Итеб" - сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л'Ореаль. Князь Феликс и Княгиня Ирина Юсуповы открыли в Париже модный дом "Ирфе". Дом русской вышивки "Китмир", славившийся высочайшим качеством работы, был основан Великой Княгиней Мария Павловной Младшей, двоюродной сестрой Российского Императора Николая II. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме "Китмир". Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти.
Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.
Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 - 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды - в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов.
Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже Британская Королева Мария выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема "Царевна-лебедь" была очень актуальной.
В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие - в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков.
1926 г. Модели дома "Итеб". Рисунки из журнала "Пари-элегант"
Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием "бюстодержатель", но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда носили корсеты, и он попросту не был нужен. Впервые лифчики реально используются в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке "Шехерезады".
Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура "ле гарсон", т.е. мальчикоподобная.
1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде - пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения.
Натали Палей - руская топ-модель
Юсуповы в эмиграции
Одним из самых известных в ту пору был Дом моды «Ирфе», основанный княжеской четой самых богатых людей России князем Феликсом и княгиней Ириной Юсуповыми. Другим известным Домом моды считался «Итеб». Это название было составлено из прочитанного наоборот имени хозяйки, баронессы Бетти Гойнинген-Гюне, в первом браке баронессы Врангель.
Русские красавицы в 1920-е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами и темными волосами. Особенно заметной тогда была красота княгини Мэри Эристовой, княжны Мии Оболенской, Теи Бобриковой и графини Елизаветы Граббе. А вот мода на блондинок пришла лишь после 1929-го года, когда востребованной стала красота княжны Натали Палей, Людмилы Федосеевой, Лидии Ротванд, виконтессы Жени де Кастекс.
Топ-модель Людмила Федосеева, Париж, 1938 г.
30-е гг. Русские топ-модели успешно конкурировали с топ-моделями Третьего Рейха. Именно тогда взошла звезда Людмилы (Люд) Федосеевой, самой высокооплачиваемой фотомодели 30-х годов. Её судьба во многом типична для моделей как той поры, так и последующих времен. «Открыл» её известный в те годы фотограф Хорст, работы которого с Людмилой сначала очень не понравились владельцу «Вог» Конде Насту. Через некоторое время последний, что называется, проникся и даже собрался жениться на Федосеевой. Она продолжала пользоваться большим успехом и в годы немецкой оккупации Франции. Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, а вернувшись, осталась без работы и былой славы. Не исключено, что французы не простили ей, как и Коко Шанель, «близости» с фашистами. И в 50-е гг. бывшая звезда подиума и глянцевых журналов работала сначала клерком в одной из авиакомпаний, а затем кастеляншей в эмигрантском доме для престарелых.
Вполне возможно, впрочем, что прошлое Люды Федосеевой здесь не при чём и она попросту оказалась жертвой изменчивой моды. Вообще, издержки профессии фотомодели и манекенщицы были одинаковы что тогда, что сейчас. Главная из них – век модели, как известно, очень недолог. В наши дни многие из них начинают карьеру в 13–15 лет, а к 25 годам большинство уже выходит в тираж. В 20–30-е гг. прошлого века подобной «акселерации» не наблюдалось. Тем не менее большинство манекенщиц завершали свою карьеру в 30–35 лет. И единственным выходом для них (как и для нынешних звезд подиума) становился удачный брак.
Модель парижского журнала мод 30-х годов, эмигрантка из России.
Киноактриса Ольга Бакланова, Голливуд, 1928 г.
Балерина Ксения Триполитова, Париж, 1945 г.
Манекенщица Варвара Раппонет, Париж, 1944 г.
Певиица Людмила Лопато, Париж, 1950 г.
Актриса Вера Комиссаржевская, Санкт-Петербург, 1900 г.
Певица Анастасия Вяльцева, Санкт-Петербург, 1902 г.
Певица Мария Кузнецова, Париж, 1912 г.
Балерина Анна Павлова, Берлин, 1913 г.
Киноактриса Вера Холодная, Москва, 1916 г.
Балерина Валентина Кашуба, Париж, 1916 г.
Балерина Александра Балашова, Париж, 1921 г.
Киноактриса Ольга Безяева, Берлин, 1923 г.
Баронесса Елизавета Врангель, урожденная баронесса Гойнинген-Гюне, Париж, 1923 г.
Княгиня Ирина Юсупова, урожденная Княжна Императорской Крови, Париж, 1924 г.
Манекенщица Леди Ия Абди, урожденная Ге, Париж, 1925 г.
Киноактриса Ксения Десни, урожденая Десницкая, Берлин, 1927 г.
Манекенщица Тея Бобрикова, Париж, 1928 г.
Киноактриса Нина Ванна, урожденная Языкова, Лондон, 1929 г.
Манекенщица княгиня Мэри Эристова, урожденная княжна Шервашидзе, Париж, 1929 г.
Манекенщика княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская, урожденная графиня Граббе, Париж, 1929 г.
Киноактриса Наталья Кованько, Берлин, 1930 г.
Манекенщица княжна Мин Оболенская, в замужестве княгиня Шаховская, Париж, 1930 г.
Киноактриса Вера Малиновская, Берлин, 1931 г.
Киноактриса Анна Стен, Голливуд, 1932 г.
Манекенщица Мария Павлова, урожденная княжна Волконская, Париж, 1932 г.
Манекенщица виконтесса Женя де Кастекс, урожденная Горленко, Париж, 1934 г.
Княжна Натали Полей, Париж, 1937 г.
Анна Марли, 1937 год
Русская белоэмигрантка Дарья Иванова
Балерина Ольга Спесивцева, Париж, 1929 г.
Виконтесса Женя д'Кастэкс-Горленко, Париж, 1933 г.
Виконтесса Женя д`Кастэкс-Горленко. Париж, 1936 г.
Графиня Елизавета Граббе - княгиня Белосельская-Белозерская, Париж, 1927 г.
Екатерина Антонова, Мисс Россия 1934 г.
Екатерина Николаевна Бобрикова. Париж, 1937 г.
Ирина Бородулина, 1939 г.
Нина Поль, 1932 г.
Ариадна Гедеонова, 1936 г.
Татьяна Маслова, 1933 г.
Палей Наталья Павловна - символ «красоты в изгнании»
( 4 comments — Leave a comment )
- 1

про Анну Марли подробнее здесь
http://www.anna-marly.narod.ru/
эх..русская женщина красива целомудрием.. а они его там на западе теряли.. эх,вид у всех какой-то дешевый((((

Anna Marly
B
Bonjour, Buenos Aires (Здравствуй, Буэнос-Айрес)
C
C'est fatal (Это фатально)
Chéri, chéri (Emmène-moi au fin fond du Chili) (Милый, милый, увези меня на самый край Чили)
Courage (Мужайся!)
J
Je ne veux pas être sentimentale (Я не хочу быть сентиментальной)
L
La barque (Лодка)
La bouteille (Бутылка)
La complainte du partisan (Исповедь партизана)
La France (Франция)
La plus belle chanson (Самая прекрасная песня)
(no subject) — 
( 4 comments — Leave a comment )
- 1
Tags
writer's block акварель арт город дневниковое живопись маразмы рассказка человек я
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel
|
Метки: жизнь в эмиграции |
История сельца Бирюлёво |
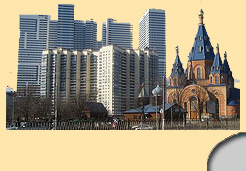 |
 |
 |
|
Главная Деревня Чертаново Сельцо Красное свх. Красный Маяк Сельцо Бирюлёво Село Покровское Деревня Аннино Красный Строитель Мосстройпуть Аэродром Серпуховская Дорога Бои в 1812 году Старопокровское кл. Курганы Вятичей Застройка Чертанова Статьи об истории История улиц История транспорта Реки и пруды Памятники Карты 18-19 веков Карты 20 века Карты транспорта Схемы и планы Аэрофотоснимки Спутниковые снимки Старые фотографии Старые видео Ссылки Форум Контакты: Помощь сайту: Сохрани:

Счётчики: |
История сельца Бирюhttp://chertanoved.msk.ru/birulevo.shtmlлёво
(карта 1964-1965 годов)
(карта 1951 года) Сельцо Бирюлёво (сельцо - это небольшая деревня при помещичьей усадьбе) располагалось на месте нынешнего Кировоградского проезда. (не путайте с рабочим посёлком Бирюлёво, возникшим в 1900-е годы около железной дороги Павелецкого направления) Существуют разные версии происхождения названия Бирюлёво, многие из которых имеют «легендарный» характер и являются по существу ложными этимологиями. - жители той территории, на которой образовалось село, занимались изготовлением игрушек, которые назывались бирюльки. Первыми документально известными владельцами деревни являлись Плещеевы. Судя по писцовой книге 1627 г., "деревня Бирилево, Расловлово тож, на речке Сухой Городенке" (так, очевидно, называлась в своих верховьях не вобравшая еще в себя притоки река Городня), находилась в поместье за Иваном Васильевичем Плещеевым, которому досталась после отца и дяди. Тогда она состояла из двора помещика, в котором жили приказчик и «деловые» люди, и одного двора бобылей. В 1646 г. при следующем владельце - Алексее Андреевиче Плещееве здесь зафиксировано уже семь крестьянских дворов и 13 человек. В 1709 г. сельцом «Бирюлево, Рослово тож, на речке Сухой Гороженке (в других документах встречаются еще названия Сухая Гребенка, Сухая Саржа. - Авт.), по левую сторону Болшие Серпуховские дороги» владели стольники Алексей Львович и Иван Никифорович Плещеевы. В собственности у каждого было по двору вотчинника, где жили их «деловые» люди. Здесь же находились: крестьянский двор с 5 душами, принадлежавший первому, и два крестьянских двора с 6 душами, находившиеся в собственности другого владельца. По данным Генерального межевания, сельцо Бирюлево, с 74 душами мужского пола, располагавшееся на правом берегу речки, принадлежало лейб-гвардии секунд-майору Петру Алексеевичу Татищеву (известному масону) и поручику Александру Алексеевичу Плещееву. В 1812 г. хозяйкой Бирюлева была княгиня Наталья Петровна Долгорукова: тогда девять ее крестьян ушли в народное ополчение. Недалеко от деревни на Серпуховской дороге находилась первая почтовая станция, отстоявшая от Москвы в 17 верстах. В середине 19 века сельцом владели князья Оболенские. Тогда в нем проживало 36 мужчин и 37 женщин. В 1853 г. часть своих владений княгиня Оболенская продала мещанке Романовой. Неподалеку от сельца, на берегу Городни, у княгини Оболенской была усадьба, состоявшая из господского дома и оранжереи. Именно к этой самой усадьбе и вела сохранившаяся до сих пор старинная липовая аллея между улицами Красного Маяка и Чертановской, поднимающаяся в гору параллельно течению Городни. От усадьбы ничего не осталось, кроме этой аллеи. Эту аллею можно посмотреть на фотографиях ниже. По сведениям старожилов - господский дом ещё в 1960-х годах стоял чуть севернее пруда. В 19 столетии в окрестности Бирюлёва специально приезжали зимой любители катанья на тройках. По данным 1884 г., в сельце Бирюлево Зюзинской волости имелись одна летняя дача владельца и 18 дворов, в которых проживало 108 человек. На почтовой станции было два трактира и 5 дворов с 30 жителями. В 1899 г. в сельце было 25 хозяйств и 149 человек. В их владении находилось 125 гектаров земли. Различными промыслами было занято 22 человека из 10 хозяйств. Селение характеризовалось как садоводческое, с практически одинаковым количеством посадок картофеля и посевов зерновых культур, сохраняющее трехполье, имеющее хорошие покосы, а также содержащее в своей земле большие запасы глины, использовавшиеся для кирпичного производства. На рубеже 19-20 веков была построена Павелецкая железная дорога, и на ней примерно в четырех верстах от деревни была устроена станция Бирюлево, получившая название от сельца. При ней в 1900 г. образовался поселок. Именно этот посёлок и стал нынешним Бирюлёвым-Западным. Что касается сельца Бирюлева, в 1926 г. ее население составляло 241 человек, живших в 43 хозяйствах, у которых в землепользовании имелось 195 гектаров. Позднее здесь возникает колхоз «Новая жизнь». Деревня снесена в 1969-1970-х годах. А т.н. "Бирюлёвский Хутор" - деревенский район около Варшавского шоссе простоял до 1978-1979-х годов. АртефактыБирюлёвская липовая аллея. Известный краевед Михаил Коробко считает что деревья на аллее не старше начала 20 века. Он там побывал с биологом. Но сама трасса конечно более ранняя. Также Михаил интересно исследовал остатки Бирюлёвской усадьбы - его пост на форуме, посвящённом ЮЗАО (в самом низу). Фото Админа от августа 2009. (вечер). Фото кликабельны: (800 на 600) Также фотографии сохранившейся Бирюлёвской липовой аллеи можно посмотреть тут. Фотографии сельцаФотографии сельца можно посмотреть в фотогалерее. В Бирюлёво (фото от Натальи Павловны):
В Бирюлёво (1960г.) (фото от Натальи Павловны):
Кировоградский пруд в 1960-е годы (фото от Натальи Павловны):
Линейка у школы, которая находилась на месте нынешних 17-х домов по Кировоградской улице (1966г.) (фото от Надежды Филипповны):
Бирюлёво, а вернее "Бирюлёвский Хутор" 5 октября 1976 года (фото от Виктора Косарева). Скоро его снесут:
На сайте http://www.wikimapia.org сделали довольно точную схему расположения сельца Бирюлёво на фоне нынешних строений:
|
|
Метки: дворянские владения |
Бойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель |
Бойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. ХюгельБойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2001. — [Т. XI]. — С. 302—311. 302 1 Ловейко (в замуж. Солнцева) Мария Егоровна (1824—?), воспитанница Верещагиных. Была на свадьбе Александры Михайловны Верещагиной и барона Карла-Эжена Хюгеля в Париже. 2 Лопухин Алексей Александрович (1813—1872), камер-юнкер, брат М. А. Лопухиной, ближайший московский друг М. Ю. Лермонтова, его сокурсник по университету, впоследствии переводчик архива Коллегии иностранных дел, чиновник московской Синодальной конторы. 3 Бахметева (урожд. Лопухина) Варвара Александровна (1815—1851), сестра М. А. Лопухиной, предмет любви М. Ю. Лермонтова, адресат его нескольких поэтических посланий. 4 Из всех детей В. А. Бахметевой выжила только Ольга Николаевна (в замуж. Базилевская) (1837—?). 5 Голицына (урожд. Бахметева) Анна Федоровна (?—1842), княгиня, сестра Н. Ф. Бахметева — мужа В. А. Бахметевой. 6 Трубецкая (урожд. Лопухина) Елизавета Александровна (1809—1882), княгиня, средняя из сестер Лопухиных. 7 Сабуровы: Аграфена (Агриппина) Ивановна (1796—1863) и Николай Иванович — дети Ивана Николаевича Сабурова (1765—1837) и Варвары Андреевны Сабуровой (урожд. княжны Друцкой) (1769—8.V.1841). 8 Петровский парк был разбит на землях Петровского монастыря, окружал Петровский путевой дворец, построенный в 1776—1779 гг. М. Ф. Казаковым. С 30-е гг. XIX в. это было одно из любимых москвичами мест гуляний. Рядом располагались многочисленные дачи. 9 Лопухина Мария Андреевна, бабушка Лопухиных со стороны отца. Для нее в доме Лопухиных на Большой Молчановке летом 1838 г. был построен флигель. 10 Машенька Ловейко, видимо, была воспитанницей А. М. Верещагиной, поэтому после замужества Александры Михайловны М. А. Лопухина называет ее Машенькой Ловейко-Хю. 11 Столыпина (урожд. Анненкова, в первом браке Воейкова) Екатерина Аркадьевна (1791—1853), вдова Дмитрия Алексеевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова; тетка баронессы А. М. Хюгель. 12 Чтобы брак А. М. Верещагиной, православной, с бароном Хюгелем, евангелического вероисповедания, был признан в России действительным, требовалось еще венчание и в православной церкви, что и было совершено “с высочайшего соизволения” 16 ноября 1837 г. в Петропавловской церкви при Российском Императорском посольстве в Париже. 13 Император Николай I (1796—1855), и Императрица Александра Федоровна. 14 Кузеном М. А. Лопухина называет барона Хюгеля. 15 Бахметев Николай Федорович (1798—1884), помещик Пензенской и Тамбовской губерний, штабс-капитан в отставке; с мая 1835 г. женат на В. А. Лопухиной. 16 Трубецкой Николай Николаевич (1807—1879), князь. В письме Надежды Осиповны Пушкиной к дочери Ольге Сергеевне от 17 апреля 1833 г. сообщается: “...Эол Трубецкой женится на девице Лопухиной, молодой, красивой, любезной, за которой дают 5 сот крестьян, у отца ее их три тысячи, а у жениха, кажется, почти что ничего...” (Мир Пушкина. СПб. 1993. Т. 1. С. 146). 303Светское прозвище князя Н. Н. Трубецкого “Эол” прекрасно характеризовало его характер. 17 Левицкие: Михаил Иванович (1761 — после 1828), генерал от инфантерии, и Варвара Прокофьевна (урожд. Пражевская) (1786—1837), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины. Их дети: фрейлины Двора Софья (1807—1858), Елена (в замуж. Скалон) (1819—1850), Юлия (в замуж. Титова); Николай (? — не ранее 1842 г.), поручик (с 1833). 18 Давыдова (в замуж. графиня Эглофштейн) Александра Петровна (1817—1851). 19 Сухово-Кобылина Елизавета Васильевна (в замуж. графиня Салиас де Турнемир) (1815—1892), писательница, псевдоним Евгения Тур. 20 Гудович Анна Андреевна, графиня, вышла за князя Николая Ивановича Трубецкого (1807—1874) брата Аграфены Ивановны Мансуровой (урожд. княжны Трубецкой) (1789—1861). 21 Шереметев Дмитрий Николаевич (1803—1871), граф, флигель-адъютант. Женился на Анне Сергеевне (урожд. Шереметевой) (1811—1849), графиня. 22 Энгельгардт Софья Львовна (1811—1884) вышла замуж за Николая Васильевича Путяту (1802—1877) (его вторая жена). 23 Раевская (урожд. Киндякова) Екатерина Петровна (1812—1839), с 1835 г. жена А. Н. Раевского. 24 Сестры Бакунины, подруги М. А. Лопухиной и А. М. Хюгель: Евдокия (1794—1867), Любовь (1801—?), Прасковья (1810—1880), Екатерина (1811—1886). Их брат Василий (1795—1863), полковник. Их родители: Михаил Михайлович Бакунин (1764—1837) и Варвара Ивановна (урожд. Голенищева-Кутузова) (1773—1840). О сестрах Бакуниных вспоминала писательница Е. А. Драшусова: “...пожилые девушки, не очень привлекательные, но даровитые...” (ОР ГЛМ. Ф. 65. Оп. 1.). 25 Имеется в виду Евдокия Бакунина, которая в это время находилась в Париже. 26 Софья (1800—1877), Ольга и Елизавета Бахметевы жили у Е. А. Столыпиной: в Середникове — летом и в Москве — зимой и осенью. 27 Вероятно, Алексеев Николай Ильич (?—1851), бывший гвардейский офицер. О нем вспоминала Е. А. Сушкова в своих “Записках” (Л. Academia. 1928. С. 104). 28 Друцкие, князья: Сергей Андреевич (1765—1840) и его сыновья: Иван (?—1884) и Дмитрий (1805—1874) — кузены А. И. Сабуровой. 29 Баранов Иван Николаевич (1794—1872), двоюродный дядя А. М. Хюгель. Его вторая жена — Елизавета Платоновна (урожд. Языкова) (1804—1844). 30 Баранова (урожд. Болтина) Варвара Александровна (1768—19. VI. 1838), двоюродная бабушка А. М. Хюгель со стороны матери. 31 Возможно, Каблукова (урожд. графиня Завадовская) Татьяна Петровна (1802—1884). 32 Игнатьев Алексей Дмитриевич (1803—?), действительный статский советник, тверской и саратовский гражданский губернатор. Муж дочери Е. А. Столыпиной от первого брака — Прасковьи Александровны Воейковой (1815—?). 33 Мать А. М. Хюгель — Елизавета Аркадьевна Верещагина (урожд. Анненкова) (1788—1876). 34 М. Ю. Лермонтов, отбывавший первую ссылку на Кавказ за стихотворение “Смерть поэта”. 35 Панина (урожд. графиня Орлова) Софья Владимировна (1774—1844), графиня. 36 Голицын Николай Федорович (1787—1860), князь, муж княгини Анны Федоровны (урожд. Бахметевой) (?—1842), золовки В. А. Бахметевой. 37 Голицын Федор Федорович (1794—1854), князь, камергер, дипломат. Брат Н. Ф. Голицына. Был поручителем со стороны невесты на венчании А. М. Верещагиной с К.-Э. Хюгелем в Париже. 38 Е. А. Столыпина 13 ноября 1837 г. переехала из Москвы в Петербург для дальнейшего воспитания и образования сына Аркадия, а также младших дочерей — Марии и Елизаветы. 39 Речь идет о Кате, старшей дочери Игнатьевых (родилась в марте 1837 г.). 40 Столыпина (в замуж. Паскевич) Мария Дмитриевна (1818—?), старшая дочь Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина. 41 Столыпина Елизавета Дмитриевна (1824—1895), младшая дочь Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина. 42 Евреинова (урожд. княжна Оболенская) Софья Александровна (1815—1852), ее муж — Евреинов Павел Александрович (?—1857), племянник бабушки Лермонтова. 43 Зубовы: Валерьян Николаевич (1804—1857), граф и Екатерина Александровна (урожд. княжна Оболенская) (1811—1843), графиня, сестра С. А. Евреиновой. 44 Писемские: Варвара Петровна (?—1873), Екатерина Петровна (1795—1847), Софья Петровна (1803—1891), Павел Петрович (1794—1857), подполковник, Иван Петрович (1798—1850). 4511 октября 1837 г. в Тифлисе был отдан Высочайший приказ по кавалерии о переводе “прапорщика Лермонтова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом”. 46 Арсеньева (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773—1845), бабушка Лермонтова. 30447 Оболенская Варвара Александровна (1819—1873), княжна, сестра С. А. Евреиновой и графини Е. А. Зубовой. 48 Ладыженский Федор Ильич (1777—1852), душеприказчик бабушки Лопухиных со стороны матери — статской советницы Александры Ивановны Верещагиной (?—1824). Его жена — Варвара Александровна (урожд. Исленьева) (1791—1848). 49 Родители княжны В. А. Оболенской: князь Александр Петрович (1780—1855) и мачеха княгиня Наталья Петровна (урожд. княжна Оболенская) (1810—1867), сестра декабриста Е. П. Оболенского (1796—1865). 50 Полторацкие: Александр Маркович (1766—1839), дядя А. П. Керн, и Татьяна Михайловна (урожд. Бакунина) (1792—1858); их племянник Николай Дмитриевич Мертваго (1805—1865) женился на Сусанне Александровне Соймоновой (1815—1879). 51 Соймонова Екатерина Александровна (1812—1879) прекрасно пела. Отец Екатерины и Сусанны, Александр Николаевич Соймонов (1780—1865), имел внебрачного сына — известного библиофила, друга Пушкина С. А. Соболевского (1803—1870). 52 Вадковский Иван Яковлевич (?—1865), подпоручик, женился на светлейшей княжне Александре Александровне Меншиковой (1817—1884), фрейлине. 53 Возможно, Степанов Петр Иванович (1814—1876), соученик Лермонтова по Благородному пансиону (1827—1831), чиновник канцелярии московского военного генерал-губернатора (с 1831), помощник управляющего секретным отделением канцелярии (1837—1840); литератор, автор воспоминаний о Лермонтове (не сохранились). 54 Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), русский трагический актер. Был женат на драматической актрисе Александре Михайловне Колосовой (1802—1880). 55 Хастатов Аким Акимович (1807—1883), племянник бабушки Лермонтова, сын ее сестры Екатерины Алексеевны Хастатовой (урожд. Столыпиной) (1775—1830). 56 Жюльвекур, де (урожд. Всеволожская, в первом браке Кожина) Лидия Николаевна (1805—1881), графиня; за графом Полем де Жюльвекуром (?—1845), французским литератором. 57 Сушков Андрей Васильевич (1785—1846); его дочь — Варвара Андреевна (в замуж. Киреева) (1823—?). 58 Сушков Петр Васильевич (1783—1855). 59 Дохтурова (урожд. Столыпина) Агафья Александровна (1809—1874), дочь Александра Алексеевича Столыпина (1774—1845), брата бабушки Лермонтова, и Екатерины Александровны (урожд. Потуловой); жена Петра Дмитриевича Дохтурова (1806—1843), кузена сестер Оболенских. 60 Согласно “Московскому некрополю”, Карр Мария Александровна (1812—1839) вышла замуж за Коропчевского. 61 Имение Лопухиных Вяземского уезда Московской губ. 62 М. А. Лопухина имеет в виду Наталью Петровну Оболенскую, мачеху сестер Оболенских. 63 Львова Мария Федоровна, дочь Ф. И. Ладыженского, в первом браке была за витебским губернатором Михаилом Петровичем Львовым, во втором — за бароном Дмитрием Григорьевичем Розеном. 64 Лейхтенбергский Максимилиан (1817—1852), герцог, сын Евгения Богарне, в октябре 1838 г. помолвлен с Вел. княжной Марией Николаевной (1819—1876). 65 Голицын Сергей Михайлович (1774—1859), князь, камергер, член Государственного Совета, председатель Московского опекунского совета, попечитель Московского учебного округа. 66 Апраксина Наталья Владимировна (1820—1853) — дочь Владимира Степановича Апраксина (17960—1833) и Софьи Петровны (урожд. графини Толстой) (1800—1882). 67 Щербатовы: князь Николай Григорьевич (1777—1848), генерал-майор, и княгиня Анна Григорьевна (урожд. Ефимович) (1789—1849). 68 Анненкова Варвара Николаевна (1795—1866), поэтесса, двоюродная тетка А. М. Хюгель. Весной 1837 г. вписала в ее альбом сочиненную вместе с Лермонтовым шутливую поэму о ее женихе, бароне Хюгеле — “Югельский барон”. 69 Тиньков Сергей Яковлевич (?—1839), муж Анфисы Никаноровны (урожд. Анненковой) (1754—1826), тетки В. Н. Анненковой. 70 Анненков Дмитрий Николаевич (1807—?); его жена Софья Андреевна (урожд. княжна Гагарина). 71 Анненков Николай Николаевич (1799—1865), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета, брат В. Н. и Д. Н. Анненковых. 72 Полторацкая (урожд. Мансурова) Ирина Федоровна, невестка Полторацких (см. прим. 50), вдова их сына Михаила (1801—1836), во втором браке за полковником Видковским. 73 См. прим. 28. 74 Шульгина Александра Дмитриевна, дочь Дмитрия Ивановича Шульгина (1786—1854), обер-полицеймейстера Москвы (1825—1830), впоследствии генерала от инфантерии, петербургского военного генерал-губернатора. 30575 Гааз Федор Петрович (1780—1853), главный врач тюремных больниц, много делавший для облегчения участи заключенных, для их духовно-нравственного возрождения. 76 См. прим. 36. 77 Елизавета Хюгель родилась 23 ноября 1838 г. 78 Картина была написана Лермонтовым в октябре 1838 г. Сейчас находится в ГАМ под условным названием “Сцена из кавказской жизни”. 79 Так М. А. Лопухина называет себя, намекая на какую-то шутку. 80 Иноземцев Федор Иванович (1802—1869), профессор практической хирургии в Московском университете (с 1835); в 1839 г. по поручению министра народного просвещения осматривал лучшие клиники Германии, Италии и Франции. 81 Лопухин Александр Алексеевич (13.II.1839—1895), старший сын А. А. и В. А. Лопухиных. 82 Оболенский Василий Александрович (1817—1888), князь, женился на княжне Александре Павловне Голицыной (1819—1897). 83 Каблукова Вера Владимировна (1819—1879) вышла замуж за князя Александра Сергеевича Голицына (1806—1885). 84 Понятовские, князья: Карл Станиславович (1808—1887), его жена Элиза (урожд. маркиза Монтекатини) и его брат Иосиф Станиславович (1816—1873). 85 Васильев Алексей Владимирович (1809—1895), граф; сослуживец Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. С января 1837 г. в отставке. 86 Монфорские, принцы, дети Жерома Бонапарта (1784—1860) от 2-го брака с Екатериной Вюртембергской: Жером Наполеон Шарль (1814—1847), Наполеон Жозеф Шарль Поль (1822—1891) и принцесса Матильда Летиция Вильгельмина (1820—1904) (в замуж. Демидова, княгиня Сан-Донато). 87 Беррийская Мария Каролина (1798—1870), герцогиня, вдова герцога Беррийского (1778—1820), сына Карла X (1757—1836) — последнего французского короля династии Бурбонов (правил в 1824—1830). В 1832 г. герцогиня Беррийская вышла замуж за неаполитанского дипломата графа Этторе Лучези (ок. 1805—1864). 88 Наследник Российского престола, будущий Император (с 1855) Александр II (1818—1881), в начале мая 1838 г. вместе со своим наставником поэтом В. А. Жуковским отправился в путешествие по Европе, посетив в том числе и Флоренцию. 89 Бутурлина (урожд. Нарышкина) Екатерина Ивановна, графиня, жена графа Михаила Дмитриевича Бутурлина (1807—1876). 90 Каталани Анжелика (1780—1849), итальянская певица, сопрано. В мае 1820 г. гастролировала в Петербурге. 91 Ховрина (урожд. Лужина) Мария Дмитриевна (1801—1877). 92 См. прим. 1. 93 Углицкая (в замуж. Альбрехт) Александра Александровна (1822—1862), младшая дочь Марии Александровны Углицкой (урожд. Евреиновой) (1802—1851), племянницы Е. А. Арсеньевой. 94 Озеров Иван Петрович (1806—1880), дипломат; женат на Розалии Васильевне Шлиппенбах (1808—?). 95 См. прим. 83. 96 Тарасенко-Отрешков Наркиз Иванович (1805—1873), писатель-экономист, издатель “Журнала общеполезных сведений”, член ученого комитета Министерства государственных имуществ, с августа 1836 г. камер-юнкер, титулярный советник. Член опеки над детьми и имуществом А. С. Пушкина, прототип Горшенко в романе Лермонтова “Княгиня Литовская”. Был в близком окружении Лермонтова в Петербурге и в Пятигорске в канун его гибели, первый известил о его гибели в петербургских газетах. 97 Горсткин Иван Николаевич (1798—1876), титулярный советник, привлекался по делу декабристов. Жена — Евгения Григорьевна (урожд. Ломоносова). 98 Зубов Александр Николаевич (1797—1875), граф. 99 Орлов Григорий Федорович (1789—1850), его жена Виржиния и дочь Антуанетта (в замуж. графиня Орсини). 100 Кутайсов Иван Павлович (1803—?), граф, женат на Елизавете Дмитриевне Шепелевой (1812—1839). 101 Ховрина Лидия Николаевна (1825—?), младшая дочь М. Д. Ховриной. 102 Бордоский, герцог (1820—1883), сын герцогини Беррийской, внук Карла X. 103 Новорожденный сын Хюгелей — Эжен-младший. 104 Вероятно, Скарятин Александр Яковлевич (1815—1884), дипломат. 105 Ле-Дантю Мария Петровна, была воспитательницей детей генерал-майора Петра Никифоровича Ивашева (1767—1838), мать Камиллы Петровны Ивашевой (урожд. Ле-Дантю) (1808—1839). 106 Ивашев Василий Петрович (1797—1840), ротмистр л.-гв. Кавалергардского полка. Декабрист, приговорен в каторжную работу на 20 лет. 107 Жоли К. К., зубной лекарь 1-го Московского кадетского корпуса. 108 Лопухина Мария Алексеевна (22.III.1840—?). 109 Лопухина (в замуж. Трубецкая) Софья Алексеевна (31.III.1841—1901). 110 Средниково (Середниково) — подмосковное имение 306Е. А. Столыпиной, где проводил свои московские каникулы Лермонтов. 111 Столыпин Аркадий Дмитриевич (1821—1899), сын Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина; уезжал в Саратов к месту своей службы по окончании в Петербурге школы конной артиллерии. 112 Свадьба Марии Дмитриевны Столыпиной и Григория Михайловича Паскевича. 113 См. прим. 26. 114 См. прим. 5. 115 Хвостова (урожд. Сушкова) Екатерина Александровна (1812—1868), знакомая Лопухиных и А. М. Хюгель; предмет увлечения Лермонтова, адресат его юношеской лирики; прототип Негуровой в романс “Княгиня Литовская”; автор воспоминаний о поэте; замужем за дипломатом А. В. Хвостовым с 1838 г. 116 Беклешова (урожд. Сушкова) Мария Васильевна (1792—1863), в семье которой Е. А. Хвостова воспитывалась в Петербурге. 117 См. прим. 6. 118 В начале марта 1841 г. В. А. Бахметева родила мертвого ребенка. 119 См. прим. 7. 120 Друцкой Иван Сергеевич, князь, кузен А. И. Сабуровой. 121 Корфы: Николай Алексеевич, барон, полковник и его жена Анна Федоровна (урожд. Ладыженская). 122 См. прим. 63. 123 Ефимовский Андрей Петрович (1787—?), граф, его вторая жена — графиня Надежда Петровна (урожд. Палицына) (1785—1840). 124 Озерова Варвара Петровна (1818—1870) вышла замуж за Александра Петровича Самсонова (1809—1882). 125 Оболенский Иван Петрович (1770—?), князь. 126 Долгорукова Ольга Александровна (1814—1865), княгиня, дочь Александра Яковлевича Булгакова (1781—1863), московского почт-директора. 127 Гагарин Лев Андреевич, князь, брат Софьи Андреевны Анненковой. 128 Розен Дмитрий Григорьевич (1815—1885), барон, штаб-ротмистр, сын барона Григория Владимировича Розена (1782—1841); однополчанин Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку; адъютант светлейшего князя Д. В. Голицына. В 1845 г. женился на Марии Федоровне Львовой (урожд. Ладыженской). 129 Львова (урожд. Наумова) Софья Николаевна, жена Андрея Михайловича Львова (1799—1868). 130 Валуев Степан Петрович (?—1844) был женат первым браком на Александре Петровне Ладыженской, вторым — на Елизавете Петровне Масловой. 131 Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева) Мария Ивановна, мать графини Е. В. Салиас де Турнемир, Е. В. Петрово-Соловово, С. В. Сухово-Кобылиной, А. В. Сухово-Кобылина, И. В. Сухово-Кобылина. 132 Душенькой звали Евдокию Васильевну Сухово-Кобылину (в замуж. Петрово-Соловово) (?—1893). 133 См. прим. 112. 134 Лермонтов убит на дуэли 27 июля 1841 г. 135 Анненкова (урожд. Якоби) Анна Иваноавиа (?—1842), двоюродная бабушка невесты; мать декабриста Ивана Александровича Анненкова. 136 См. прим. 71. 137 Баташов Николай Петрович, управляющий Середниковым и окрестными селами, принадлежавшими Е. А. Столыпиной, а также подмосковной пустошью Листовка Е. А. Верещагиной; Ольга Петровна — его жена. 138 Озерова (урожд. княжна Мещерская) Анастасия Борисовна (1796—1841), вторая жена сенатора, тайного советника и кавалера Семена Николаевича Озерова (1776—1844). 139 Небольсина (урожд. Озерова) Елизавета Семеновна (1820—1846), жена Александра Григорьевича Небольсина (1795—1854). 140 Озеров Петр Иванович (1778—1843), действительный тайный советник, член Государственного совета. 141 Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), светлейший князь, московский военный генерал-губернатор. 142 Жена светлейшего князя Д. В. Голицына Татьяна Васильевна (урожд. Васильчикова) умерла 28 января 1841 г. 143 Савина (урожд. Лунина) Татьяна Александровна, начальница Дома трудолюбия, куда была помещена для воспитания и учебы Маша Ловейко. 144 Шаховской Алексей Петрович (1807—1841), князь, сын княгини Агафоклеи Алексеевны Шаховской (урожд. Бахметевой) (1773—1849). 145 Друцкой Дмитрий, князь, кузен А. И. Сабуровой. 146 Сабуров Михаил Иванович (1813—?), соученик Лермонтова по пансиону, адресат его нескольких юношеских посланий. Женился на Роксандре Николаевне Россетти-Розновано. 147 Левицкая Елена Михайловна вышла замуж за Николая Александровича Скалона (18090—1857). 148 Делянова Елена Давыдовна (1821—1870) вышла замуж за князя Ивана Эммануиловича Манук-Бея (1811—?). 149 Хьюм Екатерина Ивановна, впоследствии была гувернанткой в семье Хвощинских. 150 См. прим. 41. 151 Ухтомская Дарья Андреевна (1814—1871), княжна, 307воспитывалась отдельно от сестер у двоюродной тетки княгини Натальи Ивановны Голицыной (урожд. Толстой) (1771—1841). В 1842 г. вышла замуж за декабриста Валерьяна Михайловича Голицына (1803—1859). 152 Бобринская (урожд. Соковнина) Софья Прокопьевна (1812—1868), графиня; муж — граф Бобринский Василий Алексеевич (1804—1874); сын — граф Алексей (1831—1888). 153 Столыпин Афанасий Алексеевич (1788—1866), отставной офицер-артиллерист, младший брат бабушки Лермонтова, родной дядя М. Д. Паскевич со стороны отца; муж Столыпиной (урожд. Устиновой) Марии Александровны (1812—1876). 154 Козлова Александра Ивановна (1812—1903), дочь поэта Ивана Ивановича Козлова (1779—1840). 155 Тарасенко-Отрешков Павлин Иванович, брат Н. И. Тарасенко-Отрешкова. 156 Елена Павловна, Вел. княгиня, с 1824 г. супруга Вел. князя Михаила Павловича. 157 См. прим. 66. 158 Самарины: Федор Васильевич (1784—1853) и Софья Юрьевна (урожд. Нелединская-Мелецкая) (1793—1879). 159 Сенявина (урожд. баронесса д’ Оггер) Александра Васильевна (?—1861), жена жена московского гражданского губернатора (1840—1844) Ивана Григорьевича Сенявина (1801—1851). Ее сестра — баронесса Елизавета Васильевна Мейендорф (1802—1873). 160 Голицына (урожд. графиня Баранова) Луиза Трофимовна, княгиня (1810—1887), жена князя Михаила Федоровича Голицына (1800—1873). 161 Мейер Леопольд (1816—1883), немецкий пианист и композитор, концертировавший во многих городах Европы и Америки, в том числе в Петербурге и Москве. 162 Возможно, Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель, автор исторических романов, драматург, директор московских театров (1831—1842) и Оружейной палаты. 163 См. прим. 55. 164 См. прим. 15. 165 См. прим. 36. 166 Нарышкина (урожд. Бахметева) Авдотья Ивановна, сестра бабушки Н. Ф. Бахметева, воспитывала его и его сестру княгиню А. Ф. Голицыну. 167 Хитрово (урожд. Каковинская) Анастасия Николаевна (1762—1842). 168 См. прим. 67. 169 Щербатова Анастасия Николаевна, княжна, в 1-м браке за Федором Александровичем Ермоловым (?—1845), во 2-м браке за его племянником — Александром Петровичем Ермоловым. 170 Потемкина (урожд. княжна Трубецкая) Елизавета Петровна (1796—1870-е гг.), графиня, сестра декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860), жена графа Сергея Павловича Потемкина (1787—1858), во втором браке за Ипполитом Ивановичем Подчаским (1792—1879). 171 Небольсина Евдокия Николаевна (1821—1886) вскоре вышла замуж за графа Ивана Александровича Апраксина (1819—1892). 172 Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич (1820—1881), брат Анны Сергеевны Дубовицкой (?—1889), жены подполковника Николая Александровича Дубовицкого. 173 Голицын Владимир Дмитриевич (1815—1888), светлейший князь. 174 Речь идет, видимо, о П. М. Бакуниной (см. прим. 24). 175 Козлова (урожд. Давыдова) Софья Андреевна — вдова поэта И. И. Козлова. 176 Хрущев Александр Петрович (1776—1842), отец Елизаветы Александровны Нарышкиной. 177 Плещеева (урожд. Кромина) Елизавета Петровна, дальняя родственница князя Н. Н. Трубецкого — зятя М. А. Лопухиной. 178 Шишкина (урожд. Баранова) Прасковья Николаевна (1792—1880), жена Павла Сергеевича Шишкина, двоюродная тетка А. М. Хюгель. 179 См. прим. 29. 180 Горяинова (урожд. Шишкина) Елизавета Павловна. 181 См. прим. 89. 182 Княгиня А. Ф. Голицына умерла 1 февраля 1842 г. 183 См. прим. 166. 184 Лизанька — дочь А. М. Хюгель. 185 См прим. 130. 186 Орлов Михаил Федорович (1788—19 III 1842). 187 Львов Дмитрий Михайлович (1794—17 III 1842). 188 Пашкова (урожд. Панчулидзева) Ольга Алексеевна (1802—1842). 189 Пашкова Евдокия Егоровна (1820—1893) была помолвлена с Дмитрием Васильевичем Путятой. Ее отец — Егор Иванович Пашков (1795—1860), отставной генерал-майор. 190 Евреинова (урожд. Столыпина) Александра Алексеевна (1777—1842), родная сестра бабушки Лермонтова, мать П. А. Евреинова и М. А. Углицкой. 191 См. прим. 93. 192 Шан-Гирей (в замуж. Веселовская) Екатерина Павловна (1823—?), троюродная сестра Лермонтова. 308193 Львова Мария Францовна (1789—18 III 1842), княгиня. 194 Голицына Елизавета Сергеевна (1811—20 III 1842), княжна. 195 См. прим. 171. 196 Небольсин Николай Андреевич (1785—1846), московский гражданский губернатор. 197 Каблукова Олимпиада Владимировна (?—1904) вышла за князя Анатолия Ивановича Барятинского (1821—1881). 198 Вадковская (урожд. Молчанова) Елизавета Петровна, жена Ивана Федоровича Вадковского (1790—1843), брата декабристов Ф. Ф. и А. Ф. Вадковских. 199 Катенин Александр Андреевич (1803—1860), флигель-адъютант, полковник, женился на Варваре Ивановне Вадковской (1822—1865). 200 Ефимовский Борис Андреевич (1818—1874), граф, женился на княжне Александре Ивановне Хилковой. 201 Кологривова (урожд. Вельяминова-Зернова) Анисья Федоровна (1788—1876). 202 См. прим. 123. 203 Дама — шелковая узорчатая ткань. 204 Муравьева (урожд. графиня Ефимовская) Екатерина Петровна (?—1861), жена Семена Петровича Муравьева (1793—1864). 205 Беринг Меропа Александровна (?—1880), попечительница Общества для бедных Мещанской части Москвы (1845). 206 Новосильцев Петр Петрович (1797—1869), московский вице-губернатор, был женат 1-м браком на Анастасии Павловне Мансуровой (1789—1830), имел дочь Екатерину (1826—?) и сына Ивана (1828—?). 207 Нарышкин Константин Павлович (1806—1880) впоследствии женился на Софье Петровне Ушаковой (1823—1877), дочери своей любовницы — Марии Антоновны Ушаковой (урожд. Тарбеевой) (1802—1870). 208 Фалькон Мария Корнелия (1812—1897), пела заглавные партии в Парижской опере. 209 Сивори Э.-К. (1815—1894), знаменитый скрипач-виртуоз, ученик Паганини. 210 Лист Ференц (1811—1886), композитор, пианист, дирижер. 211 Анненкова Александра (Зинаида) Ивановна (1826—188?), дочь Анненковых: двоюродного дяди А. М. Хюгель декабриста Ивана Александровича (1802—1878) и Прасковьи Егоровны (урожд. Полины Гебль) (1800—1876). 212 Столыпина (урожд. Столыпина) Наталья Алексеевна (1786—1851), младшая сестра бабушки Лермонтова. 213 Устинова Екатерина Адриановна (1821—?), дочь саратовского губернатора Устинова Адриана Михайловича (1802—188?). Первая жена А. Д. Столыпина. 214 Ольга и Зинаида Барановы, воспитанницы Смольного института. 215 Оболенский Сергей Александрович (1819—?), князь, брат В. А. Лопухиной — невестки М. А. Лопухиной. 216 Мезенцева Наталья Владимировна (1820—?), дочь Веры Николаевны Мезенцевой (урожд. графини Зубовой) (1800—1863). 217 См. прим. 43. 218 Мещерский Борис Васильевич (1818—1884), князь, женился на княжне Софье Васильевне Оболенской. Его мать — урожд. баронесса Шарлотта Борисовна Фитингоф (?—1841). 219 Теплов Алексей Григорьевич, майор корпуса внутренней стражи. 220 Боде Екатерина Львовна (1819—1867), баронесса, вышла замуж за Павла Александровича Олсуфьева (1819—1844). 221 А. С. Мусин-Пушкин женился на княжне Наталье Николаевне Трубецкой (1824—1861). Его мать — Мусина-Пушкина (урожд. Дурова) Екатерина Дмитриевна (?—1883). 222 Трубецкой Николай Иванович (1797—1874), князь (“le nain jaune”). 223 См. прим. 137. 224 См. прим. 135. 225 Дочери А. М. и Т. М. Полторацких: Надежда и Агафоклея (в замужестве Воейкова). 226 См. прим. 72. 227 См. прим. 19. 228 Сухово-Кобылина Софья Васильевна (1825—1867), художница. 229 Сухово-Кобылин Иван Васильевич. 230 Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург. 231 Свиньин Петр Павлович (1801—1882), известный московский хлебосол и весельчак. 232 См. прим. 126. 233 Долгорукова (урожд. Малиновская) Екатерина Алексеевна (1811—1872), княгиня, дочь историка и писателя Алексея Федоровича Малиновского (1760—1840), жена князя Ростислава Алексеевича Долгорукова (1805—1849), однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку. 234 Салтыкова (урожд. Семенова) Мария Александровна (?—1845). Ее душевнобольной сын Валерьян Петрович (1808—1862) жил и скончался в Спасо-Иаковлевском монастыре г. Ростова Ярославской губ. 309235 См. прим. 44. 236 Всеволожская (?—1844), мать Л. Н. де Жюльвекур. 237 Строганова Софья Сергеевна (1824—1852), графиня. 238 См. прим. 153. 239 См. прим. 68. 240 Давыдов Василий Васильевич (1809—1859) был женат на княжне Софье Андреевне Оболенской (1810—1871), кузине невестки М. А. Лопухиной. 241 Рубини, Джованни-Баттиста (1795—1854), итальянский певец (тенор). 242 См. прим. 51. 243 Щербатова Наталья Николаевна, княжна, дочь Щербатовых: князя Николая Григорьевича и княгини Анны Григорьевны; вышла замуж за полковника Егора Августовича Норда. 244 См. прим. 169. 245 Бакунин Василий Михайлович (1795—1863), в 1825 г. полковник Рижского драгунского полка; в 1832 г. уволен по болезни от службы; в 1833 г. снова определен полковником Литовского уланского полка; член Полевого аудиториата (1836); уволен от службы генерал-майором в 1848 г. Брат сестер Бакуниных. 246 Сушков Николай Васильевич (1796—1871), действительный статский советник. В 1841 г. оставил службу, поселился в Москве и занялся сочинительством, написал ряд поэм, пьес. Его литературный салон был популярен в Москве. 247 Петр Васильевич Сушков был женат на Дарье Ивановне Пашковой (1790—1817). 248 Оболенская Александра Андреевна (?—1844), княжна. 249 См. прим. 153. 250 ”Монашенкой” Лопухина называет Столыпину Марию Александровну, жену Афанасия Алексеевича Столыпина. 251 Тамбурини Антонио (1800—1876), итальянский певец (драматический баритон). 252 Виардо-Гарсия Полина (1821—1910), французская певица (меццо-сопрано). 253 Нарышкина (урожд. княжна Мещерская) Анна Васильевна (?—1844), мать Александра Григорьевича Нарышкина (1818—1855) и баронессы Марии Григорьевны Валуа (урожд. Нарышкиной) (1819—1848). 254 Новосильцева Елизавета Ивановна вышла замуж за генерал-майора Роговского Александра Васильевича (1782—1849). 255 Столыпина Мария Александровна (1812—1876), дочь Александра Алексеевича Столыпина. 256 Акулина, крепостная, была няней детей А. М. Хюгель. 257 Горчакова (урожд. княжна Урусова, в 1-м браке графиня Мусина-Пушкина) Мария Александровна (1801—1853), княгиня, жена князя Александра Михайловича Горчакова (1798—1883), дипломата, в 1841—1850 гг. посланника в Штутгарте, будущего канцлера. 258 Оболенская (урожд. Мазурина) Александра Алексеевна (1817—1885), княгиня, жена князя Михаила Андреевича Оболенского (1811—1866). Сестра Мазуриной (в замуж. светлейшей княгини Грузинской) Анны Алексеевны (1824—1866). 259 См. прим. 36. 260 Столыпин Валерьян Григорьевич (1807—1852), племянник бабушки Лермонтова; был женат на Варваре Алексеевне Бахметевой. 261 См. прим. 128. 262 Александра, родилась летом 1843 г., — третий ребенок в семье Хюгелей. 263 Юнона — в римской мифологии одна из верховных богинь, соответствует греческой Гере, покровительнице женщин. 264 Вяземская (урожд. Шишкина) Прасковья Сергеевна (?—1884), княгиня, жена князя Василия Николаевича Вяземского (1781—?). 265 См. прим. 137. 266 Столыпин Александр Алексеевич (1774—1845). 267 Шан-Гирей (урожд. Хастатова) Мария Акимовна (1799—1845), любимая племянница бабушки М. Ю. Лермонтова — Е. А. Арсеньевой, дочь ее сестры Ек. А. Хастатовой. 268 См. прим. 192. 269 Углицкая Леокадия Александровна (1821—?). 270 Самарина (в замуж. графиня Соллогуб) Мария Федоровна (1821—1888). 271 Нарышкина (урожд. баронесса Строганова) Екатерина Александровна (1769—1844). 272 Нарышкина Елизавета Ивановна (1791—1859), фрейлина. 273 Неклюдова (урожд. Нарышкина) Варвара Ивановна. 274 См. прим. 257. 275 Чертковы: Александр Дмитриевич (1789—1858) и Елизавета Григорьевна (урожд. графиня Чернышова) (1805—1858), попечительница Рогожской части Москвы. 276 Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. 277 Бакунин Александр Михайлович (1768—1854). 278 Головин Иван Гаврилович (1816—1890). В 1837 г. окончил дипломатическое отделение Дерптского университета. Служил в Министерстве 310иностранных дел. С 1841 г. жил за границей. Зачинатель вольной русской печати. 279 Елизавета Михайловна (1826—1845), Вел. княжна, дочь Вел. князя Михаила Павловича, супруга герцога Нассауского Адольфа (1817—1905). 280 См. прим. 169. 281 Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1825—1879), граф, пасынок князя А. М. Горчакова. 282 Оболенская Аграфена Александровна (1823—1891), княжна. 283 Святополк-Четвертинский Борис Антонович (1781—1865), князь; его жена — княгиня Надежда Федоровна (урожд. княжна Гагарина) (1791—1883), сестра княгини В. Ф. Вяземской; у них было шесть дочерей. 284 Абамелек-Лазарев Семен Давыдович (1815—1888), князь, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку; женился на Екатерине Николаевне Толстой (1826—1888), дочери Николая Николаевича Толстого (1794—1872). 285 См. прим. 149. 286 Лужин Иван Дмитриевич (1804—1868), обер-полицмейстер (1845—1854). 287 См. прим. 234. 288 Устинова (урожд. Панчулидзева) Мария Алексеевна (1789—21 III 1845), мать Марии Александровны Столыпиной. 289 Евсюкова (урожд. Устинова, во втором браке Загоскина) Анна Александровна. 290 Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов, управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 291 Возможно, Каханов Петр Аполлонович (1810—1858), полковник, муж Варвары Александровны (урожд. Столыпиной) (1816—1870), племянницы бабушки Лермонтова. 292 Столыпина (урожд. княжна Трубецкая) Мария Васильевна, жена Алексея Григорьевича Столыпина (1805—1847). Во 2-м браке за светлейшим князем Семеном Михайловичем Воронцовым. 293 Всеволожский Николай Сергеевич (1772—1857), действительный статский советник. Отец Л. Н. де Жюльвекур. 294 Толстой Иван Петрович (1810—1867), граф; жена — Софья Сергеевна (урожд. графиня Строганова) (1824—1852). Его брат Александр Петрович (1801—1873); жена — Анна Георгиевна (урожд. княжна Грузинская) (1798—1889). 295 Оболенский Михаил Александрович (1821—1886), князь, младший секретарь русского посольства в Мюнхене, брат невестки М. А. Лопухиной. 296 Брат К. Э. Хюгеля. 297 Мусина-Пушкина Екатерина Ивановна (1823—1883), графиня, дочь княгини М. А. Горчаковой от первого брака. Впоследствии вышла замуж за графа Егора Александровича Игельстрома (1810—1890). 298 Шаховская Надежда Васильевна (?—1861), княжна, выдала замуж свою младшую племянницу Софью Николаевну Васильчикову (?—1882) за Дмитрия Алексеевича Сверчкова. 299 Нессельроде (урожд. графиня Гурьева) Мария Дмитриевна (1786—1849), графиня, сестра Сверчковой (урожд. графини Гурьевой) Елены Дмитриевны (?—1834). 300 А. Ф. Кологривова выдала замуж свою падчерицу Марию Степановну Кологривову за Дмитрия Иосифовича Кожина (1817—?). 301 См. прим. 89. 302 Столыпин Алексей Григорьевич, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, с 1833 г. адъютант герцога Лейхтенбергского; двоюродный дядя Лермонтова. Был женат на княжне Марии Васильевне Трубецкой. 303 Столыпина Вера Аркадьевна (?—1853) вышла замуж за князя Давида Федоровича Голицына (1814—1855). 304 Ольга Николаевна (1822—1892), Вел. княжна, дочь Николая I; с 1846 г. супруга Вюртембсргского наследного принца, будущего короля Карла I (1823—1891). 305 См. прим. 292. 306 См. прим. 147. 307 Озерова (урожд. Лужина) Варвара Дмитриевна (1800—1878). Теги: Российский архив, Том XI, 12. Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель |
||
|
Метки: дворянство лопухины |
Письма императрицы Марии Федоровны к княгине А. А. Оболенской |
Письма императрицы Марии Федоровны к княгине А. А. Оболенской

Место издания:
Письма (1918-1940) к княгине А. А. Оболенской
Императрица Мария Федоровна (1847 – 1928), вдова Александра III, и ее дочери великие княгини Ксения Александровна (1875 – 1960) и Ольга Александровна (1882 – 1960), покинув Россию после революции, нашли приют при дворах европейских монархий, в Дании, в Великобритании.
Включенные в настоящее издание письма матери и сестер последнего российского императора Николая II за период 1918 – 1940 гг. были адресованы княгине Александре Александровне Оболенской (ур. Апраксиной, 1851 – 1943), бывшей фрейлине императрицы Марии Федоровны. После смерти А. А. Оболенской письма хранились у ее племянницы графини Марии Николаевны Чернышевой-Безобразовой (ур. Щербатовой, 1887 – 1977), а в 1961 г. были переданы ею в Бахметевский архив (Нью-Йорк) с условием не открывать переписку в течение 50 лет.
Публикуются впервые.
(аннотация к книге)
Крым, Ай-Тодор, 1918[1]
Дорогая Сандра,
от всего сердца благодарю за добрые пожелания в адрес моего дорогого внука[2], Господь да благословит и сохранит его в добром здравии и даст ему счастья и радости после их нынешних тяжких испытаний. Эта статья Д.[3], и правда, внушает некоторую надежду, и я с радостью за нее держусь. Нежно обнимаю вас. Приходите завтра к завтраку. Я пошлю за вами экипаж в полдень.
М
7 июня 1919 Лондон
Тысяча благодарностей письмо все благополучны долго ли останетесь риме=мария
12 июля 1919
Мальборо Хаус[4]
Дорогая Сандра,
Пользуюсь верной оказией, чтобы написать вам несколько слов и, прежде всего, поблагодарить вас от всего сердца за два письма, которые так меня обрадовали. Надеюсь, что вы довольны вашим пребыванием в Риме, хотя и там тоже были беспорядки, судя по газетам. Господин, который передаст вам это письмо, был знаком с моим дорогим Шервашидзе[5], когда-то он был дипломатом и приехал из Архангельска, где некоторое время служил английским солдатом. Он рассказал мне довольно интересные вещи о своем пребывании там. Могу сообщить вам, по крайней мере, одну хорошую новость: Мотя[6]
в Новороссийске, я узнала это от одного офицера, который приехал оттуда, молодой Шатт[7], брат барышни, которая вышла замуж за английского офицера в Балаклаве, помните?
Вот уже три месяца, как мы уехали на Мальту. Мои мысли повсюду были с вами, и мне было так жаль вас оставить вот так, совсем одну, среди группы знакомых, которые мало что говорили вашему сердцу. Ваша телеграмма, что вы уехали в Неаполь со Струковыми[8]
заставила меня улыбнуться. Наше путешествие на борту «Лорда Нельсона» прошло очень хорошо; вся команда приняла нас так хорошо и замечательно, но все-таки я очень жалела о великолепном «Мальборо»[9], где мне особенно нравился добрый и славный капитан Джонсон. Погода была не особенно благоприятная, было довольно холодно, особенно когда мы проходили вдоль побережья Африки. Тепло стало только когда стали приближаться к Англии. Мы плыли десять дней, и свежий воздух принес мне огромную пользу. В Портсмуте меня ожидал сюрприз и огромная радость: меня встретила моя дорогая сестра[10]. Это было такое неописуемое чувство. К сожалению, Вальдемар[11] не смог дождаться моего приезда и как раз накануне вернулся в Данию, так как должен был присутствовать на венчании своего сына Акселя[12], который женился на дочери Ингеборг[13] в Швеции. Я все еще чувствую себя здесь немного как во сне. Все выказывают столько доброты и сочувствия, что я очень тронута. Только мое сердце осталось в России и мое желание вернуться туда остается неизменным. Когда же придет это время? Мне очень больно присутствовать тут на торжествах по случаю подписания мира. Настоящая мука видеть все это и не участвовать! Я думаю, что и вы так же страдали в Италии, где тоже все радуются и счастливы, что кончилась эта чудовищная война. Для нас, бедных, ничего не изменилось, эта ужасная гражданская война все продолжается, и зверства и озлобление царят повсюду в нашей несчастной стране! Однако в газетах пишут, что у Деникина есть успехи, слава Богу. Но то, что происходит в Петербурге, должно быть почти кошмарно!
Тут множество русских – я даже приняла мадам Витте[14], которая была в Дании, а потом в Америке по делам и теперь едет в Биарриц[15], чтобы забрать массу вещей, которые она оставила там, – к счастью для себя, потому что в Петербурге у нее все украли и отобрали. Она рассказывала массу интересного о бедном Георгии Михайловиче[16], с которым часто видалась в Финляндии.
Я живу здесь очень уединенно, пока моя сестра очень занята всем, что ей приходится делать и смотреть. Это очень ее утомляет, и я нахожу, что она делает уж чересчур много. Мне кажется, что она очень похудела, и особенно эта постоянная суета вредит ее нервам, и она с утра до вечера в напряжении. До сих пор ничего не решено касательно моего отъезда в Данию, я живу сегодняшним днем, не заглядывая в будущее. Думаю, что моя сестра еще долго не сможет покинуть Англию, а ей не хочется так скоро снова со мной расстаться. И вот я все жду. Надеюсь, что нога уже не причиняет вам прежних страданий. Собираетесь ли вы все еще в Сальса Маджоре[17]? Есть ли у вас известия от бедной Софы[18]? Опасаюсь, что ничего не доходит, ужасно жить вот так, не имея известий от самых близких!
Еще я опять видела доброго Александра Петровича Ольденбургского[19], который приехал сюда из Парижа на обратном пути в Финляндию. Встреча с ним меня очень порадовала, но и сильно взволновала. Он все тот же, очень трогательный, но, как всегда, со странностями, и более возбужден, чем когда-либо. Он не мог усидеть на месте и целых два часа бегал по моей комнате, как сумасшедший, – у меня даже голова закружилась. Бедная Эжени[20] дважды была на грани смерти и еще так слаба, что он спешил вернуться к ней. Бедная Вера Орбелиани[21] получила здесь грустное известие, что ее последний брат[22] тоже убит! Это ужас! От бедной матери[23] скрывают, и она ни о чем не подозревает. Я получила от нее письмо еще на Мальте. Погода очень изменчивая, совсем не тепло, и в последние дни часто льет дождь. Единственное, что хорошо, – это что нет ни мелких, ни гигантских мух, которые так меня изводили в Крыму. Моя сестра благодарит вас и шлет привет. Я так оправилась, что стала вдвое крепче ее. Я слишком много ем, конечно, особенно поначалу.
Если увидите Юсуповых, то передайте им привет от меня, особенно доброму папá-Феликсу[24], которого я нежно люблю. К сожалению, я вынуждена спешно кончить письмо, обнимаю вас от всего сердца, дорогая.
Ваша любящая,
старая М
Как поживает ваша собачка? А что поведение Адель[25] – приличнее? Тут на всех бедных собак надели намордники, это для них такая пытка. Песик Орбелиани[26] до сих пор в карантине – это просто преступно – и хозяин в отчаянии. Я, к счастью, сумела выручить Душку и маленького Никитиного Тобби, и они у Ксении. Она тоже вас обнимает. Бедняжке пришлось расстаться с тремя сыновьями[27], которые начали учиться в трех разных школах недалеко от Лондона. Это разумно, но так грустно.
30 [?] 1919 Копенгаген[28]
Благодарю тысячу раз также за два письма очень обрадовали=мария
26 февраля 1920
От всей души спасибо за добрые слова и за то, что вспомнили обо мне в этот день[29], который стал таким печальным, с тех пор, как чудные воспоминания прошлого больше не просыпаются в памяти.
У меня был приятный сюрприз – наконец прибыла Ксения. Я так рада снова увидеть ее. Они приехала как раз к панихиде. Я не видела англичан и не получала писем. От Ольги вчера вечером получила письмо, датированное 12 февраля. К счастью, она здорова. Нежно обнимаю. Со вчерашнего дня голова не болит.
Ваша М
Амалиенборг[30]
2 марта 1920
Дорогая Сандра, надеюсь, что вы не сердитесь на меня за то, что я так долго не писала вам и не поблагодарила за ваши письма. Но я боялась писать почтой. Я телеграфировала вам после каждого письма, но, кажется, и это не дошло. Короче, я прошу прощения и надеюсь, что вы знаете, что, несмотря на молчание, мои чувства никогда не меняются. Все, что вы написали, когда еще были в Риме, было очень интересно, и инцидент с Юсуповыми, наверное, был очень неприятен[31], но в то же время это что-то невероятное, смехотворное и неслыханное! Мне понятно, что вы больше не захотели оставаться там после этого. По крайней мере, я рада, что в Париже вы успокоились, несмотря на свое одиночество. Ксения писала мне про вас, пока она была там. Она была так рада повидаться с вами. Вальдемар тоже написал мне после встречи с вами. Он наконец вернется через 2 дня, после 2 месяцев отсутствия. Сегодня он выезжает из Лондона, и я жду его с нетерпением. У нас была ужасная эпидемия испанского гриппа[32], но, к счастью, она уже пошла на спад. Все им болели, и столько несчастных умерло, особенно молодых. Я тоже приболела и даже 2 дня пролежала на всякий случай – я этого терпеть не могу, но это лучшее средство тут же прекратить болезнь. Две недели я не выходила из моей комнаты, но со вчерашнего дня я наконец выхожу и совершила прогулку на автомобиле с моим верным племянником Вигго[33], который так мил со мной. Вообще, я тронута любовью и сочувствием, которое здесь на моей дорогой родине все мне выказывают. Я вижусь со многими старинными друзьями и знакомыми, не говоря о множестве бедных русских беженцев. Среди прочих здесь бедная Маруся Чихачева, урожденная Альбединская[34], со своим пятнадцатилетним сыном и двумя золовками, которые были вынуждены бежать из Царского[35]. Мужа Чихачева в прошлом году посадили в тюрьму[36], сначала в Петербурге, потом в Москве, а в октябре его отвезли в Нижний Новгород, и с тех пор у нее не было никаких известий о нем. Бедная в таком отчаянии, что больно видеть. Это ужасно, и нечем помочь всем этим несчастным. Несколько дней назад сюда пришло крохотное суденышко, Китобой, с 25 русскими офицерами из армии Юденича[37], которым удалось спастись из Ревеля. Они подняли Андреевский флаг (только его), и они здесь, у берега Сангалиние. Вчера я приняла 12 офицеров, а остальные придут завтра. Это все молоденькие мальчики, и встреча с ними меня очень растрогала. Они собираются продолжать плавание на этом утлом суденышке до Черного моря, а там вступить в армию генерала Деникина[38]. Они все страшно худые, и по глазам видно, что они много выстрадали. Но они полны надежды и рады отдохнуть здесь, где все так к ним расположены, всячески выказывают участие, приносят табак и разную еду. Я этому очень рада.
К счастью, я часто получаю вести от моей дорогой Ксении, только от нее из всех моих детей! С тех пор как моей бедной Ольге пришлось бежать из Ростова, я ничего не получала прямо от нее; только тамошний датский консул заверил, что он знает, что она с семьей благополучно прибыли в Новороссийск. Дай Бог. От всего сердца надеюсь, что грустная новость о бедной Софе, которую вы мне прислали, не правда, особенно после Мотиного письма о том, что он ждет ее приезда. Но эта постоянная тревога, когда ничего не знаешь, – по-моему, самое тяжелое испытание. Когда же мы увидим конец всех этих ужасов в нашей несчастной, всем миром покинутой России?
7 марта. Все это время я не могла отправить письмо, так что продолжаю сегодня. Я узнала, что Ксения в Париже, и отправлю его туда. Наконец-то вернулся дорогой Вальдемар и привез мне ваше дорогое письмо, за которое я вас тысячу раз благодарю. Он рассказал мне о своем визите к вам и был очень рад увидеть вас. Как я огорчилась, узнав о смерти княгини Кудашевой[39]. Бедная графиня Нирод[40], какое горе для нее. Если вы ее увидите, то, пожалуйста, скажите, что я разделяю ее огромное горе и постоянно думаю о ней. Куда ни посмотришь, повсюду одни несчастья и горе. Я только что узнала, что моя дорогая Ольга выехала из Новороссийска 28 февраля, с группой из 12 человек, не считая ее собственной маленькой семьи. Но где она теперь – я с тех пор ничего не знаю. Как ужасна эта вечная тревога. Это просто убивает меня. Это уже 4-ый раз, что ей приходится бежать, бедной. Она наде- ялась, что еще вернется на Кубань, в другую станицу, а вместо этого Кубань захватили эти большевистские звери! А все эти несчастные в Крыму – что с ними? Бедный Димка Голицын[41] со всей семьей, говорят, приехал в Ялту, чтобы бежать на корабле. А он так серьезно болен! Лилишка[42], говорят, не хотела во второй раз уезжать из Алупки[43], но что будет с ней, среди орды убийц и разбойников! Я дрожу за них всех, а известий нет.
9 марта. Сегодня, наконец, я надеюсь отправить это старое письмо. Теперь, наконец, я могу вам сказать, что вчера получила длинное, еще декабрьское письмо от моей дорогой Ольги, с жутким описанием их бегства из Ростова с тысячами других беженцев, у которых ничего не было и которые просили у них хлеба! Это, конечно, было страшно, но я благодарю Бога, что он спас их и теперь они в безопасности в Константинополе – мне сообщили, что они прибыли туда. Слава Богу, среди прочего, она пишет мне, что совершенно не чувствовала панического страха, от которого когда-то страдала, даже и в Крыму. Я ею восхищаюсь – в самом деле, как замечательно она держится в этой жуткой обстановке и спокойно пишет мне, что они не одну ночь спали на соломе, раскиданной по земле, и что спать было даже удобно. Хуже всего были дни, которые они провели в грязном и мерзком вагоне, полном вшей и других гадостей! Хоть бы теперь они решили поехать куда-нибудь в Европе, подальше от убийц и разбойников, и дали бы мне вздохнуть от постоянной тревоги за них – по правде говоря, я уже не могу этого выносить. Впридачу к этому, тут еще волнуешься из-за 2-го плебисцита в Шлезвиге[44], который будет в воскресенье 14 марта. Немцы делают все, чтобы помешать ему, но я надеюсь, что милостивый Господь будет за правую сторону и за справедливость. Я здесь единственная из всей семьи, кто с болью видел войну 1864 года, когда у нас украли эту страну, которая была совершенно датской в продолжение тысячи лет, и вы можете представить, как я счастлива, что волей случая я здесь, когда решается вопрос, вернется ли она к Дании. Дай Бог.
Вальдемар приветствует вас...
Не болейте, скорее пишите мне.
Ваша Старая М
Видоре[45]
28 июля 1920
Дорогая Сандра,
Наконец-то я получила ваше милое письмо от 11 июля нового стиля и спешу вас поблагодарить от всего сердца. Я не понимаю, почему ваши письма не доходят до меня, в то время как Ксения их получает? Это даже как-то несправедливо, ведь я их жду с нетерпением.
Мои мысли с вами в особенности сегодня, в день праздника 15 июля[46], с которым связано столько хороших и веселых воспоминаний нашей молодости. Кто из нас тогда мог представить предстоящие нам ужасные перемены и кошмары. Я завидую всем, кого призвал к себе Господь и кто не видел всех наших мук и страданий, которые мы, несчастные, терпим, и те, которые еще впереди!
В настоящее время я счастлива, что со мной обе мои дорогие дочери и Ольгины два малыша, которые очень милы и вносят оживление в дом. Они так подросли тут. Весь день они на берегу моря. Маленький Гурий уже бегает, и он прелестный малыш, всегда веселый и никого не боится. Тихон говорит много слов и, в общем, может сказать все, что хочет. Ольга много занимается живописью и пишет прелестные акварели. В настоящее время она сочиняет рассказик для своих сыновей и делает к нему симпатичные иллюстрации.
Каждый день я вижусь с Вальдемаром и моим племянником Джорджи[47] или здесь, или в Бернсторфе[48]. Его дочь Маргарита[49] наконец вернулась из долгой поездки во Францию, где она делила время между своей бабушкой, герцогиней Шартрской, и братом Ааге[50], который служит в Меце. Ему очень нравится служба, и он вернется только поздней осенью. Остальную семью я тоже вижу очень часто, как и многих старых друзей и знакомых. Что касается русских, тут бедная Маруся Чихачева (ур. Альбединская). У нее нет известий от мужа[51] уже год. Он был в тюрьме сначала в Петербурге, потом в Москве, и наконец в Нижнем Новгороде. Бедняжка не знает, что с ним сталось и не убит ли он! Какой кошмар жить вот так, в вечной тревоге, без всяких известий!
С ней ее обе золовки и младший сын. Ее старший сын, прелестный юноша, приезжал к ней на несколько дней из Риги; второй сын тоже там.
В церкви видишь массу бедных беженцев, все они в более или менее одинаково грустном положении. Когда же мы увидим луч надежды на окончание всех этих ужасов? Союзники, вместо того чтобы помогать, только портят или лезут туда, куда их никто не просит. Совершенно непонятно. Ясно одно: им не нужна великая Россия.
Бедный Мотя, как он, верно, переживает за сына[52]. Я тоже ничего не слышала о Кутузовых со смерти моей милой Аглаэ[53]! Я телеграфировала Вере Кутузовой, но, наверное, моя телеграмма так и не дошла. Верен ли слух, что у бедного Мити Граббе[54] рак на лице? Надеюсь, что неправда, это было бы ужасно!
Надеюсь, что это письмо дойдет до вас, если вы еще не уехали в Париж. Ксения и Ольга шлют привет, а я нежно обнимаю и надеюсь вскоре получить письмо.
Ваша искренне любящая
старая М
Надеюсь, что ваша нога лучше.
[1] Дата и место установлены по содержанию записки: это ответ на поздравления кн. Оболенской по случаю дня рождения (12 августа) или именин (18 октября) цесаревича Алексея Николаевича.
[2] ...моего дорогого внука – цесаревича Алексея Николаевича (1904 – 1918).
[3] …статья Д. – источник не установлен. Слухи о расстреле Николая II и его близких на Урале, как и слухи об их чудесном спасении, достигли Крыма в августе 1918 г. В дневнике императрицы записано, что некий «Д.» спас царскую семью и перевез их на борт корабля.
[4] …Мальборо Хаус (Marlborough House) – лондонская резиденция королевы Александры с 1910 г., после кончины короля Эдуарда VII.
[5] …Шервашидзе – князь Георгий Дмитриевич Шервашидзе (1847 – 1918), тифлисский губернатор (до 1897 г.), позже обер-гофмейстер и заведующий канцелярией (личный секретарь) императрицы Марии Федоровны.
[6] …Мотя – граф Матвей Александрович Апраксин (1863 – 1926), брат А.А. Оболенской, морской офицер, церемониймейстер императорского двора, в 1914 – 1918 гг. комендант лазаретов ведомства путей сообщения.
[7] …Шатт – Корнелий Васильевич Шитт (18? – 1967), офицер Добровольческой Армии и Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), его сестра вышла замуж за лейтенанта британского флота в Балаклаве в 1919 г.
[8] …со Струковыми – фамилия неразборчива, предположительно это семья члена Государственного совета А. П. Струкова (1851 – 1922), о которой Оболенская упоминает в письме племяннице М. Н. Чернышевой.
[9] «Мальборо» – крейсер, предоставленный королем Георгом V для эвакуации из Крыма императрицы Марии Федоровны и великих князей Николая и Петра Николаевича со свитой.
[10] …моя дорогая сестра – Александра Датская (1844 – 1925), датская принцесса, королева Великобритании и Ирландии, супруга Эдуарда VII, короля Великобритании с 1901 по 1910. Она была очень дружна с Марией Федоровной; до замужества Александры в 1863 г. сестры делили одну комнату и были неразлучны. Когда в 1906 год умер король Христиан IX, отец Александры и Марии Федоровны, сестры приобрели в Дании виллу Видоре.
[11] …Вальдемар – принц Вальдемар Датский (1858 – 1939), брат императрицы Марии Федоровны, младший сын датского короля Христиана IX, адмирал флота, с 1885 г. женат на французской принцессе Марии Орлеанской, овдовел в 1909 г.
[12] …Аксель – принц Аксель Датский (1888 – 1964), сын принца Вальдемара.
[13] …Ингеборг – принцесса Ингеборг Шведская (1878 – 1958), дочь датского короля Фредерика VIII, замужем за шведским принцем Карлом.
[14] ...мадам Витте – графиня Матильда Ивановна Витте (ур. Нурок; 1863 – после 1920), вдова председателя Совета Министров и члена Государственного совета С. Ю. Витте. В США ездила, чтобы продать издателю мемуары покойного мужа, которые он тайно писал, выйдя в отставку, и держал во французском банке.
[15] ...в Биарриц – у семьи С. Ю. Витте была вилла в Биаррице, где до начала первой мировой войны они обычно проводили часть года.
[16] ...о бедном Георгии Михайловиче – в. кн. Георгий Михайлович (1863 – 1919), генерал-адъютант, во время войны состоял при Ставке верховного главнокомандующего. Расстрелян в Петрограде в декабре 1919 года.
[17] Сальса Маджоре – итальянский лечебный курорт.
[18] …Софа – Софья Александровна Щербатова (урожд. гр. Апраксина; 1850 – 1919), сестра Александры Александровны Оболенской, фрейлина цесаревны Марии Федоровны, воспитательница будущего императора Николая II, жена князя Николая Сергеевича Щербатова (1853—1929), директора Исторического музея с 1909 по 1921 гг.
[19] ...Ольденбургского – Александр Петрович Ольденбургский (1844 – 1932), член императорского дома, генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета, известный филантроп и бывший свекор в. кн. Ольги Александровны.
[20] ...Эжени – принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская (ур. принцесса Лейхтенбергская; 1845 – 1925), жена принца А. П. Ольденбургского и подруга молодости Марии Федоровны.
[21] ...Вера Орбелиани – Вера Владимировна (ур. графиня Клейнмихель; 1877 – 1948), бывшая жена князя Д. И. Джамбакуриан-Орбелиани, в 1919 вышла замуж за Вадима Николаевича Шебеко.
[22] ...последний брат – граф Петр Владимирович Клейнмихель (1875 – 1919), убит красными. За год до того был расстрелян граф Николай Владимирович Клейнмихель (1877 – 1918).
[23] ...от бедной матери – Екатерина Петровна Клейнмихель (ур. княжна Мещерская; 1843 – 1925).
[24] ...папá-Феликсу – Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон (1846 – 1928), муж последней в роду Юсуповых княгини Зинаиды Николаевны. Высочайшим указом в 1891 г. ему было пожаловано право именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном. Генерал-адъютант; в 1914 – 1915 гг. командующий Московским военным округом. Отец мужа в. кн. Ксении Александровны – Феликса Феликсовича Юсупова, одного из участников убийства Распутина.
[25] …Адель – старая французская горничная кн. Оболенской, выехавшая в эмиграцию вместе с хозяйкой.
[26] …Орбелиани – Дмитрий Иванович Джамбакуриан-Орбелиани (1875 – 1922), кавалергард, адъютант в. кн. Александра Михайловича.
[27] ...с тремя сыновьями – сыновья Ксении Александровны Ростислав, Дмитрий и Василий Александровичи поступили в школы-пансионы в Англии.
[28] …Копенгаген – Мария Федоровна уехала из Англии в Данию в августе 1919 г.
[29] …в этот день. – 26 февраля (1845) – день рождения Александра III. Ежегодно семья Александра III заказывала панихиды не только в годовщину его смерти, но и дня рождения.
[30] …Амалиенборг – зимняя резиденция датской королевской семьи, состоящая из четырех зданий. В одном из них в холодное время года жила Мария Федоровна со свитой и родными.
[31] ...с Юсуповыми был ...очень неприятен – оказавшись в Италии без денег, А. А. Оболенская хотела получить кредит в банке, но для этого нужно было чье-то поручительство. Юсуповы сначала обещали его дать, а потом отказались.
[32] ...испанского гриппа – осенью 1918 г. началась пандемия гриппа, которой заразилась пятая часть населения земного шара. Смертность от этого гриппа была значительно выше, чем от обычного, причем группой риска оказались люди в возрасте от 20 до 40 лет.
[33] …Вигго – принц Вигго Датский (1893 – 1970), сын принца Вальдемара Датского и принцессы Марии Орлеанской.
[34] …Маша Чихачева – Мария Петровна Чихачева (ур. Альбединская; 1863 – 1928), жена Ф. П. Чихачева.
[35] …бежать из Царского – из Царского Села, где жили до революции многие из близких к императорской семье.
[36] ...Чихачева посадили в тюрьму – Федор Платонович Чихачев (1859 – 1919), сын известного путешественника и соучредителя Русского географического общества П. А. Чихачева. Ф. П. Чихачев был минералогом, работал в Германии и Франции, вернулся в Россию, чтобы воспитывать сына в царскосельской школе. Был арестован в 1919 г. при выходе из французского посольства в Москве.
[37] …из армии Юденича – Николай Николаевич Юденич (1862 – 1933), генерал от инфантерии, глава Белой армии на северо-западе России. После провала похода на Петроград осенью 1919 г. отступил в Эстонию с остатками армии и в 1920 г. эмигрировал во Францию.
[38] ...в армию генерала Деникина – Антон Иванович Деникин (1872 – 1947), генерал-лейтенант; с 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот); в январе 1920 г. адмирал А. В. Колчак передал А. И. Деникину пост Верховного правителя Российского государства. Эмигрировал в апреле 1920 г.
[39] ...смерти княгини Кудашевой – княгиня Вера Максимилиановна Кудашева (ур. Нирод; 1874 – 1920), супруга камергера князя Сергея Вл. Кудашева, умерла в январе 1920 г.
[40] ...бедная графиня Нирот – Анастасия Федоровна Нирод (ур. Трепова; 1849 – 1940), мать кн. Кудашевой.
[41] ...Димка Голицын – князь Дмитрий Борисович Голицын (1851 – 1920), генерал-майор свиты, скончался в Греции вскоре после эмиграции из Крыма.
[42] …Лилишка – графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова (ур. Шувалова; 1845 – 1924), вдова кавказского наместника И. И. Воронцова-Дашкова, подруга Марии Федоровны.
[43] …Алупка – имение Воронцовых-Дашковых в Крыму.
[44] …плебисцита в Шлезвиге – в 1920 г. в Шлезвиге (аннексированном в 1864 г. Пруссией) проводился плебисцит по вопросу гос. принадлежности, в результате Сев. Шлезвиг перешел к Дании.
[45] Видоре – вилла в 15 километрах от Копенгагена на берегу пролива, которой совместно владели Мария Федоровна и ее сестра королева Александра. В бильярдной над камином сохранилась надпись «Øst, Vest, Hjemme er bedst», датский эквивалент поговорки «В гостях хорошо, а дома лучше».
[46] ...праздника 15 июля – именины Владимира, день, всегда праздновавшийся в кругу семьи Александра III – это имя носил один из его братьев и несколько близких друзей, включая мужа кн. А. А. Оболенской.
[47] ...с Вальдемаром и ...Джорджи – Принц Вальдемар Датский и его племянник принц Георг Греческий (Джорджи, 1869 – 1957), оба женатые и отцы семейств, находились в многолетней связи, которую остальные члены семьи принимали как должное, а придворным и светскому обществу оставалось только закрывать на это глаза. После смерти жены принца Вальдемара Георг Греческий почти безвыездно жил у принца Вальдемара, они путешествовали вместе, и только в Англию им приходилось ездить раздельно.
[48] …Бернсторф – поместье принца Вальдемара Датского около Копенгагена.
[49] Его дочь Маргарита – принцесса Маргарета Датская (1895 – 1992), дочь принца Вальдемара и принцессы Марии Орлеанской.
[50] …Ааге – принц Ааге Датский (1887 – 1940), сын принца Вальдемара, служивший во французском Иностранном легионе.
[51] ...нет известий от мужа – в 1919 г. Ф. П. Чихачев был арестован в Москве, а потом переведен в Нижний Новгород, где умер в сентябре того же года. См. примечание 35.
[52] ...за сына – граф Александр Матвеевич Апраксин заведовал лазаретом в Крыму и отказывался бросить его при наступлении Красной армии.
[53] …милая Аглаэ – графиня Аглая Васильевна Голенищева-Кутузова (1853 – 1920), камер-фрейлина Марии Федоровны, служившая ей вместе с сестрой, Марией Васильевной, умершей в 1915 г. Аглая Васильевна умерла в лагере беженцев на греческом острове Лемнос.
[54] …Мити Граббе – граф Дмитрий Михайлович Граббе (1874 – 1927), полковник кавалергардского полка.
Время публикации на сайте:
|
Метки: романовы оболенские |
ВЛАДИМИР ОБОЛЕНСКИЙ |
ВЛАДИМИР ОБОЛЕНСКИЙ
Вл. Серг. Оболенский-Нелединский-Мелецкий (титул передавался старшему сыну). Род. в Москве 31 марта 1847 г. Его отец 1819-1882, мать, ур. Наталья Мезенцева 1820-1895. Жена Александра Алекснд. Апраксина - провище "Сандра", см. ниже. (23.4.1852 - ум. в Париже 3 янв. 1943 г. - так может быть, ее вторая подпись!!!) Поженились 3.2.1880.
Елки! 20 сентября в Царском селе родился его племянник от брата Платона (1850-1913) и Марии Нарышкиной - был назван Сергеем, носил все три фамилии, умер Grosse Pointe, Michigan 29 Sep 1978, m.1st Yalta 6 Oct 1916 (div 1924) Catharina Pss Yurievsky, daughter of Tsar Alexander II of Russia (St.Petersburg 9 Sep 1878-Havant 22 Dec 1959); m.2d London 24 Jul 1924 (div 1932) Alice Astor (New York 27 Jul 1902-New York 19 Jul 1956); m.3d Arlington, Virginia 3 Jun 1971 Marylin Fraser-Wall (b.Detroit 13 Aug 1929) - т.е. первым браком за незаконной дочерью Александра II.
Половцев, т. 2 - Оболенский и Шереметев, два Володи, - татары, желающие "конфисковать в свою исключительную собственность приятности и выгоды царского собеседничества".
29 июля 1890 г. начальник Оболенского Воронцов: Негодяй, у которого "одно стремление - вертеться на глазах их величеств". С. 210. "Хаос придворной службы и презренная личность играющего в этом первую скрипку О.".
Нет, прямой начальник О - обер-гофмаршал Трубецкой.
Умер 7.11.1891 в Ливадии.
Т. 2, с. 388. "Оболенский сделался для государя и императрицы в последние годы ближайшим и необходимейшим человеком. Не имея ни детей, не имущественных забот, ни каких-либо иных высших стремлений или интересов, оба они, и муж и жена (рожденная Апраксина), поставили придворную жизнь и близость к их величествам целью своего существования. По обязанности гофмаршала он постоянно находился при своих хозяевах и по возможности монополизировал их в свою пользу; человек он был недурной, но вполн едюжинный; вследствие же умственного ничтожества окружавшей его придворной среды, он вообразил себя великим государственным мужем, судил обо всем не задумываясь и в особенности искусно отстранял от двора своею оценкою всякого, кто мог в чем-нибудь стать поперек его дороги. В Гатчине императрица имела с ним ежедневные и продолжительные вдвоем прогулки, последствием коих, между прочим, было то, что она в последние годы не подает более руки гр. Воронцову-Дашкову, министру двора, лишь сухо кивает головой".
Т. 2, с. 425 - на место О. был назван военный агент в Берлине Голенищев-Кутузов. "Он будет лишь исполнителем приказаний вдовы покойного именитой Сандры".
Николай Второй об Оболенском (дневник, 7.11, с. 42): "Что за грусть я испытал, узнав о его смерти! Человека, которого мы все знали с самого раннего детства, которого тогда еще окрестили именем "Кролик" и любили более, чем родственника своего - и вдруг его не стало! Бедная, несчастная Апраксина".
http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/obolensky.html
Князь Владимир Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий (31. 03. 1847, Москва - 07. 11. 1891, Ливадия), генерал-лейтенант, гофмаршал.
По служебной лестнице и табели о рангах князь Владимир стоит на третьей от престола ступеньке - выше него располагаются лишь обер-гофмаршал, а им числится с 1888 года князь Сергей Никитич Трубецкой (1829-1899), генерал-лейтенант, племянник знаменитого декабриста, а над князем Сергеем - министр Двора и Уделов Воронцов. Но это по служебной... На самом деле В. С. чрезвычайно любим Императорской четой, а честолюбие гофмаршала таково, что царскую любовь князь ни с кем делить не желает. Из всех сидящих за столом - князь Владимир отличается, пожалуй, самым непростым и противоречивым характером. Будучи склонным к некоторой степени интриганства, князь и сам, как это обычно присуще таким людям, подозревает в этом грехе ближних. Он искатель случая и поэтому весьма гибок в общении - может быть угодлив и податлив, но чаще, и обычно с нижестоящими по службе, груб и несдержан. За эту-то грубость его и не любят многие, очень многие, кто-то и завидует его «случаю», «удаче», «фавору», такие слова рассыпаны в дневниках современников. От них князь удостоился самых нелестных эпитетов «презренная личность», «первая скрипка в придворном Хаосе» и т. п. Статс-секретарь А. ПОЛОВЦОВ записывает в «Дневник», словно желчью из-под пера брызжет: "Оболенский и Шереметев, два Володи, - татары, желающие "конфисковать в свою исключительную собственность приятности и выгоды царского собеседничества"*. Сидящий за этим же столом министр и начальник князя, граф Воронцов всего два месяца тому характеризовал Оболенского в ещё более сильных выражениях: "Негодяй, у которого одно стремление - вертеться на глазах их величеств".
Многих честных и готовых верой и правдой служить Александру III людей, придворные, подобные Оболенскому навсегда отвадили от придворной службы. В Императорской семье за ним закрепилось прозвище "Кролик".
Через год Оболенский умрёт в Ливадийском дворце и Цесаревич Николай Александрович запишет в Дневнике: "Что за грусть я испытал, узнав о его смерти! Человека, которого мы все знали с самого раннего детства, которого тогда еще окрестили именем "Кролик" и любили более чем родственника своего - и вдруг его не стало! Бедная, несчастная Апраксина". Николай был опечален настолько, что ещё несколькими строками ниже упоминая о том, что приехал молодой Альбрехт Вюртембергский с сообщением о смерти старого короля, добавит язвительно и меланхолично: «как будто мы и без него об этом не знали». Здесь чувствуется раздражение и злая ирония: утрата Оболенского не сравнится для него со смертью старого Вюртембергского родственника.
Наконец, ещё три года спустя, 25-го октября 1894 после перенесения в ливадийскую дворцовую церковь гроба с телом отца, Николай, теперь Император, вновь помянет верного слугу: "Уже третий раз приходится бывать на панихидах в этой церкви - по Оболенском, Басаргине и теперь по нашем незабвенном Отце!"***.
* - Половцев, т. 2.
** -
*** - Дневник Николая II, 7.11, с. 42.
P.[rincesse] Obolensky. Княгиня Александра Александровна (или как её зовут в «своём» кругу, «Сандра»), урождённая графиня Апраксина (23. 04. 1853 - 03. 01. 1943, Париж), жена (03. 02. 1880) князя В. С. Оболенского (см. № 12). По девичьей фамилии княгиня имеет ещё и второе прозвище, чаще употребляемое Императрицей и Цесаревичем Николаем: «Апрак». После смерти мужа она сохранит близость к Августейшей фамилии и в новое царствование. «Сандра» тоже будет не чужда благотворительности - устроит в Царском Селе богадельню и детский приют, а в военную годину на свои средства снарядит санитарный поезд. Отношения в браке с князем Владимиром были неровными, детей у них не было.
Влияние её на Царскую чету таково, что после смерти в следующем году её супруга, в придворных кругах будут шушукаться о том, что, назначенный на вакансию военный агент в Берлине Голенищев-Кутузов, "будет лишь исполнителем приказаний вдовы покойного именитой Сандры".
Вот вам характерная сценка: менее чем через пять лет после этого обеда, 1 августа 1895 Сандра со старухой-министершей Ольгой Гирс, племянницей пушкинского соученика по Лицею, а затем – последнего канцлера Империи князя Горчакова, занимают места в вагоне литерного поезда, чтобы ехать в Троицкую пустынь на могилы родных, вдруг вагоны запирают на ключ, и следует приказ опустить оконные рамы. Сандра недовольна. Протестует, пререкается с проводником, тут же в окне появляется штык одного из солдат охраны, плотным кольцом окруживших состав, рекомендацию повторяют в ещё более грубой форме. Спустя час ситуация проясняется – ждут прохода Императорского состава в Петергоф. Ещё через час поезд прошёл – пустой. Невольные арестантки заметили в окне лишь престарелого Великого князя Михаила Николаевича, старик вёз к морю внучку, Александрину Мекленбург-Шверинскую, будущую датскую королеву и бабку нынешней, Маргретте II.
…В тот день Николай и Александра предпочли проехать в Александрию коляскою…
Современник, записавший через два дня в дневник эти обстоятельства, воскликнул: «Можно ли вообразить себе меры безопасности более раздражающие и менее эффективные! С трудом верится, что подобные вещи могут иметь место в наши дни!». Это конец цитаты и это написано в 1895 году.
***
ОБОЛЕНСКИЙ-НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ Сергей Платонович
20 сентября 1890, Царское Село Санкт-Петербургской губернии - 29 сентября 1978, ферма Гросс Пойнт, штат Мичиган
Князь, участник Белого движения на Юге России, полковник Русской армии и армии США; участник Второй мировой войны, парашютист; деловой и светский человек.
Родился в Летнем дворце. Сын генерал-майора князя Платона Сергеевича Оболенского-Нелединского-Мелецкого и его жены Марии Константиновны (урождённой Нарышкиной).
Получив среднее образование (1910), в течение двух лет изучал агрономию в Санкт-Петербургском университете. Затем отправился в Англию, где занимался политэкономией в Оксфордском университете. В 1914 возвратился в Россию и вступил в офицерском чине в Кавалергардский Е.И.В. [Её Императорское Величество] Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полк 1-й гвардейской дивизии. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия на немецком фронте награждён тремя Георгиевскими крестами. После Октябрьского переворота 1917 — в белых войсках на Юге России. Полковник (на 1920).
После 1920— в эмиграции в США. Гражданин США (1932), успешный деловой предприниматель. В начале Второй мировой войны поступил добровольцем в амеhttp://yakov.works/spravki/1_history_bio/19_bio/1847obol.html
|
Метки: оболенские |
Памяти князя Сергея Сергеевича Оболенского |
Памяти князя Сергея Сергеевича Оболенского
1 января 2013 года в Париже на девяносто пятом году жизни скончался князь Сергей Сергеевич Оболенский (22.02.1918 – 01.01.2013).
Это невосполнимая утрата для всего русского зарубежья. Инженер, общественный деятель, деятель церкви. Он являлся представителем одного из древнейших княжеских родов России, ведущих свое начало от Рюриковичей. Его прадед по материнской линии граф Алексей Сергеевич Уваров был первым директором Исторического музея в Москве.
С.С.Оболенский принадлежал к московской ветви рода. Родился в Ессентуках Ставропольского края, где в это время находилась его семья. Отец Сергей Александрович — штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, в 1919 году вступил в Добровольческий эскадрон Конной гвардии на Юге России. После скитаний в эмиграции с 1924 года семья Оболенских жила во Франции (Ницца).
В 1939 году Сергей Сергеевич окончил Электротехнический институт в Гренобле. Участник Второй мировой войны, в 1940–1942 годах был в немецком плену. С 1943 года Оболенский — инженер службы электрификации Франции, председатель Общества офицеров во Французской службе и в течение многих лет — член совета Союза русских дворян, а также председатель Союза до 2007 года.
Можно только удивляться, как один человек мог так плодотворно совмещать в своей деятельности столько важных дел. С 1981 года С.С.Оболенский — секретарь Епархиального совета Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, член Комиссии по особым поручениям при Совете Архиепископии (1981–1998); с 1986 года председатель Комитета в ознаменование тысячелетия Крещения Руси; староста прихода собора Святого Александра Невского в Париже.
С.С.Оболенский был еще и председателем Союза офицеров Русского экспедиционного корпуса на французском фронте в 1916–1918 годах, возглавлял паломничества на русское военное кладбище в Мурмелон-ле-Гран (департамент Марн). Он награжден французским орденом «За национальные заслуги» (1977), а также орденом Почетного легиона (2000, 2004).
Как сын конногвардейца, С.С.Оболенский был принят в члены Конногвардейского объединения в Париже. После смерти В.С.Курченинова являлся бессменным председателем Объединения потомков офицеров лейб-гвардии Конного полка.
В 2007 году С.С.Оболенский был почетным гостем Дома русского зарубежья, участвуя в проекте, посвященном 40-летию выхода в свет парижского издания «Истории лейб-гвардии Конного полка».
Сергей Сергеевич — один из последних сыновей гвардейских офицеров, хранивших память и традиции Русской императорский гвардии. С его уходом закончилась эпоха полковых традиций, сохраняемых конногвардейскими офицерами в эмиграции.
Во Франции у Сергея Сергеевича осталось шестеро детей и тринадцать внуков.
Светлая ему память!
Тамара Спиридонова
|
Метки: оболенские |
Энгельгардты. Личность. Петр Столыпин |
Энгельгардты. Личность. Петр Столыпин. Ч.1

Петр Аркадьевич Столыпин 1862- 1911, гимназист. Вильно. 1876.
Даже у человека мало интересующегося историей, где-то на слуху выражения "столыпинский галстук", "столыпинский вагон", и, конечно, фраза: "Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия!". На него было 11 покушений, последнее достигло своей цели.
Выдающийся государственный деятель, премьер-министр России родился 2 апреля 1862 года в Дрездене в семье Столыпина Аркадия Дмитриевича и Горчаковой Натальи Михайловны.
Столыпины, как дворянский род упоминаются в ”Поручной записи бояр и дворян” с 1566 года. Столыпин Григорий Андреевич был сыном тверского архиепископа, Столыпин Афанасий Григорьевич упоминается как небогатый муромский дворянин, так как выставил “на Государеву службу” только 4 человека. Столыпин Семен Сильвестрович в "Боярском списке" (хотя Дума уже не собиралась) 1703 года числится как "дворянин отставной", оставленный в Москве для посылок. Столыпин Емельян Семенович 1687 - 1757, вышел в отставку поручиком и был определен в Пензенскую провинцию Казанской губернии "к воеводе в товарищи", и за это время обзавелся деревнями в указанной губернии.
Столыпин Алексей Емельянович 1744 - 1817, пензенский помещик, уже смог учиться в гимназии при Московском университете. Учился в одно время с Николаем Новиковым и автором "Недоросля" Денисом Фонвизиным. В 1780-85 годах возглавлял совестный суд Пензенского наместничества, с 1787 года - пензенский губернский предводитель дворянства. Сделал карьеру благодаря дружбе с Григорием Орловым, а большое состояние скопил на винных откупах, поставлял вино в казну. К 1811 году у него уже были земли в 6 губерниях, несколько винных заводов, 1146 душ крепостных. С Марией Афанасьевной Мещериновой у него было 11 детей, и все они, так или иначе, стали известны в истории.
Столыпина Елизавета Алексеевна 1773 - 1845. В 1794 году вышла замуж за Арсеньева Михаила Васильевича 1768 - 1810, елецкого помещика, поручика л-гв. Преображенского полка, позже предводителя дворянства Чембарского уезда. Учился в знаменитом Богородицком пансионе ученого Андрея Болотова. И, когда молодые после свадьбы купили имение Тарханы, посадил там прекрасный парк. Здесь родилась их единственная дочь Мария, и горячо любимый внук Мишель. После самоубийства мужа, смерти дочери и разрыва отношений с зятем, она сама воспитывала будущего поэта.

Имение Тарханы, где родился Михаил Юрьевич Лермонтов, троюродный дядя Петра Столыпина.
Столыпин Аркадий Алексеевич 1778-1825, обер-прокурор Сената, друг Михаила Сперанского, Кондратия Рылеева, Александра Грибоедова, Кюхельбекера, Николая Карамзина. Он и сам писал стихи. В Петербурге имел репутацию честного и неподкупного сенатора Женат был на Мордвиновой Вере Николаевне. Ее отец Мордвинов Николай Семенович 1754 - 1845, сын адмирала, в 10 лет был взят Екатериной П во дворец для совместного воспитания с будущим Павлом 1, в 12 лет уже гардемарин, а в 27 лет стал капитаном корабля “Святой Георгий Победоносец”. Когда команда стояла в Ливорно, он познакомился с Генриеттой Коблей, дочерью английского консула, женился и привез ее в Россию. Она почти не говорила по-русски, но имела живой и общительный характер, ее дом был всегда хлебосольный. Родственники из Англии часто гостили у них, а ее брат стал комендантом Одессы в 1801 году, а в 1814 - градоначальником. В честь Фомы Коблея назван курорт Коблево и улица в Одессе.
Аркадий Столыпин был полностью посвящен в планы декабристов, но в списки привлеченных к следствию не попал, так как умер в мае 1825. Кондратий Рылеев, утешая вдову, и говоря, что нужно жить ради детей (их осталось 7 человек, младшей Кате было 8 месяцев), писал:
"Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых им узрим,
И смело скажем: знайте им
Отец Столыпин, дед Мордвинов.
А после смерти в 1834 году Веры Николаевны вся забота о детях легла на плечи дедушки Николая Мордвинова. Он им дал прекрасное образование, а еще приучил вести дневники, где отмечалось, что же хорошего они сделали, чтобы время не проходило впустую. Гувернанткой к детям он взял Аграфену Васильевну Кафтыреву, выпускницу Смольного и родственницу Энгельгардтов.

Столыпина Мария Аркадьевна 1819 - 1889
В 1837 году Марию по настоянию бабушки Генриетты Коблей выдали замуж за Ивана Александровича Бека, чиновника Коллегии иностранных дел и талантливого поэта. который первым начал переводить "Фауста" Гете. Но в 1842 году он умер, а на Марии Аркадьевне женился Павел Вяземский, сын поэта. Их дочь Екатерина вышла замуж за Шереметева Сергея Дмитриевича (см.Кочубеи. Ч 6, 7). До 1857 года семья живет в русских миссиях Константинополя, Гааги, Вены. Затем Вяземские возвратились в Петербург и много усилий приложили для создания архива и музея в Остафьево (будущий "Русский Парнас").

Столыпина Вера Аркадьевна 1821 - 1853
Вера Аркадьевна Столыпина стала женой Голицына Давид Федоровича, внука Варвары Васильевны Энгельгардт.
Самая младшая сестра Екатерина вышла за Николая Аркадьевича Кочубея, сына сенатора. Вторым браком он был женат на дочери декабриста Сергея Волконского и Марии Раевской Елене Молчановой.

Кочубей Николай Аркадьевич 1827 - 1868
Столыпин Дмитрий Алексеевич 1785 -1826 , дед Петра Столыпина. Генерал-майор, участник войны 1812 года. После 1814 года служил в Южной армии, где сблизился с Павлом Пестелем. С его взглядами он был согласен: России нужна конституция. Его кандидатуру, наряду с Николаем Мордвиновым и Михаилом Сперанским, декабристы рассматривали в составе Временного правительства после свержения императора. Фамилия Дмитрия Столыпина была в записке Александра 1, найденной среди бумаг после его смерти: "...пагубный дух вольномыслия разлит в двух армиях...". Женившись на Наталье Анненковой, Дмитрий Алексеевич решил уйти в отставку и пожить спокойно, как простой помещик. Покупает имение Середниково, где и поселяется с семьей. Навещали его многие из тех, кто попал потом в следственные списки. Узнав о начавшихся арестах, по одной из версий, он застрелился 3 января 1826 года.

Родовая усадьба Столыпиных Середниково.
Столыпин Аркадий Дмитриевич 1821 -1899, отец Петра Столыпина, родился в имении Середниково. В 16 лет определен в 1конную артиллерию. был участником Крымской войны, где служил под началом своего будущего тестя Горчакова Михаила Дмитриевича. В Севастополе встречался со Львом Толстым (в 1888 году они станут родственниками, когда сын Толстого Илья женится на Философовой Софье Николаевне). В 1857 году получает должность наказного атамана Уральского казачьего войска. Он, буквально, преобразил город Уральск: построил театр, библиотеку, музыкальную школу, типографию, в которой печатались и учебники, в том числе, для станичных школ (а их он открыл более 100). Лучших учеников посылали для дальнейшей учебы в Москву и Петербург. Центральный бульвар города так и назывался - Столыпинский. В 1859 году был зачислен в Свиту Его Императорского Величества. В 1869 году оставляет военную службу, получает чин тайного советника и должность шталмейстера Двора.
В это же время продает Середниково и приобретает имение Колноберже Ковенской губернии. Вот как от этом рассказывает его внучка Мария Петровна Бок:"Колноберже было получено дедом моим Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, за карточный долг. Его родственник Кушелев, проиграв ему значительную сумму в яхт-клубе, сказал: "Денег у меня нет, но есть небольшое имение в Литве, хочешь, забирай!" Были у нас и другие имения, но как мы полюбили Колноберже! Вскоре после Пасхи начинались сборы. Экзамены и учителя позади, а впереди...прогулки, купание в Несвяже, свидание со всеми любимыми обитателями - людьми и животными."
Усадьба Столыпиных Колноберже ( один из флигелей, современный вид).
С началом Балканской войны 1877 года Александр П, с которым Аркадий Дмитриевич был в дружеских отношения, пожелал его видеть на военной службе. Жена Наталья Михайловна была на фронте вместе с мужем сестрой милосердия. В 1878 году он был назначен генерал-губернатором Восточной Румелии (территория будущей Болгарии). А с 1892 года и до смерти был комендантом Московского Кремля. За свою службу получил более 20 орденов и медалей. Это был всесторонне одаренный человек: написал “История России для народного и солдатского чтения”, статьи, рассказы, мемуары; был скульптором и композитором.
историяжизньпутешествияhttps://golos.io/ru--istoriya/@engelgardhistory/en...ty-lichnost-petr-stolypin-ch-1
|
Метки: столыпины дворянские владения |
Бок, Николай Иванович фон |
Бок, Николай Иванович фон
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Бок.
| Николай Иванович фон Бок | |
|---|---|
| Дата рождения | 13 ноября 1880 |
| Место рождения | Санкт-Петербург |
| Дата смерти | 27 февраля 1962 (81 год) |
| Место смерти | Нью-Йорк |
| Гражданство |  Российская империя Российская империя |
| Род деятельности | российский дипломат в Ватикане  Ватикан, преподаватель университетов в Такаока Ватикан, преподаватель университетов в Такаока  Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке  США, участник Русского апостолата США, участник Русского апостолата |
| Отец | Иван Иванович фон Бок |
| Мать | Наталья Васильевна фон Бок урожденная Коссович |
| Супруга | Светлана фон Бок урожденная Таирова, вторым браком - Люси Ивановна фон Бок |
Николай Иванович фон Бок (13 ноября 1880, Санкт-Петербург — 27 февраля 1962), Нью-Йорк — российский дипломат, преподаватель университетов в Такаока, Япония и Нью-Йорке, США; католический священник, иезуит византийского обряда, настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорк, участник Русского апостолата.
Содержание
Биография
Родился в Санкт-Петербурге в семье российского дипломата Ивана Ивановича фон Бока, выпускник Главного немецкого училища Св. Петра в 1899 году и Императорского Санкт-Петербургского университете в 1903 году, поступил на службу в Министерство иностранных дел Российской империи, с 1912 года - секретарь миссии в Ватикане, в 1916-1917 годах - поверенного в делах этой миссии.
После 1917 года остался в Италии, был председателем Комитета помощи русским беженцам, с 1924 года жил в Париже, в 1925 году перешёл в католичество, в 1931 году переехал в Японию, преподавал в университете Такаока, с 1943 года жил в городе Кобе. Овдовев, в 1945 году поступил в орден иезуитов.
В 1948 году рукоположен в сан священника, получил назначение настоятелем русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, позже работал в Русском центре имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке (Russian Center Fordham University. New York, 58).
В 1950 году участвовал в Съезде русского католического духовенства в Риме.
Видео по теме
Скачать видео
Семья
Брат Борис Иванович фон Бок – капитан I ранга, женат на Марии Петровне, дочери П.А. Столыпина.[1]
Труды
- Осьмидневные духовные упражнения. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1953.
- Россия и Ватикан накануне революции: Воспоминания дипломата. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1962.
Примечания
- Фостер Л. Американский потомок Столыпина // Русский Вестник, 26.3.2008.
Ссылки
- Николай Иванович Бок
- Колупаев В. Е. Иеромонах Николай Бок // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
- Колупаев В. Е. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА
- О. Бок Николай (1878-1962)
- Сайт прихода Фатимской Девы Марии, Калифорния (англ.)
- Голованов С.В. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции 1917-1991 гг.
|
Метки: фон бок |
А. П. Штер Библиотека На крейсере «Новик» |
Этот день, собственно говоря, надо считать действительным началом войны, так как бывшее накануне ночное нападение миноносцев на нашу эскадру нельзя назвать войной, — это, может быть, очень практичный, но в высшей степени бесчестный способ объявления начала военных действий; хотя англичане и говорили, что они на месте японцев поступили бы совершенно также, но на то они и англичане, поступки которых по отношению к другим державам никогда нельзя было назвать порядочными. Так, англичане совершенно искренно удивлялись, как это русские не догадались потопить «нечаянно» «Ниссин» и «Касугу» (крейсера, купленные японцами у Аргентинской республики) до объявления войны, когда крейсера эти находились в европейских водах. Утром 27 января начальник эскадры был еще с докладом у наместника о ночной атаке и ее последствиях, когда на горизонте показались неприятельские корабли, — это были разведочные крейсера, присланные проверить результат ночного нападения; встреченные огнем нашей эскадры, крейсера удалились, убедившись, что нескольких судов нашей эскадры не хватает. Этого им только и нужно было. Немедленно на горизонте стали появляться дымки, — собиралась вся эскадра японская: в 11 часов увидели крейсер «Боярин», который полным ходом уходил от японцев и держал сигнал о приближении к Артуру неприятеля в большом числе. Начальник эскадры как раз вовремя успел подъехать на катере, высадился на свой броненосец, и эскадра снялась с якоря, чтобы вступить в первый бой. Несмотря на то, что неприятель превышал нас значительно в силе, все-таки положение наше было выгоднее. Японцы настолько близко подошли к Артуру, что береговые батареи — не все, конечно, но часть их — могли принять участие в бою, а главным образом, выгода наша заключалась в нравственном отношении, именно в сознании, что за спиной находится крепость, тогда еще полная сил и желания бороться. Японцы же были сравнительно далеко от своих берегов, и поврежденному кораблю не было бы иного убежища, кроме дна морского. Каждому понятно, какое огромное значение имеет подобное сознание во всяком бою. Действительно, японцы, которым приходилось одновременно стрелять по судам и по батареям, не могли вести сосредоточенного огня, или же у них не была еще выработана система, которой они придерживались впоследствии, система сосредоточивания огня всей эскадры на одном корабле. Во всяком случае, стрельба их была в высшей степени беспорядочная и не приносила вреда; несколько попавших снарядов не причинили нам серьезных повреждений, кроме разве крейсера «Новик», которому 8-дюймовый снаряд так разорвал бок, что пришлось прекратить бой и 10 дней чиниться в доке. Выход из строя «Новика», несмотря на всю храбрость его командира, не мог иметь, конечно, решающего значения в этом бою, так как крейсер с такими слабыми силами, как «Новик (6 орудий по 120-мм), не представляет из себя эскадренного боевого судна, а может служить лишь как разведочный крейсер или для отражения миноносцев, что он неоднократно впоследствии и доказывал, будучи положительно грозою японских миноносцев. Громкая слава, которую «Новик» заслужил с первого же боя, принадлежит, конечно, командиру, а не кораблю, так как командир, несмотря на положительно ничтожную артиллерию, сравнительно с громадными японскими броненосцами, бросался вдоль линии неприятельского флота, действительно подходя на наименьшее расстояние, наблюдавшееся мною за все время войны. Одним словом, я хочу сказать, что наша эскадра, несмотря на слабейшие силы, пострадала гораздо меньше японской и находилась в более выгодных условиях. Из этого можно было бы извлечь большую пользу, но момент был пропущен, и я не берусь судить, на кого, собственно, ложится в этом вина: на начальника ли эскадры или же на наместника, который руководил боем с Золотой Горы. Дело в том, что японский флот проходил мимо Артура в одной кильватерной колонне, причем легкие корабли шли в хвосте этой колонны. Когда броненосцы уже прошли Артур, слабые сравнительно крейсера находились еще полностью в сфере огня нашей эскадры и батарей, и будь у начальников наших больше энергии и боевой сообразительности, можно бы было произвести общую атаку на концевые корабли, смять их или отрезать от броненосцев и тем вызвать вторичное приближение японского флота. Между тем был сделан сигнал: «Миноносцам атаковать неприятеля», что было уже совсем опрометчиво, так как атаковать неприятельскую эскадру днем, да еще тем небольшим количеством миноносцев, которое у нас имелось в Артуре, положительно не было возможности, — ни один миноносец не дошел бы на минный выстрел. После некоторого раздумья, когда миноносцы уже снялись с якоря, чтобы выполнить приказание, сигнал был отменен, — видимо, начальники совершенно растерялись и не знали, что же собственно надо в таких случаях делать. Пока все это происходило, японская эскадра ушла далеко и больше, конечно, не возвращалась, так как первый опыт вышел у них очень неудачным: суда их получили значительные повреждения и ушли в Японию приводить себя в порядок. Если бы у нас тактика сразу из оборонительной перешла хоть немного в наступательную, надо думать, что вся война получила бы другой оборот. Описать самый бой как личное впечатление, по-моему, невозможно: слишком много сильных ощущений получается одновременно, слишком быстра смена впечатлений, чтобы связный рассказ мог передать действительно весь эффект боя. Одновременно видишь взрывы снарядов в воде, которые дают громадные водяные фонтаны кругом судна; упавший рядом с бортом снаряд окачивает водой с ног до головы; чувствуешь сотрясение от взрыва попавшего в борт снаряда, мелькают мысли о значительности повреждения, о способе заделать полученную пробоину; изредка видишь высоко пролетающий с гулом снаряд большого орудия; проносится стон раненого; несут носилки; резкий звук своих орудий, отдаленный грохот неприятельских, постоянное сознание, что смерть или тяжелое увечье носится над головой, — все эти мысли и впечатления проносятся буквально одновременно в голове, а между тем дело идет своим чередом; направляешь огонь, даешь прицел, исправляешь мелкие повреждения в установках орудий, — ясно, что при последовательном рассказе полного впечатления боя дать нельзя. Можно вывести только общее заключение, что война — явление потрясающее, в особенности на море, и что результат современного боя очень мало зависит от подчиненных, а главным образом от начальника. Конечно, большую роль играет опытность комендоров в стрельбе, правильно определяемое расстояние до противника, разумное руководство в скорости стрельбы и т.д. Но какое все это может иметь значение, если начальник не желает драться, а только отмахивается от неприятеля, как от назойливой мухи? Такое отношение к делу было все время заметно в Порт-Артуре; ни разу начальство не решилось на серьезное дело, все время проглядывало желание сохранить как можно больше кораблей и людей и свою собственную жизнь в придачу. В действительности же все выходило как раз наоборот. Когда эскадра ведет бой в кильватерной колонне (самый употребительный строй в этой войне), какую инициативу, какую храбрость может проявить командир каждого судна в отдельности? Положительно никакой. Все его дело заключается в том, чтобы стоять на мостике и терпеливо ожидать своей смерти. Что же говорить после этого про остальных офицеров, которые принимают участие в бою? Каждый делает свое дело, как он это привык делать ежедневно на учениях; увлечения же, подъема духа, столь необходимого в каждом бою, не может быть при современной морской войне. В одиночном сражении дело немного изменяется: тут командир — хозяин положения и имеет возможность выказать свое умение управлять судном и ставить его в наиболее выгодное положение. Но даже в одиночном бою при современном корабле не может быть тех мудреных эволюций, какие приходилось проделывать парусным судам, и все в конце концов зависит от числа удачно попавших снарядов; относительно же личного состава положение не меняется: в душе-то очень страшно и готов спрятаться куда-нибудь подальше, да уйти некуда, — все на виду, все в одинаковом положении; у всех сознание, что если и не убьют, то все равно утонешь, как оно и было с «Суворовым», «Бородино» и «Александром III». Вся храбрость, стало быть, заключается только в умении скрывать свои чувства и оставаться хладнокровным и спокойным, несмотря на смерть и ужас, который царит кругом. Но такая храбрость все равно делу не поможет. Вот почему морская война и возмутительна, что тут нет увлечения, нет оправдания в убийстве влиянием аффекта, что в большинстве случаев бывает в сухопутных сражениях, когда люди видят друг друга, иногда сходятся вплотную и хотя бы из чувства самосохранения бросаются отважно в бой, чтобы не дать себя зарезать, как барана, — нет, тут хладнокровное, расчетливое убийство, без всякого возбуждения, на расстоянии 10–15, а иногда и больше, верст, когда не только что не видишь противника-человека, но и самое судно неприятельское с трудом различаешь на горизонте. На «Новике» был собственный оркестр музыки, составленный еще в Германии во время постройки, на средства командира и офицеров. Музыка во время боя действует на всех в высшей степени ободряющим образом. Когда «Новик» с гимном возвращался в гавань после боя, отовсюду неслись приветные клики, в особенности с береговых батарей, откуда все действия обоих флотов были видны, как на ладони. По рассказам этих очевидцев, «Новик» настолько близко подходил к неприятельской эскадре, сравнительно с остальными судами, что предположили с нашей стороны минную атаку. Воображение зрителей настолько разыгралось, что они готовы были присягнуть, что видели, как один из неприятельских крейсеров перевернулся. Вольнонаемный капельмейстер нашего оркестра до такой степени увлекся войной, что категорически отказался уходить с «Новика», а просил на следующий раз выдать ему ружье, должно быть, вместо дирижерской палочки. В тот же день, по окончании боя, «Новика» на буксире портовых катеров ввели в гавань; предстояла серьезная починка, надо было несколько листов обшивки борта совершенно переменить. В течение 10 дней, при спешной работе днем и ночью, портовыми мастеровыми пробоина была заделана, и японцы были неприятно изумлены, когда мы снова показались на рейде. По крайней мере, они сами впоследствии сознавались, что считали «Новика» в этот день утопленным. Вот как 28 января в письме к жене описывал бой Н. О. фон Эссен: «Все наши суда снялись с якоря и, идя перпендикулярно к берегу под защитой батарей, направились на неприятеля. Я был правофланговым и ближе всего. Первым открыл огонь японский адмиральский корабль, и первый выстрел с эскадры был мой по адмиральскому кораблю, после чего началась деятельная канонада как с обеих эскадр, так и с фортов. Я маневрировал так, чтобы держать прямо на неприятеля, представляя из себя меньшую цель, и, приблизившись несколько, поворачивал обратно, удаляясь и отстреливаясь, и затем, отойдя, снова поворачивая и шел на него. Так как я был против входа в бассейн, то все выстрелы были по моему направлению, и снаряды рвались то справа, то слева, а при поворотах, то перелетая, то недолетая, осыпали нас мелкими осколками. Я успел сделать таким образом четыре галса, когда на повороте от неприятеля снаряд ударил в корму и мне пришли сказать, что все рулевое отделение затоплено. Японская эскадра в это время стала поворачивать, уходя из огня, как я узнал впоследствии, у них были повреждены некоторые суда, (...), я только видел, что на адмиральском корабле, на который были направлены мои выстрелы, поднялся столб дыма, после чего он стал уходить. (...) После пробоины я отошел ближе к берегу на якорь, чтобы иметь возможность осмотреться и подвести пластырь. На крейсере был тяжело ранен осколком один комендор. Шлюпка, баркас, вельбот пробиты, также труба в нескольких местах осколками, и все орудие № 3 120-мм буквально испещрено осколками большого снаряда, влетевшего в кают-компанию и там разорвавшаяся. Этот снаряд разрушил совершенно каюту лейтенанта Зеленого и соседние — мичмана Кнорринга и лейтенанта Штера, затем пробил броневую палубу и затопил рулевое отделение. Люди все выскочили наверх, задраив за собой все люки. Став на якорь, стал подводить пластырь, но на зыби было трудно. Посему просил сигналом буксир для ввода на внутренний рейд. Около 2 часов вошел почти самостоятельно, управляясь машиной и, насколько можно, и рулем, так как рулевая машина, хотя и затопленная, подействовала сносно; буксир-пароход принес мало помощи нам, так как оборвал два буксира (Цит. по: Это не война, а какая-то адская затея...» (Письма Н. О. Эссена из Порт-Артура). Публ. В. А. Петрова // Отечественные архивы. 1996. № 3, С. 44–73). << Назад Вперёд>> Просмотров: 2682
Источник: http://statehistory.ru/books/A--P--SHter_Na-kreysere-Novik/3http://statehistory.ru/books/A--P--SHter_Na-kreysere-Nov
|
Метки: штер российская императорская армия |
Воронцовы-Дашковы имение Новотомниково |
| 06.01.2007 г. | |
| Отрывок из книги В.А. Кученковой "Русские усадьбы", издательство ОГУП "Тамбовская типография "пролетарский светочь", 2003 год.
В истории села Новотомниково Моршанского района (ранее Шацкого уезда) заключено множество нераскрытых загадок, хотя селу и его обитателям неоднократно посвящались целые книги и главы в разных изданиях. Предреволюционная статистика свидетельствует о том, что в селе «дворов 256, домовладельцев мужского пола 882, женского пола 904, великороссы, земледельцы, имеют земли менее 1 дес. на душу, занимаются плотничеством...».  И.И. Воронцов-Дашков
В марте следующего года Илларион Иванович официально введен во владение Новотомниковской отцовской вотчиной в Шацком уезде: Развитие Новотомниковской усадьбы было связано в первую очередь со становлением конного завода (1859).  Конюшни
Природные и климатические условия именно в этих широтах служили причиной выбора места для завода на основе научных данных. Для строительства конюшен и манежей кирпич производился на собственных заводах из сырья, добытого в ближних оврагах. До сих пор сохранились карьеры разработок. На подвозе сырья работало все село.  Пилоны
Архитектурный стиль и первичная планировка усадьбы находились в руках талантливого, но пока неизвестного для нас архитектора. Вряд ли он был тамбовским – ни чертежей, ни согласований на этот этап проектирования в Государственном архиве Тамбовской области не обнаружено.  Орловские рысаки
В конце XIX века звезда завода несколько померкла из-за метизации орловской породы американскими рысаками. Значительные потери претерпел завод в годы первой мировой войны. Вследствие мобилизации лошадей и поставки жеребцов-производителей в конюшни государственного конезаводства число лошадей на заводе резко уменьшилось и стало недостаточным для удовлетворения нужд имения и государства. Для поддержки завода требовались льготы – освобождение от поставок войскам. Но даже в сложные годы завод не изменял ранее принятые правила, периодически (открывая случайные пункты, предназначенные для улучшения пород крестьянского подворья. 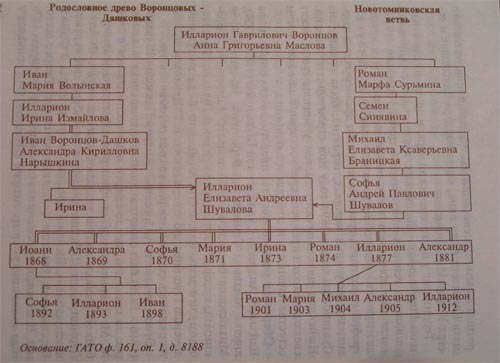 Родословная Воронцовых-Дашковых
Этот второй этап переустройства усадьбы был связан с именем Николая Владимировича Султанова (1850 – 1908). Имя архитектора вошло в оборот тамбовского краеведения десять лет назад: в 1992 году в книгах «Тамбовские православные храмы» и «Святыни Тамбовской епархии» подробно описано строительство новотомниковской церкви и часовни по проектам Султанова.  Благовещенская церковь
С изяществом исполненные главные двери храма, изготовленные в Петербурге, чудом сохранились до нынешнего дня.
 Входные двери храма Изразцовый иконостас новотомниковской церкви – Божиим провидением сохранившаяся жемчужина Тамбовщины. Высоко профессионально его художественное исполнение. От новоиерусалимского иконостаса к новотомниковскому вела неширокая, но яркая тропа. В середине XIX века в Тамбовской епархии уже появились редкие керамические иконостасы в Архангельских храмах сел Павловка и Карай-Салтыки в имениях Петрово-Соловово.  Фарфоровый иконостас
Храмовый праздник в Новотомникове отмечали во время летнего сбора семьи 8 июля в день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и знамения от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге. В сентябре в име¬нии принимали Вышенскую икону Казанской Божией Матери, посылая за ней специальную карету через Княжево в Моршанск.  Часовня
Султанов тщательно продумал интерьер часовни: в апсиде проектировался белый мраморный налой с рельефным крестом, стены предполагалось расписать пестрым русским орнаментом с ликами Спасителя, Божией Матери и святых угодников. По рисункам архитектора в скульптурной мастерской Ботта были изготовлены облицовка и цоколь для нового сооружения. В 1894 году часовня была выстроена и освящена во имя Романа Сладкопевца; в силу служебных обстоятельств Илларион Иванович Воронцов-Дашков на этом священнодействии не был. Второе завещание было составлено в Тифлисе за 12 дней до смерти, последовавшей 15 января 1916 года. Но между этими завещаниями в середине 1913 года появился еще один немаловажный документ. Указом Сената генерал-адъютанту Воронцову-Дашкову было «разрешено учредить в его роде родовое недвижимое имение в Шацком уезде под названием Новотомниковское, которое после смерти графа поступало в пожизненное владение его супруги». К неприкосновенному капиталу, хранящемуся в Петербургском банке, присоединялось недвижимое имение, чтобы они «впредь составляли единое, нераздельное, заповедное имение на следующих основаниях: к составу Новотомниковского заповедного имения присоединялись принадлежавшие графу на праве собственного, имения при с. Лесном Конобееве, Лесном Ялтунове, Новософьине и Желанном и деревень Сновоздоровой, Токаревой, Завидовой и Шарик (пл 15572дес. 885 кв. саж.). имения присоединяются со всеми строениями; наследование – указом Сената». В решениях по созданию заповедного имения проявляется очевидное нежелание дробить землевладение и уверенность что оно будет благополучным только оставаясь крупным. Без сомнения принимались во внимание и соответствующие льготы государства в отношении заповедных имений.  Новая усадьба
Судьба оказалась благосклонной к усадьбе, сохранив ее облик и в трагические 30-е и в застойные 70-е годы.  Благовещенская церковь
Наивно полагать, что здание церкви и ее интерьеры сохранились в идеальном варианте. По словам Валентина Ястребцева, в храме многое не удалось сохранить, а реставрация осуществлялась любителями, а не профессионалами. Благовещенский престол был освящен 15 сентября 1946 года, придел архистратига Михаила – лишь в 1948 году.  Парк Есть основания полагать, что формирование парка связано с именем ученого садовода Эдуарда Августа Регеля (1815-1892), который в течение 37 лет был директором Ботанического сада в Петербурге. Он изучал ботанику в геттингенском Ботаническом саду, работал в садах Бонна и Берлина, был главным садовником в Цюрихе и имел степень доктора философии. Регель сделал Петербургский Ботанический сад одним из лучших в Европе. Его сын Роберт Регель – магистр-ботаник (1891), приват-доцент Петербургского университета был автором крупных работ, среди которых «Заметки по фитогеографии России». Совсем не случайно новотомниковский парк называют средоточием фитонцидных пород деревьев и кустарников. Парк отличался видовым многообразием местных пород (березы, липы, дубы, клены, сосны) и экзотов (лиственницы, кедры, ива белая, тополь белый). Истоки парка – в трудах забытого ученого садовода Регеля, а опека в 90-х годах – трудами его сына. С востока парк был ограничен широкой плотной насыпью,обсаженной как аллея с обеих сторон деревьями, она вела в сторону Княжева. С южной стороны ярко просматривается обваловка парка, заросшая молодой порослью малоценных пород. С севера парк ограничен прудом. Пруды в усадьбе (второй – на юге-западе) имели не только хозяйственное и мелиоративное назначение , но и служили декоративным элементом оформления усадьбы. Прежняя четкая конфигурация прудов давно утрачена; зеркало северного пруда в XX столетии значительно сократилось из-за отсутствия систематической очистки, осыпей и необходимой искусственной подпитки. Летом 2002 года пруд почти высох, его исчезновение приведет к частичной гибели парка.  Усадьба
Резко изменился ландшафтный облик парка, куртины и поляны зарастают малоценной порослью, полностью утрачен рисунок парковых аллей. Утрачиваются старовозрастные насаждения, с пришкольной поляны исчезли могучие деревья XIX века – каштан, лиственница и дуб; в дуплах стволов в парке выжигается заложенный в них мусор. Парковую территорию пересекают разбитые колеи – очевидное следствие свободного использования территории для транзита людей, транспорта и животных. Центральная часть усадьбы обезображена школьными туалетами в российском варианте, а возле них – каменные надгробия любимых владельцами собак с полустертыми надписями – Фокс и Васпа.  Некрополь
Новотомниковская усадьба притягивает своих гостей, побывавших в ее первозданности хотя бы один раз. Автору посчастливилось посетить Новотомниково трижды.
В работе использованы материалы Государственного архива Тамбовской области, Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина и личного архива автора.
|
| « Пред. | След. »http://morshansk.ru/content/view/38/4 |
|---|
Вернуться
© 2018 Моршанск
| Воронцовы-Дашковы имение Новотомниково |  |
 |
|
Метки: воронцовы-дашковы дворянские владения |
Н. В. Оболенский О МОЕМ ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ ВАСИЛИИ ШЕРЕМЕТЕВЕ |
Н. В. Оболенский
О МОЕМ ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ ВАСИЛИИ ШЕРЕМЕТЕВЕ
Надеюсь, что эти воспоминания вызовут у современного читателя истинное понимание Чистоты, Величия и Скромности русских людей, — страдальцев исчезающей эпохи. Этих людей прежде всего отличала Духовность. Не покинувшие Родину, оставшиеся в России, они в те 20—30-е годы знали (чувствовали), что в конце концов погибнут и скорее всего в муках. Мои родители (как и родители Василия) знали это, но — остались на родине, чтобы быть по-


Напрудная башня Новодевичьего монастыря, в которой жил П.С. Шереметев с женой и сыном.
хоронеными на своей родной земле, там, где'покоятся их предки. Вечная им память!
...Первое воспоминание о Василии относится к 1929 году, когда скончалась моя родная бабушка — Мария Алексеевна Оболенская (урож. Долгорукая). Мне было два года, и жили мы в Царицыне. Туда приехал Василик со своим отцом Павлом Сергеевичем и матерью П. В. Шереметевой (урожд. Оболенской). Васи-лику было семь лет. Он был точно такой, как на фотографии, помещенной в книге А. Алексеевой «Кольцо графини Шереметевой».
После этого они стали приезжать в Царицыно каждый год на Пасху, а также на семейные праздники. При-
езжали и на Сорок Мучеников, и тогда в доме пекли «жаворонки» — плетеные булочки, напоминавшие сидящую птицу. За праздничным, но очень скромным столом сидели обе наши семьи. Где-то посреди блюда лежал «жаворонок», в котором была запечена двадцатикопеечная монета. Каждый мечтал, чтобы именно ему попала эта монета, но особенно маленький Василик. Помню, как-то раз тетя Пашенька вынула из прически шпильку и стала прощупывать «жаворонки». К общему удовольствию обнаружила монету и дала «жаворонок» Васе. Он обрадовался, но тут же разделил булочку и дал Лизе (моей сестре), Андрею (брату) и мне. Какой это был счастливый, веселый день! — до сих пор стоит перед глазами...
Василик был очень развитый и живой мальчик. Мы с ним были очень близки. Андрюша — более спокойный и тихий. Несмотря на разницу в возрасте, у нас с Василиком были общие интересы и увлечения: спорт, рисование, театр. За неуемный характер меня в семье называли Ртуть.
Лиза и Василик больше любви проявляли к рисованию и

Семьи Шереметевых и Оболенских. 1937 год.
живописи. Как известно, в нашем роду всегда прививали любовь к разным художествам.
Помню, как мы с мамой поехали на выставку детского рисунка, — и там я увидел картину Василика «Зима. Воробьевы горы (размером 30 х 40). К окончанию школы стало ясно, что живопись — это его будущее.
В те годы нас, троих детей Оболенских, оставшихся без родителей, на лето брала к себе семья Шереметевых. Как-то раз на Оке мы с Василиком пошли на охоту, — у него была старинная немецкая двустволка (которую он потом подарил дроюродному брату Саше). Мы подолгу бродили вдоль поймы реки, в которой водились бекасы...
Я держу в руках фотографию, сделанную в Напрудной башне Новодевичьего монастыря в 1937 году. Это последняя трагическая фотография. Собрались две семьи: Оболенские и Шереметевы. Взгляните на стоящих (слева направо)... Красавица Варвара Александровна Оболенская (урожд. Гудович, — моя мать, арестована в 1937 году, в последней стадии чахотки, и умерла вскоре после ареста). Ольга Васильевна Прутченко (ее называли «Оляляша», урожд. Оболенская, работала патронажной сестрой в деревне). Мария Сергеевна Гудович (урожд. графиня Шереметева, моя бабушка, дочь Сергея Дмитоиевича. она писала стихи). Ее

Графиня Варвара Петровна Гудович (в замужестве княгиня Оболенская) с детьми Николаем, Лизой и Андреем. 30-е годы.
мужа арестовали в 1918 году, расстреляли, однако до конца жизни она так и не поверила в его смерть. Евфимия Васильевна Оболенская (моя тетка), взявшая на воспитание нас, детей. Прасковья Васильевна Шереметева (урожд.
Оболенская).
А вот сидящие: Елизавета Владимировна Оболенская (в замужестве Павлинова), художница. Рядом с нею сижу я, а с другой стороны — мой дорогой, незабвенный, обожаемый отец! Это последняя его фотография, — скоро его арестуют и он погибнет... Брат Андрей, когда начнется Великая Отечественная война, уйдет на фронт и будет убит... Рядом с ним Павел Сергеевич, великий терпеливец.
Василик тоже добровольцем уйдет на фронт. А отец его на некоторое время он с женой еще останется в «башне», сохраняя картины, рисунки, старинные книги, свои собственные труды, посвященные обоснованию земства как-основы российской жизни...
Дружба наших семей была необыкновенной, она про
низывала всеё, отношения были наполнены любовью,-
передать это словами невозможно. Как писал исследователь Ник. Арсеньев, «Культурные русские семьи были местом встреч и взаимного проникновения двух начал — западного и восточного (то есть православного и национального). Этот синтез породил великий культурный расцвет в XIX веке...»
Трудно касаться самого святого, сокровенного и интимного в жизни семьи, но именно отсюда «вырастают те невидимые скрепы и нити, которые делают семью единым духовным организмом, дают столько теплоты и очарования внутреннему «воздуху». Даже больше: делают ее высшей человеческой святыней, как бы «домашней церковью перед лицом Божьим...»
До войны мы нередко наведывались в «башню», вели беседы, пели и, между прочим, были свидетелями приготовления необыкновенного блюда — «жжёнки». В большую тарелку укладывали готовую горячую утку и нарезанные фрукты, поверх наливали очень крепкую водку. Затем водку поджигали, и все это в полной темноте горело несколько минут, а затем с аппетитом поедалось.
Повторяю: в 1941 году мой брат Андрей (студент второго курса энергетического института) и Василий Шереметев (студент художественного института) ушли на фронт. Брат погиб в 1943 году под Мелитополем, Василий пропал без вести.
Его отец Павел Сергеевич остался жив в те 30-е годы лишь благодаря заступничеству И. Э. Грабаря, так как П. С. Шереметев сделал значительный вклад в историю культуры России. В годы войны стало невозможно жить в холодной «башне» Новодевичьего монастыря, и вместе с женой он переехал к нам в Царицыно. Это было печальное время: сперва скончалась тетя Пашенька, а потом и дядя Павел. Оба были истощены до крайности. Хлопотали о лермонтовской пенсии (как родственники по линии Столыпиных), но дядя Павел успел ее получить, кажется, всего два-три раза...
О судьбе Василика мы ничего не знали. Я вспоминал нашу предвоенную юность, как мы участвовали в любительских спектаклях, как катались на Воробьевых горах (настоящий слалом), как красив, элегантен был Василий, отличался прекрасными манерами... Мы оба самозабвенно танцевали вальс и танго, особенно после просмотра «Большого вальса» с Милицией Кооьюс.

Василий Павлович Шереметев и Елизавета Владимировна Оболенская перед войной.
Вспоминался день, когда я подарил дяде Павлу книжку «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, с которым он был знаком. В семье даже рассказывали, что прототипом гуттаперчевого мальчика был маленький Павел Шереметев. И вот уже нет дяди Павла, нет тети Пашеньки. А Василий все еще числится в пропавших без вести...
Я в то время учился на первом курсе архитектурного института. Первого сентября директор собрал весь курс в Красном зале и объявил, что завтра всем ехать в колхоз. Мы отработали месяц, и в честь окончания работ председатель привез в поле две телеги с мятой мороженой картошкой и в больших бидонах — самогон. Всем разлили по 100 грамм, но девушки отказались, и тогда я, как староста группы, выпил литровую алюминиевую кружку — на глазах у всего курса.
Не помню, как мы шли по полю к станции, как ехали в поезде. Но явившись к дому, открыв дверь, я «протрезвел»: передо мной был Василик! Радость смешалась со слезами... Он стучал в «башню», там никто не открыл дверь и, не зная еще о смерти отца и матери, поехал к нам — и вот... Рассказам не было конца.
Оказывается, Василий попал в плен, потом вырвался из плена, был зачислен в десантные войска и — оказался в Вене. Весть эта дошла до П. Д. Корина и И. Э. Грабаря, и они помогли отозвать Василия в Москву для учебы в художественном институте.
Началась новая, послевоенная пора в нашей дружбе. Но вскоре я стал замечать некоторые странности в его поведении. Как потом оказалось, это были последствия переживаний , которые ему пришлось перенести во время вой
ны. Смерть родителей стала для него страшным ударом: он
остался жив, а их — нет! Его чувствительной душе трудно было с этим смириться, да и послевоенные обстоятельства жизни порой ставили его в тупик. Странностей с годами стало больше.
Что же это были за странности? Он мог ни с того ни с сего, почти не имея денег, отдать все, что у него было, первому встречному, даже не знакомому человеку. Так, не имея в то время ни куска хлеба, дарил какие-то вещи (ста-риные фолианты, рисунки, книги), даже картину Рембрандта в музеи... Князь Мышкин — прозвали его в те годы. Кстати, чтобы как-то отблагодарить Василия Павловича за подаренного Рембрандта, ему дали путевку в дом творчества художников на целых полгода. И что же? Соседом его оказался человек, для него неприятный, и Василий спустя три дня покинул дом творчества.
Или: как-то отправился навестить свою преподавательницу на краю Москвы и, несмотря на то, что был голоден, отказался от котлет (был Великий пост), а потом и от трех копеек на трамвай — и, проваливаясь в грязные лужи, возвращался домой пешком.
Для меня общение с Василием (несмотря на его странности, а может быть, и благодаря им) было очень благотворно. Часто в Царицыне мы беседовали об архитектуре, о том, ремесло это или искусство, спорили.
Однажды он пришел к нам на Полянку, в полуподвальную комнатку, где мы поселились с женой, только что поженившись. Василий увидел, что сесть ему негде, и что же? Он явился снова, и в руках его было старинное, остафьевское кресло: он подарил его нам. Это был урок доброты...
Вскоре после того женился и Василий. Супругой его стала Ирина Владимировна Мартынова, тоже страдалица. Она была дочерью секретаря Фрунзе, которого расстреляли в 1937 году.
Шли годы. У Василия и Ирины Шереметевых родилась девочка, которую назвали Евдокия, Дуня. Чудная девочка, впоследствии — чудная мать трех дочек, умная, талантливая, добрая, как и ее отец.
Живопись Василия Шереметева высоко ценили Грабарь и Корин. Корину он помогал в оформлении станции
метро "Комсомольская". С годами однако живопись его приобретала характер надломленности, колорит стал носить
болезненный характер, - в этом проявлялся трагизм его мировосприятия. Страдалец-граф не сумел приспособиться к новому времени, не мог выносить ужасов, которые-обру-шились на Родину. Его парализовало, он потерял дар речи, оказался в больнице и вскоре умер.
Отпевали графа Василия Павловича Шереметева в том же Новодевичьем монастыре, где он жил в ужасающих условиях в «башне». Вокруг стояли представители остатков самых замечательных российских фамилий...
Из домашнего архива Оболенских.
Смотрите также:
Н. В. Оболенский о моем двоюродном брате василии шереметеве
http://www.grandov.ru/nuda/n-v-obolenskij-o-moem-d...-vasilii-sheremeteve/main.html
|
Метки: оболенские шереметьевы |
Оболенская Н. П. |
Оболенская Н. П.
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Оболенская.
| Нина Хабиас | |
|---|---|
 |
|
| Имя при рождении | Нина Петровна Комарова |
| Псевдонимы | Хабиас, Нибу, Ноки |
| Дата рождения | 6 (18) июля 1892 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | не ранее 1943 |
| Род деятельности | поэтесса |
| Направление | футуризм |
| Язык произведений | русский |
Нина Петровна Комарова, в первом браке Оболенская (6 июля 1892, Москва — около 1943) — русская поэтесса-футуристка, которая публиковалась под псевдонимом Ни́на Хабиа́с. Племянница Ольги Форш.
Биография и творчество
Родилась в Москве в семье полковника Петра Дмитриевича Комарова (1870—1914), погибшего в бою у Шталлупёнена и посмертно произведённого в генерал-майоры, и его жены Натальи Ивановны, урожд. Вениаминовой. Отец приходился троюродным братом о. Павлу Флоренскому.
Закончила Смольный институт в 1911 году с серебряной медалью[1], затем два года училась на юридическом факультете московских Высших женских курсов В. А. Полторацкой. При правительстве Колчака — сестра милосердия егерского батальона особого назначения. Согласно позднейшему следственному делу Хабиас, в это время состояла в браке с врачом Степаном Платоновичем Оболенским.
В 1919 году познакомилась в Омске с гастролировавшим по Сибири Давидом Бурлюком, повлиявшим на её творчество (другим своим учителем называла Алексея Кручёных). С 1919 года служила в комитете по ликвидации неграмотности в Иркутске при Политотделе 5 армии. Тогда же стала кандидатом в члены ВКП(б) (выбыла в 1921 году). В 1921 году участвовала в коллективном сборнике иркутской группы «Барка поэтов» «Отчетный сборник стихов группы иркутских поэтов на 1921 год» (машинопись из собрания Б. С. Шостаковича); в сборнике участвовали также С. А. Алякринский, А. И. Венедиктов, М. Н. Имрей-Горин, А. Д. Мейсельман, Н. М. Подгоричани, Е. И. Титов, И. К. Славнин, Н. П. Шастина и др.[2][3]
В 1921 вернулась в Москву, служила во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности[4], выступала с чтением своих стихов в кафе «Домино», в поэтических кругах носила прозвище «Нибу» и «Ноки»[5], называла себя поэтессой-беспредметницей, некоторыми критиками причислялась к ничевокам. В конце 1921 издала сборник стихотворений «Стихетты» под псевдонимом «Нина Хабиас».[6] Быстро приобрела скандальную известность, за эпатаж и использование в стихах обсценной лексики[7] получила прозвище «Графиня Похабиас»[8] и репутацию «Баркова в юбке»[9](возможно, преувеличенную[10][11]). Так как сборник «Стихетты» вышел без цензурного разрешения, поэтесса, вместе со своим гражданским мужем, поэтом Иваном Грузиновым, также обвинённом в публикации без цензуры, была арестована и провела два месяца в Бутырской тюрьме.
В дальнейшем дважды печаталась в коллективных поэтических сборниках (1922, 1924), вторую книгу стихотворений издала в 1926 году под именем «Н. Оболенская». В начале 1930-х гг. вышла замуж (в третий раз) за художника-иллюстратора Константина Гольштейна (1881—1944, репрессирован).
В 1937 году была арестована и 25 ноября 1937 года по обвинению в антисоветской агитации осуждена на 10 лет. Отбывала срок в Сиблаге, после освобождения из лагеря в 1942 году жила в туркменском городе Мары (Мерв). Последние упоминания о ней относятся к 1943 году. Реабилитирована 26 мая 1989 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.
Адреса в Москве
- Б.Никитская 24, кв. 37 (на 1924, «приглашала к себе, в закрепленную за ней громадную квартиру»[12])
- ул. Веснина, д. 7, кв. 5 (на момент ареста в 1937 году)
Книги
Обложка сборника «Стихетты» (1922), художник Г. А. Ечеистов
- Хабиас-Комарова. Стихетты. — Пг.: Беспредметники, 1922. — 10 с. — 100 экз.
- Оболенская Н. Стихи. — М., 1926. — 32 с.
- Хабиас (Оболенская), Нина. Собрание стихотворений. — М.: Совпадение, 1997.
- Chabias, Nina. Guttapercha des gansehautigen Gehanges. Gedichte. — Leipzig: Leipziger Literaturverlag, 2008. — ISBN 978-3-86660-042-3.
Примечания
- В аттестате от 23.05.1911 г. признана имеющей право на золотую медаль, но по их ограничению удостоена серебряной; по всем предметам, входящим в аттестат, сдала на отличные и хорошие оценки, получив права домашнего наставника по этим предметам (ЦГИА СПб. Ф. 2 (Смольный институт). Оп. 1. Дело 16619 (личное дело Комаровой Н. П.)).
- «Мы уйдем, мы исчезнем, потонем»: сборник стихотворений. Иркутск, 2000. С. 4.
- Публикации в иркутской периодике не выявлялись.
- С 9 июля 1921 г. по 13 марта 1922 г., документы этого периода см.: Соболев А.Л. Тургенев и тигры: из архивных разысканий о русской литературе первой половины XX века. М., 2017. С. 426—433.
- В описях РГАЛИ ошибочно указывается прозвище «Иоки» (Письма Иоки (Хабиас Нины) Б. А. Садовскому, 12-18 декабря 1927 г, ф. 464 оп. 2 ед. хр. 248а л. 69-73 ; опубликованы: Литературная жизнь. Статьи. Публикации. Мемуары. Памяти А. Ю. Галушкина. М., 2017. С. 141—148.)
- Происхождение псевдонима неясно. По одной из версий, связано с «Хобиасами» — странного вида существами из популярной в начале XX века детской сказки-«страшилки» с иллюстрациями В. В. Каррика .
-
… Хабиас говорит о себе: «Я славнейшая всех поэтессин». «Славнейшая» задачей своих «стихетт» поставила подыскать рифмы к неприличнейшим «заборным словам» и соответствующий им текст.
— Евдоксия Никитина, цит. по К. Кузминскому
-
Самой приметной, во всяком случае наиболее шумной, из всех посетителей «Домино» была Н. Хабиас-Комарова. Говорили, будто она из бывших графинь, называли её «Похабиас». Хабиас была полной розовощекой дамой с монгольскими чертами лица, зимой в роскошном котиковом манто, летом в режущих глаза пестрых и дорогих нарядах. Она выпустила внецензурное издание книжки стихов с изображением фаллоса на обложке. Книжка открыто продавалась в кафе «Домино» и пользовалась невообразимым успехом у московских извозчиков. Чёрным по белому стихотворными строками были в ней напечатаны настолько циничные выражения, что даже извозчики не решались читать их вслух..
— Эм. Миндлин, Необыкновенные собеседники
- Нехотин В. Предисловие // Нина Оболенская (Хабиас). Собрание стихотворений. М.: Совпадение, 1997, стр. 5-42
- Переизданные в 1997 году стихи, в том числе откровенно-эротические, разрушают легенду о «графине Похабиас» — соответствующие выражения встречаются в них только один раз.
- О преувеличении говорит и то, что ей приписывали чужие эпатажные стихи. Так, Р. Ивнев в своих беллетризированных воспоминаниях о литературной жизни 1920-х «Богема» ошибочно утверждает, что она выпустила сборник «Серафические подвески» (на самом деле автором этого сборника является Иван Грузинов).
- Сафонов В.А. Дом в меловых полях. М., 1991. С. 431.
Литература
- А. Ю. Галушкин, В. В. Нехотин. Предисловие. // Нина Оболенская (Хабиас). Собрание стихотворений. — М.: Совпадение, 1997, стр. 5-42.
- Крусанов А. В. Русский авангард. Т.2, книги 1, 2. — М.: Новое литературное обозрение, 2003.
- Век Грузинова и Хабиас // Тихие песни: Историко-литературный сборник статей к 80-летию Л. М. Турчинского. — М.: Трутень, 2014. С. 219—241.
Ссылки
|
Метки: оболенские комаровы |
Сергей Васильевич Оболенский р. 30 сентябрь 1874 ум. 1936 |
Сергей Васильевич Оболенский р. 30 сентябрь 1874 ум. 1936
Запись:1063992
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Оболенские |
| Пол | мужчина |
| Полное имя от рождения |
Сергей Васильевич Оболенский |
| Родители
♂ Василий Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 1846 ум. 1890 ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) [Долгоруковы] р. 29 январь 1851 ум. 1930 |
|
События
30 сентябрь 1874 рождение: Москва, Российская империя, Титул: князь
29 апрель 1899 ...: Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp
1936 смерть: Выборг, Финляндия
[править] Источники
- ↑ http://baza.vgdru.com/1/23457/all.htm -
- ↑ http://archive.li/Yy5P7#selection-1459.1-1463.65 - Князья Оболенские. 17-е колено № 260. Кн. Сергей Васильевич (215). 30.09.1874, Москва – 1936, Финляндия. Ж.(29.04.1899): Наталья Петpовна Штеp.
Ближайшие предки и потомки
Деды
♂ Иродион Андреевич Оболенский
рождение: 1820
брак: ♀ Мария Александровна Львова (Оболенская)
смерть: 1891
рождение: 1811
титул: князь
брак: ♀ Аделаида Петровна Шелашникова (Оболенская)
смерть: 1866
♂ Владимир Андреевич Оболенский
рождение: 1815, или 1814
брак: ♀ София Ивановна Миллер (Оболенская)
титул: князь
смерть: 1877
♀ Екатерина Андреевна Оболенская (Волкова)
рождение: 9 январь 1796
брак: ♂ Николай Аполлонович Волков
смерть: 23 апрель 1849
♀ Наталья Андреевна Оболенская (Озерова)
рождение: 20 декабрь 1812, Н.Новгород
брак: ♂ Сергей Петрович Озеров
титул: княжна
смерть: 2 июнь 1901, Ц.Село
♂ Николай Андреевич Оболенский
рождение: 1822
титул: князь
брак: ♀ Александра Львовна Боде (Оболенская)
смерть: 1867
♂ Василий Андреевич Оболенский
рождение: 1818
брак: ♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
титул: князь
смерть: 1883
♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
рождение: 1825
брак: ♂ Василий Андреевич Оболенский
смерть: 1885
♂ Ростислав Алексеевич Долгоруков
рождение: 31 январь 1805, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь
обучение: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
войсковое звание: 14 май 1821, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил корнетом в л.-гв. Уланский полк вел. кн. Михаила Павловича
войсковое звание: 15 февраль 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в поручики л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
войсковое звание: 26 февраль 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Уволен по домашним обстоятельствам
войсковое звание: 19 май 1829, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Вновь поступил в тот же л.-гв. Уланский полк
войсковое звание: после 17 ноябрь 1830, Поручик. Участвовал в военных действиях против польских мятежников
войсковое звание: 13 февраль 1831, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом за отличие в сражении при с. Грохово
войсковое звание: 29 ноябрь 1831, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в ротмистры л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
брак: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: 9 февраль 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр. Уволен по домашним обстоятельствам
войсковое звание: 6 декабрь 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк, однополчанин Лермонтова и Ивана Гончарова, среднего брата Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо знал А. С. Пушкина
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
войсковое звание: 28 январь 1837, Санкт-Петербург, Российская империя, Штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
войсковое звание: 6 декабрь 1839, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
войсковое звание: 23 январь 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром
войсковое звание: 29 февраль 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Причислен к МВД, переименован в надворные советники
...: 10 декабрь 1841, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии. 15.11.1853 Внесён в V ч. ДРК Московской губернии
развод: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматывал женино состояние, чем чуть не довел семью до нищеты. Оставив мужа, она с детьми жила в доме князей Долгоруковых, где её очень любили
смерть: 31 август 1849, Одесса, Таврическая губерния, Российская империя, Скончался полковником в отставке
рождение: 24 февраль 1807, Санкт-Петербург, (12.02.1807 с.с.) Титул: князь
обучение: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
обучение: июль 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
профессия: 17 август 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
профессия: с 1824 по 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
профессия: 16 ноябрь 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
профессия: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
профессия: 3 апрель 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
профессия: 16 ноябрь 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
профессия: с 1829 по 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
профессия: 17 март 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
брак: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
профессия: 4 апрель 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
профессия: 29 январь 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
профессия: 8 ноябрь 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
профессия: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
профессия: с 27 март 1838 по 20 октябрь 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
профессия: с 2 август 1851 по 11 апрель 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
профессия: с 11 апрель 1853 по 6 январь 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
профессия: 6 январь 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
смерть: 18 март 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
 ♂ Сергей Алексеевич Долгоруков
♂ Сергей Алексеевич Долгоруков
рождение: 14 ноябрь 1809, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, (2.11.1809 с.с.) Титул: князь (Рождение: 14 (26) сентября 1809 Воронежская губерния, из Википедии – ошибка)
место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
обучение: 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
профессия: 1826, Санкт-Петербург, Российская империя, Окончил Пажеский корпус, как непригодный к воинской, выпущен на гражданскую службу в Министерство иностранных дел
профессия: 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер Высочайшего Двора, пятый класс табели о рангах
профессия: с 1829 по 1836, Санкт-Петербург, Российская империя, Служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, потом в Берлине
помолвка: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена на два года. Невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение
брак: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камергер Высочайшего Двора, четвёртый класс табели о рангах
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
профессия: с 1836 по 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимал различные должности по Министерству финансов
профессия: 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Переведён в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената
профессия: с 10 март 1848 по 17 март 1848, Ковно, Ковенская губерния, Российская империя, Ковенский губернаторс (ныне Каунас)
профессия: с 17 март 1848 по 2 октябрь 1849, Витебск, Витебская губерния, Российская империя, Витебский губернатор
профессия: 2 ноябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, По случаю пятидесятилетнего юбилея награждён алмазными знаками ордена Святого Александра Невского
профессия: 1864, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован почётным званием статс-секретарь, дававшим право личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя и исполнял эту должность до 1884
профессия: 1871, Санкт-Петербург, Российская империя, Член Совета министерства финансов и член Государственного совета
профессия: 1872, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный тайный советник, второй класс табели о рангах, назначен почётным членом Совета министров
профессия: 1880, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Святого Владимира 1-й степени
профессия: 1884, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку
смерть: 29 сентябрь 1891, Санкт-Петербург, Российская империя, (16.09.1891 с.с.) Похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры
♂ Григорий Алексеевич Долгоруков
рождение: 1811, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Титул: князь
место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
обучение: с 1821 по 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
войсковое звание: 1831, Участник штурма Варшавы
войсковое звание: с 1834 по 1835, Участник Кавказской экспедиции против горцев
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
брак: ♀ Надежда Григорьевна Чернышева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: 1839, Подполковник Генерального штаба. Вышел в отставку
войсковое звание: с 1853 по 1856, Орёл, Орловский уезд, Орловская губерния, Российская империя, Во время русско-англо-французской войны был начальником дружины Орловского уезда, потом командиром полка из 4-х дружин, затем начальником Комиссии попечения о больных и раненых воинах
смерть: 13 март 1856, Симферополь, Таврическая губерния, Российская империя, умер от тифа
♂ Николай Алексеевич Долгоруков
рождение: 16 август 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, (было 1819) Титул: князь
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Ставропольского уезда Самарской губернии, владел селами в Аскульской и Рязановской волостях
обучение: 1845, Нижний Новгород, Нижегородская губерния, Российская империя, Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус. Выпуск 1845 г. № 11. Долгоруков Николай Алексеевич. Выпущен в Дворянский полк
брак: ♀ Ольга Александровна Львова (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: ок. 1870?, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
профессия: ок. 1871?, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: гофмейстер Высочайшего двора, третий класс табели о рангах
смерть: 16 апрель 1887, Санкт-Петербург, Российская империя
♂ Дмитрий Алексеевич Долгоруков
рождение: 5 апрель 1825, Москва, Российская империя, Титул: князь
крещение: 11 апрель 1825, Москва, Российская империя, Крещен в Московской Сретенского Сорока Петропавловской церкви на Новой Басманной; восприемники: губернский секретарь Платон Николаевич Текутьев и жена надворного советника Николая Ивановича Матрунина Анна Алексеевна
собственность: 6 сентябрь 1835, Москва, Российская империя, Разделил имение отца с матерью и братьями
обучение: 17 апрель 1848, Дерпт, Дерптский уезд, Эстляндская губерния, Российская империя, (ныне Та́рту, Эстония) Обучался в Дерптском Университете. Удостоен звания кандидата философского факультета
профессия: 28 январь 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил в канцелярию Военного министерства с гражданским чином коллежского секретаря, десятый класс табели о рангах
профессия: 23 апрель 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
профессия: 24 июнь 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, пятый класс табели о рангах
брак: ♀ Софья Михайловна Миклашевич (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: 16 март 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
профессия: 16 ноябрь 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
профессия: 10 октябрь 1854, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: и.д. помощника начальника 1-го Отделения канцелярии Военного министерства
профессия: 17 апрель 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст.
профессия: 19 декабрь 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: заведующий особой секретной экспедицией канцелярии Военного министерства
профессия: 15 апрель 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах
профессия: 24 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён прусским орденом Красного Орла 3-й ст.
профессия: 30 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Отчислен от канцелярии с сохранением жалованья в течение одного года
профессия: 17 октябрь 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: помощник статс-секретаря Государственного Совета
профессия: 15 май 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: статский советник, пятый класс табели о рангах
профессия: 20 октябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Уволен по домашним обстоятельствам
место жительства: 17 декабрь 1880, Рязань, Рязанская губерния, Российская империя, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии
смерть: 1909, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан)
рождение: ок. 1836?, Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
...: после 1858, Санкт-Петербург, Российская империя, Второй брак. Муж: Арман Роллан дю-Рокан
♂ Алексей Алексеевич Долгоруков
рождение: 11 апрель 1818, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью братьями
брак: ♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан) , Санкт-Петербург, Российская империя
смерть: после 1857, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова)
рождение: 1821, Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
смерть: 1853, Санкт-Петербург, Российская империя
Деды
Родители
♀ Евфимия Васильевна Оболенская (Шиловская)
рождение: 1848
брак: ♂ Владимир Сергеевич Шиловский
смерть: 1868
 ♂ Василий Васильевич Оболенский
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 1846, Москва, Российская империя
брак: ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) , Москва, Российская империя
смерть: 1890, Москва, Российская империя
♀ Софья Алексеевна Долгорукова (Кашкарова)
рождение: 19 октябрь 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: ок. 1864?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Кашкаров
смерть: до 1885, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Ольга Алексеевна Долгорукова (Алексеева)
рождение: 28 август 1847, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: ок. 1867?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: штабс-капитан Алексеев
♀ Лидия Алексеевна Долгорукова (Левшина)
рождение: 24 апрель 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: 1869, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Александр Дмитриевич Левшин
♀ Варвара Алексеевна Долгорукова (фон де Сепиан)
рождение: 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
рождение: 18 январь 1878, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Камиль-Эдмунд фон де Сепиан
♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская)
рождение: 29 январь 1851, Санкт-Петербург, Российская империя, На сайте место рождения Игнатовка
брак: ♂ Василий Васильевич Оболенский , Москва, Российская империя
смерть: 1930, Царицыно, Московская область, СССР
Родители
== 3 ==
 ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ w Павел Сергеевич Шереметев , Москва, СССР
смерть: 2 июнь 1942, Умерла в заключении в застенках НКВД
♂ Владимир Васильевич Оболенский
рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь
брак: ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) , Москва, СССР
место жительства: 1937, Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован
смерть: до 1940, расстрелян в тюрьме
♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова)
рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ Владимир Васильевич Арсеньев , Москва, Российская империя
...: 1934, Париж, Франция, Второй муж: граф Александр Салтыков (1872, Санкт-Петербург – 1940, Париж)
смерть: 1952, Брюссель, Бельгия
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя
войсковое звание: 1898, Москва, Российская империя, Вышел в отставку с чином поpучик запаса
...: 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
место жительства: 12 февраль 1910, Москва, Российская империя, Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
...: ок. 1918?, Москва, Российская империя, Развод. Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
эмиграция: ок. 1919?, Югославия
...: 1920, Югославия, Брак. Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
...: 1921, Югославия, Родилась дочь: Мария Васильевна Оболенская. Муж с 1946, Clamart, Лопухин Михаил Николаевич (1918, Тюмень).
...: 1924, Югославия, Родился сын: Павел Васильевич Оболенский. Жена с 1945, Cognac, Jacqueline Bonnet (1923). Дочь Ariane (1950)
смерть: 22 ноябрь 1952, Сент-Женевьев-де-Буа, Парижский регион, Франция
♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская)
рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна
...: 4 июнь 1897, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Владимир Константинович Шиловский (умер в 1907)
рождение: 1908, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Евгений Михайлович Слатвинский (Slatvinsky) (1872-1930, умер в заключении)
смерть: 1933, СССР, Умерла в заключении
♂ Алексей Васильевич Оболенский
рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 4 апрель 1904, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева
профессия: 1906, Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД
смерть: 21 ноябрь 1969, Стокгольм, Швеция
♂ Николай Васильевич Оболенский
рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь
смерть: 1918, Красково, Московская губерния, Российская империя, Пpапоpщик аpтиллеpии
♀ Евфимия Васильевна Оболенская
рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна
смерть: 1960, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Андрей Васильевич Оболенский
рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь
смерть: 30 декабрь 1882, Москва, Российская империя
♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко)
рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна
...: 1905, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Прутченко Николай Михайлович (1869-1929, Царицыно), офицеp л.-гв. Гусаpского полка
смерть: 1961, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Александр Васильевич Оболенский
рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 1917, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Lydia Koumbo
...: до 1933, Marvejols, Франция, Развод. Бывшая жена: Lydia Koumbo
...: 1934, Marvejols, Франция, Брак. Жена: Lucienne Marie Vanasson
смерть: 1971, Marvejols, Франция
♂ Сергей Васильевич Оболенский
рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 29 апрель 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp
смерть: 1936, Выборг, Финляндия
== 3 ==
|
Метки: оболенские |
Василий Васильевич Оболенский р. 1846 ум. 1890 |
Василий Васильевич Оболенский р. 1846 ум. 1890
Запись:226626
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Оболенские |
| Пол | мужчина |
| Полное имя от рождения |
Василий Васильевич Оболенский |
| Родители
♂ Василий Андреевич Оболенский [Оболенские] р. 1818 ум. 1883 ♀ Прасковья Леонидовна Невоструева [Невоструевы] р. 1825 ум. 1885 |
|
События
1846 рождение: Москва, Российская империя
30 апрель 1871 брак: Москва, Российская империя, ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) [Долгоруковы] р. 29 январь 1851 ум. 1930
10 апрель 1872 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: княжна, ♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова) [Оболенские] р. 10 апрель 1872 ум. 1952
22 ноябрь 1873 рождение ребёнка: Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя, ♂ Василий Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 22 ноябрь 1873 ум. 22 ноябрь 1952
30 сентябрь 1874 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Сергей Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 30 сентябрь 1874 ум. 1936
30 декабрь 1875 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: княжна, ♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская) [Оболенские] р. 30 декабрь 1875 ум. 1933
24 январь 1877 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Алексей Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 24 январь 1877 ум. 21 ноябрь 1969
27 июль 1878 рождение ребёнка: Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь, ♂ Николай Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 27 июль 1878 ум. 1918
8 февраль 1880 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: княжна, ♀ Евфимия Васильевна Оболенская [Оболенские] р. 8 февраль 1880 ум. 1960
27 июнь 1881 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Андрей Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 27 июнь 1881 ум. 30 декабрь 1882
5 февраль 1883 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: княжна, ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева) [Оболенские] р. 5 февраль 1883 ум. 2 июнь 1942
10 декабрь 1884 рождение ребёнка: Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна, ♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко) [Оболенские] р. 10 декабрь 1884 ум. 1961
1 ноябрь 1887 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Александр Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 1 ноябрь 1887 ум. 1971
1890 смерть: Москва, Российская империя
17 сентябрь 1890 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, Титул: князь, ♂ Владимир Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 17 сентябрь 1890 ум. до 1940
Заметки
Был Московским вице-губернатором при генерал-губернаторе князе В.А.Долгоруком
[править] Источники
- ↑ http://archive.li/Yy5P7#selection-1459.1-1463.65 - Князья Оболенские. 16-е колено № 215. Кн. Василий Васильевич (163). 25.10.1846 – 1890. Ж.(30.04.1871) кж. Мария Алексеевна Долгорукова (Р. 29.01.1851)
- ↑ http://baza.vgdru.com/1/23457/all.htm -
Ближайшие предки и потомки
Деды
рождение: 1789
брак: ♀ Мария Григорьевна Глазенап (Гагарина)
титул: Князь
профессия: с 1864 по 1872, Российская империя, председатель Комитета министров
профессия: с 1864 по 1865, Российская империя, председатель Государственного совета
смерть: 1872
рождение: 11 сентябрь 1787, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь
обучение: 1797, Санкт-Петербург, Российская империя, Получил образование в известном петербургском пансионе аббата Николя, где его сотоварищами были М. Ф. Орлов и С. Г. Волконский
профессия: 1801, Санкт-Петербург, Российская империя, Записан на службу в коллегию иностранных дел коллежским юнкером, заочно
профессия: ок. январь 1804?, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в переводчики коллегии иностранных дел, заочно
войсковое звание: июнь 1804, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк
войсковое звание: сентябрь 1804, Санкт-Петербург, Российская империя, Произведён в корнеты Кавалергардского полка, затем служил в драгунских полках Нарвском и Нижегородском
войсковое звание: 1806, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку с чином подпоручика
войсковое звание: 1807, Поступил с прежним чином прапорщика в Курляндский драгунский полк и принял участие в военных действиях против Наполеона (при Гутштадте, Вольфсберге, Гейльсберге и Фридланде), награждён орденом Св. Анны 4-й степени и золотым оружием «За храбрость»
войсковое звание: 1808, Санкт-Петербург, Российская империя, По окончании войны переведён поручиком в л.-гв. Гусарский полк
войсковое звание: с 1808 по 1809, Во время шведской войны состоял адъютантом при кн. М.П. Долгоруком
войсковое звание: 1810, Санкт-Петербург, Российская империя, Вторично вышел в отставку по болезни с чином ротмистра
брак: ♀ Екатерина Сергеевна Меншикова (Гагарина) , Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: ноябрь 1812, Поступил с чином майора в Павлоградский гусарский полк и участвовал в изгнании французов из России и в войне за освобождение Европы
войсковое звание: 1816, Санкт-Петербург, Российская империя, Окончательно покинул военную службу с чином подполковника
профессия: 1817, Москва, Российская империя, Поступил на гражданскую службу в экспедицию Кремлевского строения, пожалован одновременно чином статского советника и званием камергера. После московского пожара 1812 года экспедиция руководила восстановлением Кремля
профессия: 1820, Москва, Российская империя, Назначен членом комиссии Кремлевского строения и чиновником для особых поручений при главноначальствующем Кремлевской экспедицией и пожалован в церемонимейстеры
профессия: 1821, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён чином действительного статского советника и орденом св. Анны 1-й ст. и назначен в должность гофмейстера
профессия: 1826, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в шталмейстеры и назначен присутствующим в придворную конюшенную контору и членом комитета главной дирекции Императорских театров. Князь Гагарин отличался добрым и мягким характером, но был ветреным, праздным и избалованным роскошью человеком. Был знаменит в свете смуглой красотой и с ума сходил от женщин, но на свою жену не обращал внимания
смерть: 7 январь 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Покончил жизнь самоубийством. Похоронен в церкви Спаса Преображения на кладбище фарфорового завода. Летом 1932 года при сносе церкви могила уничтожена
♀ София Павловна Гагарина (Оболенская)
рождение: 1785
титул: княжна, княгиня
брак: ♂ Андрей Петрович Оболенский
смерть: 1860
♀ Мария Петровна Оболенская (Дохтурова)
рождение: 28 ноябрь 1771, (17 ноября 1771 ст.)
брак: ♂ Дмитрий Сергеевич Дохтуров
титул: княжна
смерть: март 1852
рождение: 1770
титул: князь
брак: ♀ Елена Ивановна Штакельберг (Оболенская)
смерть: 1855
рождение: 5 январь 1780
титул: Князь
войсковое звание: 28 сентябрь 1813, Генерал-майор
брак: ♀ w Екатерина Алексеевна Мусина-Пушкина (Оболенская)
смерть: 5 февраль 1834
рождение: 1784
брак: ♀ Екатерина Ивановна Гагарина (Оболенская)
смерть: 1871
 ♂ Александр Петрович Оболенский
♂ Александр Петрович Оболенский
рождение: 1782, Российская империя
титул: Российская империя, князь
брак: ♀ Аграфена Юрьевна Нелединская-Мелецкая (Оболенская)
брак: ♀ Наталья Петровна Оболенская (Оболенская)
смерть: 1855, Российская империя
рождение: 1775
титул: князь
брак: ♀ Аграфена Мельгунова (Оболенская)
смерть: 1820
 ♀ Варвара Петровна Оболенская (Щербатова)
♀ Варвара Петровна Оболенская (Щербатова)
рождение: 1774, Москва, Российская империя, Титул: княжна
титул: октябрь 1799, Москва, Российская империя, княгиня
брак: ♂ Александр Фёдорович Щербатов , Москва, Российская империя, Мать князя Щербатова противилась браку и не давала материнского согласия. Помог влюбленным князь А. И. Вяземский, они тайно обвенчались в Москве и в тот же день отправились в Петербург
место жительства: май 1817, Овдовев, Варвара Петровна удалилась от света и вела скромную деревенскую жизнь. По словам её зятя, Свербеева, была, в «полном смысле этого слова, честная, прямая и благородная женщина»
смерть: 1843, Москва, Российская империя, Похоронена вместе с мужем, в Донском монастыре
♀ Марфа Андреевна Маслова (Оболенская)
рождение: 1768
брак: ♂ Андрей Петрович Оболенский
смерть: 1796
рождение: 1769
брак: ♀ Марфа Андреевна Маслова (Оболенская)
титул: князь
брак: ♀ София Павловна Гагарина (Оболенская)
смерть: 1852
Деды
Родители
♂ Иродион Андреевич Оболенский
рождение: 1820
брак: ♀ Мария Александровна Львова (Оболенская)
смерть: 1891
рождение: 1811
титул: князь
брак: ♀ Аделаида Петровна Шелашникова (Оболенская)
смерть: 1866
♂ Владимир Андреевич Оболенский
рождение: 1815, или 1814
брак: ♀ София Ивановна Миллер (Оболенская)
титул: князь
смерть: 1877
♀ Екатерина Андреевна Оболенская (Волкова)
рождение: 9 январь 1796
брак: ♂ Николай Аполлонович Волков
смерть: 23 апрель 1849
♀ Наталья Андреевна Оболенская (Озерова)
рождение: 20 декабрь 1812, Н.Новгород
брак: ♂ Сергей Петрович Озеров
титул: княжна
смерть: 2 июнь 1901, Ц.Село
♂ Николай Андреевич Оболенский
рождение: 1822
титул: князь
брак: ♀ Александра Львовна Боде (Оболенская)
смерть: 1867
♂ Василий Андреевич Оболенский
рождение: 1818
брак: ♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
титул: князь
смерть: 1883
♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
рождение: 1825
брак: ♂ Василий Андреевич Оболенский
смерть: 1885
Родители
== 3 ==
♀ Евфимия Васильевна Оболенская (Шиловская)
рождение: 1848
брак: ♂ Владимир Сергеевич Шиловский
смерть: 1868
♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская)
рождение: 29 январь 1851, Санкт-Петербург, Российская империя, На сайте место рождения Игнатовка
брак: ♂ Василий Васильевич Оболенский , Москва, Российская империя
смерть: 1930, Царицыно, Московская область, СССР
 ♂ Василий Васильевич Оболенский
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 1846, Москва, Российская империя
брак: ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) , Москва, Российская империя
смерть: 1890, Москва, Российская империя
== 3 ==
Дети
рождение: 1871, Москва, Российская империя
титул: граф
профессия: ок. 1905?, Звенигород, Звенигородский уезд, Московская губерния, Российская империя, Звенигородский уездный предводитель дворянства. Гражданский чин: статский советник, 5 класс табели о рангах; придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
профессия: 1921, Москва, СССР, Член Всероссийского союза писателей
брак: ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева) , Москва, СССР
профессия: 1923, Остафьево, Щербинка, Московская область, СССР, Действительный член Общества изучения русской усадьбы, заведующий музея "Остафьево"
профессия: 1927, Остафьево, Щербинка, Московская область, СССР, Лишён гражданских прав как лицо дворянского происхождения, отстранён от работы заведующего музея "Остафьево"
место жительства: 1929, Москва, СССР, Выселен с семьей из музея "Остафьево", жил в Напрудной башне Новоде́вичьего Богородице-Смоленского женского монастыря
смерть: 1943, Москва, СССР, Похоронен на Царицынском кладбище. Царицыно, Московская область, СССР
 ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ Павел Сергеевич Шереметев , Москва, СССР
смерть: 2 июнь 1942, Умерла в заключении в застенках НКВД
♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская)
рождение: 1900, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: графиня
брак: ♂ Владимир Васильевич Оболенский , Москва, СССР
смерть: 1938, умерла (расстреляна) в тюрьме
♂ Владимир Васильевич Оболенский
рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь
брак: ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) , Москва, СССР
место жительства: 1937, Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован
смерть: до 1940, расстрелян в тюрьме
♂ Владимир Васильевич Арсеньев
рождение: 9 июль 1868, Москва, Российская империя
брак: ♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова) , Москва, Российская империя
смерть: 1921
♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова)
рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ Владимир Васильевич Арсеньев , Москва, Российская империя
...: 1934, Париж, Франция, Второй муж: граф Александр Салтыков (1872, Санкт-Петербург – 1940, Париж)
смерть: 1952, Брюссель, Бельгия
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя
войсковое звание: 1898, Москва, Российская империя, Вышел в отставку с чином поpучик запаса
...: 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
место жительства: 12 февраль 1910, Москва, Российская империя, Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
...: ок. 1918?, Москва, Российская империя, Развод. Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
эмиграция: ок. 1919?, Югославия
...: 1920, Югославия, Брак. Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
...: 1921, Югославия, Родилась дочь: Мария Васильевна Оболенская. Муж с 1946, Clamart, Лопухин Михаил Николаевич (1918, Тюмень).
...: 1924, Югославия, Родился сын: Павел Васильевич Оболенский. Жена с 1945, Cognac, Jacqueline Bonnet (1923). Дочь Ariane (1950)
смерть: 22 ноябрь 1952, Сент-Женевьев-де-Буа, Парижский регион, Франция
♂ Сергей Васильевич Оболенский
рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 29 апрель 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp
смерть: 1936, Выборг, Финляндия
♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская)
рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна
...: 4 июнь 1897, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Владимир Константинович Шиловский (умер в 1907)
рождение: 1908, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Евгений Михайлович Слатвинский (Slatvinsky) (1872-1930, умер в заключении)
смерть: 1933, СССР, Умерла в заключении
♂ Алексей Васильевич Оболенский
рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 4 апрель 1904, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева
профессия: 1906, Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД
смерть: 21 ноябрь 1969, Стокгольм, Швеция
♂ Николай Васильевич Оболенский
рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь
смерть: 1918, Красково, Московская губерния, Российская империя, Пpапоpщик аpтиллеpии
♀ Евфимия Васильевна Оболенская
рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна
смерть: 1960, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Андрей Васильевич Оболенский
рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь
смерть: 30 декабрь 1882, Москва, Российская империя
♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко)
рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна
...: 1905, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Прутченко Николай Михайлович (1869-1929, Царицыно), офицеp л.-гв. Гусаpского полка
смерть: 1961, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Александр Васильевич Оболенский
рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 1917, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Lydia Koumbo
...: до 1933, Marvejols, Франция, Развод. Бывшая жена: Lydia Koumbo
...: 1934, Marvejols, Франция, Брак. Жена: Lucienne Marie Vanasson
смерть: 1971, Marvejols, Франция
Дети
Внуки
рождение: 29 июль 1922, Остафьево, Щербинка, Московская область, СССР, (Ostafyevo, Shcherbinka, Moskovskaya oblast, Russia) Титул: граф
войсковое звание: с 1941 по 1945, С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, был дважды контужен и закончил войну в Праге
обучение: после 1946, Москва, СССР, Учился в Суриковском институте, стал хорошим художником. Жил бедно. К нему приходили музейные работники с предложением продать картины, но Василий был непреклонен
...: ок. 1947?, Москва, СССР, Брак. Жена: Ирина Владимировна ? (Шереметевa)
место жительства: 1956, Москва, СССР, В 350-ю годовщину со дня рождения Рембрандта подарил Музею изобразительных искусств им. Пушкина картину художника «Христос, Мария и Марфа». Эту картину в свое время получил в подарок фельдмаршал Борис Петрович Шереметев
смерть: 5 август 1989, Москва, СССР, (Moscow, Russia) На Василии Павловиче закончилась мужская линия рода графов Шереметевых в России
♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)
рождение: 1 январь 1926
брак: ♂ Николай Владимирович Оболенский
♂ Николай Владимирович Оболенский
рождение: 20 июль 1927, Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР
титул: князь
брак: ♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)
♂ Николай Владимирович Шиловский
рождение: 1898, Москва, Российская империя
...: 1920, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Галина Сергеевна ? (Шиловская)
рождение: 1907, Москва, Российская империя
рождение: 1914, Москва, Российская империя
♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова)
рождение: 1922, Царицыно, Московская область, СССР
...: 1949, Москва, СССР, Брак. Муж: Павлинов Пьер (Pierre) Павлович (1921, Москва - ?)
♂ Андрей Владимирович Оболенский
рождение: с 1923 по 1924, Царицыно, Московская область, СССР
Внуки
https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:226626
|
Метки: оболенские |
История разбитых судеб - Страница 33 |
История разбитых судеб - Страница 33
(7 лет, 3 месяца, 20 дней). Калуга. 1894 год.

Личное собрание А. В. Антошко. Москва. Россия.
Достоинство. Ее отцом являлся известный генеалог, в 1940-1950-е годы заведующий отделом нумизматики Государственного исторического музея Александр Александрович Сиверс (1866-1954 гг.), в то время занимавший видный пост в Министерстве Императорского Двора и имевший придворное звание камергера, которое зять неизменно указывал в своих формулярных списках. Невеста была хорошо образована, окончила широко известную гимназию С. А. Арсеньевой в Москве, а в 1910-1913 годы училась в Строгановском училище.
В калужском дворянском обществе семья Аксаковых была известна вспыльчивым характером. Этот вопрос обсуждался и при замужестве Татьяны Александровны Сиверс. Когда жених приехал к ее матери свататься, та прямо спросила: «Борис! Простите, что я затрагиваю этот вопрос, но Вы знаете, какой славой пользуется во всей округе «аксаковский характер». Я боюсь, что Вы его унаследовали». Полученный, самокритичный ответ вполне удовлетворил будущую тещу: «Я сам так много от него пострадал, что гарантирован от повторения ошибок моего отца!»104
Венчание состоялось в Москве, в церкви Бориса и Глеба «что у Арбатских ворот». Торжество прошло с большим размахом. Татьяна Александровна подробно описала его, посвятив отдельную главу воспоминаний.105 «Все пространство от Удельного дома [где жила Т. А. Сиверс - А. К.] до церкви было запружено экипажами и автомобилями.
Татьяна Александровна Сиверс и Борис Сергеевич Аксаков. Москва, октябрь 1913 года.
Личное собрание Н. К. Телетовой. Санкт-Петербург. Россия.

I
I
Съезд был очень большой, и церковь была переполнена».106 После свадьбы новобрачные уехали в экзотическое путешествие в Египет.
Однако в реальности ситуация оказалась сложнее. Татьяна Александровна Аксакова перечисляла много сложных черт в характере мужа - жестокость, раздражительность, «деланную любезность» в общении с посторонними, дерзкий тон с людьми, которые не нравились, что приводило к напряженной психологической атмосфере. В конечном счете, Татьяна Александровна определяла их отношения как «психоконфликт».107
Однако в их жизни случались и приятные события. 24 июля 1915 года у Бориса и Татьяны родился сын Дмитрий, которому довелось в первые годы жить в Московском Кремле, на территории которого в древности находились имения их знатных предков. В 1916 году Борис Сергеевич Аксаков командовал образцовой ротой охраны Московского Кремля, где вместе с семьей проживал в казенной квартире. В июне 1916 года он был награжден орденом Св. Станислава третьей степени, а в день рождения Татьяны Александровны 12 октября их навестили знатные гости. Именинница так описывает этот случай - «автомобиль с императорским штандартом остановился у подъезда офицерского флигеля Кремлевских казарм. Из него вышли великий князь, Наталья Сергеевна с подарком в руках (это была вышитая чайная скатерть), мама, Вяземский и Николай Николаевич Джонсон. Наша квартира огласилась смехом и приветствиями в мою честь. Михаил Александрович подхватил на руки Димку, стал подбрасывать его к потолку, Димка радостно визжал, в коридоре толпились ошеломленные этим зрелищем солдаты, а я поила всех чаем».108
Под Калугой, в имении Чебышевых «Аладино».
1914 год.

Стоят слева направо:
Нина, Вера, Ы, Ксения,
Борис, Татьяна Аксаковы, кн. В. А. Вяземский и мама Татьяны, Александра Гастоновна.
Сидят слева направо: Александра Петровна Эшен (ур. Чебышева), Гастон Александрович Эшен.
Личное собрание Е. Д. Аксаковой (внучки Бориса Сергеевича и Татьяны Александровны Аксаковых). Ницца, Франция.
В апреле 1917 года Борис Сергеевич Аксаков убыл в действующую армию, в штаб 26-го армейского корпуса, 09 а его семья уехала в Калужскую губернию. Их судьба складывалась непросто. В декабре 1917 года его жена вместе с маленьким сыном Димой была выслана из имения Попелево и переехала в Козельск. В 1918-1919 годах Татьяна Александровна Аксакова работала делопроизводителем молочной фермы Козельского земотдела, откуда была уволена из-за дворянского происхождения. В это время Борис находился в частях Добровольческой армии на юге России, куда убыл осенью 1918 года. Как пишет Татьяна Александровна - «Иначе Борис поступить не мог и не должен был».110 В период эвакуации армии из Новороссийска в 1920 году Борис Сергеевич Аксаков тяжело заболел тифом и не смог покинуть Россию. Его выходила сердобольная семья, после чего он вернулся в Калугу к жене и сыну. Татьяна Александровна в мемуарах приводит другую причину его возвращения домой и эти события описывает иначе.
Публикация расположена в следующей рубрике:
- Литература. Различные темы -> История разбитых судебttps://www.istmira.ru/razlichnoe/istoriya-razbityx-sudeb/page/33/
|
Метки: аксаковы |
Сиверс, Александр Александрович |
Сиверс, Александр Александрович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Александр Александрович Сиверс | |
|---|---|
| Дата рождения | 27 июля 1866 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 24 сентября 1954 (88 лет) |
| Место смерти | |
| Страна | |
| Род деятельности | нумизмат, генеалог |
У этого термина существуют и другие значения, см. Сиверс.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Си́верс (27 июля 1866, Нижний Новгород — 24 сентября 1954, Москва) — русский нумизмат, генеалог, действительный статский советник, камергер из рода Сиверсов.
Содержание
Биография
Родился в семье тайного советника Александра Александровича Сиверса (10.11.1835, Санкт-Петербург — 23.05.1902, Спасск), управлявшего Нижегородским и Киевским удельными округами, и Надежды Петровны Мартос — из малороссийского рода, владевшего имением Ивахники в Полтавской губернии.
Окончил Александровский лицей, затем — Петербургский университет. До революции Александр Александрович Сиверс работал в Киевской удельной конторе, Главном управлении уделов. В 1911—1912 годах был начальником Самарского удельного округа, а в 1913 году стал членом Комитета по опеке над имуществом великого князя Михаила Александровича. С 1915 по 1917 год Сиверс служил помощником начальника Главного управления уделов.
После революции и до января 1918 года Александр Александрович служил в Отделе национальных сельскохозяйственных предприятий Министерства земледелия для ликвидации дел уделов. После убийства Урицкого Сиверс был арестован, но благодаря помощи Остзейского комитета и посла Германии его освободили.
В дальнейшем, с 1918 по 1923 год Сиверс работал заместителем заведующего отделением административного и личного состава в Управлении делами Главного управления по архивам. В то же время он состоял в правлении акционерного общества «Огни» и был членом комиссии при Академии наук по изданию сочинений М. М. Сперанского.
C 1920 года Сиверс работал научным сотрудником Государственной академии материальной культуры и был председателем её библиотечной комиссии. В 1922 году в Петрограде была издана работа Сиверса «Топография кладов с пражскими грошами».
В 1923—1928 Сиверс служил старшим помощником хранителя Эрмитажа, помощником хранителя нумизматического отделения; кроме того, с 1925 по 1928 год он редактировал печатные издания Эрмитажа. В Эрмитаже он провёл большую работу по систематизации и приведению в порядок собрания медалей.
В октябре 1928 года Александр Александрович стал заведующим Русским отделом Библиотеки АН СССР, но уже 20 ноября того же года его арестовали по ложному обвинению и решением ОГПУ от 19 мая 1929 выслали на три года в Туруханск.
Прожив в ссылке 4 года, Сиверс переехал во Владимир. С января 1944 года и до конца жизни он заведовал нумизматическим сектором Государственного исторического музея. Именно благодаря усилиям А. А. Сиверса нумизматический сектор был возрождён.
Скончался в Москве в 1954 году, похоронен на Введенском кладбище.
Семья
В 1891—1898 гг. был женат на Александре Гастоновне Эшен (1872, Париж — 26.09.1952, там же). Брак закончился разводом[1], через год после которого Александра вышла замуж за Николая Борисовича Шереметева (1863—1935). Третий муж (с 15.07.1914) — князь Владимир Алексеевич Вяземский[1]. В 1918 году через Остзейский комитет А. Г. Вяземская хлопотала об освобождении арестованного в Петрограде А. А. Сиверса и после его освобождения, опасаясь ареста, уехала в Киев, а затем вместе с Натальей Брасовой — за границу[1].
Через много лет после развода Сиверс женился вторым браком (25.12.1935) на Ольге Геннадьевне Чубаровой. От первого брака имел детей:
- Татьяна Аксакова-Сиверс (1892—1981), известная мемуаристка.
- Александр (28.07.1894, Санкт-Петербург — 28.10.1929, Соловецкий монастырь); был женат на Татьяне Николаевне Юматовой, репрессирован по делу лицеистов.
Сочинения
Примечания
Литература
- Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700—1918. — М.: Минувшее, 2010. — С. 748, N 1430.
- Немцы в России: энциклопедия. — М.: Эрн, 2006. — Т. 3. — С. 434—435.
- Аксакова Т. А. Дочь генеалога // Минувшее: исторический альманах. — М.: Прогресс: Феникс, 1991. — Вып. Кн. 4. — С. 7—92.
- Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата / пер. с нем. М. Г. Арсеньевой; отв. редактор В. М. Потин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993. — С. 305. — 50 000 экз. — ISBN 5-256-00317-8.
|
Метки: сиверс |
Польской, Григорий Афанасьевич |
Польской, Григорий Афанасьевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Григорий Афанасьевич Польской | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата рождения | 1784 | |||
| Дата смерти | 19 (31) января 1860 | |||
| Принадлежность |  Россия Россия |
|||
| Род войск |  флот флот |
|||
| Годы службы | 1804—1860 | |||
| Звание | генерал-лейтенант | |||
| Командовал | транспорт «Мария» фрегат «Евстафий» корабль «Скорый» корабль «Париж» 28-й флотский экипаж 38-й флотский экипаж бригада ластовых экипажей Черноморского флота |
|||
| Сражения/войны | Русско-турецкая война (1806—1812) Русско-турецкая война (1828—1829) |
|||
| Награды и премии |

|
|||
Григорий Афанасьевич Польской (ок. 1784 — 1860) — русский генерал-лейтенант флота.
Биография
В 1796 году поступил кадетом в Черноморский корпус. В 1804 году произведён в чин мичмана. В 1804—1808 годах ходил к Корфу и плавал в Средиземном море в эскадре вице-адмирала Д. Н. Сенявина.
В 1809 году на корабле «Дерзкий» был в кампании на Венецианском рейде. В 1810 году возвратился берегом в Николаев и был произведён в чин лейтенанта.
26 ноября 1826 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1827 году командовал транспортом «Мария» у крымских берегов. В 1828 году, командуя 44-пушечным фрегатом «Евстафий», участвовал при взятии крепости Анапы и при атаке Варны, за что был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Св. Анны 2-й степени. 1 января 1829 года произведён в чин капитана 2-го ранга и, командуя тем же фрегатом, участвовал во взятии крепости Сизополь эскадрой контр-адмирала М. Н. Кумани. Затем командовал кораблем «Скорый».
В 1830 году находился при Сизополе, на острове Кириос и мысе Св. Троицы — заведующим лазаретом и карантином. Командуя линейным кораблем «Париж», перевозил войска и грузы из Турции в Черноморские порты. В 1831—1832 годах, в чине капитана 1-го ранга командовал 28-м флотским экипажем, а в 1834—1838 годах — 38-м флотским экипажем в Севастополе. 1 января 1839 года произведён в чин генерал-майора и назначен командиром бригады ластовых экипажей Черноморского флота. В 1851 году назначен начальником штаба инспектора ластовых команд, рабочих экипажей и арестанских рот Черноморского флота. В 1855 году произведён в чин генерал-лейтенанта с назначением членом общего присутствия интендантства. В 1857 году назначен состоять по морскому министерству.
Жена: дочь И. Х. Сиверса, Вильгемина Ивановна.
Источники
- Польской, Григорий Афанасьевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
|
Метки: польские |
Чебышёв, Пётр Афанасьевич |
Чебышёв, Пётр Афанасьевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Чебышёв; Чебышёв, Пётр.
| Пётр Афанасьевич Чебышёв | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата рождения | 1 (13) марта 1821 | ||||||
| Место рождения | с-цо Аладино, Козельский уезд, Калужская губерния | ||||||
| Дата смерти | 29 января (10 февраля) 1891 (69 лет) | ||||||
| Место смерти | с-цо Аладино, Козельский уезд, Калужская губерния | ||||||
| Принадлежность |  Россия Россия |
||||||
| Род войск |  флот флот |
||||||
| Звание | вице-адмирал | ||||||
| Командовал | корветы «Буйвол», «Медведь» и «Богатырь», крейсер «Цесаревич», 6-й флотский экипаж, | ||||||
| Сражения/войны | Кавказская война, Крымская война | ||||||
| Награды и премии |
|
||||||
Пётр Афанасьевич Чебышёв (1821—1891) — вице-адмирал, участник Севастопольской обороны в Крымской войне. Прадед мемуаристки Т. А. Аксаковой-Сиверс.
Содержание
Биография
Родился в дворянской семье Чебышёвых; отец — небогатый помещик Афанасий Андреевич (1777—1826), женившийся на дочери сенатора Н. П. Кожина, Александре Николаевне (1789—1858). В семье ещё было 3 дочери и два сына: Анна, Мария, Евдокия, Николай и Алексей).
Пётр Афанасьевич Чебышёв образование начал получать в 1831 году в Морском кадетском корпусе, однако, до завершения полного курса наук, в 1838 году был переведён унтер-офицером 3-го класса в Корпус морской артиллерии и назначен в Черноморский флот.
В 1839 году за отличие при занятии местечка Субаши, у абхазских берегов, произведён в юнкера. Крейсируя у тех же берегов, Чебышёв, за отличие в действиях против горцев, был произведён 6 марта 1840 года в прапорщики морской артиллерии, а 6 декабря того же года переименован в мичманы.
С этого времени и до 1856 года он служил в Черноморском флоте и в 1854—1855 годах состоял в гарнизоне Севастополя на 4-м бастионе и при морской батарее № 10. Во время Севастопольской обороны он был контужен и два раза ранен в голову и за отличия получил ордена Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 2-й степени с мечами (в 1856 году), а также золотую саблю с надписью «За храбрость» (20 сентября 1855 года) и произведён в капитан-лейтенанты. 26 ноября 1856 года за проведение 18 полугодовых морских кампаний награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 10 022 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).
В 1856—1860 годах он состоял при Кронштадтском порте, командовал корветом «Буйвол», с 1858 года — корветом «Медведь» (в Средиземном море). В это время он перевёз свою семью во Францию.
В 1860 году награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами. В 1861—1863 годах Чебышёв командовал корветом «Богатырь» в Тихом океане; в 1862 году произведён в капитаны 2-го ранга и назначен начальником отряда судов, находившихся в Китайском и Японском морях, а в конце 1863 года, во время похода к берегам Америки в составе эскадры под флагом контр-адмирала А. А. Попова, был переведён на службу в Санкт-Петербург, куда из Парижа вернулась и жена с дочерьми.
В 1866 году произведён в капитаны 1-го ранга, командовал крейсером «Цесаревич». В 1872 году Чебышёв был назначен командиром 6-го флотского экипажа, в 1878 году — произведён в контр-адмиралы и послан был в Свеаборг для командования гарнизоном и артиллерией Свеаборгских укреплений, а в 1881 году — назначен младшим флагманом Балтийского флота.
В 1882—1884 годах он начальствовал отрядом судов в греческих водах, в 1885 году — зачислен по флоту, 13 апреля 1886 года произведён в вице-адмиралы, а 9 марта 1890 года, по случаю 50-летнего юбилея, получил орден Святого Владимира 2-й степени.
Скончался 29 января (10 февраля) 1891 года в своём имении Аладино[1].
Семья
В 1847 году женился на дочери генерал-лейтенанта флота Григория Афанасьевича Польского, Юлии Григорьевне. У них родились дочери Александра (1848—1919) и Валентина. Александра Петровна — бабушка Т. А. Аксаковой-Сиверс; Валентина Петровна — мать флотского лейтенанта А. П. Штера.
Примечания
- Аладино (см. на карте 1850 года) располагалось в 2 км восточнее Фролова, не сохранилось; ныне — территория Сухиничского района Калужской области.
Литература
- Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — М., 2009. — Т. 2: Л—Я.
- Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
- Список лицам Главный морской штаб составляющим на 1866 год. — СПб., 1866.
- Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869.
- Аксакова Т. А. Семейная хроника. — М. : Территория, 2005. — Кн. 1.
|
Метки: чебышевы |
АЛЕКСАНДРА ГАСТОНОВНА ВЯЗЕМСКАЯ |
АЛЕКСАНДРА ГАСТОНОВНА ВЯЗЕМСКАЯ
Доказательством того, что княгиня Александра Гастоновна Вяземская являлась клиенткой Надежды Петровны Ламановой служат воспоминания ее дочери, Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс:
"Осенью 1912 г., заходя с мамой на примерку к Ламановой (у Ламановой одевалась, конечно, не я, а мама), я видела, как мастерицы проносили вороха каких-то кружевных предметов и говорили, что это «приданое барышни Волоцкой»."
Нужно сказать, что связывали их гораздо более близкие отношения, т.к. Татьяна Александровна пишет: "С вокзала мама и Вяземский, в силу дружеских отношений, отправились к Каютовым, которые к тому времени уже были выселены из своего дома на Тверском бульваре и переехали в довольно поместительный особняк Чижовых в Еропкинском переулке на Пречистенке."
Для Татьяны Александровны в ателье Надежды Петровны тоже создавались наряды, об этом она пишет в своей книге воспоминаний "Семейная хроника. Книга 1."
В этом разделе представляем вашему вниманию статью кандидата исторических наук Алексея Кулешова, рассказывающую о жизни Александры Гастоновны Эшен (первый брак Сиверс, второй брак Шереметева, третий брак княгиня Вяземская).
САШЕНЬКА ЭШЕН
Французская внучка русского адмирала
Наша героиня, княгиня Александра Гастоновна, в последнем браке — Вяземская (1872–1952), будучи близкой подругой Натальи Сергеевны Брасовой, жены великого князя Михаила Александровича, разделила с нею всю горечь скитаний и потерь. А ещё в судьбу этой красивой женщины временами активно вторгались героический русский флот и Андреевский флаг…

Княгиня Александра Гастоновна Вяземская
Например, именно под этим флагом на легендарном бронепалубном крейсере «Новик» в русско-японскую кампанию, не обращая внимания на ранения, совершал дерзкие боевые рейды двоюродный брат Александры Гастоновны, лейтенант флота Андрей Петрович Штер (1878–1907), упомянутый в известном романе Александра Степанова «Порт-Артур».
Именно этот флаг был символом несгибаемой воли сошедших на берег моряков Черноморского флота при защите осаждённого Севастополя, организованной адмиралом Нахимовым. Среди его бесстрашных офицеров в составе 10-й Приморской батареи отчаянно воевал и был контужен дед нашей героини, впоследствии вице-адмирал Пётр Афанасьевич Чебышёв (1820–1891). Но обо всём по порядку.

Вице-адмирал Пётр Афанасьевич Чебышёв
Чебышёв родился в Аладино — калужском имении своего отца. Его фамилия, равно как и фамилия его родственника и однофамильца Пафнутия Львовича, известного математика, правильно произносится через «ё», с ударением на последний слог. Жена вице-адмирала Юлия Григорьевна (рождённая Польская), дочь русского флотоводца, и две дочери Александра и Валентина ежегодно, когда у главы семейства появлялась возможность, выезжали на отдых в Париж.
Однако юношеские воспоминания о прекрасной Франции у барышень Чебышёвых были связаны не только с архитектурой французской столицы. Именно здесь 14-летняя Александра испытала первую симпатию к молодому человеку, а данная ею клятва верности спустя годы привела влюблённых к алтарю. Забегая вперёд, скажем, что брак был счастливым. Они прожили долгую жизнь и умерли, как в сказке, почти в один день — осенью 1919 года в Петрограде, где и были похоронены в Александро-Невской лавре.

Гастон Эшен (ум. 1919). Александра Петровна Чебышёва, в браке — Эшен (1848–1919).
Избранником Александры Петровны стал Гастон Эшен, принадлежавший к известному во Франции патриархальному роду бельгийского происхождения. В Париже он владел приличным участком земли в Пасси, где в настоящее время построен выставочный комплекс Трокадеро. После краха Лионского банка, в котором хранились семейные средства, Гастон и Александра переехали в Россию. Гастон получил место в правлении Макеевских металлургических заводов, финансируемых французским капиталом. У них родились две девочки, которых в духе наследуемых семейных традиций также назвали Александрой (Сашенькой) и Валентиной (Линочкой). В духе этой же традиции в роде дворян Сиверсов, о ком пойдет речь далее, всех мужчин называли Александрами.
Наша героиня была очень резвым ребёнком и среди сверстников явно отличалась смекалкой, которую использовала исключительно в своих детских корыстных интересах. Её родная сестра Лина внешне была похожа на Сашеньку, однако разница характеров была заметна с детства. Девочек воспитывали в строгости, ведя по французской системе бесконечные разговоры о «долге». Лина училась добросовестно, часами просиживая за книгами, усадить же за них Сашеньку было делом весьма нелёгким. Она считала, что на свете есть вещи гораздо более интересные, чем учебники. Если Валентина всегда тяготела к размеренному образу жизни — и когда впервые выходила замуж за сотника лейбгвардии казачьего полка Н. Н. Курнакова, и когда становилась французской графиней де Герн, то Александра, наоборот, отдавала предпочтение лёгкому, весёлому времяпровождению под сенью восторженных взглядов представителей высшего света. Её интересовали все назревающие и уже обсуждаемые интриги, информацию о которых она впитывала, как губка, и охотно делилась ими со сверстницами. Особенную привлекательность Александре придавала «седая прядь на фоне тёмных вьющихся волос, которая появилась в возрасте 18–19 лет и составляла интересный контраст с её молодым, подвижным лицом».
Сёстры вышли замуж одновременно. Венчание двух пар состоялось 20 октября 1891 года в петербургской церкви Пажеского корпуса на Садовой. Первый муж Александры Гастоновны, впоследствии известный историк, генеалог и нумизмат Александр Александрович Сиверс (1866–1954), происходил из прибалтийского дворянского рода, одна из ветвей которого в XVIII веке была возведена в графское достоинство. Апокрифические версии утверждали, что родословная его матери вела к незаконнорождённой дочери светлейшего князя Потёмкина и Екатерины Великой. Портрет этой таинственной особы, носившей фамилию Темлицына (от смешения фамилий Потёмкина и её крёстной матери княгини Голицыной), кисти Боровиковского выставлен в Третьяковской галерее, причём с ошибочной подписью: «Е. Г. Тёмкина».
Александр Александрович, в то время занимавший видный пост в министерстве императорского двора и имевший придворное звание камергера, заслужил себе репутацию делового порядочного человека, которого после строительства курируемых им мощных оросительных сооружений и хлопкоочистительного завода в Байрам-Али в шутку стали называть «отцом русского хлопка». В семье родились дети — дочь Татьяна (1892–1981) и сын Александр (1894–1929).

Слева направо:друг семьи Н. Н. Муханов, Александра Гастоновна и Александр Александрович Сиверс, их дочь Таня в коляске. 1893 г
Весёлый нрав Александры Гастоновны, который она объясняла наличием французской крови, постоянно требовал публичного внимания и вращения в обществе. Интересы же её мужа, наоборот, жаждали усидчивости, аналитической деятельности, тишины. Поэтому он всё чаще и чаще, углубляясь в сферу своих увлечений, поручал друзьям и сослуживцам сопровождать молодую жену в театры, на балы и иные светские мероприятия. В итоге данная ситуация привела к вполне логическому завершению. К Сиверсу с просьбой предоставить Александре Гастоновне свободу обратился его помощник по должности Николай Борисович Шереметев, признавшийся, что любит его жену. Попытки супругов сохранить брак не увенчались успехом, окончательный разрыв произошёл в 1898 году.

Александра Гастоновна и её второй муж Николай Борисович Шереметев. 1898 г.
Влившись в многочисленный клан Шереметевых, Александра Гастоновна оставила детей бывшему мужу. Её поступка никто не одобрил. Одни своё отношение к произошедшему скрывали, другие не утруждали себя необходимостью сдерживаться на этот счёт. Новое аристократическое положение позволило нашей героине вращаться в среде лиц высокого звания, ещё больше расширить и без того немалый круг знакомств. Николай Борисович, с которым Александра Гастоновна проживала во флигеле Странноприимного дома графа Шереметева (Шереметевская больница, известная ныне как больница Склифосовского), со временем занял освободившееся место начальника Московского удельного округа. Семейная пара переехала в престижный казённый особняк на Пречистенском бульваре.
Из письма её дочери Татьяны Александровны:
«29.05.1963 г.
Москва… я к ней привыкла и проезжаю мимо Удельного дома на Пречистенском бульваре совершенно спокойно. Кстати, на заделанном окне моей бывшей классной, а потом гостиной, водружена мемориальная доска с барельефом Тургенева (что очень приятно). Иван Сергеевич постоянно останавливался в этом доме у своего приятеля Маслова, бывшего, как и Николай Борисович Шереметев, начальником Московского Удельного округа».

Под Калугой, в имении Чебышёвых «Аладино». 1914 год. Стоят (слева направо):Нина, Вера, N, Ксения, Борис, Татьяна Аксаковы, князь В. А. Вяземский и мама Татьяны — Александра Гастоновна.Сидят (слева направо): Александра Петровна Эшен (рожд. Чебышёва), Гастон Эшен. Личное собрание Е. Д. Аксаковой, праправнучки княгини А. Г. Вяземской. Ницца, Франция.
Новое назначение позволило решить вопрос о переезде к ним дочери Александры Гастоновны после более чем пятилетней разлуки, и этот отрезок жизни нашей героини можно отнести к самому светлому периоду в череде последующих событий. Надо сказать, что Николай Борисович без восторга принял высокую должность. Он был записным театралом, тяготел к Малому театру и с годами полностью «утонул» в сценических проблемах. Пробовался в спектаклях и играл небольшие и несложные роли под своим неизменным псевдонимом Юрин. «Будучи человеком скромным и не имея преувеличенно-высокого мнения о своих актёрских способностях, он всё же считал своим искренним призванием — сцену». Шереметев с упоением организовывал домашние постановки с участием молодёжи, охотно приглашал друзей — актёров, «которые широким потоком хлынули на анфилады Удельного дома. Тут были и знаменитости — М. Н. Ермолова, О. О. Садовская, А. И. Южин».
Как водится, творческая среда сопутствует свободе нравов, которая у Николая Борисовича усугубилась ещё и по линии чрезмерного увлечения горячительными напитками. Эта напасть не оставляла его и в заграничных путешествиях, куда семья ежегодно старалась выбраться. Всевозрастающее увлечение театром у крупного чиновника удельного ведомства стало приобретать форму восторженной эйфории, а предметом маниакального воздыхания стала актриса Елизавета Ивановна Найдёнова, которая отнюдь не жаловала своего самопровозглашённого рыцаря. Окончательное объяснение Александры Гастоновны с мужем произошло в 1914 году, после чего начался второй бракоразводный процесс.
Развод был оформлен быстро, и уже 15 июля Александра Гастоновна стала княгиней. Венчание с князем Владимиром Алексеевичем Вяземским, вопрекинесбывшимся уговорам её сестры воздержаться от данного шага, состоялось в церкви Николая Морского. Валентина Гастоновна, как всегда практично, полагала, что Вяземский, будучи намного моложе своей жены, обязательно бросит её, оставив на улице. Как только князь узнал об этом, он тотчас перевёл на Александру Гастоновну своё калужское имение Попелево, заявив её сестре: «Теперь Ваша сестра может мня выгнать, а уж никак не я — её!»
Владимир Алексеевич был давним другом Бориса Аксаковаего предком был Сергей Тимофеевич Аксаков, известного всем автора "Аленького цветочка", мужа дочери Александры Гастоновны, которая о новом замужестве матери узнала, находясь в свадебном путешествии в Египте.
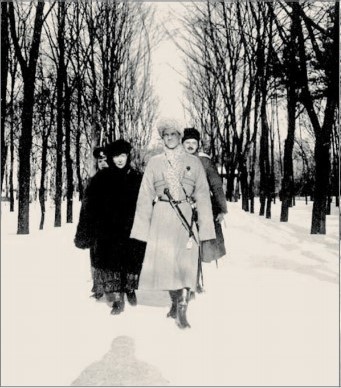
На зимней аллее. Впереди вел. кн. Михаил Александрович, справа — В. А. Вяземский, слева — А. Г. Вяземская и Н. Н. Джонсон.
В 1950-х годах, будучи в изгнании в Аргентине, брат Бориса Сергей Сергеевич с юмором рассказывал, как оба друга одновременно сватались: один — к матери, а другой — к дочери.
Знакомство нашей героини с Натальей Сергеевной Брасовой произошло в начале войны в доме одной из их общих знакомых. Сразу возникшая взаимная симпатия, впоследствии переросшая в искреннюю дружбу, привела к тому, что Брасова взялась за воссоединение своей новой подруги с князем Вяземским, который был призван на военную службу и направлен в Воронежскую губернию, в Острогожскую школу прапорщиков.

Княгиня Александра Гастоновна Вяземская
Брасова уже состояла в браке с великим князем Михаилом Александровичем. Она познакомилась с ним в Гатчине, куда переехала со вторым мужем, Владимиром Владимировичем Вульфертом, офицером лейб-гвардии кирасирского Её Величества полка — «синих», или «гатчинских», кирасир. Михаил Александрович как обычно сопровождал свою сестру — великую княгиню Ольгу Александровну, которая, находясь в неудачном браке с принцем Петром Ольденбургским, увлеклась сослуживцем Вульферта, своим будущим мужем Николаем Александровичем Куликовским.
Отношение императора Николая II к поступку брата, его морганатический брак стали причиной многих неурядиц и светских пересудов. Татьяна Александровна Аксакова (Сиверс) писала о Брасовой:
«31.08.1963 г.
Мать её чистокровная полька. Первый муж был Мамонтов, а 2-ой Вульферт, синий кирасир… Это был довольно образованный позёр, разбирающийся в искусстве, но, по-видимому, не очень щепетильный в моральных вопросах, т. к. за развод он взял с Михаила Александровича 200 тысяч рублей. (Мой отец, который ведал «опекой» над имуществом великого князя во время его «опалы», заплатил Вульферту эту сумму из средств последнего по его распоряжению)».
С началом войны великому князю Михаилу Александровичу было разрешено вернуться в империю и поручено командование формирующейся Туземной дивизией, более известной как «Дикая». Его бессменным ординарцем стал князь Владимир Вяземский. Дивизия состояла из шести полков, куда входили кабардинцы, черкесы, ингуши, чеченцы, дагестанцы и татары, высоко ценившие личную отвагу и боготворившие своего командира, между собой называя его «наш Михайло».

Слева направо:В. А. Вяземский, Н. С. Брасова с А. Г. Вяземской, Н. Н. Джонсон. Личное собрание Е. Д. Аксаковой
Взаимная поддержка, которую Наталья Сергеевна и Александра Гастоновна оказывали друг другу, ожидая находящихся на фронте мужей, крепко связали по жизни этих женщин, чьи судьбы и так были очень схожи. Дочь нашей героини вспоминала: «Наталья Сергеевна ни на шаг не отпускала маму, с которой ей, по-видимому, было весело и приятно. (Моя мать обладала исключительным даром создавать уют для окружающих.) 12 октября (1916 года. — А. К.) мама, однако, сказала: «Ну, сегодня Танин день рождения, и я вас покидаю». После чего Михаил Александрович предложил всем вместе ехать поздравлять новорождённую, а Наталья Сергеевна напомнила, что сначала надо запастись подарком. Двумя часами позднее автомобиль с императорским штандартом остановился у подъезда офицерского флигеля Кремлёвских казарм. Из него вышли великий князь, Наталья Сергеевна с подарком в руках (это была вышитая чайная скатерть), мама, Вяземский и Николай Николаевич Джонсон (секретарь великого князя. — А. К.). Наша квартира огласилась смехом и приветствиями в мою честь»
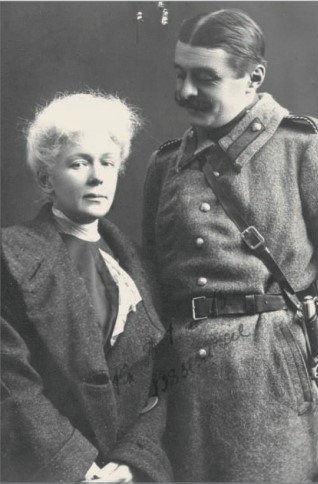
Александра Гастоновна и её третий муж князь Владимир Алексеевич Вяземский. 1916 г. Собрание Отдела рукописей РГБ.
Революционные события 1917 года внесли хаос не только в систему государственного управления: до основания были сломаны судьбы миллионов соотечественников, которые так и не смогли определить своего места в «классовой борьбе». В начале 1918-го Александра Гастоновна с дочерью жили в Калужской губернии: «В начале февраля весь Козельск заговорил о «Варфоломеевской ночи», когда все дворяне и буржуи будут уничтожены. Неясен был только вопрос об участи детей до четырёх лет. По одной версии им предстояло быть убитыми, а по другой — нет».
Спешно собрав вещи, семья сорвалась с насиженного места, но куда?! Татьяна Александровна вспоминала: «Мама ехала в других санях, держа на коленях старинную икону Фёдоровской Божьей Матери. По её лицу текли слёзы: на жизнь в Попелеве она возлагала большие надежды и многим пожертвовала для её устройства. И всё же я поражаюсь, с какой красивой лёгкостью мы (я говорю о дворянстве) расставались с материальными ценностями.
Причина «красивой лёгкости», может быть, была та, что жизнь ежеминутно выдвигала другие, более важные проблемы, от которых «дух захватывало», и среди них проблемы «родины», слова, звучащего в ту пору достаточно сильно».
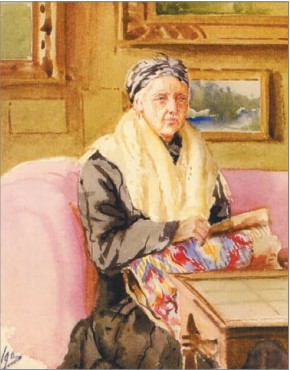
Акварельный портрет княгини А. Г. Вяземской кисти великой княгини Ольги Александровны. 1933 г.
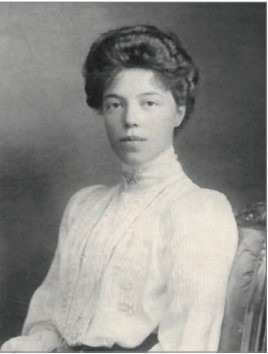
Великая княгиня Ольга Александровна
Постановлением Совнаркома за подписью Ленина от 9 марта 1918 года бывший великий князь Михаил Александрович и его секретарь Джонсон были высланы в Пермскую губернию до особого распоряжения. Жить им оставалось три месяца. Они были убиты в ночь с 12 на 13 июня, за пять недель до расстрела в Ипатьевском доме (реабилитировали великого князя совсем недавно — 8 июня 2009 года).
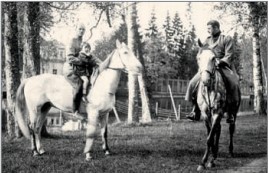
Вел. кн. Михаил Александрович с сыном Георгием и В. А. Вяземский на конной прогулке. Личное собрание Е. Д. Аксаковой.
Вскоре после исчезновения Михаила на своей гатчинской даче была арестована Наталья Сергеевна и доставлена на Гороховую. Княгиня Вяземская, находившаяся с ней в то время, добившись свидания с подругой, была ошеломлена тем, что Брасова абсолютно не отдавала себе отчёт в происходящем. Все десять минут свидания она упрекала Александру Гастоновну в том, что та не смогла вернуть бисерную сумочку, которую Наталья Сергеевна забыла в кабинете Урицкого после допроса: «Ах, Саша! Какая ты невнимательная! Ты же знаешь, как я любила эту сумочку!..»

Великий князь Михаил Александрович с женой Натальей Сергеевной Брасовой
К концу 1918 года ситуация стала ещё хуже. В Москве происходили повальные обыски.
Из дневника Ольги Геннадьевны Шереметевой, свояченицы Николая Борисовича:
«24/11 ноября 10 ноября вечером, около 10 часов ночи, в большой дом (дом Шереметевых на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка, позже улицы Грановскогоныне Романовского переулка. — А. К.) приехало несколько автомобилей с чекистами. Петерс во главе. Ворота заперли и произвели обыск. Увезли всю переписку Сергея (графа Сергея Дмитриевича Шереметева. — А. К.), все золотые вещи, дневники, в общем, на 10 000 000 рублей золотом. Приехали, видимо, с целью арестовать Сергея, но он так плох, что уже несколько недель лежит в постели (у него гангрена на ногах). К нему ворвались тогда, когда ему делали перевязки. «Вы видите, что тут умирающий», — сказала Петерсу О. Н. Зайцева (сестра милосердия. — А. К.). Тот остановился и присутствовал при операции. Положение Сергея настолько серьёзно, что его не арестовали (17 декабря он скончался. — А. К.), зато увели Павла, Бориса, Гудовича, Сабурова и Б. Сабурова. Перерыли весь дом и возились до 7 часов утра... Нас не тронули. Всю ночь мы слышали, как пыхтели, подъезжая и останавливаясь, автомобили, и видели, как в полусвете сновали люди».
«Это был тот самый Петерс, при котором потом заработала «чрезвычайка» в Ростове-на-Дону. Чтобы не было слышно криков и выстрелов, там непрерывно работали два мотора. Расстреливали пачками, Петерс присутствовал, и часто за ним бегал сын лет 8–9-ти и просил: «Папа, дай я!».
Постепенно пришло осознание того, что разворачивающиеся в стране страшные события практически не оставляли подругам шансов остаться в живых. С огромным трудом с помощью больших финансовых усилий Наталью Сергеевну удалось перевести из заключения в лечебницу, а оттуда под видом сестры милосердия переправить в Киев, где её уже ждала княгиня Вяземская. Через некоторое время английский броненосец «Диамант», вопреки бытующим среди моряков предрассудкам, принял на борт подруг и направился к берегам Англии. Смотря на тающую вдали прибрежную полосу, Александра Гастоновна мечтала о том, что, выполнив долг перед Натальей Сергеевной, она обязательно вернётся в Россию.
Анализируя поступки княгини Александры Вяземской, понимаешь: всё, что она ценила в жизни, это был Человек! Она шла на любые жертвы ради спасения близких ей людей. Как писала её дочь, «она умела быть другом»! Именно это чувство, привитое ей в детстве в калужском имении её деда, заставило её броситься на спасение бывшего мужа Сиверса, арестованного сразу после убийства Урицкого и заключённого в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Желание спасти, протянуть руку помощи, облегчить страдания, двигало ею, когда она приютила у себя во Франции своих внуков, вывезенных из Советской России, а также сына Натальи Сергеевны и великого князя. Эти же чувства двигали ею, когда она вновь окунулась в пекло событий, происходивших в России.
Поселившись в Англии, в поместье, где до начала войны и возвращения в Россию Брасова проживала с Михаилом Александровичем и где в качестве домоправительницы жила миссис Джонсон, мать секретаря великого князя, Вяземская начала действовать. Продав ценные вещи и собрав необходимую сумму, она через Гибралтар, Суэц, Цейлон, Сингапур и Японию прибыла в Россию на поиски своего пропавшего мужа Вяземского. Телеграфные депеши из ставки атамана Семёнова в Чите картину не прояснили. Удача улыбнулась лишь в Омске. Разыскав ошеломлённого появлением жены супруга, Александра Гастоновна облегчённо вздохнула: княжеская чета покинула Россию и на этот раз уже навсегда.
Прожив какое-то время в благоприобрётенном доме в немецком Висбадене, они перебрались в Ниццу, а с 1928 года в Париж. В Ницце при финансовой поддержке влиятельных родственников Эшенов и Конде Вяземские открыли маленький ресторанчик под романтическим названием «Caf des Fleurs» («Цветочное кафе»). Там собирались известные представители эмиграции — бывший премьер Горемыкин, баронесса Икскуль, принц Мюрат Наполеон, меньшевик Церетели и другие, что, безусловно, вызывало повышенный профессиональный интерес у чекистов. Будучи в 1926 году в гостях у матери, Татьяна Александровна несколько раз посетила ресторан, и это не прошло незамеченным. Спустя годы, в Ленинграде, на допросе в НКВД в 1935 году, следователь просил перечислить всех, кого она видела и о чём велись разговоры. Татьяна Александровна старалась отвечать общими фразами, однако на прямой вопрос следователя: «Кто такая Наталья Сергеевна?» последовал прямой, но ложный ответ: «Не знаю».
Понимая, что рано или поздно волна репрессий новой власти всё равно настигнет родственников, оставшихся в Советской России (а так и случилось), Александра Гастоновна предложила дочери вывезти во Францию своего сына и племянника (своих внуков), что и было исполнено в 1926 году. Когда мальчики подросли, при содействии родной сестры Валентины Гастоновны, графини де Герн, удалось получить благотворительные стипендии. Валентина Гастоновна в то время стояла во главе пансиона для русских девочек, организованного знаменитой балериной Анной Павловой на одной из великолепных вилл в Сен-Клу.
Ребята получили высшее образование и французское гражданство.
Из письма внука нашей героини Дмитрия Борисовича Аксакова дяде в Аргентину.
«Триполи 14.06.1951 г. Любовь к старой России и ненависть к большевикам мне были переданы бабушкой и её мужем, покойным кн. Вяземским (которого я звал дядя Володя). Главной моей целью в жизни было до сих пор — выйти в люди. Благодаря Анне Павловой мне была дана материальная возможность закончить высшее образование, и я благодарен, что меня направили на техническую отрасль, благодаря которой я всегда и всюду могу иметь приличный заработок».
80-летняя княгиня Александра Гастоновна Вяземская умерла в ноябре 1952 года. В начале того же года она похоронила подругу Наталью Сергеевну Брасову. Обе покоятся в родовой усыпальнице Эшенов в центре Парижа, на закрытом кладбище в Пасси.
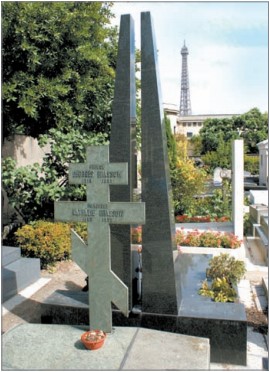
Париж. Кладбище Пасси. Надгробие сына и жены вел. кн. Михаила Александровича. Фото 2008 г
Могил у детей княгини нет. Сын Александр Александрович Сиверс расстрелян на Соловках в ночь с 28 на 29 октября 1929 года. Дочь Татьяна Александровна после семи лет сталинских лагерей и 25-летней ссылки покоится где-то под Ижевском. Могилы родителей нашей героини в Александро-Невской Лавре не сохранилось.

Пасси. Родовая усыпальница Эшенов, Вяземских, Де Герн, Конде. Фото 2008 г.
Родовой склеп семьи Чебышёвых в Калужской губернии разорён в 1930-е годы. Останки лейтенанта Штера, который был похоронен рядом с прославленным адмиралом, были выброшены, его золотое оружие и награды увезены сотрудниками органов. Цинковый гроб пущен местными жителями на вёдра, а алмазная крошка, украшавшая надгробие, — на стеклорезы.
Рядом со снесённым храмом, прямо на месте склепа, стоит дом одного из жителей, склеп служит погребом. На приусадебном участке, где когда-то располагалось приходское кладбище, разбит огород и ежегодно обильно плодоносит яблоневый сад…
- ↵ Аксакова (Сиверс) Т. А. Семейная хроника. Кн. 1. М. 2005. С. 38.
- ↵ Там же. С. 30.
- ↵ Там же. С. 32
- ↵ Там же. С. 44.
- ↵ Подробнее см.: Там же. С. 42.
- ↵ Кулешов А. С. Аксаковы. История разбитых судеб. М. 2009. С. 115.
- ↵ Аксакова (Сиверс) Т. А. Указ. соч. Кн. 1. С. 117.
- ↵ Там же. С. 116.
- ↵ Там же. С. 263.
- ↵ Кулешов А. С. Указ. соч. С. 115.
- ↵ Аксакова (Сиверс) Т. А. Указ. соч. Кн. 1. С. 289.
- ↵ Там же. С. 304.
- ↵ Там же. С. 302.
- ↵ Там же. С. 314.
- ↵ Шереметева О. Г. Дневник и воспоминания. М. 2005. С. 78.
- ↵ Шереметевы в судьбе России. М. 2001. С. 275.
- ↵ Архив Управления ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. П-27254. Л. 41.
- ↵ Подробнее см.: Джаббаров Р. М. За подвиг ваш. Калуга. 2005. С. 26–28.
Использованные источники:
Статья «Сашенька Эшен», Алексей Кулешов, Журнал «Родина» № 6, 2010 г. Стр. 52-57
|
Метки: вяземские штер чебышевы сиверс эссен шереметьевы романовы брасовы |
Вяземские (русский княжеский род) |
Вяземские (русский княжеский род)
| Вяземские | |
|---|---|
 |
|
 |
|
| Описание герба
Выдержка из Общего гербовника В серебряном поле изображена чёрная пушка на золотом лафете и на пушке райская птица. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащими Княжескому достоинству[1]. |
|
| Том и лист Общего гербовника | I, 9 |
| Титул | князья |
| Часть родословной книги | V |
| Подданство | |
 Великое княжество Московское Великое княжество Московское |
|
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
| Имения | Вяземский сад Пущино-на-Наре Остафьево Александровка Лотарево |
| Дворцы и особняки | Усадьба на Волхонке |
 Вяземские на Викискладе Вяземские на Викискладе |
|
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Вяземский.
Вя́земские — русский княжеский род, который происходит от князя Ростислава Мстиславича Смоленского, внука Владимира Мономаха. Правнук Ростислава, князь Андрей Владимирович, прозванный «Долгая Рука» получил в удел Вязьму, сталв родоначальником князей Вяземских (по одной версии убит в 1223 г. в битве на Калке, по другой версии умер после 1300 года).
В Гербовник внесены две фамилии этого рода:
- Князья Вяземские, потомки Рюрика с 862г. (Герб. I. 9.);
- Вяземские (не князья) предки которых написаны дворянами в 1598г. (Герб IX. 25)[2].
История рода
Когда князь Александр Глебович Смоленский осадил в 1300г. г. Дорогобуж, то на помощь сему городу явился князь Андрей "Афанасьевич"[3] Вяземский, с войском своим и принудил снять осаду города[4].
Потомок Андрея Владимировича "Долгая рука", князь Семен Иванович и жена его Иулиана трагически погибли от руки князя Юрия Смоленского (1403). Князья Вяземские сохранили свой удел до 1494 г., а затем стали подданными Москвы.
У Андрея (родоначальника Вяземских) были три сына, Василий, Федор и Иван Жилка. От Василия и Фёдора пошли две ветви рода Вяземских. К первой ветви принадлежат Иван Андреевич, действительный тайный советник и сенатор; его сын, Андрей Иванович, исполнявшем при Екатерине II должность генерал-губернатора нижегородского и пензенского, а при Павле I ставший действительным тайным советником и сенатором; внук, Пётр Андреевич, известный писатель и внучка, Екатерина Андреевна Колыванова, жена Н. М. Карамзина; Александр Алексеевич — генерал-прокурор. Эта ветвь внесена в V часть родословных книг Костромской и Ярославской губерний.
От внуков родоначальника второй ветви, князей Юрия и Романа Константиновичей, произошли две отрасли рода Вяземских. Из первой отрасли (она внесена в V часть родословной книги Ярославской губернии) происходил князь Афанасий Иванович, бывший оружничим. В XVII веке члены этой отрасли были дворянами московскими, стольниками и стряпчими. Из второй отрасли младшей ветви, наиболее многочисленной в роде Вяземских (внесена в V часть родословных книг Владимирской, Калужской[5], Московской[6] и Тамбовской губерний), многие были воеводами в XVI и XVII веках. Их потомки Сергей Иванович и Николай Григорьевич были сенаторами; сын последнего, Григорий (1823—1882) — автор оперы «Княгиня Острожская».
Леонид Дмитриевич (родился в 1848 году) был астраханским губернатором, а с 1892 года управлял департаментом уделов. Женился на последней графине Левашёвой, в связи с чем его потомкам дозволено носить двойную фамилию «Вяземский-Левашёв». Из их числа происходит французская актриса Анна Вяземски.
К третьему сыну Ивану Жилке возводят род князей Жилинских[7]
Геральдика
Высочайше утвержденным гербом князей Вяземских является герб: в серебряном поле пушка на золотом лафете, на пушке райская птица. Щит покрыт княжескими мантией и шапкой (ОГ. 1. 9). Герб этот представляет из себя герб княжества смоленского и указывает на происхождение князей Вяземских от князей смоленских.
Герб князей Вяземских принадлежит к группе ранних русских гербов. Он известен с конца XVII века. Смоленская эмблема была изображена на печати стольника князя Федора Яковлевича Вяземского, датируемая 1693 годом[8].
На печати князя Александра Алексеевича Вяземского имелся девиз на латыни: "В Боге моя надежда"[9].
Дворяне Вяземские
В ОГДР внесены дворяне Казарин Петрович, Козма и Иван Вяземские, которые в 1598 году были написаны по Смоленску в десятнях во дворянах с поместным окладом. Иевъ, Никифор и Петр Кондратьевичи Вяземские в 1696 году были жалованы поместьями и из них находились при царевиче и великом князе Алексее Петровиче, Иевъ - секретарём, а Никифор - учителем. Род внесен в 6 часть родословной книги, в число древнего дворянства.
По старинному преданию дворяне Вяземские, принявшие начало во второй половине XVI века, есть побочная ветвь древнего княжеского рода Вяземских[10][11]
Известные представители
- Вяземский, Александр Алексеевич (1727—1793) — генерал-прокурор при Екатерине II.
- Вяземский, Александр Николаевич (1804—1865) — декабрист, участник восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 году
- Вяземский, Андрей Николаевич (1802—1856) — генерал-майор, подольский губернатор.
- Вяземский, Афанасий Иванович (XVI век) — опричник.
- Вяземский, Борис Леонидович (1883—1917) — историк и фенолог.
- Вяземский, Владимир Леонидович (1889—1960) — дед актрисы Анны Вяземски.
- Вяземский, Иван Андреевич (1722 — после 1798) — действительный тайный советник (с 22.9.1767) и сенатор; кавалер ордена Св. Александра Невского (1782).
- Вяземский, Константин Александрович (1853—1909) — путешественник.
- Вяземский, Леонид Дмитриевич (1848—1909) — генерал от кавалерии, астраханский губернатор.
- Вяземский, Михаил Сергеевич (1770—1848) — генерал-майор.
- Вяземский, Павел Петрович (1820—1888) — литератор и собиратель рукописей.
- Вяземский, Пётр Андреевич (1792—1878) — поэт, литературный критик, друг Пушкина.
- Вяземский, Сергей Александрович (1847 или 1848 — 23 февраля 1923) — российский государственный деятель, Томский губернатор.
- Вяземский, Сергей Иванович (1743—1813) — чиновник из рода Вяземских, действительный тайный советник.
- Вяземский, Сергей Сергеевич (1775—1847) — генерал-майор, брат М. С. Вяземского.
- Вяземский, Сергей Сергеевич (1869—1915) — контр-адмирал.
- Вяземский Даниил 16 век — Преподобный Давид Серпуховской, основатель монастыря Давидова пустынь в Чеховском районе Подмосковья
- Вяземская, Анна Ивановна (1947—2017) — французская актриса и писательница, жена Годара, внучка Мориака.
- Вяземская, Варвара Сергеевна (1815—1907) — русская благотворительница, хозяйка подмосковной усадьбы Воробьёво, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины
- Вяземская, Евдокия Григорьевна (ок. 1758—1855) — фрейлина императрицы Екатерины II, оставившая двор и ставшая юродивой Евфросинией; канонизирована.
- Вяземская, Лидия Леонидовна (1886—1948) — мемуаристка, сотрудница Красного Креста и благотворительница.
Примечания
- “Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 года”. Сост. А.Т. Князев (1722-1798). Издание С.Н. Тройницкий 1912г. Ред., подгот. текста, послесл. О.Н. Наумова. М. Изд. “Старая Басм
|
Метки: вяземские |
Родословная дворян Вяземских и их потомков |
Родословная дворян Вяземских и их потомков
Нетитулованный (некняжеский) дворянский род (сельцо Могутово Богородского уезда Моск. губ. и др.)
Вяземские (русский дворянский род) В старину писались также Веземские. Родоначальник их, Казарин Петрович Вяземский, был в 1598 г. сотником стрелецким, а в 1622 г. служил в городовых дворянах по Галичу. Сыновья его, Кузьма и Иван, были детьми боярскими в Смоленске (1630-76). Из внуков Кузьмы – Никифор Кондратьевич был учителем царевича Алексея Петровича и пострадал за участие в его деле (1718). Род этот внесен в VI часть родословной книги Московской губернии (Гербовник, IX, 25). Другой род Вяземских принадлежит к новому дворянству и внесен в III часть родословной книги Владимирской губ. [Вяземские Руммель
[6] Вяземские – дворянский род, идущий от Казарина Петровича Вяземского, служившего в 1598 г. по Смоленску стрелецким сотником и бывшего потом в польском плену. Сыновья его, Иван и Кузьма, были детьми боярскими в Смоленске (1628–1676). Никифор Кондратьевич Вяземский (умер в 1745 г.) был царским дьяком, потом учителем царевича Алексея Петровича . Род Вяземских записан в VI части родословных книг Московской и Владимирской губерний. Есть еще три дворянских рода Вяземских более позднего происхождения по Тамбовской, Калужской и Владимирской губерний. В. Р-в.
[9] Старинный дворянский род, первый известный нам представитель которого, смоленский дворянин Казарин (Родион Петрович) В., упом. в десятне 1606. В 1622 он имел поместье в Галичском у. в 100 четвертей при поместном окладе 700 четвертей. По прошению его прапраправнука, надв. сов. Якова Яковлевича В. (1752–1833), опр. Московского Д.Д.С. от 1.2.1805 род В. был внесен в 6-ю часть двор.р.к. Московской губ. На основании этого опр. из Московского Д.Д.С. были выданы дворянские грамоты членам рода, в том числе и прапор. Сергею Сергеевичу В. за № 346 от 21.6.1815. Опр. Московского Д.Д.С. от 24.1.1824 и 8.8.1832 к роду В. были сопричислены сыновья последнего, Полиен, Кронид и Сергей. Утв. рода В. в древнем дворянстве последовало при указах Временного Присутствия Герольдии от 14.2.1846 за № 737 и Правит. Сената по Д. Г. от 23.6.1848 за № 18242 и от 9.1.1852 за № 191 [РГИА, ф. 1343, оп. 18, д. 5027; РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 3678; ЦИАМ, ф. 4, оп. 14, д. 415]. Герб: О.Г. IX, 25 (Высоч. утв. 5.8.1816). Легенда о княжеском происхождении в гербе не отражена.
«По старинному преданию фамилия дворян В., приявшая начало во второй половине XVI в., есть побочная ветвь древнего княжеского рода Вяземских». По кн. П. В. Долгорукову, первое упом. братьев Казарина, Кузмы и Ивана Петровичей В. относится к 1598 [Кн. П. Долгоруков. Российская родословная книга. Ч. 4. СПб., 1857. – С. 355-356]. По этому поводу в 1933 в автобиографии Орест Валерианович В. писал: «Мы с князьями не имеем ничего общего, хотя корень у нас когда-то был общий. Во времена Ивана Грозного наш предок был сослан за вольнодумство в Литву и лишен титула. Там он занимался интригами против правительства. От этого предка идет наш род» [РГАЛИ, ф. 2268 (С. Ф. Буданцев), оп. 2, ед. хр.159, л. 2]. [9 – Примечание 1]
Усадьба в Могутове
Редкое из селений Щелковского края Подмосковья удержалось в одном роду владельцев 100 лет. А вот Могутово было во владении у дворян Вяземских (не из княжеского рода Вяземских) почти два века. Был это небогатый род, любящий сельскую тишину, и потому живущий здесь почти постоянно. В 1711 г. сельцо было выменена у стольника Алмазова «учителем» царевича Алексея Никифором Кондратьевым сыном Вяземским.
Впоследствии сельцо осталось только за Вяземскими. В 1767 г. им владел Сергей Васильевич (у него же и недалекая деревенька Гритькова) и этого времени сохранилась в архивах Москвы подробная карта имения. Вместе с землями оно занимало 1200 саженей вдоль речки Шеренки и почти 1000 к югу от нее. Слева от крестьянских изб был пруд 15х30 саженей и далее квадрат усадебки 50 на 50 саженей с тремя домами. Крестьян было 36 «мужеска полу», земли 489 десятин.
Его сын ВЯЗЕМСКИЙ Сергей Сергеевич был прапорщиком и владельцем селения в1812 г., и отсюда ушло в ополчение защищать Россию от французских войск 7 крестьян. В1824 г. он так же показан живущим здесь со всей своей обширной семьей. У него было 8 детей, в т.ч. 5 с редкими тогда именами – Полиен, Виталий, Евстолия, Кронид. Потом добавился и Апполон. Было здесь кроме господского дома – 46 изб и 108 крестьян. Несколько позднее записано, что в усадьбе у Вяземских было 28 дворовых, а хозяйка осталась вдовой с 6 малолетними детьми.
В 1852 здесь жили уже взрослые дети, вероятно, в отставке, «пребывающие здесь постоянно» – Полиен и Анатолий (капитан) Сергеевичи, брат их Апполон в это время работал исправником земского суда в уездном городе Богородске.
Старейшина дворян Могутова коллежский асессор Анатолий Сергеевич ВЯЗЕМСКИЙ умер 21.8.1891 г. в возрасте 80 лет и был отпет в Иоанно-Предтеченской церкви с. Фряново и похоронен на Фряновском кладбище. Потомки живут в Москве, Петербурге и других городах России, а одна ветвь (эмигрантов гражданской войны) в Швейцарии.
Родословная дворян Вяземских и их потомков
«Предки служили по гг. Москве, Вязьме, Смоленску, за что верстаны были поместными и денежными окладами».
Примечание в публикации: Потомки по мужской линии указаны без фамилии Вяземский, фамилии переданные или сохраненные по женской линии (в т.ч. Вяземские) указаны перед именем и отчеством.
1-е колено
1. Петр, записан в схему рода первым известным представителем [3, д. 411 л.1 (об); 10]
2-е колено
11. Казарин Петров сын, упоминается в 7106 (1598) в числе сотников стрелецких полков. Был в польском плену (вероятно, с сыном). В 1622 г. служил в «дворовых» (городовых дворянах) по Галичу, верстан поместным и денежным окладом (« прежде сего бывал на государевой службе на коне, да человека по два на мерина, да с простым конем по 2 человека…», «поместье за ним в Галицком уезде в дачах 100 четьи и крестьян 11 человек и 6 бобылей». В 1637 пожалован поместным окладом 300 десятин (в Галицком и Вологоцком уездах – 12 дворов) и денежным – 10 руб. [3, д. 411 л. 8 об. и др.; 6] Казарин (Родион) Петров [9; 10]
12. Семен Петров сын (-5.5.1604). Скончался «на память св. Ирины». Отпет в церкви Успения Божией Матери на Покровке. Внесен сюда по фамилии, отчеству и времени. В Родословные дворянских дел не включен. [4, М.; 10]
3-е колено
111. Козма Казаринов сын.Упоминается в Смоленской десятне в «дворовых» (городовых дворянах» 1622-31 гг., (в 1631 – «болен, лежит»). «. Кузьма и Иван, были детьми боярскими в Смоленске» в 1630-76 гг. В 1622 верстан поместным (100 четей в Галичском уезде – крестьян 10 чел. и 10 бобылей) и денежным (10 руб) окладом». [3, д. 411; 6] Владел поместьем на pp. Усехе и Рячихе Галичского у. (1644). [9 и 10 – Родионович]
112. Иван Казаринов сын, упоминается в 1627 (7135) в новиках с 300 четьями земли (за службу), «ранее на государевой службе не был, а был в плену в Литве». В 7138-9 «на государевой службе будет на коне с пищалью», жалование – 20 руб. В 1676 (7184 – 12 дворов, 171 четьи пашни). См. брата. [3, д. 411; 10 – Родионович]
4-е колено
1111-А. Кондратий Козмин сын ок. 1660-р.1700 (вероятный, самый ранний владелец Могутова) [3, д. 411; 10 – Родионович, брат Козьмы, в городовых дворянах Смоленска в 1670 – позаписи сына 1759 г.)]
1112-Б. Афанасий Иванов сын (1671-), у него 3 дворовых человека. [3, д. 411]
5-е колено
А1. Иев Кондратьевич, Иов Кондратов, приказный секретарь в 1697, подъячий. В деле – копия письма царевича Алексея Петровича 1709 г. к нему о полку Ивана Жедринского (см. ниже Приложение 1а) [3, д. 411; 4, М.; 10]
ж. Елена Петровна (-3.3.1702). Пох у церкви св. Николая в Хамовниках. На памятнике эпитафия: «О, человече, приходяй здесь встане//Помышляти о смерте не пристане//Како та незнамо всех похищает//Любезных с любезными разлучает//О горе, любезных та разлучила,//Алену Петрову к Богу верных зде вселила//Честну жену и мужа честнаго//Подъячаго Иова Кондратова сына Вяземскаие, 1702 году, марта в 3 день.»[4, М. – Русский архив 1895, кн. II, стр. 521-522]
А2. Никифор Кондратьевич (ок. 1660-1745), был очень грамотен и красноречив в письме, «учитель и дядька при юном государе царевиче Алексее Петровиче и пострадал за содействие ему» (в 1718 «Казнен в Москве» – см. Пушкин о Петре I в 1718; сослан в Архангельск). Имел дом в СПб. на Петроградской стороне по Посадской (теперешн. Мал. Монетной ул.), на углу Инженерного переулка. В 1716 – упом. дом в Москве в приходе церкви Сретенской на Знаменке (Евагелиста Луки). С 1711 стал владельцем пустоши Шеренское городище Могутово Шерно тож Шеренского и Отъезжего стана Мос. у. (по мене со стольником Иваном Семеновичем Алмазовым), в котором организовал сельцо, и др. пустоши рядом; был пожалован многими владениями в Вяземском и Галичском уездах. [1; 3, д. 411; по некоторым данным сослан в Архангельск. где и умер; д.420 – подробные записи о его землевладениях и менах; 9 – «Ему пожаловано с. Токмаково в Шацком у.; владелец двора «на Москве в Белом городе в Покровской сотне» (был продан светл. кн. А. Д. Меншикову) и усадьбы Романове в Андронникове стане Галичского у. (упом. 1744); 10]
ж1. Анна Васильевна (-1720). Все дети от неё. [3, д. 420 л.16об.; 10]
ж2. КАРАЧАРОВА Наталья Васильевна (– р. 1726), дочь стольника Василия Ивановича Карачарова, который продал ей в Шахове стану в 1709 земли. В 1-м браке – за Михаилом Еропкиным (вдова в 1711). 2-й брак – за Иваном Заборовским. [3 д.420 – записи о землевладениях]
А3. Петр Кондратьевич (-р.1730), поместного приказа дьяк. Ранее 1731 ему променял Вяземское имение Артемий Быков. После смерти Вяземские имения перешли к брату Никифору. [3, д. 411 и д. 420 л.82; 10 – в 1694 на службе в Белгороде]
А4. Сергей Кондратьев (-п.1717). «6 марта 1717 учитель Николай Кондратьев продал брату своему Сергею Кондратьеву сыну Вяземскому и жене его и детям, подмосковное имение свое в Моск. у в Шеренском и Отъезжем стане Могутов а Шерин тож на речке на Шерике, да в пустошах Могутове, в Пазухине и Корулине тож, в Шеиной и Семендяевой» за 150 руб. [3, д. 420 лл. 20, 26, 78; 10 – карандашом приписано – ум. 1710]
6-е колено
А11. 111. Яков Иевлевич –п.1795, в Судном приказе коллежский секретарь. В 1763 пожалован «за оказанную к службе нашей ревность коллежским асессором ранге майора». В деле имеется копия Указа Екатерины II 1768 года где эта фраза приведена в “Подорожной” для поездки. [3, д. 411]
А21. 121. Александр Никифорович, поручик артиллерии. В 1710 Посольским приказом ему жаловано в Московском уезде , Звенигородском и Шацком 92 души. [3, д. 411; 10 – в 1759 секунд-майор гвардии, №12]
А22. 122. Андрей Никифорович, Лейб-гвардии Семеновского полку сержант. [3, д. 411 и д. 420 л. 25об.; 10]
ж. БАРАНЧЕВА Марина Прокофьева (-1726), дочь Прокофия Яковлевича Б., имение которого Старецкое перешло к ней в 1719. [3, д. 420 л. 25об]
А23. 123. Василий Никифорович (-р.3.7.1748), канцелярист Коллегии экономии. Он владел имением Могутово после брата Никифора и имением в Подлеском стану Шацкого уезда и др. [1; 3, д. 411; 9 – канцелярист Соляной конторы (1732); 10].
ж1. ТАТАРИНОВА Мария Ивановна. [10 – приписано карандашом]
ж2. Наталия Даниловна (-п.1764). Во втором браке (с 1749) за майором Навагинского полка Федором Семеновичем Озеровым. В 1764 г. по полюбовному разделу с ней ее сыну Сергею Вас. Вяземскому досталось с. Могутово и Гритькино и сельцо Ковальки Угрюмово тож в в Звенигородском у. («истребленное потом при французском нашествии в 1812»). [3, д. 420; 9; 10]
А24. 124. Никифор Никифорович, майор армейских полков. В 1712 Петром I послан в Европейские государства для обучения и приискания людей для государевой службы (в деле копия Указа). В 1755 г. у него дом в приходе церкви Никитского сорока Воскресения Словущего на Успенском вражке [3, д. 411; ИВ 1755 – ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.221 л.124 об.; 10]
А31. 131. Егор Петрович, «комиссар при статских делах». [1; 3, д. 411; 10]
7-е колено
А111. Яков Яковлевич (1751-14.1.1833). Надворный советник (уп.1770). В деле имеется его прошение с автографом подписи, служебным формуляром (ноябрь 1804, в отставке). В Москве «всегда жительствую в в доме в Пресненской части 4 квартала за номером 55». Им 1.2.1805 подано прошение о внесении его и сына Александра в Родословную книгу Московского дворянства.Умер «от удара». Пох. на Ваганьк. кл., затем здесь же пох. дочь Анастасия. [3, д. 411 и 419; 4, М.; 10 – г.р. 1741]
ж1. – ранее 1788.
ж2. ВОРОНЦОВА Аграфена Алексеевна (-р.1816).
ж3. АНТИПОВА Ксения Антиповна (-п.1838), дочь моск. мещ. Антипа Иванова Антипова. Венчалась 20.1.1816 в ц. Успения Пресвятой Богородицы что против Гостиного двора (Сретенский сорок), живущей девицей в д. мос. купца Быковского по найму. В 1838 обратилась в Дв. собр. о выдаче справки. [3, д.419]
А211. Николай Александрович. В 1729 капрал Семеновского полка [10 – №18/12, Алфавит Москвы]
А221. Михаил Андреевич, сержант. Был не женат, и его имение в Старецком, Тверском и др. уездах перешли к дядьям его, Василию и Никифору Никифоровичам Вяземским. [3, д. 420 л. 26об.]
А231. 131. Сергей Васильевич 1744-п.1799. Отставной подпоручик в 1768. Представлен на смотр в Герольдию в 1759 в 15 лет, «грамоте российской писать умеет», определен юнкером в «комор-коллегию». В 1764 г. по полюбовному разделу с матерью ему досталось с. Могутово и Гритькино и сельцо Ковальки Угрюмово тож в в Звенигородском у. (истребленное потом при французском нашествии в 1812).В 1768 г. во время межевания владел сельцом Могутово и деревенькой Гритькова: «Могутово, сельцо Московского уезда, Шеренского Отъезжего стана, владение подпорутчика Сергея Васильевича Вяземского, межевал 17 августа 1768 г. Венечанской. Пашня 149 д 1440с, лес 329 д 2314 с, сенной покос 4 д 400 с, селение 3 д 325 с, дороги 2 д 300 с, реч. 2100 с, всего 489 д 2079 с, душ 36. Гряткова… Пашня 27 д 1556 лес 78 д 1194 с, сенной покос 16 д 2147 с, селение 1 д 1080 с, дороги 1380 с, реч. 1 д 750 с, всего 126 д 907 с, душ 17». Имеется карта владений 1768 г. в Могутове: – усадебка у р. Шеренка, порядок крестьянских домов и пруд. [1; 3, д. 411 и д. 420; 9 – отст. подпор. (25.6.1764), дворянский заседатель Богородского у. суда Московской губ.; 10]
А232. Владимир Васильевич. Владел ранее 1764 г. по купчей от г. Ходнева сельцом Рохманово с дер. Ковалевым, Хомутами, Вахаревым, Лавешевым (м.б. это фамилии совладельцев). Затем у кн. Друцкой (м.б. его дочери?). [3, д. 240 – справки о землевладениях Вяземских].
А241. Николай Никифорович, Л–гв. Семеновского полку капрал. В 1798 – коллежский асессор. [3, д. 411]
А242. Анна Никифоровна (1750-). Иногда ее ошибочно относят к княжнам (князей Вяземских по имени Никифор в XVIII в. не было). У нее было 4 сына. [10; www.ntagil.ru]
м. ДЕМИДОВ Аммос Прокопьевича (1753-), сын известного уральского промышленника Прокопия Аканфовича Демидова (8.7.1710-1.11.1786). Получил образование вместе с братьями Акакием и Львом в Европе (Гамбург). Отец, продав 6 заводов, выделил им по 1 млн. руб. В 1776 г. – прапорщик гвардии. В 1780 г. – он уже в отставке, титулярный советник. [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru; 10]
А243. Екатерина Никифорова (–п.1793), «майорская дочь», имела домовладение в Москве за №458 в приходе Иакима и Анны на Б. Якиманке, 4-я часть Москвы, 1-й квартал. Не была замужем. В 1779 за нею остались Вяземские поместья деда. [3, д. 420 л.26; Адресная книга Москвы 1793 г., домовладельцы]
А311. Илья Егорович, городовой комиссар г. Вязьмы, 1759. [3, д. 411 л.3об; 10]
8-е колено
А1111-АА. Александр Яковлевич 1-й 1783–р.1822. В 1797 зачислен на службу, унтер-офицер, затем юнкер. В отставке. В 1802 – канцелярский служитель в Тамбовском почтамте, губ. секретарь в 1803. В 1805 – квартальный надзиратель, поручик. В 1808 – титулярный советник. [3; 10 – №16/10]
ж. ГОЛУБОВСКАЯ Александра Игнатьевна (-22.7.1850), дочь коллежского секретаря Игнатия Васильевича. Пох. в Торжке. [3; 10 – Провинц. некрополь, в неизв. №7]
А1112. Александр Яковлевич 2-й (1788-). От 2-го брака. [3]
А1113. Анастасия Яковлевна (-1.2.1886). Девица. Пох. рядом с отцом на Ваган. кл. М. [4, М.].
А2311-АБ. Сергей Сергеевич (1771-п.1827-р.1832), прапорщик. В 19 лет – каптенармус Преображенского полка (17.1.1790), переведен в армию прапорщиком Рязанского (Ряжского) мушкетерского полка 22.1.1797. Продолжил службу по выборам дворянства в богородском земском суде. В 1805 г. получил Грамоту о включении его и семьи в 6-ю часть древнего потомственного дворянства. Из его сельца Могутово в 1812 г. направлено в ополчение защищать Россию от французских войск 7 крестьян. В 1815 – губ. секретарь, им получена от Московского дворянского собрания бронзовая медаль в память войны 1812 г. В 1819 – кавалер орд. св. Владимира 4 ст. (1819), колл. секретарь в 1831 г. В 1824 г. он так же показан живущим здесь в Могутове всей своей обширной семьей, в сельце – 46 изб и 108 крестьян. В 1827 обращался с прошением о причислении к дворянству младших детей. Вероятно, владел землями и во Владимир. губ, где был внесен в 6 ч. родосл. книги. [1; 3, д. 411 и д.420 – форм. сп.; 4; 5; 9 – в отст. 21.7.1801. С 1807 пять трехлетних сроков был дворянским заседателем в Богородском у. суде Московской губ. Владелец им. Починок Череповецкого у. Новгородской губ. [9]
ж. ХЛЕБНИКОВА Мария Петровна (22.5.1783-СПб 3.6.1841). Дочь подполк. Петра ... X. и Агафии Филипповны. Помещица Даниловского у. Ярославской губ. [9] Дети в 1824 – Анатолий 14 лет; Полиен 13, Зинаида 11, Виталий 8, Катерина 6, Евстолия 4, Евфимия 3, Кронид 1 год. Их потомки так объясняли необычность выбора очень редких канонических церковных имен: «Причина кроется в большой набожности одного из Вяземских – Сергея Сергеевича , который избегал расхожих имен. Он считал, что «несправедливо» обременять Николая Мирликийского (Чудотворца), «он с ног собьется и будет плохо смотреть за моими детьми, но святому на вакациях самое время о них заботиться… Редкие имена он давал не только собственным детям, но и своим крепостным». Из-за необычности имен многие из них писались по-разному чиновниками и диаконами церквей. Погребена с сыном Кронидом на Смоленском правосл. кладб. СПб. На ее плите надпись: «Нежной и чадолюбивой матери». [1 –1824, 1832; 11; 4 – СПб.; 10 – ошибочно отнесена к А231]
А2312. Екатерина Сергеевна. Ей перешло имение отца в Звенигородского уезда. См. отца. [3, д. 420 – описание перехода землевладения].
А2421-АВ. 40/18 ДЕМИДОВ Петр Аммосович, 1776-1880 (?). Цальмейстер. [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru] [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru]
ж1. БЕДРИКОВА (Редрикова?) Любовь Алексеевна. [там же]
ж2. ЧИЧЕРИНА Екатерина Алексеевна (В родословной Чичериных у Руммеля такой нет).
ж3. СКРИПИЦЫНА (СКРЫПИЦЫНА) Надежда Степановна (Семеновна?). [там же]
А2422-АГ. ДЕМИДОВ Евграф Аммосович. Ум. бездетным. [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru, №41]
ж. КИРЕЕВСКАЯ Анна Алексеевна. [там же]
А2423-АД. ДЕМИДОВА Анна Аммосовна. [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru, /18]
м. ДЕМИДОВ Ростислав Иванович (“калмык”), воспитанник отца жены (?).[там же]
А2424-АЕ. ДЕМИДОВА Наталья Аммосовна. [Родословная Демидовых – www.ntagil.ru, /18
м. Князь МЕЩЕРСКИЙ Егор Максимович (ок. 1760-п.1805), сын кн. Максима Андреевича, отст. капрала (1756) и Федосьи Силичны. В службе с 1774 г., секунд-майор морских баталионов (1789), премьер-майор в отставке (1792). Помещик Каширского уезда (1805). [там же; Руммель, РСРДФ, т.2, Мещерские №316 ]
А2425-АЖ. ДЕМИДОВА Елисавета Аммосовна (1778–3.5.1827). [там же, /18]
м. ХИТРОВО Иван Герасимович (-14.12.1845). Прапорщик гвардии.
9-е колено
АА1. Петр Александрович (24.8.1813 – п. 1857-ранее 1870), родился, вероятно, в сельце Чельцово (?Бельский уезд), крещен в церкви Архистратига Михаила селе Трубичеве. [3, д. 411, д.412 – 1851 г., формулярный список, 414 – сын его и вдова 1870 г., д. 420] В 1824 причислен с сестррами к роду отца. Окончил Благородный пансион при Моск. ун-те в 1832 г. и выпущен с правами чиновника XVI класса. С 1835 определен почетным смотрителем Новоторжского уездного училища (без оплаты) и прослужил 20 лет. В 1856 награжден знаком отличия беспорочной службы за ХХ лет. Уволен в этом году от службы в чине коллежского советника. Занимался управлением своими имениями – родовыми в 58 душ Старицкого уезда Тверской губ. и 118 душ в Кологривском уезде Костромском уезде, «благоприобретенными» в том же уезде 121 душ и в Можайском уезде Моск. губ. 34 душ. и Ростовском у. Ярослв . губ. в 10 душ. [3, д. 411, 412 – 1851 г., формулярный список, 414 – сын его и вдова 1870 г.]
ж. ЗАВАЛИЕВСКАЯ (?) Наталья Васильевна. Фамилия предположена по крестному сына Николая – Александру Васильевичу Завалиевскому и Михаилу Васильевичу Завалиевскому с тем же отчеством, что и у нее. В 1870 – вдова, написала прошение в Дворянское собрание о выдаче документов о дворянстве их сыну Николаю. В форм. списке мужа указано, что у жены имения нет. [3, д. 414, 1870 г.]
АА2. Анна Александровна (1.5.1817-п.1858), родилась, вероятно, в сельце Чельцово, крещена в церкви Архистратига Михаила села Трубичева. В 1824 г. причислена к роду отца. В 1858 г. просила Дв. собр. о выдаче документа. [3, д. 411, 413 – 1858, д. 420]
АА3. Надежда Александровна 4.9.1819, родилась, вероятно, в сельце Чельцово, крещена в церкви Архистратига Михаила селе Трубичеве. В 1824 г. причислена к роду отца. [3, д. 411, д. 420]
АБ1. АБ6. Анатолий Сергеевич (6.5.1810, Могутово – 21.8.1891, Могутово). В 1824–90 гг. в Могутове.В 1852 – капитан, затем на статской службе. В 1890 г. именно он, как хозяин усадьбы в Могутове отмечен в «Справочной книжке М. губ. Шрамченко А. П. – М. 1890г.». Коллежский асессор Анатолий Сергеевич ВЯЗЕМСКИЙ умер в возрасте 80 лет и был отпет в Иоанно-Предтеченской церкви с. Фряново и похоронен на Фряновском кладбище. Шт.-кап. строительного отряда путей сообщений (6.12.1840), отст. кап. (13.1.1844). Московский окружной начальник ведомства управления уделов, тит. сов. (9.11.1850). Совладелец им. в Богородском и Звенигородском уу. Московской губ. и в Череповецком у. Новгородской губ. (совместно с братьями). [1; 3, д.421 дело его сына Бориса; 9; 10]
ж. ГРОЗДЕВА Варвара Алексеевна. У них – 5 дочерей и сын. [9]
АБ2. АБ1. Полиен Сергеевич (12.08.1811– 12.05.1861, Богородск), похоронен на Тихвинском кладбище Богородска (Русский провинц. некрополь. т. 1, М. 1914. с.176). Имя Полиен (др.-греч. polyainos – "многохвальный") – редкое, каноническое церковное. Воспитанник воен.-строит. уч-ща путей сообщения (с 1825). 9.4.1829 в 17 лет выпущен прапорщиком в строит. отряд ПС. Служил на строительствах шоссе. Штаб капитан в 1840, с 1843 в отст. Вернулся на родину. С 1844 – капитан-исправник Богородского уезда (в 1850 повторно избран на 2-е 6-тилетие), в 1846 избран почетным директором богоугодных заведений уезда («сверх службы»). В 1845 нагр. Знаком отличия за 15 лет беспорочной службы. В 1848 орд. св. Анны 3 ст. В 1851 за ним вместе с братьями было в уезде имение Могутово (86 душ) и имения в Звениг. у. (22 д.), Череповецком (294), Покровском (13), а у него лично в Покровском у. незаселенная пустошь в 190 дес. и в д. Бугемки – 18 д. Жалование 280 руб, разъездных – 141 р. [1; 2; 3, д.420 –фор. список; 9 – Полней; 10]
ж. БУРЦОВА Любовь Павловна (1826-1900), дочь Павла Б. и Марии Афанасьевны Зубовой. брат . У нее было 52 души в Меленковском у. Влад. губ. и благоприобретенный ею одноэтажный дом в г. Богородске. [3, 420; 9]
АБ2а. Зинаида Сергеевна (1813-п.1824). [1 – 1824 г.; в 1832 – нет]
АБ3. АБ2. Виталий Сергеевич (24.4.1816, Могутово Бог. у. М.г. – 10.5.1888, М.).Полковник в 1863. Редкое в те времена имя (с лат. – жизненный; ближний день именин 22 апреля). В 1824 жили в Могутове. После отставки – активный деятель богородского земства. Гласный (выборный) богородского земства (1866), почетный мировой судья (1866 г.), секретарь земского собрания. Пох. на кладб. Данилова мон. [1; 2; 3, д. 416; 4, М.;9 – Офицер л.-гв. Павловского п., кандидат (заместитель – Г.Р.) командира полка, гв. полк. с 15.8.1854, командир 4-го бат. Севского пех. п. (34-й Севский пехотный полк получил в Восточную (Крымская) войну Георгиевские знамена за Севастополь) (1856-58), командир 4-го резервного бат. Муромского пех. п. в 1859; 10 – №26/24]
ж. ПАНТЕЛЕЕВА Екатерина Федоровна (9.11.1834-25.6.1896, М. кладб. Данилова мон.), дочь богатого землевладельца Бог. у. Федора Федоровича П. и 1-й жены его Елизаветы Григорьевны ур. Рябчевской. В 1855 – замужем, была крестной у Марии, дочери Владимира Столярова и Берты Францевны Рабенек. [2 – Ровенский Г.В. Родословная Пантелеевых; 4 – дата рождения 8.11.1833; 9 – Дочь губ. секр.......и Леониды (?!).]
АБ4. АБ7. Екатерина Сергеевна (1818, с-цо Могутово-п.1869), крещена в Иоанно-Предтеченской церкви соседнего села Фряново Бог. у., крестные – соседние помещики: колл. советник и кавалер Николай Афанасьевич Перский (дд. Медведки, Петрищево) и жена статского советника и кавалера Петра Ивановича Давыдова Александра Михайловна (с-цо Райково-Райки)Давыдова (см. сестру Евфалию). В 1824 жили в Могутове.В 1863 брат Виталий просил Моск. дв. собр. вписать ее и сестру Ефимию в Родословную книгу. Пох. в СПб, АНЛ, Никольское кл. [1; 3, д. 416 и 417; 4 – СПб. некр., без дат жизни] [4 – СПб некр. – без дат] Умерла 2.2.1899, СПб. [9]
АБ5. АБ3. Евстолия Сергеевна, Евпраксия (25.10.1820, Москва – 8.12.1897, СПб.), ее имя очень редкое (с греч. – хорошо одетая; именины единственные – 9 ноября – преподобная Евстолия). В 1824 жили в Могутове.Родилась в доме прапорщика Дм. Ив. Горышкина в приходе церкви Преображения Господня что в Спасской (на Большой Спасской ул. за Сухаревской башней), где и крещена – восприемники шт.-капитан Николай Лукич Долгов и титулярная советница Сусанна Филипповна Долгова. В церковной справке Консистории записана как Евпраксия (Благотворительница – греч.; ближайшие именины – 16 октября – благоверная княгиня Евпраксия Псковская (рус.), в миру Евфросиния). Домашние звали Евстолия, так и записано в Прошении 1827 г. Пох. на Никольском кл. Александро-Невской лавры. [1; 3, д.417; 4 – СПб.; 9 – дочь ее Елена была замужем за двоюродным братом Сергеем, сыном брата матери Сергея Сергеевича; 10 – упом. в №35/27]
м. КАРАЧАРОВ Сергей Андреевич, судебный пристав при Московском столичном мировом съезде, кол. асс. [9]
АБ6. АБ4. Евфалия Сергеевна (19.1.1822, Могутово-п.1827). Имя редкое (с греч. – Благоцветущая"; именины 2 марта – мученица Евфалия).Крещена в церкви Иоанна Предтечи с. Фрянова 25 января, восприемниками были – брат Анатолий и жена статского советника и кавалера Петра Ивановича Давыдова (записано – Давидова) Александра Михайловна (из владельцев сельца Райково-Райки). [1; 3, д. 416 и 417]
АБ7. АБ5. Кронид Сергеевич (14.3.1824, Могутово – 15.10.1895, СПб.). Крещен 21.3. в ц. Иоанна Предтечи с. Фряново, восприемники – полковник Исленьев Владимир Михайлович (соседнее село Троицкое Рязанцы тож) и сестра Екатерина. Имя при крещении – очень редкое (Кронид – значит сын Крона, доолимпийского божества, одно из имен Зевса (Дия), верховного греческого божества – греч., ближние именины 23 марта – мученик Кронид). В 1824 указан в Могутове (возраст 1 год). 8.8.1832 внесен в Родосл. кн. Моск. дв-ва. Умер на 72 году жизни, пох. на Смоленском правосл. кл. СПб. рядом с матерью. [1; 3, д. 418; 4 – СПб.; 5; 9 – родился в Москве, поручик, упом. 1850; 10 – №28/24, к нему перешло от бабушки (матери?) Марии Петровны 200 душ и 4500 га д. Язвецово Череповецкого у.]
АБ8. Сергей Сергеевич (17.6.1827, Москва-24.9.1901), генерал майор-флота. Имя – по отцу и деду. Родился в доме бабушки (по матери ), вдовы подполковника Агапии Филипповны Хлебниковой в приходе Успенской церкви что в Печатниках (Сретенского сорока), крещен 22 июня, восприемники – бабушка и отст. гв. прапорщик Лука Лукич Долгов.8.8.1832 внесен в Родосл. кн. Моск. дв-ва. (17.6.1827, Москва – 24.9.1901), генерал-майор флота в отст. Лейтенант флота (30.3.1852), уволен для службы на коммерческих судах (6.2.1860). Ген.-м. флота в отставке с 3.9.1879. Владелец имений в Московской и Новгородской губ. (с. Починок Чероповецкого у.) [1; 3, д. 418; 9; 10 – №27/24 – дата смерти, некролог в Нов.вр. 32119]
ж. КОСТОМАРОВА Елизавета Дмитриевна (1846-5.1.1901, Тверь). Дочь подпоручика. Пох. в Твери на Волынском кладбище.[9]
АБ9?. Апполон Сергеевич (-п.1852), у него редкое каноническое имя (от Апполоний – посвященный греч. богу Апполону, божеству солнца и искусств; церковь отмечает память трех святых Апполониев). В 1852 – исправник земского суда в уездном городе Богородске. [1; 2]
АВ1. 68/40 ДЕМИДОВ Алексеи Петрович (7.10.1810-29.5.1848). [Родословная Демидовых №68/40//www.ntagil.ru]
АВ2. 69/40 ДЕМИДОВ Михаил Петрович (1824-08.1868). Полковник кавалергардского полка. [там же]
ж. МУРАВЬЕВА Александра Николаевна. Дочь наместника Кавказа Муравьева-Карского (вторым браком за проф. А. П. Соколовым). [там же, 69/40]
АВ3. /40 ДЕМИДОВА Надежда Петровна. [там же, /40]
м. ЗУБКОВ Абрам Петрович (4.11.1791, М. – 8.4.1856, М.), сын секунд-майора Петра Абрамовича (14.6.1762-4.1.1804). В молодости служил в Борисоглебском драгунском (1807–1812), Московском и Иркутском гусарских (1812) полках. Уч. боев1812 г., в1816 г. вышел в отставку поручиком. Венчался 6.2.1821. В 1830-х гг. служил по выборам дворянства Дмитровскаго уезда, где у него было имение – с. Полдышкино (всего в Ярославской, Тверской и Московской губ. было у него свыше 1000 душ. [Модзалевский // feb-web.ru/feb/pushkin/serial/ps4/PS42162-.htm]
АВ4. /40 ДЕМИДОВА Варвара Петровна. [там же, /40]
м. ЛАВРОВ Аркадий Григорьевич.
АВ5. /40 ДЕМИДОВА Александра Петровна. [там же, /40]
АВ6. /40 ДЕМИДОВА Екатерина Петровна (-19.3.1895). [там же, /40]
АВ7. /40 ДЕМИДОВА Анна Петровна. [там же, /40]
м. СТОЙКОВИЧ. Помещик.
АЕ1. Князь МЕЩЕРСКИЙ Александр Егорович (1799-), штабс-капитан (1823). [Руммель, РСРДФ, т.2, №316]
ж. НИКИТИНА Екатерина Гавриловна. У них было 5 сыновей и 7 дочерей. [там же]
10-е колено
АА11. Николай Петрович (10.2.1857, СПб.-п.1870). Крещен 5 марта в церкви 1-го Лейб-гвардии Стрелкового батальона. Восприемники – штаб-ротмистр Л.-гв. Его Величества полка Александр Васильевич Завалиевский и девица Наталья Корнильева, дочь генерал-адъютанта генерала Корнилия Корнильевича Засса. В 1870 г. ему выдано свидетельство о дворянстве. [3, д. 414, 1870 г.]
АБ11. Мария Анатольевна. (29.7.1848-). Выпускница Московского училища живописи и ваяния (класс художника Пукирева). «Тетя Муся, обладавшая незаурядными гипнотическими способностями, часто лечила его от головных болей и недомоганий», в т.ч. царевича Николая Александровича, подарившей ее свой автопортрет (зеркальный). Жила в М. и Нижнем Новгороде, вероятно с сестрой. «Зато старшей сестре, тете Мусе, довелось преподавать основы живописи «епархиалкам» – молоденьким девушкам, жившим при монастыре и получавшим там религиозное образование и некоторые начатки светского. Ей случилось побывать и в знаменитом Шамординском монастыре, игуменьей которого была мать Мария, сестра Льва Николаевича Толстого. Вспоминала, как она перед каждым приходящим склонялась в поясном поклоне и просила помолиться о брате своем, великом грешнике Льве». [9; 11]
АБ12. Ольга Анатольевна. (13.3.1853-) [5; 9]
АБ13. Надежда Анатольевна. (28.7.1854-п.1900). [5; 9]
АБ14. Варвара Анатольевна. (8.12.1855-). Женщина-врач (с 1882), заводской врач в с. Бокрицкое Брянского у. Орловской губ. (с 1885), врач и преподаватель гигиены в гимназии в Нижнем Новгороде (1905). После замужества взяла фамилию Вяземская-Васильева [5; 9; 11]
м. ВАСИЛЬЕВ Аркадий Аркадьевич (1857-1938, Москва). «В молодости Аркадий Аркадьевич Васильев служил в Семеновском полку, но кутежи и посещения веселых домов – непременные атрибуты офицерской жизни – его не прельщали. Подав в отставку, молодой помещик пришел к управляющему Брянского завода: «Хочу освоить всю технологию литейного дела, начиная с «мальчишки на шишках». Через три года он стал опытным металлургом, а вскоре и вовсе вошел в тройку известнейших специалистов, возглавив куст Сормовских заводов. В доме до сих пор бьют часы, на бронзовом основании которых выгравировано: «Подарены Аркадию Аркадиевичу Васильеву сослуживцами Бежецкого завода в 1899 году». Прах зах. в колумбарии Донского мон.., [5; 9; 11]
АБ15. Клавдия Анатольевна (24.9.1857, Могутова Богор. у. М.г. – 1917-1919, М.). [5; 9]
АБ16 АБ61. Борис Анатольевич (27.2.1859– 1919, Москва). Внесен отцом в VI ч. Родословой книги. Получил домашнее воспитание, выдержал экзамен на служителя. С 1884 определен в число канцелярских служителей Богородского уезда. Два трёхлетия избирался на должность члена Земской управы Бог. у. В 1904 полицейский пристав в Коломне. Затем в Рузском уезде, колл. секретарь в 1907. Начальник Верхне-Устюжской тюрьмы в 1909. Титулярный советник в 1911, пристав 3-го стана Лукояновского уезда. В 1912 г. нагр. орд. св. Станислава 3 ст. за службу. В 1913 – пристав города Евпатория, в отставке с 9.9.1914. Коллежский асессор, награжден орд. св. Станислава 3 ст. Имел жалования 363 рубля ассигнациями, столько же столовых, да 180 квартирных. [3, д.421 1916; 5; 9 – владелец молочной и сыроварни под фирмой «Троньон» (приобретены в 1898) и магазина молочных продуктов Москве. Управляющий им. кн. Гагариных Никольское-Гагарино Рузского у. Московской губ., ум. в 1919 г. в Москве; 10 – №42/36]
ж. ЛАУДЕНТАХ Евгения Евгеньевна (14.11.1975-п.1916), римско-католического вероисповедания. Дети – православные. [3, д.421 1916; 9 – родилась в с. Глухово Богородского у. Московской губ. Елизавета Доротея. Дочь французского подданного Евгения Георгиевича (Егоровича) Л. (вероятно, специалиста у Морозова на Глуховской мануфактуре, и Ксаверины Францевны, ур. Лемер (1848–1915); ум. в Москве 26.10.1964, пох. кладб. на Введенских горах].
АБ17. Зинаида Анатольевна 1861-п.1864. [5]

АБ21. АБ12. Орест Полиенович (30.10.1839, Москва – 11.2.1910, СПб.), выдающийся инженер-железнодорожник, начальник стр-ва Уссурийской ж/д (1892–1900) и южной части Оренбург-Ташкентской ж.д., (1902–1909). В память их отличной и быстрой работы фамилиями его и его инженеров 14 станций Усс. ж/д. (г. Вяземский образован в 1951 на базе поселка при станции, где поставлен его бюст). См. Приложение 3. Крещен 4 ноября в Москве, в Троицкой что в Троицкой (Сретенского сорока), восприемники – гв. отст. поручик Лука Лукич Долгов и бабушка, вдова Мария Петровна Вяземская. У него под Севастополем была дача Еленкой. Окр. поч. мир. судья Ташкентского Окр. суда, действ, тайн. сов. (12.8.1909), кав. орд. Владимира 2 ст. (1908), Анны 1 ст. (1905), Станислава 1 ст. (14.5.1896) и иностранных. Владелец имения при с. Юрцово Покровского у. Владимирской губ. Пох. на Смоленском кл. СПб., через год его прах был перевезен в Москву. [3, д.420; СПб. некрополь, 1912; портрет в Транссиб магистрали; Козлова Т.Н. Вяземский О.П.// Журнал “Ж/д транспорт” №7 2001; ЦМЖТ МПС фонды, альбомы; 9; 10 – №29/25 ]
ж. ПШЕНЕЦКАЯ Елена Дмитриевна (15.9.1848-15.7.1929), дочь секр. гор. магистрата в Ростове-на-Дону, тит. сов. Дмитрия Захаровича П., у нее брат Митрофан Дмитриевич, живший одно время в семье Вяземских. В 1881-83 жили в Москве (в Ваганькове). В 1883 с ними жили и юный Макс Волошин с матерью, ушедшей от мужа. Замужем с 30.6.1865. Прах зах. . в колумбарии 1-го Мос. крематория при Донском мон. [см. Приложение 6; 9]
АБ22. Владимир Полиенович (30.9.1842, Богородск Мос. губ. – п.1872). Горный инженер. Крещен 2 октября, воспр. брат матери отст. поручик Афанасий Павлов Бурцов и сестра его девица Лидия. Смотритель Саткинского завода окр. Златоустовских заводов, кол. сов. (упом. в 1872). [3, д. 4209; 10 – №30/25]
ж. Александра Феликсовна. [9]
АБ23. Валериан Полиенович (18.7.1844, Богородск –). Крещен 24 июля , воспр. – брат отца Анатолий (увол. от. службы капитан) и и сестра их «из дворян девица Екатерина Сергеевна Вяземская». [3, д.420; 9]
АБ24. Сергей Полиенович (24.2.1846, Богородск –). Крещен 25 февраля, воспр. – тот же и сестра его, губернская секретарша Зинаида Сергеевна фон Вахтен.
АБ25. Евстолия Полиеновна (13.10.1848-янв. 1942). [9; 10 – №32/25]
м. ЗАОРСКИЙ Вячеслав-Андрей Марианович (1852-п.1914), земский врач в Муроме Владимирской губ. (1894), д. Лесниково Меленковского у. Владимирской губ. (1914), кол. секр. [9; 10]
АБ26. Мария Полиеновна (1.4.1851-).[9]
АБ31. Иосиф Витальевич (7.1.1857-). Врач-хирург. Начальник врачебной службы Рязанско-Уральской ж.д. в Саратове (с 1900), кол. сов. (упом. в 1908-1914). «Прославился Иосиф Вяземский, крупнейший психиатр, умевший погружать рожениц в состояние гипноза». [9; 10 – 34/26]
ж. с 10.2*. NN. Мария Николаевна (3.3*-). Надзирательница в Саратовской фельдшерской школе. [9]
АБ32. Федор Витальевич (11.3.1860, Мос. губ. – 1930, Л-д). Полковник. Офицер 210-го Перекопского резервного бат., отст. полк. (31.10.1907). Мобилизован 19.9.1914 и зачислен в Гос.. ополчение подполк. (11.3.1915), начальник хозяйственной части 421-го пех. Царскосельского п. (19.11.1915), в отст. (8.1.1918), кав. орд. Станислава 2 ст. (2.2.1906), Владимира 4 ст. (18.7.1915). В 1920-е учитель рисования в начальной школе в Ленинграде. В 1914 жил в СПб, отст. полковник, раб. на Сев.-Зап. железн. дор. [Весь СПб. 1914; 9; 10 – №33/26]
ж. ПАТКОВСКАЯ Зинаида Владимировна (15.8*–1932/33, Л-д), дочь ген.-м. Владимира Лаврентьевича П. (-1906) и Елизаветы Борисовны. [9; 10 – в 1912 в СПб., в неизв.]
АБ33. Людмила Витальевна (24.5.1865, Богородск Московской губ. – 8.6.1949, Москва). Классная учительница во 2-м Серпуховском начальном училище в Москве (1892–1897). Ее прах пох. в колумбарии 1-го Моск. кремат. при Донском мон. [9]
м. с 10.9.*... КОНОМОПУЛО Харлампий Ильич (Херсон, 4.11.1857 – 1922, Симферополь). Капитан и полковник 212-го Бахчисарайского резервного пех. п., в отст. 9.9.1907, кав. орд. Станислава 3 ст., Анны 3 ст. Пох. на Старом гор. кладб. в Симферополе. Автор книги Памятная книга Херсонской губернии. 1917. [9]
АБ81. Ольга Сергеевна (28.6.1867-п. 1915). Упоминается в 1915 в подписи под некрологом брату Сергею в газете Новое время 14193 и 35127.
м. КАРПОВ Григорий Григорьевич, ст. делопроизводитель Комиссии по исполнению Гос. росписи доходов и расходов при Гос. Думе, ст. сов. (1916). [9; 10 – №35/27]

АБ82. Сергей Сергеевич (1.03.1869– погиб 12.09.1915), контр-адмирал (посмертно, 1915). Ок. Морское училище (1888), Артил. офицерский класс (1893), Гидрограф. отд-е Николаевской морской академии (1896). Командовал миноносцами № 61, № 68 (1897). Участвовал в подавлении Боксерского восстания. Командовал миноносцем № 11 (1902), миноноской № 105 (1903). Во время русско-японской войны в качестве старшего офицера крейсера "Жемчуг" (1904–1906) участвовал в Цусимском сражении (14.05.1905). Командовал транспортом "Шилка" (1906–1908), крейсером "Жемчуг" (1908–1909), 2-м (1909– 1910), 1-м (1910–1912) дивизионами Минной бригады Владивостокского отряда. Переведен на Балтику (10.12.1912). Командовал линейными кораблями "Император Александр II" (1913–1914), "Слава" (24.12.1914–12.09.1915). Был убит на "Славе" прямым попаданием 100-мм снаряда в нижнюю кромку визирной прорези боевой рубки во время артиллерийской дуэли с германскими полевыми батареями у мыса Рагоцем. Тело перевезли но железной дороге в Петроград и с воинскими почестями похоронили в Ал.-Невской Лавре. Посмертно присвоено звание контр-адмирала, награжден Георгиевским оружием (27.10.1915) – "За подвиги мужества и храбрости, связанные с выполнением или содействием к выполнению опасных операций, имеющих большое боевое значение". [www.karabel.ru] Кавалер орд. Анны 2 ст. (6.12.1912), Станислава 2 ст. (18.4.1910), Владимира 4 ст. (18.6.1907) и 3 ст. (17.8.1915). [9] Жил в СПб. в Измайл. полку, 6 рота, 24. [Весь СПб. 1914] О его гибели см. у Пикуля В.С. Моонзунд.
ж. КАРАЧАРОВА Елена Сергеевна, дочь судебного пристава при Московском столичном мировом съезде, кол. асе. Сергея Андреевича К.) и Евстолии Сергеевны, ур. Вяземской (см. выше). Замужем за двоюродным братом. [9]
АБ83. Елена Сергеевна (31.7.1870-п.1917), дочь генерал-майора. С 1907 по 1917 жила в СПб. [9; 10 – №37/27. Елизавета Сергеевна Весь СПб. 1912]
АЕ11. Князь МЕЩЕРСКИЙ Николай Александрович (6.10.1825-). [Руммель, РСРДФ, т.2, №336]
АЕ11а. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Екатерина Александровна (24.11.1826-). [Там же, за №340 без №]
АЕ12. Князь МЕЩЕРСКИЙ Алексей Александрович (12.2.1829-). [Там же, №337]
АЕ12а. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Наталья Александровна (13.6.1830-). [Там же, за №340 без №]
АЕ12б. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Анна Александровна (30.1.1834-). [Там же, за №340 без №]
АЕ13. Князь МЕЩЕРСКИЙ Константин Александрович (19.5.1836-). [Там же, №338]
АЕ14. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Мария Александровна (7.2.1838-). [Там же, за №340 без №]
АЕ15. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Варвара Александровна (4.10.1839-). [Там же, за №340 без №]
АЕ16. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Ольга Александровна (23.6.1842-). [Там же, за №340 без №]
АЕ17. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Софья Александровна (15.8.1846-). [Там же, за №340 без №]
АЕ18. Князь МЕЩЕРСКИЙ Михаил Александрович (4.11.1848-). [Там же, №339]
АЕ18а. Княжна МЕЩЕРСКАЯ Александра Александровна (26.2.1851-). [Там же, за №340 без №]
АЕ19. Князь МЕЩЕРСКИЙ Дмитрий Александрович (8.2.1853-). [Там же, №340]
11-е колено
АБ141. ВАСИЛЬЕВА Наталья Аркадьевна. Сын получил ее фамилию. [11]
м. АРЦЫШЕВСКИЙ (Казимир?), разведены в 1922-23. 11]
АБ211. АБ111. Валериан Орестович (1868–1924), инженер-путеец, профессор петербургского Института путей сообщения. С ним в сентябре 1900 года М.Волошин отправился в Среднюю Азию, на изыскания трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги. [см. Приложение воспом. сестры Валентины]. ). В 1914 его семья жила в СПб, Вас. ост-в 6 линия 27, служ. Правления О-ва ж/д ветви” [Весь СПб.] (3.10.1867, СПб. – 22.12.1924, Л-д.), начальник 3-го Туркестанского уч. постройки Оренбург-Ташкентской ж.д. (1901– 1911), начальник партии по изысканию ж.д. Ермолино-Нижний Новгород-Сергач-Алатырь-Симбирск (1911-1916), действ, ст. сов. (1916), кав. орд. Станислава 2 ст. (13.4.1908), Анны 3 ст. (6.4.1903). В 1918 защитил диссертацию на зв. адьюнкт-проф. и был назначен зав. каф. изысканий и постройки ж.д. Петроградского института инж. путей сообщений. Пох. Новодевичье кладб. Л-да. [9; 10 – №38/29]
ж. ок. 1898 ИЗОТОВА Мария Николаевна (1878-25.3.1942, Л-д), дочь земского врача с. Кесово Кашинского у. Тверской губ., кол. сов. Николая Алексеевича И. (1850-). [9] Погибла в блокаду.
АБ212. АБ112. Любовь Орестовна (18б9-19б0) – переводчица и педагог 41-й моск. школы (ранее ее собственная «гимназия Вяземской»; Колпачный пер.4, теперь там школы нет). «Она продолжала работать в школе, была сильным математиком и безупречным педагогом», вспоминал один из ее учеников. См. Приложение 6 (год смерти –1958). (2) Любовь Орестовна. * ... 2.11.1869, – Москва 22.8.1960, ?колумбарий 1-го Московского крематория при Донском мои. Первая женщина из России, окончившая университет в Кембридже (1901). Утверждена в звании учительницы английского яз. в гимназии (1.8.1902). В 1902 учредила «Первое частное женское коммерческое училище Л. О. Вяземской в Москве», реорганизованное в 1908 в «Частную женскую гимназию Л. О. Вяземской в Москве». Окончила физико-математический факультет Имп. Московского университета с дипломом I ст. (1916). В нач. 1918 сдала свою гимназию Советскому государству и поступила на гос. службу, ученый секр. научного отд. Наркомпроса (1919–1923), ст. преподаватель водного факультета Московского института инж. транспорта (1924-1933), зав. каф. иностранных яз. (янв. 1938-1957). проф. (1954) Московского института инж. ж. д. транспорта, доктор педагогических наук (3.5.1954). Почетный железнодорожник (1940), была награждена орд. «Знак Почета» (окт. 1945).
АБ113. Валентина Орестовна (1872-1946), преподаватель начальных классов в гимназии ее сестры Любови (затем шк. №41 в Москве). Друг юных и отроческих лет М. Волошина, в своем дневнике психоанализа 1926 г. тот приводит ее оригинальное название свастики – "она – фейерверочное колесо". В 1934 по просьбе вдовы поэта написала воспоминания о М. Волошине (хранятся в Доме-музее М.В.). [См. ее воспом. в Прилож. 6, в комментариях г.р. 1871]. (10.6.1872-8.2.1946, М.), пох. колумбарий 1-го Моск. крематория при Донском мон. [9; 10 – №40/29]
м. с 1896 СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Ксенофонтович (17.10.1866-20.1.1911), капитан 1 ранга в отставке (10.01.1911), пох. на Русском кладбище Е.И.В. Королевы эллинов Ольги Конст. при военно-морском госпитале в Пирее (Греция), надпись на могиле «Любимому командиру / офицеры и команда канонерской лодки "Черноморец", могила № 379 [www.genealogia.ru – ЗIII, Новик]. Сын инж.-механика флота Ксенофонта Петровича С. и Прасковий Дмитриевны, ур. Синюшкиной. Кап. 2-го р. (6.12.1905), начальник оперативного отд. штаба Черноморского флота (1908), отст. кап. 2-го р. (1917??). [9] Жили в Севастополе, где у них часто летом пребывала вся семья Вяземских. [См. Приложение 6 Восп. жены ]
АБ114. Александр Орестович. [9]
АБ115. Елена Орестовна (1880-8.3.1881), умерла младенцем. [9] Может быть, ее памяти посвящено название дачи семьи «Еленкой», где кой – по татарски – селение.
АБ161. АБ611. Ксения Борисовна (17.10.1894-п.1916) [3, д.421 1916] (17.10.1894, с. Глухово Бог. у. Мос. губ. – 2.3.1977, Москва. Замужем 19.11.1922 (Москва). Архитектор. Пох. на Введенском кладб. [9]
м. ЗАМЯТИН Борис Петрович (4.9.1891н.с., Одесса – 12.4.1970, Москва), сын Петра Николаевича 3. (+ 1898) и начальницы Одесского училища для глухонемых Ольги Яковлевны, ур. Примо. Пох. там же.
АБ162. АБ612. Всеволод Борисович (16.1.1896, Москва – 22.6.1968, Лозанна, Во, Швейцария) Прапорщик в Первой мир. войне. Эмигрировал. Пох. кладб. Буа-де-Во. [3, д.421 1916 г.; 9; 10 –№44/42 – прапорщик кавалерии – из автобиографии, вероятно, в архиве Иконникова]
ж. БЕЛЬМОН/Belmont/ Елена Петровна (5.8.1898, Москва – 12.3.1937, Лозанна), дочь Петра Б. и Жоржетты, ур. Брузи/Brousy. Замужем в Лозанне. Ее муж – троюродный брат. [9]
АБ163. Татьяна Борисовна 5.11.1898 –п.1916. [3, д.421 1916] (5.11.1898, М. – 1992, М.) В браке с 23.4.1922 (Москва). Пох. на кладб. на Введенских горах. [9]
м. МУСОЛИН Сергей Иванович (21.9.1894, в день Рожд. Богородицы, СПб. – 12.8.1988, М.), сын бухгалтера пароходной компании «Надежда» Ивана Никитича М. (+ 1942) и Марии Ивановны, ур. Чистовой (+ 1942). Бухгалтер, зам. глав, бухгалтера «Главрыбсбыта». [9]
АБ164. АБ614. Ростислав Борисович (16.11.1900 –). [3, д.421 1916] (16.9.1900, М. – 1958, М.), Пох. кладб. на Введенских горах. [9]
ж. ФОКИНА Ольга Михайловна. Пох. на кладб. на Введенских горах. [9]
АБ165. АБ615. Лев Борисович (8.6.1902-). [3, д.421 1916]. (8.7.1902, М. – 8.3.1922, М.). Пох. кладб. на Введенских горах. [9]
АБ166. АБ616. Юрий Борисович (21.1.1908 –п.1956). Крещен 27.1., восприемники – князь Николай Викторович Гагарин, брат Всеволод и сестра Ксения. Внесен вместе с другими братьями и сестрами в Родословную книгу Московской губернии (VI часть) в 1916 г. Возможно, это он в Книге памяти репрессированных: «Вяземский Юрий Борисович, 1908, г. Ногинск (Богородск) Московской области, русский. Начальник отдела снабжения Умбского лесокомбината, жил при аресте в пос. Лесной Терского района Мурманской области, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 2. Арестован 18.05.51, ст. 58-10 УК. Осужден 8.09.51 Особым совещанием при МГБ СССР, 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 28.03.56 Мурманским областным судом». (Мог быть ранее сослан в эти края, а затем осужден повторно в 1951 г.) [3, д.421 1916;Книга памяти: Поим. список репресс. жителей … Мурм. обл., Мурманск, 1997. – http://visz.nlr.ru/search/lists/murm/226_7.html] Юрий Борисович (3.2.1908н.с., им. Никольское-Гагарино Рузского у. Моск. губ. – 22.3.1983, Мурманск), пох. кладб. на Введенских горах в Москве. Крупный филателист. [9]
ж1. NN. Вера. Разведены.
ж2. NN. Александра. Разведены ок. 1952.
ж3. КАРПОВА Зинаида Георгиевна (1923, д. Большое Васильево Семеновского у. Нижегородской губ. – 26.6.1982, Мурманск). [9]
АБ221. Александр Владимирович (22.6.1881-п.1912).[9; 10 – 41/30 – инженер путей сообщения в СПб в 1912]
АБ311. Валентина Иосифовна, Инна (5.12.1889 –п. 1949, М). [9]
м1.
м2. ГРИДНЕВ Николай Семенович. Актер. В конце 1940-х – страховой агент Таганского отд. «Госстрах». [9]
АБ321. Михаил Федорович. (18.5.1894 – 6.4.1965, М.). Начальник штаба Курсов усовершенствования командирского состава бронетанковых войск им. А. С. Бубнова, начальник Бронетанкового училища в Горьком (1935–1938), в марте 1938 нач. Бронетанкового уч-ща в Харькове, комбриг (26.11.1935). 15.3.1938 арестован и осужден Воен. трибуналом («10 лет ИТЛ с правом переписки»), в авг. 1943 освобожден «на время военных действий» с присвоением звания подполк. и возвращением наград, штабной офицер в штабе 3-й гв. танковой арм. П. С. Рыбалко, полк. СА (весна 1945), в запасе с 1948, кав. орд. Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина, Отечественной войны I ст. и II ст. и иностранных. Реабилитирован в 1957. Погреб. на Головинском кладб. М. [9]
ж. ЛОБОВИКОВА Нина Георгиевна (15.3.1895нс, Вятка – Москва 30.5.1979, М), дочь учителя математики в московских гимназиях, инспектора Московского промышленного училища, ст. сов. Георгия Ивановича Л. и Любови Евменьевны, ур. Цветковой. В браке с 1922 в Москве. Пох. на Головинском кладб., [9]
АЕ191?. Возможно князь МЕЩЕРСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ. «Родился ок. 1890. Пропал в революцию. Жена ЕВНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Место бракосочетания: Ялта. Сын ЮРИЙ у него младшая дочь НАТАЛЬЯ 1952. Сестры: Екатерина, Надежда, Клеопатра. Остались от семьи Мещерских только фотоальбом и газета "Крымский Вестник" с упоминанием смерти Д.А Мещерского от 10 июля 1910 года». МЕЩЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 23 июля 1952. Младшая дочь Мещерского прямого потомка князя Мещерского Константина. Муж МЕЩЕРЯКОВ Александр Викторович (1950-1994), сын Виктора Петровича (1920, бывший секретарь обкома партии) и его жены Елизаветы Алексеевны (1921, работник аэропорта). Художник. Место бракосочетания: Иркутск. Сын Даниил (22 ноября 1972, Иркутск-), управляющий Московской Хельсинской группы. Контакты: Москва. e-mail – amitroshkina@hotmail.com (Июль 2002)» [www.rodstvo.ru Мещерские] Написал письмо, отозвались, жду в конце декабря некролог.
12-е колено
АБ1111-АБА. Орест Валерианович (ок.1890-п.1959). Известный гидростроитель. Его именем названа улица в Рыбинске на которой расположена Рыбинская ГЭС. Он работалвначале строительства гидроузлов Верхневолжья главным инженером проекта Угличской ГЭС. Однако еще до прихода на Волгострой, он более 10 лет отработал в области гидротехники и мелиорации. Вместе с профессором В.Журиным принимал активное участие в организации опытно-исследовательского института водного хозяйства в Ташкенте (там родился его сын). Он возглавил лабораторию строительных материалов и занимался исследованиями в области оснований гидротехнических сооружений и гидротехнических бетонов. Написал несколько научных работ. В декабре 1935 года, когда началось строительство Угличской ГЭС, его переводят из Владивостока, где он работал на Седанстрое заместителем главного инженера строительства и начальником проектного сектора. Там он создавал первую систему водоснабжения дальневосточного города. На Угличском гидроузле его определили в проектный отдел и технический сектор. Здесь он поработал заместителем начальника, а чуть позже заместителем главного инженера строительства. Одновременно был и главным инженером проекта Угличской ГЭС. Однако во время войны, когда основной коллектив Волгостроя был эвакуирован на Урал в Тагилстрой, Вяземского перевели в Рыбинск в качестве руководителя небольшого коллектива, который и достроил ГЭС. В конце 1946 года он назначен гл. инженером Волгостроя. Но спустя полгода Ореста Валериановича переводят во Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники имени Веденеева. Надо заметить, что за 15 лет в институте ВНИИГ он не только вместе с бригадой провел натурные исследования сооружений Каскада Верхневолжских ГЭС, но еще и был участником экспертиз и Государственных комиссий по приемке в промышленную эксплуатацию ряда крупнейших гидротехнических объектов: Куйбышевской (ныне Жигулевской) ГЭС, Братского, Иркутского и других гидроузлов. В его послужном списке три ордена Трудового Красного знамени, орден «Знак почета» и несколько медалей СССР – и все это за успешную работу на крупных гидротехнических стройках нашей страны. [http://perebori.narod.ru/ulisa.htm] Орест Валерианович. (19.672.7.1902, Ташкент – 9.3.1968, Л.д., пох. Серафимовском кладб). Канд. техн. наук (19.4.1938). Производитель работ управления «Мологожелдорстрой» (4.10.1924), начальник отряда изысканий канала Октябрьской Революции в Дагестанской АССР, инж. управления «Средазводхоз» в Ташкенте (4.5.1926), ученый секр. и научный сотрудник в Опытно-исследовательском институте водного хозяйства (1.7.1926), специалист I разряда Опытно-строительной части НИИ водного хозяйства и доцент Среднеазиатского хлопко-ирригационного института. Арестован 28.12.1930 и постановлением ОГПУ от 23.7.1931 по статье 58 (58-7 и 58-11) приговорен к пяти годам лагерей без конфискации имущества, с 10.6.1931 на строительстве Беломорско-Балтийского канала (Белморстрой): прораб, ст. инж. и руководитель проектирования (28.12.1930), руководитель группы гидротехнических сооружений в Ленинградском бюро Беломорско-Балтийского комбината (8.12.1933), начальник проектного сектора и зам. глав. инж. строительства водоснабжения Владивостока, зам. начальника проектного отделения и глав. инж. строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов (15.12.1935), ст. научный сотрудник лаборатории эксплуатации гидроэлектростанций Всесоюзного НИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева (15.8.1947), кав. орд. Трудового Красного Знамени (трижды) и «Знак Почета». Реабилитирован опр. судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Узбекской ССР от 2.12.1957. Автор более 70 научных работ и ряда свидетельств на изобретения. [9]
ж. МЕНЬШИКОВА Любовь Михайловна (1900, Пишпек Семиреченской обл. – 1963). [9]
АБ1411. ВАСИЛЬЕВ Глеб Казимирович (1923). «30 октября 1945 года Глеба, в ту пору студента пятого курса Станкина, арестовали. Судили по печально известной статье 58, пункт 10 – «за антисоветскую пропаганду» и отправили в Северо-Печерский лагерь. «Мне повезло, что я шел сам по себе, не в группе. За групповщину давали больше, – говорит Глеб Казимирович. – Тогда сажали всех подряд. Выполняли план. Мы все были обречены». Их семья долгие годы дружила с Анастасией Ивановной Цветаевой. Они – хранители архива Анастасии Цветаевой и многих реликвий своих предков. «Глебам удалось отыскать около двух с половиной тысяч автографов А.Ц.. В них отражается период, равный почти восьмидесяти годам, начиная с росчерка пера на первой книге юной Анастасии Цветаевой до последних надписей, сделанных незадолго до смерти. Автографы, снабженные комментариями, собраны в 6 объемистых томах и переданы в Дом-музей Марины Цветаевой». [11]
ж. НИКИТИНА Галина Яковлевна. Ее записи телефонных разговоров с Анастасией Цветаевой составили 4 сборника «Телефон на Большой Спасской». Собиратель вместе с мужем воспоминаний об А.Ц. (издали 6 самод. книжек), «Каждый сборник – библиографическая редкость. Общий тираж – пять экземпляров. Одна книжка традиционно отправляется в Музей Марины Цветаевой, вторая – внучке Анастасии Ивановне, Оле Трухачевой, третья улетает в частный музей «Пяти поэтов» Юлия Зыслина в США, четвертая – в Музей сестер Цветаевых в Феодосии, а пятая остается в домашней коллекции. Уже собрано свыше шестидесяти воспоминаний. Людей искали по цепочке. Кто-то отзывался с радостью, за кем-то приходилось «охотиться» годами. «Все на свете сцеплено между собой, – убежден Глеб Казимирович, – какие-то колесики всегда приводятся в движение, в котором не бывает случайностей». А.Ц. называла их семью «Глебами», и на одной из своих книг написала «Глебам: “Вы стали моей частью, частью моей жизни. Меня вы оплачете? Память о вас обоих, встречи с вами – всегда праздник. И сколько буду жить, будем видеться. И это меня радует и утешает”.[11]
АБ1621. Андрей Всеволодович (3.7.1926, Лозанна, Во, Швейцария-). Звукоинженер, служащий теле– и радиокомпаний во Франции и Швейцарии. [9; 10 – №45/44]
ж. ЭНЗЕН/Enzen Моника (24.3.1931, Веве, Во Швейцария), дочь Андре Э. И Алисы, ур. Водо (1911–1945). Замужем с 15.11.1952 (Лозанна). Администратор архитектурного бюро в Лозанне. [9; 10 – №46/44]
АБ1622. Дмитрий Всеволодович (6.2.1930, Во, Швейцария). Инженер. [9]
ж. ОБРИСТ (Obrist) Франсуаз (21.1.1935), дочь Мориса О. (1910-1978) и Мари-Анн, ур. Жако-Гийармо (1910-1978). Брак заре
|
Метки: вяземские |
Столыпины |
Столыпины http://tatiskray.ru/index.html?4/080.htm |
В августе 1878 года генерал Столыпин назначается командующим 9-м армейским корпусом со штабом в Андрианополе, а с октября 1878 года он - генерал-губернатор Восточной Румелии и Андрианопольского Санджака, будущей территории Болгарскою княжества, а затем и нового славянского государства Болгария. Столыпин также командовал всеми оставшимися войсками в Восточной Румелии и княжестве Болгарском вплоть до отправления российский войск на родину в июле 1879 года. Будучи руководителем военно-гражданского управления на этой территории, в рамках небольшого промежутка времени, отведенного Берлинским конгрессом (1 (13) июня - 1 (13) июля 1878 года), завершившимся образованием славянских государств, генерал Столыпин активно и успешно занимался государственным устройством будущей Болгарии. Столыпину присвоено самое высокое воинское звание России: "Высочайшим приказом от 8 августа 1879 года назначен Генерал -Адъютантом к его императорскому величеству с оставлением в настоящей должности и по полевой Конной Артиллерии". В мае 1883 года генерал-лейтенант Столыпин за отличие по службе производится в генералы от артиллерии с оставлением в настоящей должности в звании генерал-адъютанта и по полевой конной артиллерии. Этот наивысший армейский чин был получен по случаю коронования императора Александра III. Аркадий Дмитриевич Столыпин был женат дважды. От первого брака с Устиновой Екатериной Андриановной (?-1847?) имел сына Дмитрия (15.11.1846 – 1899). Овдовев, А.Д. Столыпин женился вторично. Его женой стала, известная своим умом и добротой, княжна Наталья Михайловна Горчакова (31.05.1827-21.11.1889). От этого брака у Столыпина было четверо детей: Михаил Аркадьевич (23.09.1859 – 07.09.1882), Петр Аркадьевич (02.04.1862-1911), Александр (30.12. 1863- 1925) и дочь Мария (23.04.1861 – 1923).
|
|
Метки: столыпины |
Мифы и реальность о поместьях Петра Столыпина в Саратовской губернии |

В последнее время, в связи с подготовкой мероприятий, связанных со столетием со дня смерти и с празднованием 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина в 2012 г., возник вопрос о его владениях в Саратовской губернии.
Выяснилось, что эта тема в научных публикациях, научно-популярных изданиях освещена слабо, а в средствах массовой информации появляется много мифов, далеких от действительности: можно даже услышать, что село Столыпино - родное село Петра Аркадьевича.
На самом деле, Столыпино не только не является родиной П.А. Столыпина (как известно, родился он в г. Дрездене 2 апреля 1862 г., крещен в Дрезденской Иерусалимской церкви), но и назвать это село родовым имением П.А. Столыпина довольно затруднительно.
В книге известного саратовского краеведа Н.Ф. Хованского "Помещики и крестьяне Саратовской губернии" (Саратов, 1911 г.) в списке сел, именовавшихся по фамилиям своих помещиков, основателей или владельцев, значится село Столыпино, а также имеется информация о том, что в 1799 г. Столыпину (имя и отчество не указано) было пожаловано 2000 десятин земли в Саратовской губернии.
В Государственном архиве Саратовской области на настоящий момент выявлено не так много документов, по которым можно установить владельцев села Столыпино на определенных этапах его истории.
Так, в документах фонда Саратовской губернской посреднической комиссии по полюбовному размежеванию земель "перводачниками" села Столыпино (имело также названия Дмитриевское, Алферьево или Олферьево) указаны Семен Сильвестрович Столыпин (прапрапрадед Петра Аркадьевича Столыпина) и его брат Василий Сильвестрович. Далее известно, что к 1848 г. это землевладение "по наследству и по купчим", перешло к другим собственникам (некоторые из них, возможно, были членами рода Столыпиных). Когда именно были куплены или получены по наследству части имения, по документам архива пока проследить не удалось.
В дальнейшем собственниками села Столыпино (Дмитриевское, Алферьево) в Списке имений Саратовской губернии на 1859 год значатся коллежский асессор Петр Олсуфьев и капитанша Серафима Чиркова.
В течение последующих лет собственники села менялись, одним из владельцев был и Аркадий Дмитриевич Столыпин - отец П.А. Столыпина. В сведениях о землевладениях, составлявшихся Саратовским губернским статистическим комитетом в 1898г., имеется информация о том, что в 1894 г. А.Д. Столыпин продал принадлежавшие ему 66 десятин земли "при селе Столыпино" подольской мещанке Е.А. Александровой (когда и от кого унаследовал или приобрел эту землю А.Д. Столыпин, пока установить не удалось).
В Саратовской губернии владения были у многочисленных потомков Семена Сильвестровича и Василия Сильвестровича - двоюродных, троюродных и более дальних степеней родства родственников Петра Аркадьевича Столыпина.
В документах архива имеются сведения о владениях отца П.А. Столыпина Аркадия Дмитриевича в Саратовской губернии.
В том же "Списке имений Саратовской губернии на 1859 год" собственником сельца Крутец Саратовского уезда, деревень Малые Озерки и Козловка Вольского уезда значится гвардии полковник Аркадий Столыпин.
В документах фонда Саратовского губернского по крестьянским делам присутствия имеется копия доверенности, выданной 5 мая 1861 года в г. Санкт-Петербурге генерал-майором Аркадием Дмитриевичем Столыпиным надворному советнику Юрию Эдуардовичу Горье на управление принадлежащими ему имениями: в Московской губернии и уезде - село Спасское (Средниково) с деревнями; в Саратовской губернии и уезде - сельцо Крутец с суконной фабрикой, в Вольском уезде - деревни Козловка и Озерки; в Самарской губернии Николаевском уезде - деревня Дмитриевка, а также каменный дом в Санкт-Петербурге.
Кроме этих имений А.Д. Столыпин владел также участками земли "при деревне" Владимировка Вольского уезда, купленными в 1894 г.
В документах Саратовского губернского статистического комитета об имении "при деревне" Малые Озерки Вольского уезда - Мало-Озерском или Столыпинском опытном хуторе - имеются сведения о том, что на сентябрь 1898 г. оно принадлежало генерал-адъютанту Аркадию Дмитриевичу Столыпину (перешло по наследству в 1855 г.), сам владелец проживает в Москве, а в имении живет его сын Дмитрий Аркадьевич (старший сын от первой, умершей жены).
О селе Крутец Саратовского уезда известно, что в 1901 году там проживал Александр Дмитриевич Столыпин - младший сын Аркадия Дмитриевича.
С большой степенью вероятности можно предположить, что после смерти в 1899 г. Аркадия Дмитриевича Столыпина его сыновья Дмитрий и Александр могли унаследовать имения, в которых проживали.
Сведений о том, какие владения в Саратовской губернии были у Петра Аркадьевича Столыпина, пока обнаружить не удалось.
По воспоминаниям дочери П.А. Столыпина Марии Петровны Бок, Петр Аркадьевич продал принадлежавшие ему имения в Саратовской губернии незадолго до назначения его саратовским губернатором.
Данные о том, когда и кому П.А. Столыпин продал имения, в документах архива до настоящего времени не обнаружены, однако в копии формулярного списка о службе "бывшего саратовского губернатора" Петра Аркадьевича Столыпина, составленного в мае 1906 года (в это время П.А. Столыпин - Председатель Совета Министров), в графе "есть ли имение у него самого и у родителей" указаны недвижимые имения в Пензенской (950 десятин) и Ковенской (835 десятин) губерниях. В графе "есть ли имение благоприобретенное" указаны 820 десятин земли в Нижегородской губернии. Как видно из документа, земель в Саратовской губернии к этому времени у П.А. Столыпина не имелось.
Г.В. Захарова
заместитель директора
Государственного архива
Саратовской области
http://saratov.rusarchives.ru/publication/o_pomestjah/index.html
|
Метки: столыпины дворянские владения |
Сандуновские бани: о романтике и прагматизме |
Сандуновские бани: о романтике и прагматизме
1405 Views бани Сандуновские, экскурсии по Москве
История Сандунов – сплошная романтика, ведь все поворотные моменты связаны с любовью. А, может, наоборот — сплошной прагматизм… Потому что то ли ради любви, то ли ради того, чтобы владеть этими лучшими в Москве (да только ли в Москве?) банями одни отказывались от искусства, от сцены другие – от службы в гвардии… В общем, всегда от чего-то такого возвышенного и почетного. А впрочем, такой интерьер, как у Сандунов – разве это не высокое искусство? Кстати, может, такого интерьера и не было бы. Если бы не необходимость конкурировать с другими банями – тоже лучшими в Москве (потому что лучший – не всегда один. Иной раз на чемпионском пьедестале приходится тесниться и двоим). С Хлудовскими. Куда, мы надеемся, тоже сходим на экскурсию и о которым мы уже немного рассказывали.
Экскурсоводы: Ирина Стрельникова и гид объекта

Фото с сайта https://pastvu.com

Фото с сайта https://pastvu.com
P.S. О дате экскурсии, которая, как мы надеемся, состоится в январе, сообщим отдельно. Пока же почитайте замечательный рассказ о Сандунах актрисы Натальи Селезневой, ходившей туда на рубеже 40-х-50-х.
P.P.S. А это – не просто театр «Школа Современной пьесы». Это еще и бывшее здание ресторана «Эрмитаж», о котором мы обязательно поговорим по дороге к Сандунам. Продолжим нашу фирменную тему московских загулов!

Фото Ю.Звездкинаhttp://drug-gorod.ru/sandunovskie-bani-romantike-pragm/
|
Метки: сандуновы |
Петр Столыпин первым встал на пути Распутина |
Петр Столыпин первым встал на пути Распутина
3444 Views династия Романовых, политики, Распутин Григорий, революция 1905 года, Столыпин Петр (очерк)
Столыпину доложили, что на квартире фрейлины Вырубовой государыне представлен некий чудотворец, «старец» Григорий Распутин, и Александра Федоровна им крайне увлеклась. В полиции подозревали, не террорист ли он, провели расследование, и выяснилось, нет, не террорист, зато развратник. За Распутиным числились и дикий разгул в притонах, и даже кражи. Словом, компания для членов августейшей фамилии весьма нежелательная. Столыпин поехал в Царское Село, рассказал обо всем государю. «Лучше 10 Распутиных, чем одна истерика царицы», — отмахнулся император.

Петр Аркадьевич с семьей 1890-е годы
Утром в субботу 12 августа 1906 года к подъезду дачи министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове подкатило ландо. Оттуда вышли двое жандармов и один штатский: во фраке и с цветком в петлице. В руках он нес пухлый портфель. Троица деловито направилась в приемную. Там ожидало несколько десятков просителей, в том числе какая-то женщина чахоточного вида с тремя детьми. Над крыльцом на балконе в это время сидели двое из пяти детей самого Петра Столыпина: 15-летняя Наташа и 3-летний Аркадий с няней.
Новоприбывшим преградил путь швейцар: «Запись на сегодняшний прием прекращена». Но те отодвинули его и решительно вошли в приемную: «Министерская необходимость! Это очень срочно, господа!» Тут уж вмешались агенты охранки, неотлучно дежурившие у дверей столыпинского кабинета. Короткая схватка. Взрыв. В пухлом портфеле была взрывчатка…
Убитых — более 27 человек. Раненых— более 30. Та чахоточная женщина с детьми, офицеры, чиновники, просители… В приемной образовалась кровавая каша. А на балконе… Балкона, собственно, вообще не было. Его снесло взрывной волной. Позже под обломками нашли погибшую няню (это была совсем молоденькая девушка, сирота) и раненого малыша без сознания. Наташу Столыпину отбросило дальше всех, на мостовую, и она попала под копыта взбесившихся от грохота лошадей. «Странно было видеть, как Наташу переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо, — вспоминала ее сестра Мария. — Но потом она стала кричать, жалобно и безнадежно. А у брата Ади были раны на голове и перелом ноги, и он несколько дней совершенно не мог спать, ему все мерещилось, что он падает».
Петр Аркадьевич не пострадал совершенно. Ну в смысле — физически. Едва отправив раненых по больницам, он поехал на заседание кабинета министров, а после — на прием к императору. Царь проявил горячее сочувствие, предложил деньги на лечение пострадавших членов семьи. Столыпин выслушал с каменным лицом: «Ваше величество, я не продаю кровь своих детей». Ответ неслыханный, оскорбительный! Но что взять с отца, который знал: в этот момент его дочери ампутируют ноги (этого, кстати, не произошло. Девушка умолила врачей отложить ампутацию до утра, потом еще на несколько часов, потом еще… Ну а убедившись, что заражения крови нет, врачи провели серию восстановительных операций, и через три года Наташа даже смогла понемногу ходить)…

Здесь и далее фото с сайта http://stolypin-info.ru
Петр Аркадьевич очень любил свою семью. Пожалуй, больше, чем это обычно бывает у великих государственных деятелей. Он женился рано, еще в университете, где учился на физико-математическом факультете. Причем на невесте своего старшего брата, убитого на дуэли (с убийцей брата Петр Аркадьевич и сам стрелялся и был ранен в правую руку, которая с тех пор плохо действовала). Супруги мечтали о сыне, но после рождения пяти дочерей уже почти перестали надеяться… И все же в 1903 году у них появился сын. Столыпину был тогда уже 41 год, он дослужился до саратовского губернатора и не чаял от жизни больше, чем имел. Но у истории были на него свои планы…

Пленник зимнего дворца
Когда во вверенной ему Саратовской губернии в 1905 году полыхнули крестьянские восстания, Петр Аркадьевич не растерялся. Ездил по губернии, собирал крестьянские сходы, расследовал дела о грабежах помещичьих усадеб, разговаривал, убеждал. Его голос был вечно сорван от ежедневных многочасовых речей. Он гордился, что удается обойтись арестами нескольких зачинщиков, без порки всех бунтовщиков, как это делалось в других губерниях. Пожалуй, Столыпин действовал на людей магнетически: высокий, ладный, косая сажень в плечах, гордый взгляд, властные интонации. Однажды на сходе мужики пошли на него с дубинами, и тогда Петр Аркадьевич… как ни в чем ни бывало сбросил на руки главарю нападавших свою шинель. Мол, подержи-ка, братец, окажи любезность. И мужики растерялись, опустили свои дубины. Хуже было, когда восстали саратовские рабочие — революция все разгоралась… Но Столыпин нашел относительно бескровный выход: вооружил своих казаков корзинами с камнями. Все лучше, чем пули! Впрочем, однажды в Саратов все-таки пришлось вызвать правительственные войска. Погибло восемь манифестантов… Восемь человек за всю революцию! По меркам других губерний — мизер. Но террористы-эсеры так не считали…

Это была настоящая война, и велась она уже пятое десятилетие. Эсеры и сходные с ними революционные террористические организации росли как грибы дождливым летом. И сколько ни казни, желавших пожертвовать собственной жизнью ради того, чтобы уничтожить очередного чиновника, все не убывало. В считаные годы были убиты министр внутренних дел Плеве (предшественник Столыпина), московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, самарский губернатор Блок, главный военный прокурор Павлов, многие-многие другие. И всякий раз это было дело рук молодых людей из интеллигентных семей, искренне веривших, что таким образом можно разрешить накопившиеся в обществе противоречия…
Объявились террористы и в Саратове. Первой жертвой пал генерал-адъютант Сахаров — тот самый, что привел в город правительственные войска. Просто в дом Петра Аркадьевича, где гостил генерал, пришла барышня из образованных, хорошенькая, как картинка, и очень юная. Сказала швейцару, что у нее прошение к петербургскому гостю, и застрелила Сахарова. После эсеры одного за другим убили двух начальников саратовского охранного отделения, причем второй, отлично понимая, что за ним ведется охота, заранее попросил Петра Аркадьевича позаботиться о семье, когда его не станет. Ну как могли террористы при этом обойти ниманием самого Столыпина? Однажды метнули в него бомбу, но что-то напутали, и бомба не взорвалась. В другой раз пытались застрелить, но Петр Аркадьевич вовремя заметил направленный на него из толпы револьвер и поступил в своем стиле: распахнул пальто, подставил грудь — стреляй! И террорист, совсем еще мальчишка, испугался и кинулся бежать.

Пожалуй, именно личное мужество вознесло Столыпина на вершину власти. Николаю II требовался человек, способный задавить революцию. И вот в апреле 1906 года, отправив прежнее правительство во главе с премьер-министром Витте в отставку, император вызвал Столыпина к себе в Царское Село и предложил портфель министра внутренних дел, а вскоре и премьер-министра. Петр Аркадьевич отказывался, но царь Николай сказал: «Я прошу, я даже приказываю вам принять этот пост».
А через четыре месяца случился взрыв на Аптекарском острове. Следствие установило, что теракт — дело рук московской организации «эсеров-максималистов». В полиции рвали на себе волосы: считалось, что «максималисты» у них под колпаком. Незадолго до трагедии один из лидеров этой организации, Соломон Рысс, был арестован и завербован в секретные агенты. Чтобы обставить его «побег из тюрьмы» как можно правдоподобнее, пожертвовали двумя полицейскими, их отправили на каторгу почти без вины — за то, что упустили опасного преступника (а как не упустить, если побегом руководили столь знающие люди?). И вот оказалось, что все напрасно: Рысс просто морочил полиции голову.
Решено было перевезти Столыпина с семьей в пустующий Зимний дворец, под усиленную охрану. Император-то с семьей безвылазно жил в Царском… Гулять Петру Аркадьевичу разрешалось только по крыше дворца. Если нужно было куда-то выехать, он брал с собой специальный портфель с вложенным стальным пуленепробиваемым листом, выполнявшим роль щита. Покушения на его жизнь продолжались. Однажды полиции стало известно, что террористы хотят подослать убийц на торжественное освящение нового медицинского института, где должны были присутствовать Столыпин и петербургский градоначальник фон дер Лауниц. Петра Аркадьевича уговорили не ехать. А фон дер Лауниц не внял предостережению и был убит.

В другой раз Столыпина спасло только чудо. Дело было на празднике воздухоплавания в авиаклубе. Петр Аркадьевич рассматривал летательные аппараты, разговаривал с летчиками (тогда их называли «летунами»). Спросил у одного, по фамилии Мациевич: «Скажите, а не страшно летать? Я хотел бы попробовать. Возьмете меня пассажиром?» Мациевич отчего-то побледнел и заволновался — на это не обратили внимание. Столыпину принесли шерстяной шлем и перчатки с широкими раструбами, помогли взобраться на сиденье сзади летчика. Самолет за 5 минут сделал два круга на высоте 20 метров и благополучно приземлился. А через два дня Мациевич разбился, выпав из самолета. При расследовании обстоятельств выяснилось, что летун… состоял в эсеровской организации. И составлял планы, как убить Столыпина. Но, когда ему внезапно представился случай, то ли не сумел направить самолет в пике, то ли сам погибать не захотел. За что эсеры и приговорили Мациевича к смерти, приказав совершить самоубийство…
С некоторых пор Столыпин сделался фаталистом и совсем перестал бояться. «Каждый вечер я благодарю Бога за лишний дарованный мне день. Я ясно чувствую, что когда-нибудь замысел убийцы, наконец, удастся», — записал он в дневнике. Замысел удался с 11-й попытки. Но прежде Столыпину предстояло совершить то великое дело, ради которого он был призван в Петербург. Дело преобразования страны.
О галстуках и вагонах
Для начала нужно было остановить революцию. Но Россия — не саратовская губерния, везде не поспеешь и одним только личным мужеством бунт не подавишь. А может, после взрыва на Аптекарском Петр Аркадьевич просто утратил изрядную долю былого идеализма и способности жалеть… Словом, он представил царю проект закона о военно-полевых судах над наиболее опасными преступниками и мятежниками. Предание суду происходило в течение 48 часов после ареста, а приговор приводился в исполнение не позднее чем через 24 часа. Чаще всего это была виселица. Таким образом казнено было 683 человека. Это не мало. Безсердечно и безсовестно было бы говорить, что мало. Но все-таки это не миллионы и даже не тысячи. Во всяком случае, с революцией было покончено…
Однажды в Государственной думе депутат Родичев позволил себе весьма смелую метафору, сказав, что потомки назовут виселицы военно-полевых судов «столыпинскими галстуками». Петр Аркадьевич немедленно вызвал Родичева на дуэль. Между прочим, если б зарвавшийся депутат принял вызов, Столыпину (тогда уже премьер-министру) пришлось бы уйти в отставку, поскольку глава правительства никак не может участвовать в столь незаконном деле, как дуэль. Но Родичев и не помышлял о том, чтобы стреляться. Вся Дума возмутилась его выходкой, и депутату ничего не оставалось, как принести официальное извинение. Столыпин выслушал, молча кивнул, но руки обидчику так и не подал.
На этот раз он вышел победителем. И произнес в Думе речь: «Государство обязано, когда оно в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Когда дом горит, господа, вы врываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его лечат, отравляя организм ядом. Россия, господа, сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов, применяющих самые чрезвычайные меры с одним только упованием — исцелить больного. Им, нашим врагам, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Эти слова вызвали громкую овацию…

Государь, напуганный революцией, предоставил Столыпину небывалые полномочия. И Петр Аркадьевич сумел ими воспользоваться. Он понимал, что одним насилием страну не оздоровить. И сделал многое, чтобы граждане почувствовали себя свободными в собственной стране. Отменил цензуру. Ввел закон, по которому закрывать газеты и журналы стало невозможно без решения суда. Уговорил государя не отказываться от идеи Государственной думы. Но главным делом Столыпина: тем, благодаря чему его имя прославилось в мире, была сельскохозяйственная реформа. Прежде всего нужно было освободить крестьян от власти общины, позволить им, ни у кого не спрашивая, покупать землю, получать паспорта и уезжать куда им угодно. Словом, действовать по собственному разумению, как это давно было заведено в европейских странах. Теперь крестьяне делались равноправными гражданами: их больше не могли выпороть или посадить в тюрьму без суда. Но даже это было не главное. Главное — дать людям земли, и побольше. Для этого Столыпин создал Крестьянский банк, который выкупал землю у помещиков и продавал крестьянам по низким ценам и в рассрочку (разницу покрывало государство). Впрочем, столыпинские реформы были выгодны только тем, кто хотел и умел работать на земле. «Когда мы пишем закон для всей страны, главное — иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых», — считал премьер-министр. По новому порядку даже в годы неурожая бесплатной помощи неимущим не предоставлялось. Их просто направляли на общественные работы (например, строить дороги), и так же поступали с теми, кто, взяв ссуду в Крестьянском банке, не мог потом расплатиться.

Столыпинский вагон
Столыпин просто дал людям возможность зарабатывать самим, и это принесло поразительные результаты! Хлеба Россия стала производить столько, что буквально завалила им Европу. Но все-таки на всех желающих работать свободной земли не хватало: слишком много еще было поместий и помещиков. И Столыпин задумал перевезти безземельных крестьян в Сибирь. Для этого и были придуманы специальные вагоны для переселенцев — в народе их окрестили «столыпинскими» (под арестантов эти вагоны переоборудовали только при советской власти). Это были теплушки, разделенные на две части: передняя для людей, «нарезана» перегородками вроде купе, задняя — пустая, для инвентаря и скота. Постройка таких вагонов обошлась казне в миллион с лишним, но дело, по мнению Петра Аркадьевича, того стоило. Кстати, переселенцы сами оплачивали проезд, причем по разному тарифу. Для тех, кто ехал в более или менее обжитые районы, билет стоил дороже. А вот в безлюдную глухомань — сущие копейки.
Беда в том, что проводить все эти реформы Столыпину не то что не помогали, а решительно мешали. И Государственный совет, состоявший из консерваторов, и Дума, в которой сильны были социалисты. Первым премьер-министр казался слишком «левым», вторым — слишком «правым». Пока Столыпина поддерживал государь император, на это можно было не оглядываться: Думу и Госсовет, когда с ними нельзя было договориться, просто распускали высочайшим указом, утверждали нужный закон, а потом объявляли новые выборы. Именно такой трюк был проделан в 1910 году, когда Дума и Государственный совет уперлись, не пропуская законопроект о земстве в западнорусских губерниях (Столыпину требовалось пройти между струйками, введя самоуправление в польских землях, при этом не допустив увеличения числа «сепаратистов»-поляков в выборных учреждениях). Роспуск III Думы рассорил Столыпина с чуть ли не единственным другом и соратником — Александром Гучковым, думским председателем. Но Петр Аркадьевич давно «забросил чепчик за мельницу», как выражались в его времена… Его уже ничто не могло ни напугать, ни остановить.



На этой фотографии Столыпин стоит спиной. Только он и крестьяне не обращают внимание на фотографа
Кроме, конечно, воли государя. Пока Его Величество еще помнил об ужасах революции 1905 года — он считал Столыпина своим спасителем. А вот когда страна благодаря усилиям Петра Аркадьевича успокоилась, Николай II заговорил по-другому: «Я не понимаю, о какой революции вы, Петр Аркадьевич, все вспоминаете. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция… Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые». Такой несправедливости премьер-министр никак не ожидал…
Всесильный старец
Тут сыграла роль и ревность к великой популярности Столыпина в Европе. Газеты много писали об «экономическом чуде», совершенном российским премьером. «Еще 10 лет, и Россию будет не догнать», — заключил в 1908 году французский аналитик. Сам же Столыпин был чуть менее оптимистичен: «Дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и процесс станет необратим»… История показала, что ни двадцати, ни десяти спокойных лет история России не отвела… А Столыпину она оставила и вовсе 3 года. Его дело (а, может, и его самого) погубили, похоже, эти самые восторженные газетные отзывы. Дело в том, что об императоре-то там почти не упоминали. Да что газеты! Даже германский император Вильгельм, приглашенный Николаем на завтрак на яхту «Штандарт», забыв про царя и, что еще хуже, про царицу Александру Федоровну, все время завтрака проговорил с одним только Столыпиным, и исключительно о преобразованиях в русской деревне. Этого Петру Аркадьевичу не простили. А вскоре, в том же 1909 году он нажил себе при дворе по-настоящему страшного врага.


Попытки поговорить с царем о том, что не стоит так уж приближать к себе Распутина и тем более слушать его советы по государственному управлению, ни к чему не привели. Как потом ни к чему не приводили многочисленные подобные попытки других людей, включая ближайшую родню царя: его мать, брата, кузенов, дядьев (вспомним, как пытался достучаться великий князь Николай Михайлович — прим.СДГ). Любящий муж Ники не мог пойти против своей женушки Алекс. Это, кстати, Александра Федоровна сама себя так именовала в многочисленных письмах: «твоя женушка». И она-то лучше всех знала, как следует управлять такой страной, как Россия.
Ничего не добившись у царя, Столыпин решил поговорить с самим «старцем», а тот… принялся его гипнотизировать. «Бегал по мне своими белесоватыми глазами, — рассказывал Петр Аркадьевич, — произносил какие-то загадочные и бесполезные изречения из Священного Писания, как-то необычно водил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей против меня.

Григорий Распутин
Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он на меня производит какое-то довольно сильное моральное влияние. Преодолев себя, я прикрикнул на него, что могу его раздавить в прах, предав суду по всей строгости закона о сектантах. И приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург, вернуться в свое село и больше не появляться». Распутин, уверенный в поддержке царской четы, решил, что премьер блефует. И тогда Столыпин на свой страх и риск выписал постановление на высылку «старца».
В этот день Распутин гостил в Царском Селе у своих августейших покровителей. Решили брать его по возвращении в Петербург, прямо на вокзале. Но этот человек обладал каким-то дьявольским чутьем. Увидев жандармов на перроне, он спрыгнул с поезда и, подобрав полы длинной шубы, кинулся к ждавшему его автомобилю. Преследователи не успели его остановить. Поехали к нему на квартиру, но туда Распутин больше не вернулся. Переночевал в великокняжеском дворце и на следующий день просто исчез из Петербурга. Объявился через несколько недель где-то в Сибири. Столыпин вздохнул с громадным облегчением и разорвал собственное постановление на арест, но, как выяснилось, преждевременно…

Скоро, очень скоро «старец» вернулся. И сделался по-настоящему всесилен. Именно тогда, после возвращения выяснилась его необъяснимая способность если не лечить, то во всяком случае облегчать гемофилию, которой страдал наследник престола, царевич Алексей. Следовательно, Столыпин был обречен. Так же, как и его реформы. А тут еще очередной законопроект провалился в Думе и Госсовете… Вдовствующая императрица Мария Федоровна взялась было помочь. Вызвала Петра Аркадьевича к себе во дворец. В дверях ее кабинета Столыпин столкнулся с царем: Николай утирал платком слезы и выглядел ужасно растерянным. Не здороваясь, он прошел мимо остолбеневшего премьер-министра. «Я передала моему сыну глубокое мое убеждение в том, что вы один имеете силу и возможность спасти Россию и вывести ее на верный путь», — объяснила состояние царя Мария Федоровна. Оказалось, Николай был не против пойти навстречу Столыпину и на этот раз, но… опасался гнева супруги. Дело ограничилось полумерами. Госсовет император усмирил. Думу разгонять не стал. Законопроект был провален…

У Таврического Дворца, где заседала Дума
Столыпину же государь дал понять, что на время, пока все не уляжется, присутствие премьер-министра в столице нежелательно. Тем более что наступило лето, мол, самое время Петру Аркадьевичу поехать отдохнуть в свое саратовское имение, привести в порядок хозяйство… Оскорбленный Столыпин так и сделал.
Проворонили?
Это лето 1911 года было, пожалуй, даже счастливым. Петр Аркадьевич, наконец, получил долгожданную возможность побыть с семьей. К тому же он писал новый законопроект, рассчитывая, что вскоре его влияние при дворе восстановится и еще многое удастся сделать… Будущее России Столыпин видел в приближении политического устройства к системе Соединенных Штатов Америки (с той же мерой самоуправления в губерниях), только с царем во главе. Кстати, именно эту страну он считал единственным серьезным союзником России, не доверяя европейским государствам. Рассчитывал в ближайшее время отправиться в Вашингтон…
Но для начала ему предстояло съездить в Киев на торжества по случаю открытия памятника Александру II. Туда съехался весь Петербург во главе с императором — его Петр Аркадьевич не видел с начала лета…

Скачать видео
Столыпин и государь в Киеве на вокзале, август 1911 г. Эпизод док.фильма Игоря Малахова «Своя доля. Сон»
И вот утром 29 августа царский поезд остановился на вокзале в Киеве. Встретившись со Столыпиным, Николай кивнул ему довольно сухо. Вместе они поприветствовали встречающих, после чего царская семья покинула вокзал. Места в экипажах императорского кортежа Петру Аркадьевичу не нашлось. Что ж, премьер-министр пошел нанимать извозчика. Хорошо еще городской голова увидел это унижение и уступил Столыпину свою карету. В этот же день Распутин, увидев Петра Аркадьевича, вдруг завопил: «Смерть за ним! Смерть идет!.. За Петром… за ним…» Все это было безобразно, неприлично, отвратительно…
В частной беседе Столыпин жаловался: «Я чувствую себя здесь как татарин вместо гостя. Мое положение поколеблено, и из отпуска я, видимо, уже не вернусь в Петербург ни председателем Совета министров, ни министром». Но на людях он виду не подавал и участвовал во всех официальных мероприятиях, сохраняя спокойствие и достоинство, будто тучи вовсе не сгустились над его головой…



1 сентября 1911 г. На Владимирской горке за 5-6 часов до рокового выстрела (кадр из последней кинохроники, запечатлевшей Столыпина живым. Возможно — просто последний его кадр)
Первого сентября с утра смотрели маневры, затем поехали на ипподром, вечером — в театр на парадное представление оперы Римского-Корсакова «Сказание о Царе Салтане». Столыпин приехал в театр рано, не спеша поднялся по лестнице, поздоровался с киевским губернатором, который зачем-то спросил: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди?» «Этот крест мной получен от Саратовского управления Красного Креста, который я возглавлял во время японской войны», — ответил Столыпин. В ложу, отведенную Совету министров, он не пошел. Сказал: «Без разрешения министра двора я сюда войти не могу, а он еще не приехал». Сел в партере, в первом ряду, недалеко от царской ложи. Впрочем, Николай с дочерьми Ольгой и Татьяной прибыли лишь через полтора часа.
В Киеве были лучшие оперные певцы, и в тот вечер они превзошли сами себя. Устав аплодировать, публика двинулась к выходу, а Петр Аркадьевич, разговорившись с попечителем киевского учебного округа, остался на месте. Он стоял, облокотившись на барьер оркестровой ямы, лицом к залу и видел, как наперекор текущей к дверям толпе идет высокий молодой человек в черном фраке и афишей в руках. Его фрак выглядел несколько странно — почти все присутствующие господа явились в театр в белых мундирах. Дойдя до второго ряда, незнакомец остановился. Оказалось, под афишей он скрывал браунинг. Раздались два выстрела. Публика замерла. Петр Аркадьевич опустил голову и с удивлением посмотрел на свой белый китель, на котором расцветало красное пятно. Потом перевел взгляд на царя, остолбеневшего в своей ложе, и сделал рукой какое-то движение, будто перекрестил… И после уже рухнул в кресло без чувств. Убийца тем временем, воспользовавшись всеобщей растерянностью, затесался в толпу и двинулся к выходу. Его схватили только в самых дверях…

убийца Столыпина Дмитрий Богров
На допросе выяснилось, что стрелявшего зовут Дмитрий Богров, ему 24 года от роду, он студент университета, а его отец — присяжный поверенный и богатый домовладелец. «Покушение на жизнь Столыпина произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, — охотно разъяснил Богров. — Действовал я один и по собственному разумению». Утром он, оказывается, написал родителям письмо: «Дорогие мои, милые папа и мама. Знаю, что вас страшно огорчит и поразит тот удар, который я вам наношу. Но я знаю вас за людей, которые все могут понять и простить. Простите же и меня, если я совершаю поступок, противный вашим убеждениям. Но спокойная жизнь не для меня, и, если бы я даже и сделал хорошую карьеру, я все равно кончил бы тем же, чем теперь кончаю. Целую много, много раз. Митя». Оставался только один вопрос: как этот Митя попал в театр, закрытый в тот вечер для публики? И тут-то выяснилась поразительная вещь!
Оказалось, что билет террористу дал… глава киевского охранного отделения Кулябко. Да еще и с ведома трех высокопоставленных петербургских спецслужбистов, прибывших в Киев специально для обеспечения безопасности императора и приближенных: вице-директора Департамента полиции, главноначальствующего корпуса жандармов и начальника тайной дворцовой полиции (фамилии этих троих Веригин, Курлов и Спиридонович). Что это было: странная доверчивость, преступная халатность или заговор — до сих пор не знает никто. Известно, впрочем, что теоретически у двоих из трех тех самых высокопоставленных спецслужбистов были свои причины опасаться возвращения Столыпина в Петербург: накануне своей полуотставки премьер-министр отдал приказ о финансовых проверках в полиции.
В своих объяснениях эти люди сообщили: незадолго до торжеств к Кулябко явился Богров, некогда сотрудничавший с охранкой в качестве тайного осведомителя. Богров был связан с эсерами и в свое время помог засадить в тюрьму нескольких боевиков. Вот, мол, и теперь он пришел, чтобы сдать товарищей по партии. Якобы из-за границы приехал некий эсер, специально чтобы убить Столыпина. И охранка затеяла игру, в надежде выявить всю сеть заговорщиков… В театр Богрова послали для того, чтобы он опознал среди публики террориста. Ни перепроверять информацию, ни следить за Богровым, ни хотя бы обыскивать его перед входом никто не стал. Хотя секретных сотрудников из числа революционеров строжайше запрещалось допускать в те места, где находились высокопоставленные лица, и на то имелась специальная инструкция — больно много было случаев, когда такие агенты совершали обратное предательство…
Через пять дней Петр Аркадьевич умер в клинике. У него была задета печень, а подобные раны тогда лечить не умели. Богрова повесили в ночь с 11-го на 12 сентября — поразительно быстро закончилось расследование и суд. Гучков с Думской трибуны требовал расследования. Он-то не сомневался в том, что за всем этим стоит Распутин или его покровители. Как бы то ни было, всех четверых начальников, повинных в случившемся, за халатность отстранили от должностей. Причем Курлов, Спиридонович и Веригин со временем вернулись на службу и заняли должности хоть и поскромнее прежних, но все же неплохие. И только Кулябко остался не у дел и переквалифицировался в агенты по продаже швейных машин «Зингер»…
А через два года в Киеве, напротив Городской думы, поставили памятник Столыпину. Деньги на него собирали всем миром. Скульптора пригласили того же самого, что делал памятник Александру II, на открытии которого все и произошло. Этот скульптор видел Столыпина в день гибели, хорошо запомнил его и сумел передать сходство. На постаменте решено было высечь некоторые высказывания Петра Аркадьевича. В том числе: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Впрочем, в 1917-м этот памятник снесли…
Ирина Стрельникова
#совсемдругойгород

Памятник Столыпину в Киеве

Этот памятник разрушили в 1917 году, соорудив устройство вроде виселицы. На долгие годы имя Петра Аркадьевича Столыпина стало ассоциироваться с галстуками и вагонами, которые вовсе не он сделал арестантскими

|
Метки: столыпины |
АМЕРИКАНСКИЙ ПОТОМОК СТОЛЫПИНА |
26.03.2008: АМЕРИКАНСКИЙ ПОТОМОК СТОЛЫПИНА

Прадед этого человека погиб в 1911 году, но его наследие и память о нём сохраняют не только родственники, но и самые разные люди, в разных странах мира.
Правнук Петра Аркадьевича Столыпина Николай Владимирович Случевский родился в Сан-Франциско, в Калифорнии, уже после войны и долгих мытарств семьи. Бабушкой его была старшая дочь Столыпина Мария Петровна, проживавшая после революции в Литве. В 1936 г. она с мужем, Борисом Ивановичем фон Бок, и дочерью Екатериной, будущей матерью Николая, отправились в Японию в гости к брату мужа о. Николаю фон Бок, иезуиту и профессору, до революции бывшему посланником России в Ватикане (кстати, книга его воспоминаий «Россия и Ватикан накануне революции: воспоминания дипломата» вышла в Нью-Йорке в 1962 г. в издательстве Фордамского университета, а Б.И. публиковал свои воспоминания о службе на флоте в Японскую войну в сборнике «Порт Артур», вышедшем в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова в 1955 г.). В Японии они провели почти три года, а когда собрались вернуться домой в Литву, только что подписанный план Молотова-Риббентропа сделал это невозможным.
«Семья поехала в Польшу, где приобрели имение «Франческова» и жили там до 1945 г. Там же моя мать вышла замуж первым браком, - рассказывает Николай, - и родился мой сводный брат, Герман фон Ренненкампфф. В 1945 г. муж Екатерины скончался, а семья была вынуждена бежать перед приходом немецкой, а позже советской армий. Во второй раз за менее чем 10 лет они вновь потеряли свой дом и имущество.
Они оказались в Австрии, где моя мать вышла замуж вторым браком за моего отца, Владимира, внука поэта Константина Случевского. А в 1948 г. семья бежала в Германию и попала в лагерь т.н. ди-пи (перемещенных лиц) в Мюнхене. Это был их третий и последний побег».
Так, многие эмигранты первой волны, бежавшие от советской армии из стран Восточной Европы, стали эмигрантами второй волны.
Однако на этом скитания семьи не закончились: в 1948 году они смогли уехать в Америку, в Сан-Франциско, где и родился Николай. Как и многим эмигрантам, не знающим языка, его родителям пришлось идти на первые попавшиеся работы; помощи ждать было неоткуда. Но уже в 1955 году отец устроился на работу по специальности инженера-механика в небольшом городке Конкорд вблизи Сан-Франциско.
Там не было русских, рассказывает Н. Случевский, и по воскресеньям я ездил в Сан-Франциско в приходскую школу при православной церкви. Мне это, конечно, не нравилось, так как я предпочитал проводить уикэнд, играя со сверстниками.
Благодаря учебе он сейчас прекрасно говорит по-русски, без всякого акцента. Знание русского языка помогло ему по окончании университета получить работу в 1994 году во французской коммерческой фирме «Рэми-Куантро груп» в Алма-Ате. А позже он занялся инвестиционным капиталом уже в России и часто ездит на родину своих предков.
Скончалась Мария Петровна в 1985 году в возрасте 99 лет в Сан-Франциско и похоронена рядом с мужем на сербском кладбище, где покоятся многие русские.
Николай сказал, что бабушка издала в Америке книгу «Воспоминания о моём отце, П. А. Столыпине». А в моей двухтомной «Библиографии русской зарубежной литературы, 1918-1968 г.» обозначено, что книга вышла в Нью-Йорке, в изд-ве им. Чехова, 1953, 347 стр. Указано, что она есть и в Гарварде, и в Библиотеке Конгресса. А в 1970 г. в Нью-Джерси вышел английский перевод.
- Николай, Вы говорили, что в России сейчас существуют два фонда с именем Столыпина. Почему два и чем они занимаются?
- Один из них входит в инвестиционный фонд – UFG Assets Management - бывшего министра финансов РФ Бориса Фёдорова. Думаю, что он так назвал фонд, будучи поклонником Столыпина. Он написал биографию Петра Аркадьевича, получившую признание даже от президента Путина. Фонд вкладывает иностранные и отечественные инвестиции в российскую экономику и управляет ими.
Второй - Фонд изучения наследия Столыпина - был организован в 2001 году в Москве. Он занимается чисто историческими и научными вопросами. Его основатель и председатель - Павел Анатольевич Пожигайло, а в совет директоров входит академик Валентин Валентинович Шелохаев. Цель этого фонда - знакомить учёных и политиков с программами столыпинских реформ. За это время было издано уже 13 исторических исследований. Устраиваются ежегодные съезды и встречи с людьми, которые интересуются реформами Петра Аркадьевича.
С законодательством этих реформ знакомы как нынешний президент РФ В. Путин, так и первый вице-премьер Д. Медведев - вновь избранный президент России. А также целый ряд интеллектуалов нового поколения, как, например, член Совета Федерации Михаил Маргелов. На меня они смотрят не только как на «потомка Столыпина», но и как на часть истории России.
- Так что Ваши частые поездки в Россию имеют двойную цель: деловую и историческую?
- А также и семейную: у меня в России есть родственники как со стороны Столыпиных, так и со стороны Случевских. В общем же, я считаю, что все мы, кому дорога Россия, должны сотрудничать и больше принимать участие в реформировании страны. Сегодня многие историки и наблюдатели считают, что старую Россию погубили не столыпинские реформы, а, наоборот, его убийство и прекращение его реформ.
- А ведь т.н. «архитекторы ельцинских реформ», Гайдар, Чубайс, прекрасно знакомы с реформами Столыпина, как было видно из их заявлений в документальном фильме Николая Сванидзе.
- Недавно мне представилась возможность спросить г-на Гайдара в частном разговоре: А не говорят ли ему, как когда-то говорили Керенскому: « Вот человек, который погубил Россию»? На что он обтекаемо ответил: «Да, всякое говорят».
- Николай, а как Вы думаете, почему ельцинские реформаторы не пошли по следу ТЕХ реформ?
- Распад Советского Союза был не столько политическим явлением, сколь экономическим. И если взглянуть на него под этим углом, то многое станет более логичным, так как цели экономических перемен фундаментально отличаются от целей реформ политических. Определённые лица извлекли невероятные блага из экономической либерализации, чему способствовало отсутствие крепкой юридической структуры. А страна много потеряла. Я бы сказал, что, судя по последствиям этой массивной «либерализации», такие реформы в отличие от столыпинских соответствовали интересам не широких масс, а финансовым интересам ряда могущественных лиц. Хотя в это время и находились серьёзные политические реформаторы, их голоса заглушили более влиятельные оппоненты при огромной помощи Запада. Нечто похожее на то, что произошло во время революции 1917 г.
- А есть у Вас какие-либо планы на будущее сотрудничество?
- У меня сейчас два проекта. Первый - это создание инвестиционного фонда с целью предоставления капитала для развития сети российских железных дорог. И второй - безприбыльный проект создать исследовательский центр, названный в честь моего прадеда, для изучения процесса реформ и того, как этот процесс подойдёт сегодняшней России.
На этом я поблагодарила Николая Случевского и пожелала ему успехов.
Людмила ФОСТЕР,
Вашингтон
|
Метки: столыпины |
Граф В.Б. Фредерикс и дом на Почтамтской |
Граф В.Б. Фредерикс и дом на Почтамтской
ПУТЯМИ И ЗАКОУЛКАМИ РЕВОЛЮЦИИ

Столетие Февраля 1917 г. и падения дома Романовых прошло в Санкт-Петербурге практически незамеченным. Сбылось с ошеломляющей точностью предсказание великого нашего поэта-мистика
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...
а в сознании народном год русской катастрофы по-прежнему ассоциируется с роммовской киномассовкой на Дворцовой. В ноябре нас наверняка порадуют яркими и красочными шоу.
Очень странно другое — переломный момент отечественной истории почти не оставил памятников, равно как и следов в городской топонимике. Марсово поле… но там еще Володарского и много кого похоронили. Площадь и улица Восстания — но все считают, что речь идет опять-таки об октябре.
Самое время проявить краеведческую активность в поисках следов «великой бескровной» Февральской революции. Что и сделал автор этих строк. Это рассказ об одном ее необычном памятнике. А также о графе Владимире Борисовиче Фредериксе (1838-1927), последнем Министре Императорского Двора Российской Империи. Он вошел в российскую историю как тот, кто скрепил своей подписью манифест об отречении императора Николая II от престола (если верить учебникам и Википедии).
Иногда так случается: ухватишься за ниточку, начинаешь ее тянуть и размотаешь такой клубок, что становится как-то не по себе. Спешу поделиться найденным.
ПЕРВООБРАЗ ШТУРМА ЗИМНЕГО
Улица Почтамтская находится в самом центре Петербурга, рядом с Исаакиевским собором, Манежем и казармами Л.-гв. Конного полка. В самом ее конце на углу с Конногвардейским переулком стоит дом № 23/8 (фото в заголовке поста). Был он возведен в 1936 г. по проекту арх. А.И. Князева и Б.А. Михайлова и являет собой, по сути, проходной образец конструктивизма.

Необычна только облицовка из красного песчаника цоколя постройки; говорят, что камень для нее был взят из разобранной ограды Зимнего дворца.

Дом с виду какой-то неухоженный и неуютный. Сейчас его занимает общежитие Санкт-Петербургского Почтамта.
 |
 |
Он явно не вписался в городскую ткань XIX в. и смотрится здесь несколько диковато. Какое же отношение он имеет к февралю 1917 г.?
Обратимся к воспоминаниям ген.-лейтенанта и нач.канцелярии Министерства Императорского двора А.А. Мосолова «При дворе последнего императора»:
«Петербург был единственною столицею конца XIX в., где еще имелись казармы в центре города. Конногвардейские казармы занимали громадную площадь, представляя собой фундаментальную постройку с трех сторон огромного плаца, на котором производились учения и протекала вообще вся жизнь полка.
Как раз напротив, на Почтамтской улице, стоял небольшой красивый особняк, принадлежавший графу Фредериксу. <...> Он был первым сожженным толпою в начальный день революции — это было первое насильственное уничтожение частной собственности».
Для уточнения места знакового события найдем адрес В.Б. Фредерикса по справочнику ВП за 1911 г.

Нумерация домов здесь не менялась, и новодел на Почтамтской № 23/8 был построен аккурат на фундаменте разгромленного в февральские дни особняка Фредерикса. По случаю первого уничтожения частной собственности не грех бы сюда и памятную доску повесить.
«Граф был очень привязан к своему дому и ни за что не хотел его покидать. Графиня как-то при мне говорила мужу, что неудобно министру двора не быть в состоянии сделать у себя за неимением подходящего зала большого приема, как то устраивают министры, живущие в казенных помещениях. Фредерикс возразил:
— Верно. Но зато тебе не придется переезжать, когда меня уволят с должности, и будешь по-прежнему принимать друзей в твоих пяти гостиных. Думаю, что спокойствие за будущее приятнее, чем возня с устройством больших приемов.
Он, как и все мы, не мог думать, что через десяток лет никто из всех нас не будет в состоянии считать себя обеспеченным».
Как же выглядел особняк графа?
Его можно разглядеть на этом старом фото (он крайний справа). Интересно, что тут же на плацу находятся скульптуры Диоскуров, они были перемещены ко входу в здание Манежа только в 1954 г.

Каменщики на плацу лейб-гвардии Конного полка. Фото из ателье К. Буллы. 1900 г.
Дом Фредерикса, построенный в 1875 г. по проекту арх. П.П. Шрейбера, отличался «формами самого изысканного ренессанса». «Фасад весьма хорош,— писал журнал «Зодчий» в 1975 г., — только украшением аттиков вазами в излишнем изобилии автор повредил своему произведению, тем более, что эти вазы (Louis XVI) уже имеются на многих петербургских домах».
А вот что с ним стало после революционного разгрома.

источник
Чем же так допёк революционеров Министр Двора, 79-летний больной старик? Для ответа на этот вопрос надо обратиться к его биографии.
OLD GENTLEMAN
Владимир Борисович Фредерикс родился 16 ноября 1838 г. в Санкт-Петербурге и был потомком шведского
офицера, взятого в плен войсками Петра I. Дед его был придворным банкиром, а отец — генералом. Прожил он долгую жизнь при 4-х российских императорах (от Николая I до Николая II). Получил блестящее образование и начал воинскую службу 18-летним юношей в Л.-гв. Конном полку.
В 1871 г. он получил должность флигель-адъютанта императора Александра II. При Александре III он занял должность помощника министра Императорского двора и уделов. В 1897 г. указом императора Николая II он был назначен министром Императорского двора. Данное ведомство, созданное в 1826 г., находилось вне контроля Сената и других высших органов власти и подчинялось исключительно императору.
В 1900 г. Фредерикс был произведён в генералы от кавалерии, а через пять лет стал членом Государственного Совета и командующим главной квартирой императора. С этого периода и вплоть до марта 1917 г. он являлся одним из наиболее приближённых к государю, неизменно сопровождая его в поездках.

В.Б. Фредерикс. Худ. И.Е. Репин, этюд для картины «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 г.»
С созданием в 1909 г. Императорского российского автомобильного общества (ИРАО) Фредерикс был назначен его президентом. Высокое положение его при государевом дворе и полное доверие императора обеспечивали большое влияние ИРАО на развитие автомобилизма и спорта в России.

В.Б. Фредерикс (сидит впереди, рядом с водителем) в автомобиле Бразье. Сзади его дочь Евгения и зять В.Н. Воейков
Высочайшею грамотою от 10 апреля 1916 г. Фредерикс был пожалован бриллиантами, украшенными соединенными портретами императоров Александра II, Александра III и Николая II на Андреевской ленте в честь 60-летия службы в Л.-гв. Конном полку и 25-летия службы на высших должностях при дворе. Послужной список его наград впечатляет: Российских орденов - 11, иностранных орденов - 49.
Царская чета очень любила министра и называла его Old Gentleman. Генерал Н.А. Епанчин писал о В.Б. Фредериксе, что он «человек глубоко благородный, рыцарь; он никого не боялся и всегда говорил правду, безразлично, нравилось ли это или нет». Отношение С.Ю. Витте к нему было неоднозначным: «Прекраснейший, благороднейший и честнейший человек, - но и только. Впрочем, этого вообще, а в особенности по нынешним временам, очень много …». В то же время Витте невысоко ценил деловые способности министра двора: «Фредерикс по части понимания дел был совсем плох, ему трудно было усвоить не только рассуждения, но и самые простые факты». Тем не менее они оставались в хороших отношениях, В.Б. Фредерикс был единственным лицом из придворной среды, пришедшим навестить С.Ю. Витте после покушения на него зимой 1907 г.
К моменту Февральской революции В.Б. Фредерикс стал страдать потерей памяти. Влияния на императора он не имел, но пользовался его полным доверием, о чем его подчинённый А. А. Мосолов писал: «Моральное одиночество, наложенное на себя царём с юного возраста, было тем более опасным, что Николай II относился недоверчиво даже к лицам ближайшего окружения. Один граф Фредерикс являлся исключением».

В.Б. Фредерикс, министр императорского двора при Николае II. Фото К. Буллы. 1913 г.
В.Б. Фредерикс был женат на Ядвиге Алоизиевне Богушевской, дочери генерал-майора. У них было две дочери: Евгения и Эмма. На старшей, Евгении, был женат В.Н. Воейков (1868-1947), дворцовый комендант императора Николая II. В своей книге воспоминаний «С царем и без царя», изданной в 1936 г. в Хельсинки, он описал революционный разгром дома своего тестя 27-28 февраля 1917 г. По сути, его причинами явились «нерусская» фамилия графа и размещение в конногвардейских казармах солдат Кексгольмского полка.
«Самым удобным лозунгом для агитаторов того времени было возбуждение толпы против немецких фамилий, к которым ошибочно (т. к. его фамилия - шведского происхождения) был причислен и граф Фредерикс. Выдав его кроме того за немецкого шпиона и предателя нашей родины, провокаторы достигли того, что 27 февраля с 10-ти часов вечера солдаты Кексгольмского полка начали собираться около дома, смотреть на крышу, на которой якобы находились пулеметы для стрельбы в народ, и, наконец, стали стрелять в нижнее окно, пробив внутреннюю ставню.
До двух часов ночи продолжалась осада дома, в котором находилась лежавшая в постели больная графиня, при ней были две ее дочери - моя жена и графиня Фредерикс, с растерявшейся прислугой. В два часа солдаты ушли и на улице наступила тишина, давшая обитателям дома надежду, что все кончено. Но с 8-ми часов утра следующего дня улица опять наполнилась совершенно недисциплинированными солдатами, из которых человек 10-15 стали у входной двери, с ружьями наперевес, требуя, чтобы их впустили в дом, где они якобы должны найти и отобрать находившееся оружие и скрытые пулеметы. Под этим предлогом в дом стали входить солдаты кучками по 15-20 человек; к ним присоединились какие-то матросы, выпущенные из тюрем арестанты и, наконец, просто прохожие с улицы. В результате дом графа Фредерикса оказался наводненным толпой около тысячи человек.<...>
Несмотря на зажигательные речи революционных ораторов, толпа вначале как бы стеснялась предаваться открытому грабежу, видя одних беззащитных женщин и находившуюся при смерти графиню.
Но это было до того момента, когда они ворвались в винный погреб, где дрались из-за бутылок, выхватывая их друг у друга, толкая, отпихивая ногами упавших. Пьяные сваливались тут же; по ним, как большие серые крысы, ползли полупьяные, а державшиеся еще на ногах заполнили весь двор. Еле удалось вынести умиравшую графиню из совершенно разграбленного дома, который толпа, в конце концов подожгла со всех сторон».

Худ. И.А. Владимиров. Революция (зарисовки из альбома, 1917)
Мемуаристы отмечают активную роль в этом погроме знаменитого актера Мамонта Дальского. Он не побрезговал присвоить пару чучел громадных сибирских медведей и впоследствии хвастал перед гостями вещами из дома графа Фредерикса. Корреспондент «Таймс» дополняет картину красочным эпизодом: ослабевшая после болезни дочь графа сумела выбежать из дома со своей любимой собакой на руках. Пьяная толпа схватила женщину на улице, избила ее, а собаку жестоко убила.
Сам гр. В.Б. Фредерикс был арестован в первых числах марта 1917 г., по-видимому, в Могилеве, а затем по личному приказу А.Ф. Керенского и А.И. Гучкова доставлен в Таврический Дворец, где допрашивался следователями Чрезвычайной Следственной комиссии. После чего «за неимением вины» был освобождён и долгое время пребывал на лечении в Евангелической больнице. Затем безвыездно жил в Петрограде.
В 1924 г. он обратился к советскому правительству с просьбой о выезде за границу. Получив разрешение, вместе с дочерью выехал в том же году в Финляндию. Поселился в своем имении неподалеку от городка Кауниайнен.
Владимир Борисович скончался 5 июля 1927 г. в возрасте 88 лет. Похоронен на городском кладбище Кауниайнена (сегодня это город-спутник Хельсинки). Позже туда же были перезахоронены его дочь Евгения и зять В.Н. Воейков. В этой могиле сейчас покоится прах двух российских генералов.
 |
 |
Могила семьи Фредерикс на кладбище г. Кауниайнен. Снимки любезно предоставлены Николаем Тарунтаевым 
ПОДДЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ ГРАФА ФРЕДЕРИКСА НА «ОТРЕЧЕНИИ» ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Многие, наверное, видели этот постановочный рисунок «Отречение Николая II». Он с давних времен гуляет по сети, оригинал, кажется, находится в Гос. Историческом музее.

В салон-вагоне Царского поезда. Псков 2.03.1917 г.
Слева направо гр. В.Б. Фредерикс, ген.-адъютант Н.В. Рузский, депутаты Госдумы В.В. Шульгин и А.И. Гучков, флигель-адъютант ген.-майор К.А. Нарышкин, император Николай II.
Существует точка зрения, что Фредерикса на этой картинке быть не должно. Она весьма убедительно изложена блогером nampuom_pycu .
На допросе, проведенном Чрезвычайной Следственной Комиссией Временного Правительства, Фредерикс заявил, что не находился в момент отречения при Государе, ещё до 2.03.1917 г. выехал в Петроград и был арестован. Сканы стенографического отчёта допроса прилагаются там же.
Для того, чтобы графа не было в то время рядом с Николаем II, были две веские причины. Первую высказал сам Государь: «Есть сведения, что Вас хотят арестовать. Для меня это было бы ещё лишним оскорблением, если бы в моём доме кого-нибудь арестовали, особенно моего министра двора. Поэтому Вы сделаете мне одолжение, если выедете в Петроград».
На что Фредерикс ответил: «Мне ужасно больно, Ваше Императорское Величество, в такую минуту Вас бросить, но я сегодня же уеду». В тот же день Фредерикс уехал, и в Могилеве (?) его всё же арестовали.
Вторая и наиболее убедительная причина, по которой Фредерикс должен был ехать в Петроград — то, с чего мы начинали наш рассказ, разграбление и сожжение его дома 27-28.02.1917 г.
С 23.02 император и гр. Фредерикс находились в Ставке в г. Могилеве. Информация о беспорядках в столице стала поступать туда с 26.02. Поезд императора покинул Ставку в 4-30 утра 28.02. С очень высокой вероятностью можно утверждать, что уже вечером 27.02 граф Фредерикс узнал о вооруженном нападении на свое семейное гнездо. Дальнейшие его действия становятся вполне понятными.
Следует отметить, что судьба графини и его дочерей выяснилась далеко не сразу. Когда банды мародеров ворвались в дом на Почтамтской, больную Ядвигу Фредерикс, закутав наскоро в два одеяла, верный слуга перенес в квартиру Марии фон Гартман, подруги ее дочери. Но Гартман, терроризированная солдатней и своей прислугой, не смогла ее принять. Дочь Эмма, сопровождавшая пешком свою мать, будучи сама больной, решила устроить её в английский госпиталь. Когда лакей на руках принес туда графиню, английский посол Дж. Бьюкенен им отказал (что в очередной раз подтверждает просто космическую подлость этого человека). Тогда Эмма решила перенести свою мать к своему учителю музыки итальянцу Капри, принявшему их с большой радостью. В конце концов, супруга графа, вероятно не без чьей-то помощи, была помещена в Конногвардейский госпиталь.
Был ли Фредерикс в царском поезде, если да, то когда и где он его покинул – эти вопросы остаются открытыми. Не вызывает сомнений только одно – заверительная подпись гр. Фредерикса на акте об «отречении» Николая II подделана. Вот так она выглядит:

Министр Двора обладал превосходным, отточенным десятилетиями службы каллиграфическим почерком, чего невозможно сказать об этой подписи, неуверенно наведённой чернилами поверх карандаша либо перекопированной.
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК МАНИФЕСТ?
От разгромленного дома графа мы плавно перетекли к болезненному для отечественной истории вопросу. Допустим, граф Фредерикс был забывчив пред лицом Следственной Комисии, присутствовал в вагоне царского поезда 2.03.1917 г. и своей подписью заверил Высочайший манифест об отречении Николая II. «Эти манифесты были, наконец, около часу ночи переписаны, как их от государя принесли в купэ к графу Фредериксу и с каким отчаянием бедный старик, справляясь с трудом, дрожащей рукою их очень долго подписывал»,— писал в своих воспоминаниях полковник А.А. Мордвинов.
Википедия приводит нам картинку манифеста, взятую из газет.

Вот только его оригинала никто не видел. Потому, что его не существовало в природе, и об этом уже писалось многократно. Единственный подлинный документ об «отречении» Николая II хранится в Гос. архиве Российской Федерации (ГА РФ, ф. 601, оп. 1, д. 2100а, л. 5) и выглядит несколько иначе: машинописный текст на бланке из 2-х половин, склеенных папиросной бумагой, с загадочной шапкой «Ставка. Начальнику Штаба».
Кусок сего документа с «подписью» Фредерикса мы уже видели выше.

Результаты его независимой экспертизы, проведенной в июле 2015 г., приводит в другом своем блоге блогер nampuom_pycu.
Вот основные моменты: а) на линии раздела бланка следы клея; б) текст выше и ниже линии напечатан в разное время и разными людьми (сила удара по клавишам машинки заметно отличается); в) название места составления документа «Г.Псковъ.» впечатано на пишущей машинке с другим шрифтом; г) даты подчищены и исправлены; д) заверительная подпись расплывается – либо ее наносили чернилами на сырую бумагу, либо она была механически перекопирована через покрытую влажным желатином поверхность, через поверхность белка сваренного «вкрутую» куриного яйца или иным аналогичным кустарным способом.
Теперь ответьте на вопрос, если у вас есть документ такого качества, хотя бы свидетельство о собственности на дровяной сарай в деревне Малое Собакино, примет ли его хоть один нотариус?
Посему как-то обидно читать у друзей-блогеров такое: «в июле 1918 г. был расстрелян гражданин Николай Александрович Романов. Не царь, ни император, а простой и равный всем остальным жителям России гражданин, который отрёкся от престола ещё в марте 1917 г. Мало того, он сделал это ещё и за своего несовершеннолетнего сына. Уже этот факт ставит под сомнение фиктивный термин «цареубийство».
Фиктивная бумажка не ставит под сомнение, а лишний раз подтверждает цареубийство. «Не прикасайтеся помазанным Моим, и во пророцех Моих не лукавнуйте» (Пс. 104:15). Де-факто мы имеем: действие нескольких групп заговорщиков, дезинформацию и изоляцию монарха, а с 4.03.1917 г. (приезд в Ставку депутата Бубликова со товарищи) – насильственное лишение его свободы. Официально Николая II и его супругу арестовали 7.03.1917 г. и позже отправили в ссылку. Не дав ему сло́ва и даже возможности пообщаться с вездесущей прессой.
Можете считать это растянутым во времени или «гибридным» цареубийством.
Продираться сквозь вековую коросту разных выдумок, покрывшую 1917 г., дело почти безнадежное. Вопросов остается много. И что-то мне подсказывает, что вместо ответов на них мы в очередной раз услышим мантры о примирении белых и красных, богатых и бедных, умных и глупых.

Худ. И.А. Владимиров. Революция (зарисовки из альбома, 1917)
З.Ы. Тем, кого тема «отречения» заинтересовала, рекомендую заглянуть в этот журнал. Версия там не бесспорная, но вполне правдоподобная и многое объясняющая (обратите внимание на личность и роль Вел. князя Николая Николаевича Мл.).
Источники (помимо указанных в тексте):
Сайт Архитектура Петербурга .
Николай Тарунтаев. Тайна одного захоронения. СПЕКТР Российско-Финская газета, № 5, 2011 г.
Авторские фото апрель 2017 г.
|
Метки: фредерикс дворянские владения |
Последний парад крейсера "Новик" |
Последний парад крейсера "Новик"

В ходе русско-японской войны 1904 -1905 гг. флот Российской империи понёс катастрофические потери. При этом, на фоне общего поражения русского флота, удалось отличиться некоторым русским кораблям, незаурядным для своего времени. Одним из них был крейсер 2-го ранга «Новик», который своим участием в боевых действиях оказал большое влияние на развитие класса крейсеров.
Бронепалубный крейсер 2 ранга "Новик" был построен в 1901 году в в Данциге (Германия) известной судостроительной фирмой "Шихау", выигравшей в 1898 году конкурс русского Морского ведомства на постройку быстроходного крейсера-разведчика для русской Тихоокеанской эскадры. Новые крейсера 2-го ранга должны были выполнять различные боевые задачи при эскадре - разведочная и посыльная служба, защита эскадры от минных (торпедных) атак противника, огневая поддержка атак своих миноносцев. Не исключилась возможность участия и в крейсерских операциях на коммуникациях неприятеля.
Крейсер "Новик" во время испытаний в Германии, 1901-1902 годы
Главной особенностью крейсера водоизмещением 3000 тонн должна была быть скорость - 25 узлов. Такой необычайно высокой скоростью в то время не обладал ни один крейсер мира. Благодаря своей высокой скорости новый крейсер должен был иметь возможность уйти от любого крейсера противника. Такой корабль мог бы «перехватить» отряд неприятельских миноносцев и артиллерийским огнём заставить их отказаться от минной атаки. Крейсер не стеснял бы скоростью и свои миноносцы, прикрывая их атаки. Следует признать удачным и выбор калибра основной артиллерии. 120-мм орудия были оптимальными для отбития минной атаки и позволяли, в случае необходимости, вступить в бой с крейсером противника (водоизмещением около 3000 тонн). Предполагалось, что новый крейсер будет принимать участие в постановке минных заграждений, а 6 минных аппаратов в сочетании с высокой скоростью хода позволяли надеяться, что они станут оружием не только защиты, но и нападения.
Было принято решение строить крейсер 2-го ранга за границей. Благодаря этому можно было надеяться построить корабль в короткий срок, а впоследствии повторить удачный проект на отечественных судостроительных заводах. Крейсер строился в течение 25 месяцев на заводе фирмы в Данциге, механизмы изготавливались в Эльбинге. Работы выполнялись качественно. Пригонка всех частей была очень точной. 2 августа 1900 года состоялся спуск крейсера на воду. После достройки крейсер на испытаниях развил скорость в 25 узлов. Машины работали безукоризненно. 15 мая 1902 года «Новик» ушёл и Россию, и вскоре был отправлен на Дальний Восток. 6 декабря 1902 года командиром "Новика" стал капитан 2-го ранга Н.О. фон Эссен.
Крейсер "Новик" в Порт-Артуре, 1904 год
В ночь на 9 февраля 1904 года русская эскадра была атакована на внешнем рейде Порт-Артура японским флотом - началась русско-японская война. Сразу после атаки «Новик» получает приказ преследовать уходящие японские корабли, но погоня не принесла результатов, так как в ночь нападения крейсер был не под парами. Разводка паров отняла много времени и неприятель успел уйти.
Пробоина, полученная крейсером "Новик" в бою 9 февраля 1904 года.
В ходе боя 9 февраля 1904 года «Новик» на скорости 22 узла предпринял попытку сблизиться с японским флагманским броненосцем «Микаса», но на 15 кабельтовых вынужден был повернуть обратно и во время поворота получил подводную пробоину от снаряда калибром 152 мм или более того.
Крейсер был отремонтирован в доке за 10 дней. «Новику» приходилось выполнять под Порт-Артуром различные боевые задачи; он выходил на разведку, вступал в бой с японскими крейсерами. Приходилось выполнять и функции быстроходной канонерской лодки. С июня «Новик» часто выходил для обстрела японских сухопутных позиций, подходил при этом близко к берегу, рискуя повредить подводную часть или подорваться на мине. Но в таких выходах была острая необходимость (канонерские лодки были слишком тихоходны и несли недостаточно эффективную артиллерию). С риском потерять крейсер на минном заграждении приходилось мириться, «Новик» стал самым активным кораблём русской эскадры и чаще других выходил в море. 29 марта 1904 года новым командиром крейсера стал капитан 2-го ранга М.Ф. фон Шульц (бывший командир миноносца «Смелый»).
«Новик» вышел с эскадрой в море 10 августа 1904 года для следования во Владивосток. В сражении с японской эскадрой крейсер почти не принимал участия (из-за большой дистанции боя), но когда «Аскольд» пошёл на прорыв сквозь строй японских крейсеров, за ним смог последовать только «Новик». Во время прорыва он развил ход до 24 узлов, но когда неприятель отстал, пришлось уменьшить ход из-за возникших неисправностей («Новик» с начала мая не прекращал паров, находясь в 40-минутной готовности, и не имел возможности произвести даже незначительных исправлений в механизмах). «Новик» разлучился с «Аскольдом» и было решено самостоятельно идти во Владивосток вокруг Японии.
на палубе крейсера "Новик"
М.Ф. фон Шульц принял решение зайти за углём в Киао-Чао (Циндао) -военно-морскую базу Германии. Причина этого - большой расход угля во время прорыва 10 августа (кроме того, крейсер недопринял в Порт-Артуре до полного запаса 80 тонн угля). В Киао-Чао «Новик» принял не полный запас угля - М.Ф. фон Шульц спешил до рассвета выйти в море, чтобы избежать встречи с японскими крейсерами. На пути к Владивостоку приходилось ремонтировать часто выходящие из строя котлы (следствие напряжённой службы крейсера). Выяснилось, что угля не хватит до Владивостока.
20 августа в 6 часов утра «Новик» зашёл за углём в Корсаковский пост (посёлок в южной части острова Сахалин). Появление на горизонте военного судна поначалу вызвало там панику, но, когда разглядели Андреевский флаг, чуть ли не все население собралось у пристани. Едва причалил баркас с “Новика”, как местный оркестр грянул марш. Конечно, в поселке никто не ожидал русского крейсера, о котором в течение восьми дней после выхода его из Циндао “в неизвестном направлении” в России не было никаких известий.
офицеры крейсера "Новик"
Лейтенант А. П. Штер с частью команды руководил погрузкой угля на берегу. “Не могу описать достаточно ярко то радостное чувство, — вспоминал он позднее, — которое охватило меня при съезде на берег; после 10-дневного томительного перехода очутиться на берегу, на своем русском берегу, с сознанием, что большая часть задачи уже выполнена, с надеждой, что через несколько часов мы будем на пути к Владивостоку... — все это наполняло меня каким-то детским восторгом! Роскошная природа Южного Сахалина еще больше способствовала этому настроению; команда, видимо, испытывала те же чувства, потому что все энергично и весело принялись за грязную работу погрузки угля”.
Грузить уголь начали в 9 ч 30 мин, его приходилось подвозить на пристань в телегах, нагружать на баржи, буксировать к крейсеру и перегружать. Уголь носили в мешках, корзинах и, больше всего, в ведрах, да и тех было недостаточно. Все жители помогали новиковцам — вместе с матросами работали и военная команда, и ссыльные, старики и женщины, само собой, и дети набежали!..
За облаком угольной пыли, окутавшей “Новик”, трудно было разглядеть, что делается в море, но горизонт, без сомнения, чист. Около 14 ч 30 минут радиотелеграф крейсера начал принимать неразборчивые сигналы — передавать их мог только противник! Так как, пользуясь стоянкой, пары во всех котлах, кроме двух, прекратили и глушили лопнувшие трубки, то теперь требовалось развести пары в семи котлах, только что исправленных. Оставалось принять еще две баржи с углем, но с крейсера семафором передали береговой команде — срочно возвратиться! А. П. Штер записал: “Сразу что-то оборвалось внутри, мелькнуло сознание чего-то безвыходного и настроение круто переменилось из радостного в высшей степени угнетенное. Очень не хотелось покидать этот уютный и веселый на вид уголок, чтобы пускаться в такое сомнительное предприятие, как бой с неизвестным пока противником. Если слышны японские телеграммы, то ясно, что неприятель не один... А сколько? И кто именно? Все японские крейсеры даже в одиночку сильнее “Новика”, а тут еще и полного хода дать нельзя... Несомненно, близилась развязка...”.
последний бой крейсера "Новик"
В 16 ч “Новик” снялся с якоря, взяв направление на юг, а когда на горизонте показался дымок, набрал предельно возможную скорость — 18-19 уз и устремился в широкую восточную часть залива Анива, пытаясь ввести в заблуждение противника и рассчитывая после наступления темноты лечь на обратный курс в пролив Лаперуза. Ощущение решительной минуты подействовало на всех! Сосредоточенно делались последние приготовления к бою, напряженно всматривались в противника, стараясь определить, с кем придется иметь дело. И, сближаясь, определили его как крейсер типа “Ниитака”.
японский бронепалубный крейсер "Цусима"
В действительности это был однотипный с ним “Цусима” (вес бортового залпа — 210 кг против 88 у “Новика”). Крейсер “Читозе”, стерегший пролив Лаперуза в самой узкой части (около 23 миль), утром встретил “Цусиму”, и командир “Читозе” капитан 1 ранга Такачи Скеичи приказал “Цусиме” под командованием капитана 2 ранга Сенто Такео осмотреть Корсаковский пост. По силуэту “Цусима” очень походил на крейсер владивостокского отряда “Богатырь”, и японцы рассчитывали, что, пока с русского крейсера распознают их, “Цусиме” удастся сблизиться с более быстроходным “Новиком” (истинного состояния механизмов которого они, естественно, не знали), а “Читозе” останется на выходе из залива Анива.
В 17 ч крейсер “Цусима” повернул наперерез “Новику”, дав радиограмму на “Читозе”: “Вижу неприятеля и атакую его”. Через 10 мин расстояние уменьшилось до 40 кб, и с “Новика” уже невооруженным глазом стали видны надстройки “Цусимы", а в бинокль — даже люди на его палубе. “Новик” открыл огонь правым бортом, и всплески снарядов легли рядом с неприятелем. Крейсер “Цусима” ответил — блеснули огоньки выстрелов его левого борта.
Вначале японские снаряды давали перелеты, но вскоре стали ложиться ближе. Чтобы сбить пристрелку противнику, “Новик” начал маневрировать. Один из неприятельских снарядов сделал пробоину в рулевом отделении под броневой палубой, которое стало заполняться водой. Тут же раздался и тревожный крик: “Пробоина в каюте старшего офицера!”, а затем и новые возгласы: “Пробоина в жилой палубе!.. В кают-компании!..” Аварийная команда бросилась заделывать (насколько это возможно в ходе боя) повреждения. Еще через 5 мин снаряд разрушил командирскую и штурманскую рубки, уничтожив все карты и штурманские инструменты, кроме одного секстана. По счастью, жертв еще не было. “Новик" даже стал опережать неприятеля, идя на параллельном курсе...
Но это было последнее напряжение машин крейсера — в двух котлах лопнули водогрейные трубки, и скорость резко снизилась. “Невольно в груди закипала бессильная злоба, подкатывалась клубком к горлу и разражалась грубыми ругательствами, — писал А. П. Штер, — против кого эта злоба — отчета я себе не отдавал, но старался излить ее на противника”.
Неприятельским снарядом убило комендора ютового орудия Н. Д. Аникина, смертельно ранило унтер-офицера П. И. Шмырева и матроса М. П. Губенко. Командир орудия левого нестреляющего борта сам прибежал заменить убитого и продолжал посылать один снаряд за другим. “Началось! — подумалось Штеру. — Сейчас будет моя очередь!” И действительно: “За спиной у меня раздался взрыв... Впечатление, что у меня вырвало кусок бока. Барабанщик, держась за голову, плачущим голосом: “Ваше благородие, у вас мозги вылезли!” — Вряд ли бы я мог стоять, если бы у меня мозги полезли!..” Этим снарядом снесло кормовой мостик и машинные вентиляторы и, кроме лейтенанта Штера, ранило еще десять матросов. Перевязавшись тут же, на палубе, Штер продолжал управлять огнем кормовых орудий.
Огонь неприятеля заметно ослабел. Но около 17 ч 35 мин одновременно два снаряда попали ниже ватерлинии в рулевое и сухарное отделение. “Новик” сел кормой почти на метр, вода над броневой палубой хлынула в кают-компанию. И тут же вышли из строя еще два котла, ход уменьшился вдвое, и стало ясно, что уйти не удастся.
офицеры крейсера "Новик" на корабле
Спустя четверть часа “Новик” повернул к берегу, чтобы вернуться в Корсаковский пост. К удивлению, крейсер “Цусима” тоже повернул вправо, на расходящийся курс, и прекратил стрельбу! “Новик” же продолжал вести огонь, теперь уже с левого борта, пока расстояние не увеличилось до 50 кб. Видели, что у уходящего крейсера, когда он повернулся кормой к “Новику”, крен и, управляясь машинами, он идет зигзагами.
“Новик” приблизился к берегу насколько возможно, чтобы в случае необходимости легче было спасать экипаж, а когда из рулевого отделения передали, что привод руля не действует, то, управляясь бортовыми машинами, в 18 ч 20 мин пришел на Корсаковский рейд, подвел пластырь и начал откачивать воду...
Неприятельский корабль, выйдя из зоны поражения, также завел пластырь и, будучи не в состоянии продолжать бой, дал радиограмму на “Читозе”, находившийся на расстоянии 4 ч хода. Тот запросил о местонахождении “Новика”. И хотя последний своим аппаратом пытался помешать переговорам, “Цусима” все же смог сообщить, что “Новик” идет в Корсаковский пост.
Когда неприятель скрылся за горизонтом, “Новик” попытался приблизиться к берегу, но при этом сорвало подведенный пластырь. Став на якорь в 960 м от берега, выяснили, что корабль принял около 250 т воды через три подводные пробоины: две в рулевом отделении и одну под каютой старшего офицера. Вблизи ватерлинии имелась еще одна пробоина, а всего крейсер получил около десяти попаданий, причем оказались разбиты шестерка, деревянный и металлический вельботы. Осмотр показал, что одну из пробоин в рулевом отделении своими силами заделать не удастся — снаряд попал в стык борта с броневой палубой, вызвав длинные трещины. Но самое плачевное — в исправности оставались от силы шесть котлов из двенадцати; “потерял “Новик” свой ход в непрестанной работе, укатали Сивку крутые горки”, — с горечью констатировал А. П. Штер.
крейсер "Новик" на дне залива Анива
Выяснилось, что и воду из отсеков за ночь откачать не удастся — в поселке не было для этого никаких средств, а собственные вышли из строя. Из-за этих повреждений “Новика", а также предвидя, что выход из залива Анива перекрыт другим крейсером неприятеля, М. Ф. Шульц принял решение затопить корабль на отмели.
Около 10 ч вечера, когда на затребованных с берега баржах свезли с крейсера личный состав и все, что можно было снять из дельных вещей, открыли кингстоны. Взорвать “Новик" в тот момент не могло прийти в голову! Рассчитывали позднее, затребовав соответствующие средства из Владивостока, поднять корабль, затопленный в русском порту, и надеялись, что “Новик” еще послужит России! Моряки не могли предполагать, что через год по Портсмутскому мирному договору южная часть Сахалина, где затоплен их корабль, будет отдана японцам...
В 23 ч 30 мин “Новик” лег на дно на глубине 9 м, накренившись на правый борт до 30°. Корма скрылась под водой, а на поверхности остались трубы, мачта и значительная часть верхней палубы...
Ожидая “Читозе”, на крейсере “Цусима” “всю ночь смотрели во все глаза, опасаясь, что “Новик” опять сумеет ускользнуть”, — писала со слов японского офицера газета “Таймс”. Бой с “Новиком” стал для японского крейсера первым огневым крещением. “Можно себе представить,— заключил свой рассказ японский офицер, — как старались наводчики и как затем гордились, что им удалось повредить русский крейсер, который благодаря своей скорости и блестящему экипажу принимал столь выдающееся участие во всех боях, начиная с января”.
японский бронепалубный крейсер "Читозе"
К ночи “Читозе” двинулся к Корсаковскому посту. Лучи трех его прожекторов, освещавших водное пространство по направлению к берегу, новиковцы видели всю ночь. Когда рассвело, с “Читозе” разглядели, что “Новик” затоплен западнее мыса Эндума, а между ним и берегом снуют шлюпки и паровой катер. Приблизившись, “Читозе” с 45 кб в течение часа расстреливал затопленный крейсер, а затем, подойдя на 13 кб, перенес огонь на берег, выпустив около ста снарядов, стреляя даже по отдельным людям, появлявшимся на берегу, повредив церковь, пять казенных и одиннадцать частных домов. “Оборонительный отряд находился на позициях, убитых и раненых нет”, — телеграфировал ночью 8 августа царю военный губернатор Сахалина генерал-лейтенант М. Н. Ляпунов. На “Новике” были разрушены две дымовые трубы, повреждена мачта, разбит кормовой мостик, а в палубе и надводной части борта — множество пробоин от осколков.
В Корсаковском посту 21 августа торжественно хоронили убитых и умерших от ран новиковцев. На высоком берегу залива Анива близ мыса Эндума покоились: Павел Ильич Шмырев, машинный квартирмейстер 1-й статьи; родом из села Серебряно-Прудовское Веневского уезда Тульской губернии; Дмитрий Иванович Гришин, машинист 1-й статьи, село Казанская Арчада Арчадинской волости Пензенской губернии; Николай Дмитриевич Аникин, старший комендор, деревня Калисиха Ветлужского уезда Костромской губернии; Моисей Петрович Губенко, матрос 1-й статьи, посад Подшой Аккерманского уезда Бессарабской губернии.
офицеры и матросы крейсера "Новик"
До утра 21 августа поступавшие в Петербург телеграммы о гибели “Новика” не пропускались в печать. Но так как информация продолжала поступать и от агентства “Рейтер”, и от агенства Вольфа, решили официально известить Россию: “7-го августа флот наш лишился лихого и славного, самого быстроходного из наших крейсеров, бывшего красой русского флота и грозой японцев... Ранено нижних чинов легко 14, тяжело 2, убито 2, ранен в голову лейтенант Штер, все время остававшийся на своему посту”.
120-мм орудие "Новика" и матросы-комендоры на берегу во время обороны Сахалина
После войны по Портсмутскому мирному договору Япония получила южную часть острова. 16 июля 1906 года японцы подняли «Новик», отремонтировали и ввели в строй своего флота под названием «Судзуя». Но не было восстановлено носовое котельное отделение (оно было взорвано после угрозы высадки японского десанта) и скорость упала по японским данным до 20 узлов. Потеряв свою высокую скорость, крейсер превратился в заурядный корабль и 1 апреля 1913 года «Судзуя» был сдан на слом.
Японский крейсер "Судзуя"
По проекту «Новика» в России были построены крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», которые приняли участие в Цусимском сражении («Изумруд» погиб у своих берегов). В этих крейсерах постарались исправить некоторые недостатки «Новика». Они стали лучшими крейсерами - разведчиками своего времени и оказали влияние на развитие лёгких крейсеров не только в России, но и за её пределами.

Tags: Россия, героизм, история, память, русско-японская война, флот
|
Метки: штер российская императорская армия |
АЛЕКСАНДРА ФЕОДОРОВНА |
АЛЕКСАНДРА ФЕОДОРОВНА
 |
| Страстотерпица Александра Феодоровна |
Александра Феодоровна (1872 - 1918), императрица Всероссийская, благоверная царица, страстотерпица [1].
Под тем же именем и отчеством известна супруга Всероссийского императора Николая I
Память 4 июля в день кончины, в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, Екатеринбургских, Костромских и Санкт-Петербургских святых
Родилась 25 мая 1872 года в Дармштадте, в семье великого герцога Гессенского Людвига IV и великой герцогини Алисы, урождённой принцессы Великобритании и Ирландии, второй дочери королевы Английской Виктории. Была крещена в лютеранстве с именем Алиса Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса. Кроме принцессы Алисы в семье великого герцога Людвига IV были дети: Виктория, Элла (будущая великая княгиня преподобномученица Елисавета Феодоровна), Эрнст Людвиг, Ирена. Воспитанием детей руководила мать, высокообразованная женщина, известная своей благотворительной деятельностью. Во время эпидемии дифтерита великая герцогиня Алиса заразилась, ухаживая за больными, и скончалась в возрасте 35 лет 14 декабря 1878 года. Потеряв мать, принцесса Алиса с 6 лет жила у бабушки, королевы Виктории. При английском дворе она получила воспитание и разностороннее образование, свободно говорила и писала на нескольких языках. В семье за веселость и красоту ее звали «солнечный луч». В юности принцесса Алиса посещала лекции на философском факультете Гейдельбергского университета, где получила диплом бакалавра философии. Культура ведения дневника и переписки отличала принцессу Алису с детства.
В июне 1884 года 12-летняя принцесса Алиса впервые посетила Россию, приехав на свадьбу сестры, принцессы Эллы, и великого князя Сергея Александровича. В январе 1889 года по приглашению великого князя Сергея Александровича принцесса вновь приехала в Россию вместе с братом и отцом. Гости провели 6 недель в Сергиевском дворце в Санкт-Петербурге. Юная принцесса вызвала глубокое чувство у наследника русского престола цесаревича Николая Александровича, однако в императорской семье надеялись на брачный союз цесаревича с королевской фамилией Франции, невестой наследника хотели видеть Елену Луизу Генриетту, дочь Луи Филиппа Бурбона Орлеанского, графа Парижского. В августа 1890 года принцесса Алиса гостила у великой княгини Елисаветы Феодоровны в Ильинском, но цесаревич не смог ее увидеть. В 1894 году резко ухудшилось здоровье императора Александра III Александровича, и вопрос о престолонаследии и женитьбе цесаревича решился быстро.
2 апреля 1894 года Николай Александрович выехал в Кобург, чтобы сделать предложение принцессе Алисе. Его сопровождал протопресвитер Иоанн Янышев, духовник императорской семьи в 1883-1910 годах, который должен был преподать принцессе основы Православия. Е. А. Шнейдер, учительнице великой княгини Елисаветы Феодоровны, поручили обучить принцессу Алису русскому языку. 8 апреля того же года состоялась помолвка, принцесса Алиса и цесаревич Николай 12 дней провели в Кобурге, Дармштадте, а затем месяц - в Англии. Обручение принцесса Алиса считала счастливейшим событием в своей жизни, оставалось решить вопрос о переходе в Православие. Принцесса была очень религиозна и не решилась изменить лютеранству, но помогла настойчивость сестры, великой княгини Елисаветы Феодоровны, присоединившейся к Православию после 8 лет брака. По просьбе великой княгини протопресвитер Иоанн Янышев полгода прожил при Гессенском дворе, ежедневно занимаясь и беседуя с принцессой Алисой, и впоследствии стал ее духовником.
Осенью 1894 года в Дармштадт стали приходить тревожные вести о здоровье императора Александра III, 5 октября принцесса получила телеграмму, срочно вызывавшую ее в Россию. 10 октября она приехала в Крым, в Ливадию, где пробыла вместе с императорской семьёй до 20 октября - дня смерти императора Александра III. 21 октября в церкви ливадийского дворца принцесса Алиса была принята в лоно Православной Церкви через миропомазание и наречена Александрой Феодоровной в честь мученицы царицы Александры. 14 ноября того же года, в день рождения императрицы Марии Феодоровны, когда были дозволены отступления от строгого траура, состоялось бракосочетание императора Николая II и Александры Феодоровны в церкви Зимнего дворца. 14 мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось коронование царственной четы.
 |
| Св. императрица Александра Феодоровна |
Императрица Всероссийская
Императрица стремилась стать «настоящей помощницей во всех отношениях» своему самодержавному супругу. Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский писал, что государыня видела «в лице своего мужа священного Помазанника Божия. Став русской царицей, она сумела возлюбить Россию выше своей первой родины» [2]. Впоследствии историки отмечали теоретический ум императрицы и называли ее письма, детально освещавшие состояние русского двора и Петербурга, «историческим материалом первостепенной важности» [3].
Венценосная семья сделалась образцом подлинно христианской, сплочённой семьи. У императорской четы родились 4 дочери: страстотерпицы великие княжны Ольга Николаевна (3 ноября 1895), Татиана Николаевна (29 мая 1897), Мария Николаевна (14 июня 1899), Анастасия Николаевна (5 июня 1901). 30 июля 1904 года на свет появился долгожданный, вымоленный у Бога наследник престола - страстотерпец цесаревич великий князь Алексий Николаевич, которому передалась наследственная болезнь потомков королевы Виктории - гемофилия. Государыня несла заботы о воспитании и обучении детей, передала им свою культуру переписки и ведения дневника, свою религиозность. Не случайно царская семья, по словам историков, принадлежат «к числу лучше всего документированных в истории» [4]. Кроме письменных источников сохранилось более 150 тысяч фотографий императорской семьи, в которой каждый имел личный фотоаппарат; известны более тысячи альбомов с фотоснимками [5].
Императрица заботилась о здоровье всех членов семьи, особенно сына. Первоначальное обучение наследника она вела самостоятельно, позже пригласила к нему выдающихся педагогов и наблюдала за ходом учения. Благодаря большому такту императрицы болезнь цесаревича была семейной тайной. Постоянное беспокойство за жизнь Алексия стало главной причиной появления при дворе Г. Е. Распутина, который обладал способностью останавливать кровотечение с помощью гипноза, поэтому в опасные моменты болезни он становился последней надеждой на спасение ребенка. Материнские терзания императрицы и желание сохранить мир в семье со стороны царя обусловили роль Распутина в жизни двора.
По свидетельству современников, государыня была глубоко религиозна. Церковь являлась для нее главным утешением, особенно в то время, когда обострялась болезнь наследника. Фрейлина С. К. Буксгевден отмечала, что императрица Александра верила «в исцеление через молитву», которое связывала со своим происхождением со стороны Гессенского дома от Елисаветы Тюрингенской (Венгерской) (1207-1231), устроившей в Марбурге, Айзенахе, Вартбурге больницы во имя великомученика Георгия и святой Анны и лечившей прокаженных [6]. Императрица выстаивала полные службы в придворных храмах, где ею был введен монастырский богослужебный устав. Комната Александры Феодоровны во дворце представляла собой «соединение спальни императрицы с кельей монахини. Огромная стена, прилегавшая к постели, была сплошь увешана образами и крестами» [7]. Под образами стоял аналой, покрытый древней парчой. В июле 1903 года Николай II и Александра Феодоровна участвовали в торжестве прославления и открытия мощей преподобного Серафима Саровского, на средства императорской семьи были сооружены рака и сень для мощей. За год до этого императрица прислала в Саровскую пустынь лампаду и церковные облачения с просьбой ежедневно служить молебен о ее здравии в часовне, устроенной над могилой преподобного Серафима. Она была уверена, что благодаря молитвам преподобного Россия получит наследника [8].
Заботами императорской семьи было воздвигнуто несколько православных храмов. На родине Александры Феодоровны, в Дармштадте, был построен храм во имя святой Марии Магдалины в память первой Российской императрицы из Гессенского дома - Марии Александровны. 4 октября 1896 года в Гамбурге в присутствии Николая II, Александры Феодоровны, великой княгини Елисаветы Феодоровны, великого герцога гессенского в память коронования Российского императора и императрицы был заложен храм во имя Всех святых. На свои средства императорская семья по проекту архитекторов С. С. Кричинского и В. А. Покровского создала в Александровском парке Царского Села Феодоровский городок с придворным собором во имя Феодоровской иконы Божией Матери, освященным 20 августа 1912 года, где была устроена молельная с аналоем и креслом для государыни. Подземный храм во имя преподобного Серафима Саровского явился подлинной сокровищницей старинной иконописи и церковной утвари, в нем находилось Евангелие царя Феодора Иоанновича. Под покровительством императрицы работали комитеты по сооружению храмов в память моряков, погибших в Русско-Японской войне 1904-1905 года, и собора Святой Троицы в Петрограде.
Одним из первых начинаний императрицы, прославившейся своей благотворительной деятельностью, стало покровительство императорскому женскому Патриотическому обществу, по рескрипту императора Николая II от 26 февраля 1896 года. Необычайно трудолюбивая, много времени посвящавшая рукоделию, императрица организовывала благотворительные ярмарки и базары, где продавались самодельные сувениры. Под ее покровительством находилось множество благотворительных организаций: Дом трудолюбия с учебными мастерскими кройки и шитья и детским интернатом; Общество трудовой помощи образованным лицам; Дом трудолюбия образованных женщин; Ольгинский приют трудолюбия для детей лиц, находящихся на излечении в больнице святой Марии Магдалины; Попечительство императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей; Общество трудовой помощи «Улей»; царскосельские Общество рукоделия и Школа народного искусства для обучения кустарному делу; Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества; Братство во имя Царицы Небесной в Москве (при нем существовал приют для 120 детей - слабоумных, калек, эпилептиков - со школой, мастерскими, ремесленным отделением); Приют-ясли 2-го временного Комитета попечительства по охране материнства и младенчества; Приют имени императрицы Александры Феодоровны в Харбине; ясли Петергофского Благотворительного общества; 4-й Петроградский комитет Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества с убежищем для матерей и яслями-приютом; «Школа нянь» в Царском Селе, учрежденная на личные средства императрицы; царскосельские Община сестер милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК) и Дом государыни-императрицы для призрения увечных воинов; Крестовоздвиженская община сестер милосердия РОКК; 1-й Петроградский дамский комитет РОКК; Михайловское в память генерала М. Д. Скобелева общество врачебной помощи малообеспеченным женам, вдовам, детям и сиротам воинов (при нём существовали амбулатория, стационарное отделение, приют для девочек - сирот воинов); Всероссийское Александро-Невское братство трезвости (при нём школа, детский сад, дачный поселок, книжное издательство, народные хоры).
 |
| Государыня Александра Феодоровна, сестра милосердия |
В период Русско-Японской войны Александра Феодоровна лично подготовила санитарные поезда и склады медикаментов для отправки на театр военных действий. Наибольшие труды несла императрица во время Первой Мировой войны. С начала войны Александра Феодоровна и ее старшие дочери прошли курсы ухода за ранеными в Царскосельской общине. В 1914-1915 годах императорский поезд побывал в Москве, Луге, Пскове, Гродно, Двинске (ныне Даугавпилс), Вильне (ныне Вильнюс), Ковно, Ландварово, Ново-Свенцянах, Туле, Орле, Курске, Харькове, Воронеже, Тамбове, Рязани, Витебске, Твери, Лихославле, Ржеве, Великих Луках, Орше, Могилёве, где императрица и ее дети посещали раненых воинов. Для подвижных и полевых складов императрицы создавались специальные поезда. При каждом складе были походная церковь и священник. Для оказания материальной поддержки раненым солдатам и их семьям были учреждены Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, Всероссийское общество здравниц в память войны 1914-1915 годов. Под покровительством императрицы находились лазареты: при Доме трудолюбия имени Е. А. Нарышкиной; при петроградском Ортопедическом институте; при Михайловском в память М. Д. Скобелева обществе и другие. В Зимнем дворце работал в 1914-1917 годах Комитет склада императрицы.
Исключительный интерес для русской культуры, истории, науки представляют предметы дворцового быта, коллекции древностей, собрания книг и произведений искусства, составленные императрицей и августейшей семьей. Все императорские заказы, предназначенные для дворцов, были уникальны, дубликаты не допускались. Библиотека императрицы и великих княжон в Зимнем дворце насчитывала около 2 тысяч томов, там же хранились и рукописи. Книги Александры Феодоровны находились также в Ливадии, Царском Селе, они отмечены экслибрисом и являются произведениями издательского и переплетного искусства. Поддержка Александрой Феодоровной и всей императорской семьей фирмы Фаберже стала предпосылкой появления нового направления в прикладном искусстве - «императорского стиля», «дизайна и стиля Фаберже». Императрица собирала древности и оказывала содействие ученым. Она получила почетный диплом Археологического института, комитет по сооружению в Москве Музея изящных искусств имени императора Александра III избрал ее почетным членом за активное содействие музею, Пергамский зал музея был назван в честь императрицы. Под покровительством государыни находилось императорское Общество востоковедения, имевшее целью «распространение среди восточных народов точных и правильных сведений о России, а также ознакомление русского общества с материальными нуждами и духовною жизнью Востока». Александра Феодоровна была искусной художницей, в храме святой Марии Магдалины в Дармштадте сохранились вышитые ею иконы. К началу 1903 года она сделала рисунки русского костюма для благотворительного бала в Зимнем дворце, консультируясь с директором Эрмитажа И. А. Всеволожским. Императрица была одета в золотую парчовую одежду, созданную по эскизам с одежды царицы Марии Ильиничны. Другой работой Александры Феодоровны является рисунок знака для частей императорского конвоя. Императрица коллекционировала произведения из многослойного стекла и лично делала указания по производству императорским фарфоровым и стеклянным заводам.
В последние годы царствования, особенно во время Первой мировой войны, Александра Феодоровна стала предметом безжалостной и безосновательной клеветнической кампании, ведомой революционерами и их пособниками как в России, так и в Германии. Широко распространялись слухи о супружеской измене императрицы, о её якобы нецеломудренных отношениях с Распутиным, о её предательстве Родины в пользу Германии. Эта ложь, нагнетаемая в целях свержения царского дома и смущения русского народа, одно время широко распространилась не только в популярных, но и в научных публикациях. Однако, при том что государь знал о чистоте личной жизни императрицы, он также лично распорядился о проведении секретного расследования по поводу «клеветнических слухов о сношениях императрицы с немцами и даже о ее предательстве Родины». Хотя в предвоенный период императрица действительно поддерживала улучшение отношений с Германией, было установлено, что слухи о желании сепаратного мира с немцами, передаче императрицей немцам русских военных планов, распространялись германским генеральным штабом. После отречения государя Чрезвычайная следственная комиссия при Временном правительстве пыталась и не смогла установить виновность Николая II и Александры Феодоровны в каких-либо преступлениях.
Однако, очернение облика царственной семьи, широко распространившиеся потеря веры и верности ей, явное желание широких слоёв элиты империи отказаться от монархического устройства государства обусловили отстранение императорской семьи от власти. 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола за себя и за цесаревича Алексия.
Заточение и мученическая кончина
8 марта 1917 года по постановлению Временного правительства императрица с детьми была арестована генералом Л. Г. Корниловым в Царском Селе, в тот же день в Могилёве был арестован государь, 9 марта доставленный в Царское Село под конвоем. 1 августа того же года царская семья отбыла из Александровского дворца Царского Села в ссылку в Тобольск, где прожила 8 месяцев в заключении в доме губернатора.
В заточении Александра Феодоровна преподавала детям Закон Божий, иностранные языки, занималась рукоделием, живописью, чтением духовных книг. Общая молитва объединяла семью, жизнь которой определялась верой, надеждой и терпением. Окруженные врагами, узники обращались к духовной литературе, укрепляли себя примерами Спасителя и святых мучеников и готовились к мученической кончине. Находясь в заключении, императрица подарила детям книги: «Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского», «Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского», «Утешение в смерти близких сердцу», «О терпении скорбей», «Благодеяния Богоматери человеческому роду через Ея святые иконы». Многочисленные пометы в книгах, особенно в книгах императрицы, свидетельствовали о высоком духовном состоянии царской семьи - о вере, смирении, всепрощении, желании быть верными заветам Господа [9]. Среди книг Александры Феодоровны были «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, «О терпении скорбей, учение святых отцов, собранное епископом Игнатием Брянчаниновым», Молитвослов и Библия [10].
26 апреля 1918 года государь, государыня и великая княжна Мария Николаевна по приказу из Москвы выехали в Екатеринбург, оставив на попечение старших сестер больного Алексия, 30 апреля их заключили в дом, принадлежавший ранее инженеру Н. К. Ипатьеву. Большевики называли его «домом особого назначения», а узников - «жильцами». Дом, обнесенный высоким забором, охраняли более 30 человек. 23 мая, в 2 часа утра, великие княжны Ольга, Татиана, Анастасия и великий князь Алексий также были доставлены в Екатеринбург. Жизнь царской семьи была подчинена тюремному режиму: изоляция от внешнего мира, скудный продовольственный паёк, часовая прогулка, обыски, враждебность стражи.
12 июля под предлогом приближения к Екатеринбургу Чехословацкого корпуса и частей Сибирской армии большевистский Уралсовет принял постановление об убийстве царской семьи. Существует мнение, что военный комиссар Урала Ф. И. Голощекин, в начале июля 1918 года побывавший в Москве, получил на это согласие В. И. Ленина. 16 июля Ленину была отправлена телеграмма, в которой Уралсовет сообщал, что казнь царской семьи более не терпит отлагательств, и просил немедленно сообщить, нет ли у Москвы возражений. Ленин на телеграмму не ответил, что в Уралсовете, возможно, сочли знаком согласия. Руководство исполнением постановления принял на себя Я. М. Юровский, 4 июля назначенный на пост коменданта «дома особого назначения».
В это трагическое время императрицу отличали необыкновенное величие духа и «изумительно светлое спокойствие, которое потом поддерживало ее и всю ее семью до дня их кончины» [11]. 16 июля, за несколько часов до казни, она записала в своем дневнике: «Татьяна читала духовную литературу. Все ушли. Татьяна осталась со мной и читала: святого пророка Амоса и пророка Авдия» [12].
Убийство царской семьи и их приближенных последовало в ночь с 16 на 17 июля 1918 годв. В 2 часа ночи узников разбудили и приказали спуститься в полуподвальный этаж дома, где царская семья была расстреляна вооруженными палачами из ЧК. По их свидетельствам, императрица и старшие дочери успели перед смертью перекреститься. Первыми были убиты государь и государыня. Они не увидели казни своих детей, которых добивали штыками. Комиссар снабжения Уральской области П. Л. Войков, похитивший с тела императрицы подаренное государем кольцо с рубином, доставил серную кислоту и бензин для уничтожения тел убитых в старых рудниковых шахтах урочища Четырех братьев.
 |
| Царственные новомученики. |
Почитание
Обстоятельства убийства и последующего уничтожения их останков стали известны благодаря расследованию Соколова. Отдельные останки царской семьи, найденные Соколовым, были переданы в храм праведного Иова Многострадального Русской Православной Церкви Заграницей, заложенный в Брюсселе 2 февраля 1936 года и освященный 1 октября 1950 года в память Николая II, его семьи и всех новомучеников Российских. В этом храме хранятся найденные иконы, кольца царской семьи и Библия, подаренная Александрой Феодоровной цесаревичу Алексию. В 1977 году дом Ипатьева был разрушен советскими властями в связи с притоком паломников. В 1981 году царская семья была канонизирована Русской Православной Церовью Заграницей.
В 1991 году под Екатеринбургом Свердловской областной прокуратурой было официально вскрыто захоронение, обнаруженное Г. Т. Рябовым в 1979 году по описанию в «Записке Я. М. Юровского» и принятое им за могилу царской семьи [13]. 19 августа 1993 года Генеральной прокуратурой России было возбуждено следственное дело за № 18-123666-93 по расследованию убийства царской семьи и образована правительственная комиссия по идентификации и перезахоронению обнаруженных останков. Член правительственной комиссии митрополит Крутицкий Ювеналий сделал официальное заявление об итогах исследования «екатеринбургских останков»: «Полагаю, их нельзя принять с абсолютной достоверностью» [14]. 26 февраля 1998 года состоялось заседание Священного Синода Московского Патриархата, в определении которого говорится, что
«Священный Синод высказывается в пользу безотлагательного погребения этих останков в символической могиле-памятнике. Когда будут сняты все сомнения относительно «екатеринбургских останков» и исчезнут основания для смущения и противостояния в обществе, следует вернуться к окончательному решению вопроса о месте их захоронения» [15].
По решению светский властей России перезахоронение останков было произведено 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, отпевание возглавил настоятель собора.
Синодальная Комиссия по канонизации святых Московского Патриархата под председательством митрополита Крутицкого Ювеналия нашла «возможным поставить вопрос о причислении к лику святых страстотерпцев... императрицы Александры Феодоровны» [16]. Постановлением Священного Синода от 10 октября 1996 года и определением Архиерейского Собора 18-22 февраля 1997 года данная позиция была одобрена. Канонизация Александры Феодоровны и других царственных страстотерпцев в Соборе новомучеников Российских состоялась на Архиерейском Соборе 2000 года.
На месте бывшего дома Ипатьева построен храм-памятник «на крови» во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. 23 сентября 2000 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II служил молебен на месте строящегося храма и поместил в его основание закладную грамоту.
Источники, литература
- ГАРФ, Ф. 640 [Имп. Александра Феодоровна]; Ф. 601 [Имп. Николай II]; Ф. 543 [Колл. ркп. Царскосельского дворца]; Ф. 6787. Оп. 1. Д. № 7 [Мат-лы комис. по вопросу о передаче благотворительных об-в в ведение Мин-ва Гос. призрения].
- ГИМ ОПИ, Ф. 505, Д. № 24 [Мат-лы учеб. характера Имп. Александры Феодоровны].
- ГАРФ, Ф. 601, Оп. 1, Д. № 2077 [Дневник прот. Беляева].
- Список лечебных заведений внутреннего района Империи, находящихся в ведении Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста и других учреждений и ведомств, к 1 янв. 1915 г., Пг., 1915.
- Лавров, А. П., Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, состоящий под Августейшим покровительством Ея императорского величества государыни императрицы Александры Феодоровны. Справ. (испр. по 1 апр. 1916), Пг., 1916.
- Письма императрицы Александры Феодоровны к императору Николаю II [Пер. с англ. В. Д. Набокова], Берлин, 1922, т. 1-2.
- Переписка Николая и Александры Романовых, М.; Пг.-Л., 1923-1927, т. 3-5.
- Падение царского режима: Стеногр. отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следств. комис. Временного правительства, М.; Л., 1924-1927, 7 т.
- Дневник императора Николая II, 1890-1906, М., 1991.
- Дневники императора Николая II, 1894-1918, М., 1992.
- Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи, М., 1996.
- Письма святых царственных мучеников из заточения, СПб., 1996р.
- "Определения Священного Синода," ЖМП, 1998, № 4, 10.
- "К проблеме «екатеринбургских останков»: [Мат-лы]," ЖМП, 30-49.
- Покаяние: Мат-лы правительственной комис. по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского императора Николая II и членов его семьи, М., 1998.
- Александра Феодоровна Романова, имп., Дневниковые записи, переписка, М., 1998.
- Александра Феодоровна Романова, имп., О браке и семейной жизни, М., 1999.
- Александра Феодоровна Романова, имп., Свет дивный: Дневниковые записи, переписка, жизнеописание, М., 1999.
- В память Священного коронования Их Имп. Величеств Николая Александровича и Александры Феодоровны в Москве 14 мая 1896 года, СПб., 1896.
- Путешествие по России и за границей Их Имп. Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны, 13 авг.- 19 окт. 1896 г., СПб., 1896.
- Германия в церковно-религиозном отношении с подробным описанием православно-русских церквей [Сост. прот. А. П. Мальцев], СПб., 1903.
- Гастфрейд, Н. А., Обзор благотворительных учреждений в Германии, СПб., 1905.
- Шамборант, А. В., Русский Царь с Царицею на поклонении московским святыням, СПб., 1909.
- Бельский, Л., Легенды и повести о Святой Елисавете Венгерской, ландграфине Тюрингенской, М., 1910.
- Из моего альбома: 60 фотогр. снимков Е. И. В. Государыни Имп. Александры Феодоровны, Пг.; М., 1915.
- Березин, В. Л., Святой пример царственных женщин, Пг., 1916.
- От Ее Имп. Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны: Памятка воину на 1916 год, М., 1916.
- Щеглов, В. В., Собственные Е. И. В. библиотеки и арсеналы: Крат. ист. очерк, 1715-1915, Пг., 1917.
- Жильяр, П., Император Николай II и его семья, Вена, 1921; М., 1991р.
- Кологривов, К., "Арест государыни императрицы Александры Феодоровны и августейших детей их величеств," Рус. летопись, 1922, кн. 3.
- Лукомский, Г. К., "Последняя ночь в Александровском дворце," Накануне, 1922, № 189, 18 ноября, 2-3.
- Кизеветтер, А. А., "Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II," СЗ, 1922, № 13, 322-334.
- Витте, С. Ю., Воспоминания, М.; Пг., 1923, т. 1.
- Гурко, В. И., Царь и царица, П., 1927.
- Канторович, В. А., Александра Федоровна: (Опыт характеристики), Л., 1927.
- Шуленбург, В. Э., Воспоминания об Императрице Александре Феодоровне, П., 1928.
- Buxhoeveden, S., The life and Tragedy of Alexandra Fedorovna, Empress of Russia, L., 1928.
- Орем, С. И., Заговор: Ист. заметки, Белград, 1931.
- Савченко, П., Государыня Императрица Александра Федоровна, Белград, 1939; Джорд., 1983.
- Польский, М., прот., Государь император Николай II и его семья - новые мученики российские, Джорд., 1949, ч. 1, 218-264.
- Мельгунов, С., "Екатеринбургская драма: (Из неизд. кн. «Революция и царь»)," Возрождение, 1949, июль, 13-21.
- Шавельский, Г. И., Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота, Н.-Й., 1954; М., 1996, 2 т.
- Almedingen, E. M., The Empress Alexandra, L., 1961.
- "Рассветный: Светлой памяти императрицы Александры Феодоровны," Возрождение, 1962, № 127, июль, 38-62.
- "Из бумаг А. В. Тырковой-Вильямс: Запись рассказа кнг. С. Васильчиковой," Возрождение, 1964, № 156, декабрь, 94-100.
- Андоленко, С., "Клевета на императрицу," Возрождение, 1968, № 204, декабрь.
- Киселев, А., прот., Память их в род и род...: То, что надо знать, сохранить, донести, Н.-Й., 1981; М., 1990р.
- Паломничество царя-мученика благочестивейшаго Государя имп. Николая Александровича, Н.-Й., 1986.
- Гибель царской семьи: Мат-лы следствия по делу об убийстве царской семьи (авг. 1918 - февр. 1920) [Сост. Н. Росс], Франкфурт-на-Майне, 1987.
- Грибанов, Э. Д., Российские нагрудные медицинские знаки, Рига, 1989.
- Фрейлина ее величества: Дневник и восп. А. Вырубовой, М., 1990.
- Руднев, В. М., "Правда о царской семье и «темных силах»," Светлый отрок: Сб. ст. о царевиче-мученике Алексее и др. царственных мучениках, М., 1990.
- Соколов, Н. А., Убийство Царской семьи, М., 1990.
- Дитерихс, М. К., Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале, М., 1991, 2 ч.
- Альбом фотографий имп. Александры Феодоровны, 1895-1911 [Публ. З. И. Перегудовой, Рос. архив.], М., 1992, вып. 2-3, 463-466.
- Вильчковский, С. Н., Царское Село, СПб., 1992.
- Мэсси, Р., Николай и Александра, М., 1992.
- Российский императорский дом: Дневники. Письма. Фотографии [Сост. А. Н. Боханов, Д. И. Исмаил-Заде], М., 1992.
- Волков, А. А., Около Царской семьи, М., 1993.
- Земляниченко, М. А., Калинин, Н. Н., Романовы и Крым, М., 1993.
- Мельник (Боткина), Т., Воспоминания о царской семье и ея жизни до и после революции, М., 1993.
- Радзинский, Э. С., «Господи... спаси и усмири Россию»: Николай II: жизнь и смерть, М., 1993.
- Федорова, В., "Царские библиотеки," Родина, 1993, № 11, 32-35.
- Воейков, В. Н., С царем и без царя, М., 1994.
- Николай и Александра: Двор последних русских императоров, кон. XIX - нач. XX в.: Кат. выст. [Сост. Е. А. Анисимова и др.], СПб., 1994.
- Болотин, Л., Царское дело: Мат-лы к расследованию убийства Царской Семьи, М., 1996.
- Мефодий (Кульман), еп., "Из духовного сокровища Царской семьи," ЖМП, 1996, № 11, 68-73.
- Нектария (Мак Лиз), мон., Свет невечерний: Жизнь Александры Феодоровны Романовой, последней Всероссийской императрицы, М., 1996.
- Платонов, О. А., Терновый венец России: Николай II в секретной переписке, М., 1996.
- Иванова, Т. К., Логунова, Е. П., Николай II и его семья в Петергофе, Петергоф, 1997.
- Боханов, А. Н., Николай II, М., 1998.
- Мейлунас, А., Мироненко, С., Николай и Александра: Любовь и жизнь, М., 1998.
- Подурец, А. М., Саров: памятник истории, культуры, православия, Н. Новг., 1998.
- Пчелов, Е. В., Генеалогия рода Романовых, 1855-1997, М., 1998.
- Рябов, Г. Т., Как это было: Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия, М., 1998.
- Сергий (Страгородский), архим., Письма из Сарова 13-22 июля 1903 года, М., 1998.
- Тайны Коптяковской дороги: Дело веры: Мат-лы к рассмотрению вопроса о так называемых Екатеринбургских останках, предположительно принадлежащих к членам царской семьи и верным слугам их, М., 1998.
- Соколов, Н. А., "Предварительное следствие, 1919-1922 гг.," Рос. архив, М., 1998, вып. 8.
- Ден, Ю., Подлинная Царица: Восп. близкой подруги имп. Александры Федоровны, СПб., 1999.
- "Канонизация святых в XX в.," Комис. Свящ. Синода РПЦ по канонизации святых, М., 1999.
- Несин, В. Н., Зимний дворец в царствование последнего императора Николая II (1894-1917), СПб., 1999.
Использованные материалы
- Максимова, Л. Б., "Александра Феодоровна," Православная энциклопедия, т. 1, 553-558:
[1] Была прославлена Русской Православной Церковью Заграницей как мученица и частно упоминается как таковая включая статью Православной энциклопедии.
[2] Шавельский, т. 2, 294.
[3] Кизеветтер, 322.
[4] Мейлунас, Мироненко, 11.
[5] ГАРФ, РГАКФД.
[6] Елисавета Тюрингенская была в 1235 канонизирована римо-католической церковью в связи с чудесными исцелениями у ее гробницы.
[7] Орем, 26.
[8] Витте, 221.
[9] Мефодий (Кульман), 68.
[10] Эти книги были найдены и тщательно описаны Н. А. Соколовым, судебным следователем по особо важным делам Омского окружного суда, которому после вступления в Екатеринбург Сибирской армии и Чехословацкого корпуса 25 июля 1918 года А. В. Колчаком было поручено расследование дела об убийстве царской семьи.
[11] Жильяр, 162.
[12] Александра Феодоровна, Дневниковые записи, переписка, 467.
[13] Тайны Коптяковской дороги, 3.
[14] ЖМП, 1998, № 4, 31.
[15] ЖМП, 1998, № 4, 10.
[16] "Доклад митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия... по вопросу о мученической кончине царской семьи, предложенный на заседании Священного Синода РПЦ 10 окт. 1996 г."
ttps://drevo-info.ru/articles/15514.html
|
Метки: романовы |
ФРЕДЕРИКС НАТАЛИЯ МОДЕСТОВНА |
ФРЕДЕРИКС НАТАЛИЯ МОДЕСТОВНА
Перенаправлено со статьи "НАТАЛИЯ (ФРЕДЕРИКС)"
Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru
 |
| Баронесса Наталия Модестовна фон Фредерикс. Фото 1887 г. |
Наталия Модестовна фон Фредерикс (1864 - 1926), святая исповедница
Память в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской (РПЦЗ)
Родилась 8 июля 1864 года в селе Знаменовка Бахмутского уезда Степановской волости Екатеринославской губернии. Дочь гвардии полковника Модеста Александровича Фредерикса и Елизаветы Александровны, урождённой Гейден. Баронесса, потомственная дворянка.
Жила в Санкт-Петербурге по ул. Чайковского (б. Сергиевской), д. 26, кв. 1. Окончила Литейную гимназию. В Бахмутском уезде за ней состояла деревня Знаменовка (ныне Александровского района Донецкой области) и 3002,4 десятин земли. Имела также дом в Ялте. Девица. Была фрейлиной трёх императриц - Марии Александровны, Марии Феодоровны и Александры Феодоровны.
Учредитель Крестовского благотворительного общества (1895). С начала войны (1914 год) до 1 марта 1917 года работала хирургической сестрой в Царскосельском лазарете. По некоторым данным, приняла монашеский постриг, но в имеющихся в ПСТГУ материалах упоминаний о монашестве нет.
В начале 1919 года поступила на работу библиотекарем в Педагогический институт дошкольного образования, где работала до июля 1919 года и с осени 1920-го до конца 1922 года, когда была уволена по сокращению штатов. После этого давала частные уроки детям дошкольного возраста.
До февраля 1924 года была членом приходского совета Сергиевского собора на Литейном проспекте в Петрограде.
11 июля 1919 года как "бывшая баронесса" арестована в качестве заложницы и постановлением ПЧК от 11.07.1919 "направлена вместе с делом в ВЧК 24/VII-19 для заключения в Московский лагерь". В феврале 1920 года была освобождена.
3 февраля 1924 года в 6:30 утра была вновь арестована "за активную церковную деятельность в приходе". Предварительное заключение отбывала в ДПЗ "по I категории". Вместе с Н. Фредерикс по одному "групповому делу" проходили: епископ Мануил (Лемешевский) и Н. Н. Поляков.
Из показаний на допросах 1924 года:
"Со мной проживает Будовская Мария Сергеевна, 57 л[ет], она на моём иждивении.
Родственников близких никаких не имею. Елизавета Карловна Фредерикс, жена троюродного брата моего отца, умерла лет 20 тому назад. Знакомых, с кот[орыми] бы постоянно виделась, не имею. Я очень занята делами по Сергиевскому собору и поэтому никуда не хожу и ко мне никто не ходит.
В соборе я заведую регистрацией прихожан, принимаю от них добров[ольные] членские взносы и передаю деньги казначею - Сос[...]ову, или старосте - Шатихину. Там же занимаюсь продажей в соборе просфор. Я член двадцатки.
К Совет[ской] вл[асти] отношусь безразлично. К Революции же с благодарностью, т. к. она освободила меня от имуществ[енны]х и светских пут, от которых самой трудно было бы отказаться. Теперь я всецело отдалась церкви.
Церковь, по-моему, должна быть вне всякой политики и не должна реагировать абсолютно, на какие бы то ни было обществ[енны]е и полит[ические] события. Поэтому я отношусь к новой (т. е. обновленческой. - Ред.) церкви отрицательно.
Из духовных лиц близких знакомых не имею. Моего бывшего духовника Виноградова давно не видала. Еп[ископа] Мануила видела 1 раз, когда пришла к нему по делам собора.
Хорошо знаю духовных лиц нашего собора о. Иоанна Морева, о. Павла Нико[...] и о. Андреева Фёдора.
Когда наш собор был в руках обновленцев, я ходила в собор Спасо-Преображения и Косьмы и Дамиана.
Со служившим в первом соборе о. Михаилом Тихомировым знакома. Он иногда служит у нас заказные обедни. Он меня знает ли про фамилии - не могу сказать. Больше ни с кем не знакома".
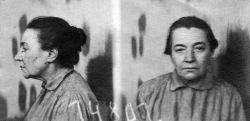 |
| Наталия Модестовна фон Фредерикс. Фото из лагерного дела, 1924 г. |
На вопрос о её политических убеждениях Наталия Модестовна ответила: "Никаких, т. к. я человек религиозный и политика для меня не сущ[ествуе]т".
В другой раз на настойчивые попытки следователя добиться каких-то политических признаний, а также информации о других людях Наталья Модестовна отвечала в том же духе, что и раньше, а о других предпочитала говорить неопределённо и уклончиво.
"Настоящим заявляю, что я как раньше, так и в настоящее время политикой не занимаюсь.
К Сергиевскому собору или вообще к церкви я отношусь только с духовной стороны - как служение Богу. До 1913 г[ода] я мало касалась к церкви, т. к. не особенно была религиозна, но с 1913 г[ода] я всё больше и больше укреплялась в духовной вере.
Лыкошина вступила в 20-ку Сергиев[ского] собора, кажется, до моего туда вступления. Никакой деят[ельнос]ти она не проявляла и я ещё удивлялась, что она состоя[ла] гл[авой] Совета не быв[ая] на собр[аниях].
При службах еп. Мануила в Серг[иевском] соб[оре] я присутствовала 2 раза.
На последн[ем] служ[ении] он гов[орил] о том, что мы должны твёрдо держаться правосл[авной] веры и церкви, хотя бы нам пришлось нести гонения.
Следователь: Скажите, что, М[ануил] упоминал о каких-то надвигаемых тучах или бурях?
Н. Ф.: Что-то упом[инал], но точно воспроизвести не могу.
Следователь: Скажите, откуда у вас молитва, в которой призыв[ают] сносить народное гонение и пытку палачей.
Н. Ф.: Кто-то дал, но не помню.
Следователь: Кто вас просил навести справку в Лондоне о Юр[ии] Ал[екс...виче] Антонове.
Н. Ф.: Я не знаю. Но письмо в Лондон писала, откуда ответа не получила. Кто такой Николай Ив[анови]ч, кот[орый] просил справиться, я не знаю и не помню.
Больше показать ничего не могу.
Правильность изложенного подтверждаю".
26 сентября 1924 Особым совещанием при коллегии ОГПУ по статьям 67, 69, 73 приговорена к двум годам заключения в концлагере и 22 октября выслана в Соловецкий лагерь особого назначения.
В лагере работала на кирпичном заводе на формовке и переноске сырца, а вечерами долго молилась в бараке. Позднее была гувернанткой у детей руководителей лагеря. В начале 1926 года стала ухаживать за тифозными больными.
Скончалась 30 марта 1926 года от тифа.
Борис Ширяев, находившийся с ней в том же лагере в одно время, посвятил её подвигу главу своей книги "Неугасимая лампада". По свидетельству автора, она смиренно переносила все тяготы лагерной жизни. Относившаяся одинаково ровно и доброжелательно к совершенно разным людям - от аристократок до поначалу издевавшихся над нею представительниц "дна", она сумела снискать их ответную любовь и уважение. Работавшая сперва на самых тяжёлых участках, она позднее "как самая чистоплотная" была выбрана уборщицей барака. Во время эпидемии добровольно вызвалась ухаживать за сыпнотифозными больными в изоляторе. Там она заразилась и умерла.
Реабилитирована 10 ноября 1991 года Прокуратурой г. Ленинграда [1].
В 1981 году Архиерейским Собором РПЦЗ прославлена как исповедница в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Литература
- Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Компакт-диск.
- Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.
- Розанов М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922 – 1939 : Факты - Домыслы - "Параши" : Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. В 2 кн. и 8 ч. - США : Изд. автора, 1979. Книга 2, часть 4, глава 7 "Их ещё не забыли", раздел 6 "Фрейлина среди падших":
Использованные материалы
- Список новомучеников и исповедников Российских (утвержден Архиерейским Собором РПЦЗ в 1981 г.):
- Заруба В. Н. Дворяне Екатеринославской губернии. - Днипро: "Лира", 2016. - С. 493.
- Санкт-Петербургский мартиролог духовенства и мирян. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. Духовенство и миряне. Ф. Монахиня НАТАЛИЯ (ФРЕДЕРИКС Наталия Модестовна), 1864–30.03.1926:
- "ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ" (ДВОРЯНЕ: КНИГА ПАМЯТИ). Ф. ФРЕДЕРИКС Наталия Модестовна:
- Ширяев Борис. Фрейлина трёх императриц / Глава из кн.: Ширяев Борис. Неугасимая лампада. - М., 2002:
- "Анкета для базы данных о новомучениках и исповедниках [и выписки из следственного дела, лл. 374, 377 об.-378 об., 380 об., 381 об.]" // Рукопись (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет). Копия предоставлена настоятелем Никольского храма с. Петровка Вторая Александровского благочиния Горловской епархии Украинской Православной Церкви прот. Алексием Поповым.
|
Метки: фрейлины фредерикс красный крест |
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ.. |
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ..
Оригинал взят у 
ИЗ СОКРОВИЩ АЛУПКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ
<Ссылки на фотографии из текста «Примечаний»>

(Немножко по ходу мои комментарии в скобках и курсивом )
В апреле 1919 г. хозяйка алупкинского имения графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова с семейством младшей дочери графини И. И. Шереметевой покинула Крым на одном из английских кораблей, взявших курс на Мальту. (Речь идет о пресловутом рейсе линкора "Марльборо" из Ялты 21 апреля 1919 года, эвакуировавшего многочисленную родню Юсуповых-Эльстонов-Сумароковых) . Многочисленные беженцы были уверены, что свой дом и Родину они покидают временно. Оказалось, навсегда… В 1921 г. в знаменитом южнобережном дворце был открыт музей, в залах которого экспонировались художественные ценности, собранные несколькими поколениями Воронцовых. Семейные фотографии к их числу не относились, и в 1930-е гг. большая часть таковых вместе с письменными документами была передана в архивы Москвы и Крыма. Оставшиеся снимки полстолетия пролежали невостребованными в библиотеке музея. Лица, запечатленные на них, забылись, и научным сотрудникам пришлось немало потрудиться, чтобы заново определить «кто есть кто». В настоящее время многие старинные фотографии атрибутированы, изучены и заняли свое место в экспозициях музея-заповедника.
Самой старой в данном собрании является фоторепродукция с картины неизвестного художника «Обеденный стол в Кисловодске», сделанная в Тифлисе в 1859 г. Множество известных военных, служивших в 1850-е годы на Кавказе, собрались за большим столом, во главе которого наследник престола Великий князь Александр Николаевич и наместник Кавказа, светлейший князь М. С. Воронцов. Статичность фигур, застывшее выражение лиц указывают на то, что художник писал присутствующих на обеде не с натуры, а используя литографические портреты.( То есть? Фото картины, написанной с литографических портретов разных людей, собранных "до кучи"? )
Большой интерес представляет фотография Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Жена М. С. Воронцова умерла в 1880 году. Ей было 88 лет. Возможно, что портрет согбенной старушки в темном платье и белой кружевной накидке на голове — одно из последних изображений женщины, некогда воспетой А. С. Пушкиным.
Среди немногочисленных семейных фотографий Воронцовых 1860—1870-х гг. выделяется портрет их сына — Семена Михайловича в генеральском мундире с адъютантскими аксельбантами, орденом св. Александра Невского. В петлице знаки орденов, на груди медали и массивная цепь городского головы. 23 декабря 1863 г., по введению в Одессе нового общественного управления (утвержденного 30 апреля 1863 г.) светлейший князь Семен Михайлович Воронцов большинством голосов (122 против 12) был избран городским головой. На получение им по телеграфу уведомления об этом графа Толстого, 25 декабря телеграммой на имя последнего ответил: «Глубоко тронутый доверием граждан города Одессы, принимаю столь лестное для меня назначение и употреблю все усилия и старания, чтобы оказаться достойным их выбора». Первый городской голова пореформенной Думы св. кн. С. М. Воронцов много потрудился для Одессы, но, закончив срок своей службы, отказался от дальнейшего служения. С 1851 г. С. М. Воронцов был женат на вдове Марье Васильевне Столыпиной, урожденной княжне Трубецкой. Фотография этой знатной светской красавицы в белом платье с кружевами, ожерельем из крупного жемчуга и портрет С. М. Воронцова выполнены очень профессионально неизвестным мастером. Им мог быть знаменитый петербургский фотограф Г. А. Деньер (1820—1892), автор лаконичного и выразительного изображения графа П. А. Шувалова. Его матушка — графиня Софья Михайловна (дочь М. С. и Е. К. Воронцовой), запечатлена в интерьере столичного фотоателье С. Л. Левицкого (1819—1898) в пятидесятилетне возрасте. В отличие от М. В. Воронцовой она не блистает нарядами и красивой внешностью, однако полна внутреннего достоинства.
Свидетельством близких отношений Воронцовых с английскими родственниками может служить любительская фотография с дарственной надписью: «Семену Воронцову от Эммы де Вессей». На ней изображен пожилой джентльмен, сидящий в кресле, рядом с ним стоит молодая дама. Надпись на обороте, сделанная той же рукой поясняет, что это — Виконт де Вессей с дочерью Фанни. Эмма, жена виконта, по материнской линии приходилась двоюродной сестрой Семену Воронцову, а Фанни, судя по фотографии, была удивительно похожа на свою русскую бабушку леди Екатерину Пемброк, урожденную графиню Воронцову.
Очаровательные малыши: Иван в тирольском костюмчике и его сестра Сандра в платьице с открытыми плечиками и крупными бусами на шейке — представители следующего поколения Воронцовых, носивших уже двойную фамилию Воронцовых-Дашковых. Это дети графа И. И. Воронцова-Дашкова и Елизаветы Андреевны, урожденной графини Шуваловой. Фотографии сделаны в 1871 году в Меране (Австрия). Остальные семейные фотографии датируются 1905—1915 гг., т. е. периодом кавказского наместничества И. И. Воронцова-Дашкова. В основном это портреты самого Иллариона Ивановича, его многочисленных внуков и внучек, заснятых в разном возрасте в модном фотоателье Фредерика Генриховича Боассона и Фрица Осиповича Эгглера в Санкт-Петербурге. Молодое поколение Воронцовых-Дашковых часто навещало главу семейства на Кавказе. Об этом напоминают фотоснимки, сделанные в Тифлисе Е. Кларом, а так же придворными фотографами Б. Мищенко и Б. Козаком. При отце служил младший сын графа Александр Илларионович (Сашка) — поручик лейб-гвардии Гусарского полка и флигель-адъютант Е. И. В.
Одна из интереснейших частей коллекции — событийные фотографии. Это любительские снимки 1905—1908 гг., где Илларион Иванович запечатлен на военных смотрах и учениях в Душете, встречах с местными властями и народом в отдаленных селениях. В его присутствии в 1912 году произошло зафиксированное в отдельном альбоме событие — «Освящение вагона-церкви на станции Тифлис Экзархом Грузии, архиепископом Иннокентием» (фотограф В. К. Гриневич). Этим священнослужителем графине Елизавете Андреевне были подарены две фотографии с посвятительными надписями. В 1906 году Наместник с женой посетили Эчмиадзин, где и встретились с католикосом всех армян Х. Мкртичем и архиепископом Кеворгом Суренянцем, будущим католикосом Армении. По воспоминаниям командира конвоя Н. А. Бигаева, Наместник не покидал Кавказ в течение трех лет, и только с 1908 г. стал летом вновь выезжать на время отпуска в свое имение Новотомниково Тамбовской губернии. Неторопливые прогулки в лесу с женой и внуками, сбор грибов, пикники на природе, размеренная деревенская жизнь прибавляли сил и энергии 70-летнему Воронцову-Дашкову, в остальное время всецело поглощенному заботой о мирном процветании Кавказа. Он не покинул вверенный ему край и в годы Первой мировой войны, хотя здоровье его резко ухудшилось.
23 августа 1915 г., сдав дела вновь назначенному Наместником Кавказа Великому князю Николаю Николаевичу (младшему), И. И. Воронцов-Дашков уехал в Алупку. Его сопровождала жена Елизавета Андреевна, сын Александр и группа военных, с которыми он заснялся на память на ступенях Львиной террасы. 15 января 1916 г. граф мирно скончался во дворце, построенном в Крыму в 1828—1848 гг. для наместника Кавказа, фельдмаршала, светлейшего князя М. С. Воронцова, которому Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова приходилась родной внучкой. (Боюсь, что последнее утверждение просто ложь. Данный дворец, как и прочее имущество, было захвачено в период Французской революции и последующих военных действий. Только признаваться в грабежах и воровстве "великим князьям и графьям" не пристало. Посему были писаны сказки о наследственности и великих заслугах. Хотя против "заслуг" возразить и сложно. Вопрос только, у кого выслужили? )
ПРИМЕЧАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ ВОРОНЦОВЫХ, ВОРОНЦОВЫХ-ДАШКОВЫХ
01.

Фотография с картины неизвестного художника. Имеется пояснительный текст: «№ 6746. Обеденный стол в Кисловодске Государя Наследника, ныне благополучно царствующего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 21 сентября 1850 года, в доме статскаго советника А. Ф. Реброва. При оном присутствовали: с правой стороны Государя: князь М. С. Воронцов, Нач. Штаба П. А. Коцебу, князь А. И. Барятинский, Ф. А. Круковский, Л. М. (лейб-медик — прим. публ.) Двора Е. И. В. Енохин, Кап. Д. П. Золотарев, Полков. И. Д. Орбельян, Флигель-адютант граф П. А. Ламберг, князь Голицин, против Государя хозяин дома А. Ф. Ребров; с левой же стороны Государя: Генерал Ад. Заводовский, Ген.-Маиор Герасимов, Действ. Стат. Совет. Эрас. Андриевский, Г.-Маиор Д. А. Всеволожский, Ген.-Маиор И. И. Лещенко, Архитектор С. И. Уптон и Флигель-Адютант Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Гвардии-Полковник Г. Адлерберг. 1859 г. Гор. Тифлис.»
( Как прикажете понимать это высокое художество? Если принять на веру заявленную дату обеда, то перед нами не что иное, как сходка эльстонской братвы в процессе подготовки заговора и восстания 1853 года? Или же даты привычным образом сдвинуты назад и это что-то из событий времен охватившей Планету революции? В любом случае, имена стоит взять на заметку.)
02.

Воронцова Елизавета Ксаверьевна, урожденная графиня Браницкая (1792—1880), с 1819 г. жена гр. М. С. Воронцова (1782—1856). С 1823 года кавалерственная дама меньшого креста. В 1838 году пожалована в статс-дамы, с 1852 г. светлейшая княгиня. Неизвестный фотограф середины 1870-х гг.
(Старушка тоже из вояк? Или это фрейлинские титулы и награда? )
03.

Виконт де Вессей с дочерью Фанни. На лицевой стороне паспорту надпись на английском языке:“For Simon Woronzow From Ema de Vesse”, (Семену Воронцову от Эммы де Вессей), на оборотной стороне — “Viconot de Vesei & his daughter Fanni Marehionep of Bath. Photographed by his daughter Lady Richard Grosvenov”. (Виконт де Весей и его дочь Фанни. Фотография сделана его дочерью леди Ричард Гросвеноу)
Эмма де Вессей, урожденная Герберт (1819—?), пятая дочь Георга-Августа, 11 графа Пемброка и 8 графа Монтгомери (1759—1827) от графини Екатерины Семеновны Воронцовой (1783—1856). В 1839 г. вышла замуж за виконта де Вессей из аббатства Лейкс в Ирландии. От этого брака родились два сына и три дочери. Одна из них — Фанни — запечатлена с отцом на фотографии, сделанной в Англии в начале 1870-х гг.
04.

Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — светлейший князь, генерал-лейтенант, участник Крымской и Русско-турецких войн. Сын наместника Кавказа М. С. Воронцова и жены его Елизаветы Ксаверьевны. С 1851 года женат на М. В. Столыпиной, урожденной княжне Трубецкой. Неизвестный фотограф середины 1860-х гг.
(Только мне кажется странным упоминание первым делом фамилии бывшего мужа своей жены?)
05.

Воронцова Марья Васильевна, урожденная княжна Трубецкая (1819—1895) — светлейшая княгиня, в первом браке за флигель-адютантом Алексеем Григорьевичем Столыпиным (?—1847 г.). Неизвестный фотограф середины 1860-х гг.
(Лично у меня это мнимое родство со Столыпиными под большим вопросом.)
06.

Шувалова Софья Михайловна, урожденная графиня Воронцова (1825—1879), дочь М. С. и Е. К. Воронцовых, с 1844 г. жена графа А. П. Шувалова (1816—1876). Фотография С. Л. Левицкого (Фотоателье на Мойке, 30, Санкт-Петербург), 1870-е годы
07.

Шувалов Андрей Павлович (1816—1876) — граф, полковник, действительный статский советник, флигель-адютант. В 1838—1840 гг. член кружка «16-ти», сослуживец М. Ю. Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку. Активный участник Петербургского губернского земского собрания 1865—1867 гг., оппозиционер. Дважды в 1872 и 1875 гг. избирался предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии. С 1844 года женат на графине Софье Михайловне Воронцовой. Фотография 1870-х гг. с портрета А. П. Шувалова, написанного Ф. Винтерхальтером в Париже в 1857 г.
08.

Шувалов Петр Павлович (1819—1900) — граф, родной брат А. П. Шувалова. В 1838 г. закончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Камер-юнкер. С 1856 г.— внештатный помощник секретаря Государственного Совета. С 1860 г. действительный статский советник, камергер, Санкт-Петербургский Предводитель дворянства с 1854 по 1863 гг. и председатель Петербургского дворянского собрания по разработке проектов земских учреждений. В отставке с 1863 г. Женат с 1846 г. на Софье Львовне Нарышкиной (1829—1894), троюродной сестре гр. Софьи Михайловны Шуваловой. Неизвестный фотограф, 1870-е гг.
09.

Шувалов Павел Андреевич (1846—1885) — граф. Старший сын А. П. и С. М. Шуваловых. В 1882 году по высочайшему повелению ему, как наследнику майоратного имения в роде князей Воронцовых, разрешено присоединить к своей фамилии титул, герб и фамилию М. С. Воронцова. Женат с на баронессе Е. К. Пиллар фон Пильхау (1861—1939) ( в первом браке Столыпиной). Фотография Деньера (H. Denier). Санкт-Петербург, на Невском проспекте у Полицейского моста, 23. 1870-е годы
(По-моему, это уже тенденция - жениться на разведенках Столыпиных.. Ну или огромное желание хоть как примазаться к фамилии)
10.

11.

12.

13.

10—13 <11, 12> Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916) — граф, генерал от инфантерии, командир лейб-гвардии Гусарского полка (1867). Участник Кавказской войны (1859—1862), Туркестанского похода (1865—1866) и Русско-турецкой войны, свитский генерал, генерал-аютант, министр Императорского двора, канцлер Капитула российских орденов, председатель Главного управления Российского общества Красного Креста. Наместник Кавказа с 1905 по 1915 гг. Член Государственного Совета. Кавалер ордена св. Андрея, св. Владимира (3, 4 ст.), св. Георгия 4-ой степени, св. Станислава 1 ст., св. Анны 1 ст., Белого Орла, Красного Орла (Пруссия), Денеброг — Дания, Такова — Сербия, св. Александра Невского и Большого Креста Почетного Легиона. С 29. 01. 1867 г. ( Охотно верю в заслуженность ордена Красного Орла и очень сомневаюсь в получении Орла Белого )женат на графине Елизавете Андреевне Шуваловой (1845—1924). Портреты. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1905 г.
На оборотной стороне паспорту пометка карандашом: ЕВД (Елизавета Воронцова-Дашкова — Прим. публ.), 1905.
14.

Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна (1845—1924) — графиня, жена И. И. Воронцова-Дашкова. Статс-дама русских императриц, дама ордена св. Екатерины. Дочь графа Андрея Павловича Шувалова и его супруги Софьи Михайловны, урожденной графини Воронцовой. Фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1905 г.
(Вот здесь я не очень поняла.. мать была Воронцовой и дочь вышла замуж за Воронцова..
Надо связь отследить..)
15.

Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1868—1897) — граф. Старший сын Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых, полковник, старший офицер лейб-гвардии Гусарского полка, флигель-адютант Е. И. В. Великого князя Михаила Александровича. Наследник майоратного имения Воронцовых. С 1891 года женат на Варваре Давыдовне Орловой (1870—1915). Фотография F. Largajoli. Меран (Тироль). 1871 г. На оборотной стороне надпись: Ваня. Meran, Dicember 1871».
16.

Воронцова-Дашкова Александра Илларионовна (1869—1959) — графиня. Старшая дочь Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых, с 1890 г. замужем за графом Павлом Павловичем Шуваловым (1858—1905), убитым террористами в Москве в 1905 г. Фотография F. Largajoli. Меран. (Тироль). 1871 г.
( а здесь уже Воронцова, но замужем за Шуваловым, мать при этом получается тоже Шувалова? )
17.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович (1881—1938) — граф. Сын Иллариона Ивановича и Елизаветы Андреевны Воронцовых-Дашковых. Закончил Пажеский корпус, флигель-адютант Е. И. В., поручик лейб-гвардии Гусарского полка. Женат с 1919 г. на Анне Ильиничне Чавчавадзе. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1911 г. Справа под портретом подпись: «Сашка. 1911»
18.

Воронцова-Дашкова Варвара Давыдовна (1870—1915), урожденная Орлова, с 1890 г. жена графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова. Фотоателье Е. Клара. Тифлис. 1910 г. Под портретом внизу подпись:
«Sin. 1910». Синь — домашнее имя В. Д. Воронцовой-Дашковой
19.

Воронцова-Дашкова Варвара Давыдовна с младшим сыном Иваном (1898—1966). Фотоателье Е. Клара. Тифлис. 1908 г.
20.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1893—1920) — граф, сын Ивана Илларионовича и Варвары Давыдовны Воронцовых-Дашковых. Умер от тифа 22 января 1920 года в Новороссийске. Неизвестный фотограф. Санкт-Петербург. 1910-е годы
(Сомнительная информация. В 1919 году Воронцовы покинули "Родину" на "Марльборо". Как мог он снова оказаться в 1920 году в Новороссийске? Разве что был военным.)
21.

22.

21—22 Воронцова-Дашкова Софья Ивановна (1892—1958) — графиня, дочь Ивана Илларионовича и Варвары Давыдовны Воронцовых-Дашковых. С 1912 г. жена князя Владимира Леонидовича Вяземского (1889—1960). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
23.

Шувалова Александра Павловна (1893—1968) — графиня, дочь Павла Павловича и Александры Илларионовны Шуваловых. С 1912 г. жена князя Дмитрия Леонидовича Вяземского (1884—1917). Во втором браке за Александром Николаевичем Ферзеном (1895—1934). Воронцова-Дашкова Софья Ивановна — двоюродная сестра А. П. Шуваловой. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
24.

Вяземская (урожд. Воронцова-Дашкова) Софья Ивановна, княгиня. Фотоателье П. Жукова. Петроград, Морская 12. 1917 г. Под портретом внизу подпись: «Софи 1917.»
25.

26.

25-26 Шувалова Мария Павловна (1894—1973) — графиня, дочь Павла Павловича и Александры Илларионовны Шуваловых. С 1917 г. жена князя Дмитрия Александровича Оболенского (1882—1964). В разводе. В 1921 г. вышла замуж за графа Андрея Дмитриевича Толстого (1892—1963). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1914 г. Под портретом внизу подпись: «Мая 1914.» Мая — домашнее имя М. П. Шуваловой
27.

Воронцова-Дашкова Мария Илларионовна (1903—1997) — графиня. Дочь графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова (1877—1932) от брака с Ириной Васильевной Нарышкиной (1879—1917). С 1922 г. замужем за князем Никитой Александровичем Романовым (1900—1974), сыном вел. князя Александра Михайловича и его супруги вел. княгини Ксении Александровны. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
28.

Воронцов-Дашков Михаил Илларионович (1904—1983) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1934 на княжне М. П. Мещерской (р. 1912), разведены с 1941 г. Фотоателье A. Gecele. Санкт-Петербург, 1910 г.
29.

Воронцов-Дашков Роман Илларионович (1901—1993) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1927 г. на Жульетте Хадум. Разведены в 1928 г. Во втором браке (с 1975) жена — Е-К. Садтлер (1914—?). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
30.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович (1905—2003) — граф. Сын графа Иллариона Илларионовича Воронцова-Дашкова и Ирины Васильевны Нарышкиной. Женат с 1951 г. на А. Д. Мироновой (Никиш) (1911—1991). Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
31.

32.

31—32 Вяземский Борис Леонидович (1883—1917) — князь, с женой Елизаветой Дмитриевной, урожденной графиней Шереметевой (1893—1974), (вторым браком с 1921 г. за графом С. А. Чернышевым-Безобразовым (1894—1972). Фотоателье придворного фотографа Б. Мищенко. Тифлис. 1912—1915 гг.
33.

Кочубей Николай Васильевич (1885—1947) — офицер конногвардеец с женой Варварой Александровной, урожденной княжной Долгорукой (1885—1980), фрейлиной императриц. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
34.

Кочубей Варвара Александровна. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
35.

Долгорукая Софья Петровна (1907—1994) — княжна. Дочь князя П. А. Долгорукого (1883—1925) и Софьи Алексеевны (1887—1949), урожденной графини Бобринской. Фотоателье Боассона и Эгглера. Санкт-Петербург, Невский, 24. 1910-е гг.
36.

Строганов Павел Сергеевич (1823—1911) — граф, с женой Анной Дмитриевной, урожденной графиней Бутурлиной (?—1906). Неизвестный фотограф. Тамбовская Губ. 1906 г.
Под изображением надпись: «С. Знаменское-Кариян. 6 июля. 1906»
37 -38.(38-го фото нет)

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович — наместник Кавказа
Почтовая открытка Тифлис. 1905 г.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

<39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46> Граф И. И. Воронцов-Дашков на военных учениях. Неизвестный фотограф. Кавказ. 1905 г.
(Хороши "учения", надо заметить.. кого-то даже похоронили и крест поставили.. Бывает.)
47.

48.

49.

50.

<47-50> Граф И. И. Воронцов-Дашков в Душете. Неизвестный фотограф Кавказ. 1908 г.
51.

Воронцов-Дашков Александр Илларионович Фотограф Б. Козак (Придворная фотография Б. Мищенко. Преемник Б. Козак). Тифлис. 1915 г. Внизу под портретом подпись: «Сашка. Тифлис 1915»
52.

На оборотной стороне паспорту белая бумажная наклейка с машинописным текстом: «Судьи на джигитовке 1 мая 1915 г. 1. Граф Александр Илларионович Воронцов-Дашков. 2. Князь Гурамов. 3. Полковник Тускаев. 4. Командир конвоя Бигаев. 4. Адютант конвоя Перекотий». Неизвестный фотограф. Грузия. 1915 г.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

<53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62> Альбом в зеленом картонном переплете с надписью «10 сентября 12| Освящение вагона церкви на ст. Тифлис Экзархом Грузии, Архиепископом Иннокентием в присутствии Наместника Его Императорского Величества графа И. И. Воронцова-Дашкова и супруги его статс дамы Графини Елизаветы Андреевны». Фотографии В. К. Гриневича. Тифлис. 1912 г.
(Очень интересно. "Опиум для народа" набирает обороты?)
63.

Архиепископ Иннокентий (1862—1913), (в миру Иван Васильевич Беляев) постоянный член Святейшего Синода (1909—1913). В 1909 году стал Экзархом Грузии. Придворная фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1910-е гг.
64.

Архиепископ Иннокентий. На лицевой стороне паспорту надпись: «Ея Сиятельству
досточтимой графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. Экзарх Грузии Архиепископ Иннокентий». Придворная фотография Б. Мищенко. Тифлис. 1910-е гг.
65.

Мкртич (Хримян Хайрик) (1820—1907) — католикос всех армян. Автор богословских, поэтических и педагогических сочинений. Наместник Кавказа гр. И. И. Воронцов с женой Елизаветой Андреевной посетили больного католикоса в Эчмиадзине в декабре 1906 год. Фотосалон придворного фотографа Г. В. Трунова. Москва. 1900-е гг.
Надписи на армянском языке: под фотографией «на память от отца всех армян», на оборотной стороне: «графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. 20 декабря 1906 г.»
(А чего? До него ни Армении, ни армян не было что ли?)
66.

Кеворг (Геворг V) Суренянц (1846—1930) — католикос всех армян (1912—1930). Происходил из потомственных дворян. В 1868 г. окончил первую классическую гимназию в Тифлисе. Уехал в Эчмиадзин, где в 1871 г. рукоположен в дьяконы, затем в иеромонахи, а в 1872 г. — в архимандриты. В сентябре 1874 г. он был назначен преподавателем новооткрывшейся духовной академии Геворгян, через год — инспектором армянской духовной семинарии в Шуши и одновременно заместителем главы Карабахской епархии; в 1877 г. — настоятелем монастыря св. Товмы в Верхнем Агулисе и инспектором местных училищ; в октябре 1878 г. — викарием предводителя Александропольской епархии, где основал школу и церковь Сурб Аствацацин; в 1881 г. — заместителем главы Ереванской епархии; 9 мая 1882 г. Католикосом Геворгом IV рукоположен в епископы. В 1886 г. Суренянц был назначен главой Астраханской епархии, а в 1894—1904 гг. вел должность предводителя Тифлисской епархии. В январе 1895 г. получил титул архиепископа. В 1906 г. стал членом Синода св. Эчмиадзина. После смерти католикосов Мкртича I Хримяна и Маттеоса II Измирляна Г. Суренянц исполнял обязанности заместителя католикоса. 13 декабря 1911 г. он был избран Католикосом Всех Армян, а 1 июля 1912 г. — помазан. В период Балканских войн 1912—13 гг. и Армянских реформ 1912—14 гг., когда вновь был возбужден Армянский вопрос, Геворг V 2 октября 1912 г. обратился к правительству России с просьбой о вмешательстве и содействии возобновлению вопроса о реформах в Западной Армении. Специальным кондаком он образовал армянскую Национальную делегацию под руководством Погоса Нубара-паши и уполномочил ее отстаивать интересы армянского народа в европейских государствах. Католикос Всех Армян Геворг V Суренянц скончался 8 мая 1930 г. Фотоателье К. А. Шапиро. Санкт-Петербург. Невский пр., 18—12. 1894 г.
На оборотной стороне дарственная надпись: «Благословляю благочестивую графиню Елизавету Андреевну, Воронцовой — Дашковой 21 ноября 1907 г. м. Эчмиадзин. Смиренный богомолец Архиепископ Кеворг Суренян| В 1894 г. был представителем Патриарха при похоронах в Бозе почившего императора Александра III и при бракосочетании императора Николая II 14 ноября| Фотографическая карточка снята 1894 году».
67.

Кеворг (Геворг V) Суренянц. Фотоателье «Cabinet. Portrait». Россия, нач. ХХ века
На оборотной стороне надпись: «Благочестивая графиня, удостойте принять это приношение с свойственною Вам благосклонностью, как слабую дань признательности за Ваши милости и благодеяния. 21 ноября 1907 г. м. Эчмиадзин. Смиренный богомолец Архиепископ Кеворг Суренянц. Ея Сиятельству Графине Елизавете Андреевне Воронцовой-Дашковой. Фот. карточка снята в 1906 году»
(У кого-нибудь еще есть вопросы о том, кто основатель религий и с какой целью? Полюбуйтесь наградами смиренных богомольцев! Благо, что в отличие от нынешних, еще в одежках скромны и золотом не увешены. Наверное, еще не дотумкали, что это и доходный бизнес тоже )
68.

69.

70.

71.

72.

<68, 69, 70, 71,72> Ново-Томниково — родовое имение графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. В Тамбовской губернии. Неизвестный фотограф. Россия. 1908—1913 гг.
73.

74.

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович. Фотография Б. Козака. Тифлис. 1913 г.
75.

Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович с группой офицеров на Львиной террасе Воронцовского дворца. Фотография А. Э. Циммермана. Алупка. 1915 г
Публикация Г. Г. ФИЛАТОВОЙ
Метки: ВОРОНЦОВЫ-ДАШКОВЫ, Романовы, Юсуповы
|
Метки: дворянские владения воронцовы-дашковы |
Аксакова-Сиверс Татьяна Александровна (1892-1982) литератор |
Аксакова-Сиверс Татьяна Александровна (1892-1982)
литератор
1892, 25 октября (12 октября по старому стилю). — Родилась в Санкт-Петербурге. Отец – Александр Александрович Сиверс (1866–1954), служащий Главного Управления Уделов, генеалог, нумизмат. Мать – Александра Гастоновна Сиверс (урожд. Эшен, ок. 1870–1952). Брат – Александр Александрович Сиверс (1894–1929).
1898, апрель – 1899, февраль. — Развод родителей. Брак матери с Николаем Борисовичем Шереметевым.
1898–1903. — Воспитание в доме отца. Воспитательница – Юлия Михайловна Гедда. Друзья отца Н.Н. Муханов и Я.А. Элиасберг.
1902, август – 1903. — Поступление в первый класс гимназии С.А. Арсеньевой в Москве. Жизнь в семье бабушки Надежды Петровны Сиверс.
1903–1910. — Продолжение воспитания в семье матери. Светская жизнь семьи. Заграничные путешествия. Посещения Малого и Художественного театров.
1910–1913. — Поступление в Строгановское училище. Обучение в вышивальной мастерской. Дружба с братом Александром.
1914, 26 января. – 1915. — Замужество. Муж – Борис Сергеевич Аксаков. Свадебное путешествие в Египет. Известие о разводе матери. Назначение мужа земским начальником четвертого участка Тарусского уезда. Жизнь в деревне Спешиловка.
Начало первой мировой войны. Уход мужа на фронт комендантом санитарного поезда. Возвращение в Москву. Брак матери с князем Владимиром Алексеевичем Вяземским.
Перевод мужа командиром роты 56-го запасного полка Московского военного округа. Работа Т.А. Аксаковой на складе Красного Креста, размещенном великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в Николаевском дворце. Посещение курсов сестер милосердия Иверской общины.
1915, апрель. — Отъезд к матери в Попелево.
1915, 24 июля – 1916, 17 апреля. — Рождение сына Дмитрия. Женитьба брата Александра на Татьяне Николаевне Юматовой.
1916, весна. — Переезд в казенную кремлевскую квартиру. Февральская революция в Москве. Отъезд мужа на румынский фронт, Т.А. Аксаковой – к матери в Попелево. Ликвидация помещичьих хозяйств. Переезд в Козельск. Преподавание немецкого языка в учительской семинарии.
1918, февраль – апрель. — Переезд в Москву. Арест мужа. Свидание в Бутырской тюрьме. Обвинение в спекуляции. Помощь адвоката Якулова в освобождении Б.С. Аксакова. Прекращение дела на суде. Отъезд матери с Н.С. Брасовой в Гатчину.
1918. — Арест отца в Петербурге после убийства Урицкого. Хлопоты матери об освобождении отца через Остзейский комитет. Освобождение. Возращение отца к работе в Главархив. Угроза ареста матери. Ее бегство из Петрограда в Киев. Отъезд матери вместе с Брасовой из России.
1918, август – 1923. — Возвращение Т.А. Аксаковой в Козельск. Поступление на работу делопроизводителем молочной фермы. Дружба с Н.Н. Россетом. Его смерть. Сыпной тиф. Посещения Оптиной пустыни. Возвращение мужа из Добровольческой армии к семье (1920, май). Переезд в Калугу. Дружба с семейством Бруни. Знакомство с А.И. Толстой. Создание художественной артели.
1923, 13 ноября – 1924, конец апреля. — Поездка к матери в Висбаден. Возвращение в Калугу.
1924–1925. — Жизнь в Калуге. Знакомство со ссыльными. Дружба с Павлом Леонутовым.
1925, весна. — Арест брата по делу «лицеистов» в Ленинграде. Приговор: 10 лет заключения на Соловках с конфискацией имущества.
1926, апрель. — Отъезд к матери в Ниццу с сыном Дмитрием и племянником Александром.
1926, сентябрь – 1927. — Возвращение в Калугу. Жизнь мужа в Москве. Аксаковские вечера в Калуге. Организация мастерской художественной вышивки. Переезд в Ленинград. Отъезд мужа в связи с работой по контракту заведующим сельскохозяйственным снабжением Казахской республики.
1928, ноябрь – 1929, май. — Арест отца. Пребывание в Доме предварительного заключения (ДПЗ). Хлопоты и свидания с отцом. Перевод из тюрьмы домой в связи с болезнью. Его возвращение на Шпалерную. Приговор: 3 года ссылки в Туруханск.
Любовь Т.А. Аксаковой к Владимиру Сергеевичу Львову.
1929. — Расстрел брата Александра.
1930, 20 марта – 20 июля. — Арест мужа в Алма-Ате за срыв посевной кампании. Отъезд Т.А. Аксаковой в Алма-Ату. Жизнь в городе. Закрытие дела. Освобождение мужа. Его увлечение Л.Д. Некрасовой. Возвращение Т.А. Аксаковой в Ленинград.
1932, зима. — Арест В.С. Львова. Заключение в тюрьму на Нижегородской улице. Освобождение.
1933, лето – осень. — Освобождение отца из ссылки и поселение во Владимире. Поездки к отцу. Окончательный разрыв с мужем и отъезд его в Москву. Устройство на работу статистиком в пункт Охраны материнства и младенчества.
1934, сентябрь. — Развод.
1935, 8 февраля. — Арест В.С. Львова.
1935, 11 февраля – 30 марта. — Арест. Обыск. ДПЗ. Следователь Семеняго. Допросы. Состав заключенных. Условия содержания в тюрьме. Встреча с В.С. Львовым. Освобождение под подписку о невыезде с обязательством явиться на следующий день.
1935, 31 марта – 1937, октябрь. — Назначение в ссылку в Саратов на 5 лет. Ссылка В.С. Львова с родителями и семьями братьев в Куйбышев. Жизнь в Саратове. Работа вышивальщицей. Нелегальный приезд в Саратов В.С. Львова. Ходатайство через Е.П. Пешкову о воссоединении в Саратове. Известие о браке отца с Ольгой Геннадиевной Шереметевой. Переезд в Саратов Львова. Семейная драма. Охлаждение отношений.
1937, ночь со 2 на 3 ноября. — Арест. Обыск в квартире. Изъятие писем, фотографий, альбомов. Саратовская тюрьма. Следствие. Встречи со знакомыми. Известие об аресте В.С. Львова. Дружба с Натальей Мандрыка. Приговор от 24 декабря 1937 г.: 8 лет ИТЛ. Этап в Котлас. Котласский пересыльный пункт.
1938, август – 1941, июнь. — Пезмогский лагпункт Локчимлага. Состав заключенных лагеря. Болезнь. Работа в хирургическом отделении лагерной больницы. Врачи: Алексей Семенович Никульцев, Лев Васильевич Сахаров, Сергей Александрович Золотухин. Дружба с Любовью Ильиничной Емельяновой и Львом Владимировичем Гольденвейзером.
1941, июнь – 1943, лето. — Начало Великой Отечественной войны. Ужесточение режима в лагере. Помещение Т.А. Аксаковой в изолятор. Новое следствие. Возвращение в зону. Известие о гибели О.Г. Шереметевой. Досрочное освобождение по инвалидности. Направление в ссылку в Вятские Поляны Кировской области.
1943, 25 августа – 1967, весна. — Прибытие в Вятские Поляны. Поиски жилья и работы. Устройство старшей сестрой инфекционного отделения, затем дезинфектором в Вятско-Полянской районной больнице. Главврач Валентина Васильевна Колобова. Работа по совместительству преподавателем немецкого языка в школе рабочей молодежи. Ведение кружка английского языка в Доме техники завода. Перевод книги Акселя Мунте «Повесть о Сан-Микеле».
Переезд в Вятские Поляны Л.В. Гольденвейзера. Его судьба. Известие о смерти матери в Париже в 1952. Встречи с друзьями и знакомыми.
1943, октябрь. — Переезд отца из Тарусы в Москву. Его жизнь в семье Шереметевых, работа заведующим нумизматическим отделом Государственного Исторического музея. Нелегальные поездки Т.А. Аксаковой к отцу в Москву.
1954, 24 сентября. — Смерть отца.
1955, 27 сентября. — Первая реабилитация по делу 1937 года.
1957, 13 апреля. — Полная реабилитация.
1961, лето – 1969. — Подписание договора с Гослитиздатом о переводе книги А. Мунте. Издание книги «Легенда о Сан-Микеле».
1967, весна. — Переезд в Ленинград. Получение комнаты. Жизнь в Ленинграде.
1982. — Скончалась Т.А. Аксакова-Сиверс. https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=114
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=114
|
Метки: аксаковы сиверс |
Родственница писателей Аксаковых была гранд-дамой ковровского дворянства |
Родственница писателей Аксаковых была гранд-дамой ковровского дворянства
В 1790 году в селе Зименки Ковровского уезда скоропостижно умерла Анна Афанасьевна Чихачева, урожденная Аксакова, представительница старинного дворянского рода, из которого наиболее известны писатели Сергей Тимофеевич и Иван Сергеевич Аксаковы. Была замужем за состоятельным ковровским помещиком Михаилом Андреевичем Чихачевым.

(Герб рода Аксаковых)
Анна Аксакова-Чихачева была хлебосольной хозяйкой и одной из первых дам ковровского дворянского общества. Ее потомки занимали видное положение в Ковровском уезде на протяжении трех поколений вплоть до 1917 года.
http://www.ikovrov.ru/historyday/9415-23.html
(Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Сегодня, пожалуй, более всего известна его сказка «Аленький цветочек»)
В 1846 году в деревне Бараново Ковровского уезда в семье крестьянина-офени родился Яков Артемьевич Старостин, поэт и переводчик. В 1866 г. окончил Псковскую гимназию с серебряной медалью, а в 1870 г. – юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата. Встречался с И. С. Тургеневым. Его стихотворения были опубликованы в столичных журналах «Будильник», «Дело», «Вестник Европы». Материальную поддержку во время учебы ему оказывал псковский губернатор Пален, ставший в 1867 году министром юстиции. Будучи студентом, Окончив университет со степенью кандидата, он получил при содействии писателя и историка М.М. Стасюлевича место одного из помощников в Пскове у известного петербургского адвоката В.Д. Спасовича. Прослужил на этой должности не долго. В 1873 году его назначают судебным следователем в г. Белебей Уфимской губернии, затем он служит секретарем Уфимской объединенной палаты уголовного и гражданского суда. В Уфе он тяжело заболел и умер от чахотки в возрасте 32-х лет.

(Ильинский храм в селе Зименки Ковровского уезда, при котором была похоронена А.А.Аксакова-Чихачева)

(Деревня Бараново — родина Я.А. Старостина)
|
Метки: аксаковы |














































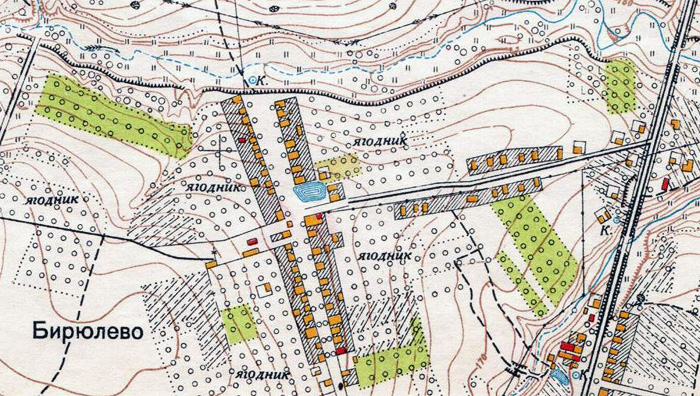



















 Кученкова Валентина Андреевна.
Кученкова Валентина Андреевна.



























