-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-ПАВ- ART_STYLE Amfidalla Belkina Huarapa Ishigo_girl Laticia Mauzer98k NAT-White Natali_Trofimova Olga_Mayb PaniPolak Prettyke Tatianka3 Vallensia-pro Wolodin-de-Mort ZIMA_ZIMA_LETO Zinur _Волконская_ anna_yermilova dumo4ka emmainna fewral75 fimalous grigorij33 julycaesar kukmor maxim1948 sanchoo seikomod slavapww sophiya svarogich yesmish zemf Анины_заметки Астронель Бегущая_с_волками Герыч Д-р_КРУГ ДПС_Блог Егорова_Таня Елена_Давлятшина Жемчужинка_души Иннеточка МИРАБЭЛЛА Оранжевы Йослик Пашечкин Эрмилинда цебенко_наталья
-Сообщества
-Трансляции
-Статистика
Мир-После-Труда: как он прорастет сквозь современную маниакально-трудовую культуру. |
В предыдущем конспекте была статья Дерека Томпсона «A WORLD WITHOUT WORK», опубликованная в июле 2015 The Atlantic
https://alex-rozoff.livejournal.com/588734.html
А теперь - конспект статьи на ту же тему через 3 года:
19 января 2018. Энди Беккет. "Постработа: радикальная идея мира без работы. Работа управляла нашей жизнью на протяжении веков, и сегодня она делает это больше, чем когда-либо. Но новое поколение мыслителей настаивает на том, что есть альтернатива".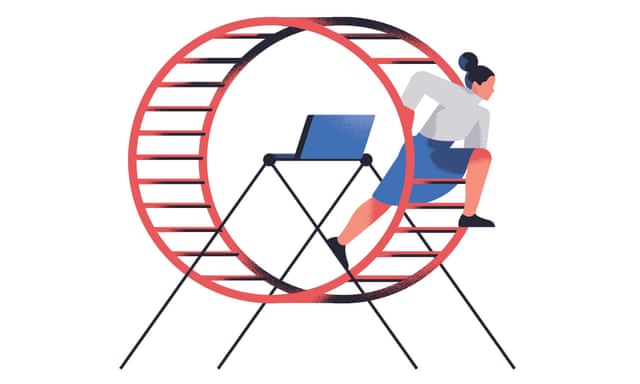
Post-work: the radical idea of a world without jobs - by Andy Beckett
https://www.theguardian.com/news/2018/jan/19/post-work-the-radical-idea-of-a-world-without-jobs
Поехали (цитируется выборочно)!
Работа — хозяин современного мира. Для большинства людей невозможно представить общество без нее. Она доминирует и пронизывает повседневную жизнь — особенно в Великобритании и США — более полно, чем когда-либо в новейшей истории. Одержимость возможностью трудоустройства проходит через образование.
Корпоративные суперзвезды демонстрируют свои грандиозные графики работы. Политики идеализируют «трудолюбивые семьи».
Друзья предлагают друг другу бизнес-идеи. Технологические компании убеждают своих сотрудников, что круглосуточная работа — это игра. Компании гиг-экономики утверждают, что круглосуточная работа — это свобода. Рабочие ездят дальше, меньше бастуют, позже уходят на пенсию. Цифровые технологии позволяют работе вторгаться в досуг.
Через все эти взаимоусиливающие приемы, работа все больше формирует наш распорядок и психику и вытесняет другие факторы.
Как написала Джоанна Биггс в своей вызывающей тревогу книге 2015 года «Весь день: портрет Британии за работой»
[Joanna Biggs, 2015, All Day Long: A Portrait of Britain at Work]:
«Работа — это… то, как мы придаем смысл своей жизни, когда религия, партийная политика и общество отпадают».
И тем не менее работа не работает для все большего количества людей, во все большем количестве вариантов. Мы сопротивляемся тому, чтобы признать это чем-то большим, чем отдельные проблемы — такова центральная роль работы в наших системах убеждений, — но свидетельства ее неудач окружают нас повсюду.
В качестве источника средств к существованию, не говоря уже о процветании, работа теперь недостаточна для целых социальных классов. В Великобритании почти две трети бедняков — около 8 миллионов человек — живут в работающих семьях. В США средняя заработная плата стагнирует уже полвека.
Как источник социальной мобильности и самоуважения работа все больше подводит даже самых образованных людей — якобы "системных победителей". В 2017 году половина недавних выпускников Великобритании были официально классифицированы как «работающие без диплома». В США «...Вера в работу рушится среди людей в возрасте от 20 до 30 лет, — говорит Бенджамин Ханникатт, ведущий историк труда, - Они не ищут на своей работе удовлетворения или социального продвижения». (Вы можете почувствовать это каждый раз, когда выпускник с отсутствующим взглядом делает вам латте.)
Работа становится все более ненадежной: больше неопределенного рабочего дня или краткосрочных контрактов; больше самозанятых людей с неустойчивыми доходами; больше корпоративных «реструктуризаций» для тех, кто все еще имеет стабильную работу. Как источник устойчивого потребительского бума и массового домовладения (главных успехов господствующей западной экономической политики на протяжении большей части 20-го века) работа сейчас ежедневно дискредитируется нашим продолжающимся долговым и жилищным кризисом.
Независимо от того, смотрите ли вы на экран весь день или продаете другим малооплачиваемым людям товары, которые они не могут себе позволить - все больше и больше работы кажется бессмысленной или даже вредной для общества (то, что американский антрополог Дэвид Грэбер назвал «bullshit job» в известной статье 2013 года). Среди прочего, Грэбер осудил «генеральных директоров частных компаний, лоббистов, специалистов по связям с общественностью…» и «вспомогательные отрасли (мойки для собак, круглосуточная доставка пиццы), которые существуют только потому, что все тратят так много времени на работу».
Экономические данные все больше подтверждают [тезис Грэбера]
Рост производительности или стоимости того, что производится за отработанный час, замедляется в богатом мире, несмотря на постоянное измерение производительности сотрудников и интенсификацию рабочего режима, что делает все больше и больше рабочих почти невыносимыми.
Неудивительно, что работа все чаще считается вредной для здоровья: «Стресс… огромный список дел… долгие часы сидения за столом», — отмечает профессор Cass Business School Питер Флеминг в своей новой книге «Смерть экономического человека».
[Peter Fleming, 2017, The Death of Homo Economicus].
Вдали от наших непредсказуемых, всепоглощающих рабочих мест все чаще игнорируются жизненно важные виды деятельности человека. У рабочих не хватает ни времени, ни энергии, чтобы внимательно воспитывать детей или ухаживать за пожилыми родственниками. «Кризис на работе — это также и кризис дома», — заявили в прошлогодней газете социальные теоретики Хелен Хестер и Ник Срничек.
Подобно слишком далеко разросшейся империи, работа может быть и более могущественной, и более уязвимой, чем когда-либо прежде. Мы хорошо знаем, как умножаются проблемы, связанные с работой, но нам кажется невозможным решить их все. Не пора ли начать думать об альтернативе?
Наша культура труда пытается скрыть свои недостатки, утверждая, что она неизбежна и естественна. «Человечество запрограммировано на работу», — пишет член парламента от консерваторов Ник Боулз в своей новой книге Square Deal.
Это аргумент, который большинство из нас давно усвоило.
Но не все.
Идея мира, свободного от работы, полностью или частично, периодически высказывалась — и высмеивалась, и подавлялась — на протяжении всего существования современного капитализма. Неоднократно обещание меньшего количества работы занимало видное место в видении будущего.
В 1845 году Карл Маркс писал, что в коммунистическом обществе рабочие будут освобождены от монотонности единственной выматывающей работы.
В 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к началу 21 века достижения в области технологий приведут к «эпохе досуга и изобилия», когда люди будут работать по 15 часов в неделю.
В 1980 году, когда роботы начали "депопуляцию фабрик", французский теоретик социальной и экономической теории Андре Горц заявил: «Упразднение труда — это процесс, который уже идет… То, как следует управлять [трудом] - составляет центральный политический вопрос ближайшие десятилетия».
С начала 2010-х годов, когда кризис работы стал все более неизбежным в США и Великобритании, эти еретические идеи были заново открыты и получили дальнейшее развитие. Сформировалось новое движение anti-work.
Они называют свое видение будущего: "post-work".
Для некоторых из них это будущее должно включать в себя универсальный базовый доход (UBI) — в настоящее время самая громкая и противоречивая идея после работы.
По мнению других - дискуссия о реалистичности и этичности UBI отвлекает от более серьезных проблем.
«Либо автоматизация, либо окружающая среда, либо и то, и другое заставят общество изменить отношение к работе», — говорит Дэвид Фрейн, радикальный молодой валлийский ученый, автор книги «Отказ от работы».
[David Frayne, 2015, The Refusal of Work]
«Мы утописты? Или утописты — те, которые думают, что работа будет продолжаться, как есть?»
Один из лучших аргументов post-work заключается в том, что, вопреки общепринятому мнению, идеология работы не является ни естественной, ни очень старой. «Работа в том виде, в каком мы ее знаем, появилась недавно», — говорит Ханникатт. Как и большинство историков, он определяет основные строительные блоки нашей культуры труда как:
- протестантизм 16-го века, который считал, что труд, требующий усилий, ведет к хорошей загробной жизни;
- промышленный капитализм 19 века, требовавший дисциплинированных рабочих и целеустремленных предпринимателей;
- стремление 20-го века к потребительским товарам и самореализации.
Возникновение современной трудовой этики из этой цепочки явлений было «исторической случайностью», говорит Ханникатт. До этого «все культуры рассматривали работу как средство для достижения цели, а не самоцель». От городских городов Древней Греции до аграрных обществ работу либо передавали на аутсорсинг другим — часто рабам, — либо это было то, что нужно сделать как можно быстрее, чтобы остальная часть жизни могла продолжаться.
Даже после того, как была установлена ??новая рабочая этика, рабочие модели продолжали меняться и подвергаться сомнению. Между 1800 и 1900 годами средняя продолжительность рабочей недели на западе сократилась с 80 до 60 часов. С 1900 по 1970-е годы оно неуклонно сокращалось: примерно до 40 часов в США и Великобритании. Давление профсоюзов, технологические изменения, просвещенные работодатели и государственное законодательство постепенно подрывали господство труда.
Иногда этот процесс ускоряли экономические потрясения.
В Великобритании в 1974 году консервативное правительство Эдварда Хита, столкнувшись с хронической нехваткой энергии, вызванной международным нефтяным кризисом и забастовкой шахтеров, ввело национальную трехдневную рабочую неделю. За два месяца, которые она длилась, нерабочая жизнь людей расширилась. Поля для гольфа были более загружены, а магазины рыболовных снастей сообщили о значительном увеличении продаж. Утроилась аудитория ночных ди-джеев радио BBC. Некоторые мужчины стали больше работать по дому. И даже Daily Mail расслабилась: один обозреватель предложил родителям «больше экспериментировать в своей сексуальной жизни, пока дети учатся в школе по пятидневной неделе».
Экономические последствия были неоднозначными. Заработки большинства людей упали (как и рабочее время). Тем не менее общенациональный опрос показал, что производительность повысилась примерно на 5%: огромный рост по обычным британским стандартам вялости. По словам консультантов, «внутри Уайтхолла и некоторых компаний это стимулировало мысли о возможности организации постоянной четырехдневной недели».
В 60-х и 70-х годах идеи о переосмыслении работы или полном отказе от нее были обычным явлением в Европе и США: от корпоративных ретритов до контркультуры и академических кругов, где была создана новая дисциплина: исследования досуга, изучение развлечений, таких как спорт и путешествия.
К концу 70-х можно было поверить, что относительно недавнему господству труда в более комфортных частях Запада может прийти конец. Впервые стали широко доступными трудосберегающие компьютерные технологии. Частые забастовки стали широко известными примерами прерывания и нарушения рабочего распорядка. И что особенно важно, заработная плата была достаточно высока для большинства людей, что делало работу менее практически необходимой...
...Вместо этого была восстановлена ??рабочая идеология. В течение 80-х агрессивно настроенные в поддержку бизнеса правительства Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана укрепили власть работодателей и использовали сокращение социальных пособий и моралистическую риторику, чтобы создать гораздо более суровые условия для людей, не имеющих работы. Дэвид Грэбер утверждает, что эта политика была мотивирована стремлением к общественному контролю. Он говорит, что после политических потрясений 60-х и 70-х годов «консерваторы были в бешенстве от перспективы того, что все станут хиппи и бросят работу. Они думали: «Что станет с общественным строем?»
Это звучит как теория заговора, но Ханникатт, который почти 50 лет изучал приливы и отливы работы на Западе, говорит, что Грэбер прав: «Я действительно думаю, что существует страх свободы — страх среди сильных мира сего, который люди могли бы найти что-нибудь получше, чем создавать прибыль для капитализма».
В 90-х и 00-х годах контрреволюцию в пользу работы консолидировали левоцентристские политики. В Великобритании при правительстве Тони Блэра политический и культурный статус работы достиг апогея. Безработица была ниже, чем за последние десятилетия. Работало больше женщин, чем когда-либо. Заработная плата большинства людей росла. Минимальная заработная плата при новых лейбористах и налоговые льготы для работающих подняли и субсидировали заработки низкооплачиваемых. Бедность неуклонно снижалась. Канцлер Гордон Браун, один из самых известных трудоголиков страны, похоже, нашел формулу, связывающую работу с социальной справедливостью.
Большая часть левых всегда организовывалась вокруг работы. Профсоюзные активисты боролись за его сохранение, выступая против увольнений, а иногда и за его продление, заключая соглашения о сверхурочной работе.
К началу 21 века трудовая культура казалась неизбежной.
Но...
...Трудовая культура теперь имеет гораздо больше критиков.
В США актуальны недавние вышедшие книги, такие как «Частное правительство: как работодатели управляют нашей жизнью (и почему мы не говорим об этом)» философа Элизабет Андерсон и « работы: почему полная занятость — плохая идея» историка Джеймса Ливингстон бросили вызов диктаторской власти и предположениям современных работодателей; а также глубоко укоренившееся американское представление о том, что решение любой проблемы требует усердия.
[Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk About It) by the philosopher Elizabeth Anderson, and No More Work: Why Full Employment Is a Bad Idea by the historian James Livingston]
В Великобритании даже профессионально оптимистичные деловые журналы начали фиксировать масштабы кризиса на работе.
Идеи post-work также циркулируют в партийной политике.
В апреле 2017 года партия зеленых предложила увеличить выходные до трех дней.
В 2016 году теневой канцлер Джон Макдоннелл заявил, что лейбористы разрабатывают предложение по UBI в Великобритании.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил на своей партийной конференции в сентябре 2017 года, что автоматизация «может стать воротами для нового урегулирования между работой и отдыхом — трамплином для расширенного творчества и культуры».
«Это было похоже на переломный момент», — говорит Уилл Стронг, глава Autonomy, британского аналитического центра, созданного в прошлом году для изучения кризиса работы и поиска путей выхода из него.
За пределами "интенсивно-рабочих" культур Британии и США сокращение работы уже давно стало господствующим понятием. Во Франции в 2000 году левое коалиционное правительство Лионеля Жоспена ввело максимальную 35-часовую рабочую неделю для всех сотрудников, отчасти для сокращения безработицы и продвижения гендерного равенства, под лозунгом «Меньше работай — живи больше». Закон не был абсолютным (разрешалась некоторая сверхурочная работа) и с тех пор был ослаблен, но многие работодатели предпочли сохранить 35-часовую рабочую неделю. В Германии крупнейший профсоюз IG Metall, представляющий рабочих-электриков и металлистов, проводит кампанию за то, чтобы посменные рабочие и лица, ухаживающие за детьми или другими родственниками, имели возможность перейти на 28-часовую рабочую неделю.
Даже в Великобритании и США мода на «downshift» и «баланс между работой и личной жизнью» в 90-х и 00-х годах представляла собой признание того, что интенсификация работы вредит нашей жизни. Но это были решения для отдельных людей, и часто для богатых людей, а не для общества в целом.
Защитники "трудовой культуры", такие как бизнес-лидеры и ведущие политики, обычно задаются вопросом, есть ли у сдерживаемых современных рабочих возможность наслаждаться или даже выживать в открытых перспективах времени и свободы, которые предвидят для них пострабочие мыслители. В 1989 году два психолога из Чикагского университета, Джудит ЛеФевр и Михали Чиксентмихайи, провели знаменитый эксперимент, который, казалось, подтверждал эту точку зрения.
Они наняли 78 человек с физическими, канцелярскими и управленческими должностями в местных компаниях и дали им электронные пейджеры. В течение недели с частыми, но случайными интервалами на работе и дома с этими сотрудниками связывались и просили заполнить анкеты о том, что они делают и как себя чувствуют.
Эксперимент показал, что люди сообщали о «намного больше положительных эмоций на работе, чем на отдыхе». На работе они регулярно находились в состоянии, которое психологи назвали «потоком» — «наслаждались моментом», используя в полной мере свои знания и способности, а также «обучались новым навыкам и повышали самооценку». Вдали от работы «поток» возникал редко. Сотрудники в основном предпочитали «смотреть телевизор, пытаться уснуть, [и] вообще прозябать, хотя им [не нравилось] заниматься этими вещами». Психологи пришли к выводу, что американские рабочие «неспособны организовать [свою] психическую энергию в неструктурированное свободное время».
Для post-work такие выводы — просто признак того, насколько нездоровой стала трудовая культура. Наша способность делать что-либо еще, только тренируемая короткими рывками, подобна мышце, которая атрофировалась.
Грэбер утверждает, что в менее трудоемком обществе наша способность к другим вещам, кроме работы, могла бы быть восстановлена ??снова. «Люди придумают, чем заняться, если вы дадите им достаточно времени. Однажды я жил в деревне на Мадагаскаре. Была эта сложная общительность. Люди околачивались в кафе, сплетничали, заводили романы, использовали магию. Это была очень сложная драма, которая может развиваться только тогда, когда у вас есть достаточно времени. Им точно не было скучно!»
Он утверждает, что и в западных странах отсутствие работы привело бы к более богатой культуре. "Послевоенные годы, когда люди меньше работали и было легче получать пособие по безработице, породили поэзию битов, авангардный театр, 50-минутные барабанные соло и всю великую британскую поп-музыку — формы искусства, на производство и потребление которых требуется время".
Города и городские центры сегодня устроены для работы и потребления — соучастника работы — и очень немногого другого; это одна из причин, по которой так сложно представить мир после работы.
Post-work — это будущее, но оно также наполнена утраченными возможностями прошлого.
Теперь, когда работа настолько вездесуща и доминирует, смогут ли нынешние деятели post-work добиться успеха там, где не добились все остальные их предшественники?
Ханникатт, историк труда, считает, что США сопротивляются идем post-work более чем другие страны — по крайней мере, на данный момент. Когда в 2014 году он написал для веб-сайта Politico статью, в которой аргументировал необходимость сокращения рабочего дня, он был шокирован реакцией, которую вызвала статья.
«Это был суровый опыт, — говорит он. - Были личные нападки по электронной почте и по телефону — что я какой-то коммунист и дьяволопоклонник». И все же он чувствует слабость за такими напряженными усилиями свернуть рабочий разговор. «Роль работы сильно изменилась раньше. Она снова изменится. Вероятно, она уже находится в процессе изменения. Поколение миллениалов знает, что работа Прекрасного Принца, которая удовлетворит все ваши потребности - пропала».
Как указывает Фрейн, «в некотором смысле мы уже живем в обществе post-work. Но это антиутопия». Офисные сотрудники постоянно прерывают свой долгий рабочий день онлайн-развлечениями. Это работники гигаэкономики, чей труд не играет никакой роли в их самосознании, и все люди в депрессивных, постиндустриальных местах, которые тихонько отказались от попыток заработать больше. Это призрак post-work пронизывает жесткую блестящую современную трудовую культуру - скрытой коррозией.
В октябре прошлого года исследование, проведенное Университетом Шеффилд-Халлам, показало, что безработица в Великобритании в три раза превышает официальное количество тех, кто претендует на пособие, благодаря людям, которые подпадают под более широкое определение безработицы, чем используется в Обзоре рабочей силы, или при получения пособия.
Создать более благоприятный мир post-work сейчас будет труднее, чем было бы в 70-е годы. В сегодняшней экономике с более низкой заработной платой предложение, чтобы люди выполняли меньше работы и меньше получали - трудно продать.
Как и в случае со свободным рыночным капитализмом в целом, чем хуже становится работа, тем труднее представить, как можно на самом деле избежать ее, настолько необходимы огромные шаги.
Но для тех, кто думает, что работа будет продолжаться как есть, существует предупреждение из истории. 1 мая 1979 года одна из величайших поборниц современной "трудовой культуры" Маргарет Тэтчер произнесла свою речь перед избранием премьер-министром. Она размышляла о характере перемен в политике и обществе. «Ереси одного периода, — говорила она, — всегда становятся ортодоксией следующего».
Конец работы, какой мы ее знаем, будет казаться немыслимым — пока это не произошло.
Продолжение темы - следует.
...Такие дела...
 источник -
источник -  alex_rozoff
alex_rozoff 
[0 ссылок 164 комментариев 3026 посещений]
читать полный текст со всеми комментариями
Метки:
alex_rozoff
https://alex-rozoff.livejournal.com/588734.html
А теперь - конспект статьи на ту же тему через 3 года:
19 января 2018. Энди Беккет. "Постработа: радикальная идея мира без работы. Работа управляла нашей жизнью на протяжении веков, и сегодня она делает это больше, чем когда-либо. Но новое поколение мыслителей настаивает на том, что есть альтернатива".
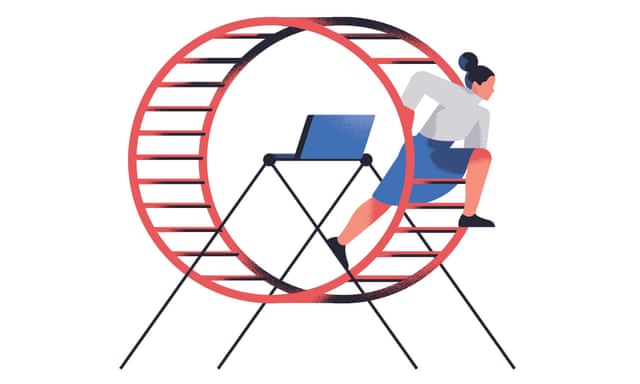
Post-work: the radical idea of a world without jobs - by Andy Beckett
https://www.theguardian.com/news/2018/jan/19/post-work-the-radical-idea-of-a-world-without-jobs
Поехали (цитируется выборочно)!
Работа — хозяин современного мира. Для большинства людей невозможно представить общество без нее. Она доминирует и пронизывает повседневную жизнь — особенно в Великобритании и США — более полно, чем когда-либо в новейшей истории. Одержимость возможностью трудоустройства проходит через образование.
Корпоративные суперзвезды демонстрируют свои грандиозные графики работы. Политики идеализируют «трудолюбивые семьи».
Друзья предлагают друг другу бизнес-идеи. Технологические компании убеждают своих сотрудников, что круглосуточная работа — это игра. Компании гиг-экономики утверждают, что круглосуточная работа — это свобода. Рабочие ездят дальше, меньше бастуют, позже уходят на пенсию. Цифровые технологии позволяют работе вторгаться в досуг.
Через все эти взаимоусиливающие приемы, работа все больше формирует наш распорядок и психику и вытесняет другие факторы.
Как написала Джоанна Биггс в своей вызывающей тревогу книге 2015 года «Весь день: портрет Британии за работой»
[Joanna Biggs, 2015, All Day Long: A Portrait of Britain at Work]:
«Работа — это… то, как мы придаем смысл своей жизни, когда религия, партийная политика и общество отпадают».
И тем не менее работа не работает для все большего количества людей, во все большем количестве вариантов. Мы сопротивляемся тому, чтобы признать это чем-то большим, чем отдельные проблемы — такова центральная роль работы в наших системах убеждений, — но свидетельства ее неудач окружают нас повсюду.
В качестве источника средств к существованию, не говоря уже о процветании, работа теперь недостаточна для целых социальных классов. В Великобритании почти две трети бедняков — около 8 миллионов человек — живут в работающих семьях. В США средняя заработная плата стагнирует уже полвека.
Как источник социальной мобильности и самоуважения работа все больше подводит даже самых образованных людей — якобы "системных победителей". В 2017 году половина недавних выпускников Великобритании были официально классифицированы как «работающие без диплома». В США «...Вера в работу рушится среди людей в возрасте от 20 до 30 лет, — говорит Бенджамин Ханникатт, ведущий историк труда, - Они не ищут на своей работе удовлетворения или социального продвижения». (Вы можете почувствовать это каждый раз, когда выпускник с отсутствующим взглядом делает вам латте.)
Работа становится все более ненадежной: больше неопределенного рабочего дня или краткосрочных контрактов; больше самозанятых людей с неустойчивыми доходами; больше корпоративных «реструктуризаций» для тех, кто все еще имеет стабильную работу. Как источник устойчивого потребительского бума и массового домовладения (главных успехов господствующей западной экономической политики на протяжении большей части 20-го века) работа сейчас ежедневно дискредитируется нашим продолжающимся долговым и жилищным кризисом.
Независимо от того, смотрите ли вы на экран весь день или продаете другим малооплачиваемым людям товары, которые они не могут себе позволить - все больше и больше работы кажется бессмысленной или даже вредной для общества (то, что американский антрополог Дэвид Грэбер назвал «bullshit job» в известной статье 2013 года). Среди прочего, Грэбер осудил «генеральных директоров частных компаний, лоббистов, специалистов по связям с общественностью…» и «вспомогательные отрасли (мойки для собак, круглосуточная доставка пиццы), которые существуют только потому, что все тратят так много времени на работу».
Экономические данные все больше подтверждают [тезис Грэбера]
Рост производительности или стоимости того, что производится за отработанный час, замедляется в богатом мире, несмотря на постоянное измерение производительности сотрудников и интенсификацию рабочего режима, что делает все больше и больше рабочих почти невыносимыми.
Неудивительно, что работа все чаще считается вредной для здоровья: «Стресс… огромный список дел… долгие часы сидения за столом», — отмечает профессор Cass Business School Питер Флеминг в своей новой книге «Смерть экономического человека».
[Peter Fleming, 2017, The Death of Homo Economicus].
Вдали от наших непредсказуемых, всепоглощающих рабочих мест все чаще игнорируются жизненно важные виды деятельности человека. У рабочих не хватает ни времени, ни энергии, чтобы внимательно воспитывать детей или ухаживать за пожилыми родственниками. «Кризис на работе — это также и кризис дома», — заявили в прошлогодней газете социальные теоретики Хелен Хестер и Ник Срничек.
Подобно слишком далеко разросшейся империи, работа может быть и более могущественной, и более уязвимой, чем когда-либо прежде. Мы хорошо знаем, как умножаются проблемы, связанные с работой, но нам кажется невозможным решить их все. Не пора ли начать думать об альтернативе?
Наша культура труда пытается скрыть свои недостатки, утверждая, что она неизбежна и естественна. «Человечество запрограммировано на работу», — пишет член парламента от консерваторов Ник Боулз в своей новой книге Square Deal.
Это аргумент, который большинство из нас давно усвоило.
Но не все.
Идея мира, свободного от работы, полностью или частично, периодически высказывалась — и высмеивалась, и подавлялась — на протяжении всего существования современного капитализма. Неоднократно обещание меньшего количества работы занимало видное место в видении будущего.
В 1845 году Карл Маркс писал, что в коммунистическом обществе рабочие будут освобождены от монотонности единственной выматывающей работы.
В 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к началу 21 века достижения в области технологий приведут к «эпохе досуга и изобилия», когда люди будут работать по 15 часов в неделю.
В 1980 году, когда роботы начали "депопуляцию фабрик", французский теоретик социальной и экономической теории Андре Горц заявил: «Упразднение труда — это процесс, который уже идет… То, как следует управлять [трудом] - составляет центральный политический вопрос ближайшие десятилетия».
С начала 2010-х годов, когда кризис работы стал все более неизбежным в США и Великобритании, эти еретические идеи были заново открыты и получили дальнейшее развитие. Сформировалось новое движение anti-work.
Они называют свое видение будущего: "post-work".
Для некоторых из них это будущее должно включать в себя универсальный базовый доход (UBI) — в настоящее время самая громкая и противоречивая идея после работы.
По мнению других - дискуссия о реалистичности и этичности UBI отвлекает от более серьезных проблем.
«Либо автоматизация, либо окружающая среда, либо и то, и другое заставят общество изменить отношение к работе», — говорит Дэвид Фрейн, радикальный молодой валлийский ученый, автор книги «Отказ от работы».
[David Frayne, 2015, The Refusal of Work]
«Мы утописты? Или утописты — те, которые думают, что работа будет продолжаться, как есть?»
Один из лучших аргументов post-work заключается в том, что, вопреки общепринятому мнению, идеология работы не является ни естественной, ни очень старой. «Работа в том виде, в каком мы ее знаем, появилась недавно», — говорит Ханникатт. Как и большинство историков, он определяет основные строительные блоки нашей культуры труда как:
- протестантизм 16-го века, который считал, что труд, требующий усилий, ведет к хорошей загробной жизни;
- промышленный капитализм 19 века, требовавший дисциплинированных рабочих и целеустремленных предпринимателей;
- стремление 20-го века к потребительским товарам и самореализации.
Возникновение современной трудовой этики из этой цепочки явлений было «исторической случайностью», говорит Ханникатт. До этого «все культуры рассматривали работу как средство для достижения цели, а не самоцель». От городских городов Древней Греции до аграрных обществ работу либо передавали на аутсорсинг другим — часто рабам, — либо это было то, что нужно сделать как можно быстрее, чтобы остальная часть жизни могла продолжаться.
Даже после того, как была установлена ??новая рабочая этика, рабочие модели продолжали меняться и подвергаться сомнению. Между 1800 и 1900 годами средняя продолжительность рабочей недели на западе сократилась с 80 до 60 часов. С 1900 по 1970-е годы оно неуклонно сокращалось: примерно до 40 часов в США и Великобритании. Давление профсоюзов, технологические изменения, просвещенные работодатели и государственное законодательство постепенно подрывали господство труда.
Иногда этот процесс ускоряли экономические потрясения.
В Великобритании в 1974 году консервативное правительство Эдварда Хита, столкнувшись с хронической нехваткой энергии, вызванной международным нефтяным кризисом и забастовкой шахтеров, ввело национальную трехдневную рабочую неделю. За два месяца, которые она длилась, нерабочая жизнь людей расширилась. Поля для гольфа были более загружены, а магазины рыболовных снастей сообщили о значительном увеличении продаж. Утроилась аудитория ночных ди-джеев радио BBC. Некоторые мужчины стали больше работать по дому. И даже Daily Mail расслабилась: один обозреватель предложил родителям «больше экспериментировать в своей сексуальной жизни, пока дети учатся в школе по пятидневной неделе».
Экономические последствия были неоднозначными. Заработки большинства людей упали (как и рабочее время). Тем не менее общенациональный опрос показал, что производительность повысилась примерно на 5%: огромный рост по обычным британским стандартам вялости. По словам консультантов, «внутри Уайтхолла и некоторых компаний это стимулировало мысли о возможности организации постоянной четырехдневной недели».
В 60-х и 70-х годах идеи о переосмыслении работы или полном отказе от нее были обычным явлением в Европе и США: от корпоративных ретритов до контркультуры и академических кругов, где была создана новая дисциплина: исследования досуга, изучение развлечений, таких как спорт и путешествия.
К концу 70-х можно было поверить, что относительно недавнему господству труда в более комфортных частях Запада может прийти конец. Впервые стали широко доступными трудосберегающие компьютерные технологии. Частые забастовки стали широко известными примерами прерывания и нарушения рабочего распорядка. И что особенно важно, заработная плата была достаточно высока для большинства людей, что делало работу менее практически необходимой...
...Вместо этого была восстановлена ??рабочая идеология. В течение 80-х агрессивно настроенные в поддержку бизнеса правительства Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана укрепили власть работодателей и использовали сокращение социальных пособий и моралистическую риторику, чтобы создать гораздо более суровые условия для людей, не имеющих работы. Дэвид Грэбер утверждает, что эта политика была мотивирована стремлением к общественному контролю. Он говорит, что после политических потрясений 60-х и 70-х годов «консерваторы были в бешенстве от перспективы того, что все станут хиппи и бросят работу. Они думали: «Что станет с общественным строем?»
Это звучит как теория заговора, но Ханникатт, который почти 50 лет изучал приливы и отливы работы на Западе, говорит, что Грэбер прав: «Я действительно думаю, что существует страх свободы — страх среди сильных мира сего, который люди могли бы найти что-нибудь получше, чем создавать прибыль для капитализма».
В 90-х и 00-х годах контрреволюцию в пользу работы консолидировали левоцентристские политики. В Великобритании при правительстве Тони Блэра политический и культурный статус работы достиг апогея. Безработица была ниже, чем за последние десятилетия. Работало больше женщин, чем когда-либо. Заработная плата большинства людей росла. Минимальная заработная плата при новых лейбористах и налоговые льготы для работающих подняли и субсидировали заработки низкооплачиваемых. Бедность неуклонно снижалась. Канцлер Гордон Браун, один из самых известных трудоголиков страны, похоже, нашел формулу, связывающую работу с социальной справедливостью.
Большая часть левых всегда организовывалась вокруг работы. Профсоюзные активисты боролись за его сохранение, выступая против увольнений, а иногда и за его продление, заключая соглашения о сверхурочной работе.
К началу 21 века трудовая культура казалась неизбежной.
Но...
...Трудовая культура теперь имеет гораздо больше критиков.
В США актуальны недавние вышедшие книги, такие как «Частное правительство: как работодатели управляют нашей жизнью (и почему мы не говорим об этом)» философа Элизабет Андерсон и « работы: почему полная занятость — плохая идея» историка Джеймса Ливингстон бросили вызов диктаторской власти и предположениям современных работодателей; а также глубоко укоренившееся американское представление о том, что решение любой проблемы требует усердия.
[Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk About It) by the philosopher Elizabeth Anderson, and No More Work: Why Full Employment Is a Bad Idea by the historian James Livingston]
В Великобритании даже профессионально оптимистичные деловые журналы начали фиксировать масштабы кризиса на работе.
Идеи post-work также циркулируют в партийной политике.
В апреле 2017 года партия зеленых предложила увеличить выходные до трех дней.
В 2016 году теневой канцлер Джон Макдоннелл заявил, что лейбористы разрабатывают предложение по UBI в Великобритании.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил на своей партийной конференции в сентябре 2017 года, что автоматизация «может стать воротами для нового урегулирования между работой и отдыхом — трамплином для расширенного творчества и культуры».
«Это было похоже на переломный момент», — говорит Уилл Стронг, глава Autonomy, британского аналитического центра, созданного в прошлом году для изучения кризиса работы и поиска путей выхода из него.
За пределами "интенсивно-рабочих" культур Британии и США сокращение работы уже давно стало господствующим понятием. Во Франции в 2000 году левое коалиционное правительство Лионеля Жоспена ввело максимальную 35-часовую рабочую неделю для всех сотрудников, отчасти для сокращения безработицы и продвижения гендерного равенства, под лозунгом «Меньше работай — живи больше». Закон не был абсолютным (разрешалась некоторая сверхурочная работа) и с тех пор был ослаблен, но многие работодатели предпочли сохранить 35-часовую рабочую неделю. В Германии крупнейший профсоюз IG Metall, представляющий рабочих-электриков и металлистов, проводит кампанию за то, чтобы посменные рабочие и лица, ухаживающие за детьми или другими родственниками, имели возможность перейти на 28-часовую рабочую неделю.
Даже в Великобритании и США мода на «downshift» и «баланс между работой и личной жизнью» в 90-х и 00-х годах представляла собой признание того, что интенсификация работы вредит нашей жизни. Но это были решения для отдельных людей, и часто для богатых людей, а не для общества в целом.
Защитники "трудовой культуры", такие как бизнес-лидеры и ведущие политики, обычно задаются вопросом, есть ли у сдерживаемых современных рабочих возможность наслаждаться или даже выживать в открытых перспективах времени и свободы, которые предвидят для них пострабочие мыслители. В 1989 году два психолога из Чикагского университета, Джудит ЛеФевр и Михали Чиксентмихайи, провели знаменитый эксперимент, который, казалось, подтверждал эту точку зрения.
Они наняли 78 человек с физическими, канцелярскими и управленческими должностями в местных компаниях и дали им электронные пейджеры. В течение недели с частыми, но случайными интервалами на работе и дома с этими сотрудниками связывались и просили заполнить анкеты о том, что они делают и как себя чувствуют.
Эксперимент показал, что люди сообщали о «намного больше положительных эмоций на работе, чем на отдыхе». На работе они регулярно находились в состоянии, которое психологи назвали «потоком» — «наслаждались моментом», используя в полной мере свои знания и способности, а также «обучались новым навыкам и повышали самооценку». Вдали от работы «поток» возникал редко. Сотрудники в основном предпочитали «смотреть телевизор, пытаться уснуть, [и] вообще прозябать, хотя им [не нравилось] заниматься этими вещами». Психологи пришли к выводу, что американские рабочие «неспособны организовать [свою] психическую энергию в неструктурированное свободное время».
Для post-work такие выводы — просто признак того, насколько нездоровой стала трудовая культура. Наша способность делать что-либо еще, только тренируемая короткими рывками, подобна мышце, которая атрофировалась.
Грэбер утверждает, что в менее трудоемком обществе наша способность к другим вещам, кроме работы, могла бы быть восстановлена ??снова. «Люди придумают, чем заняться, если вы дадите им достаточно времени. Однажды я жил в деревне на Мадагаскаре. Была эта сложная общительность. Люди околачивались в кафе, сплетничали, заводили романы, использовали магию. Это была очень сложная драма, которая может развиваться только тогда, когда у вас есть достаточно времени. Им точно не было скучно!»
Он утверждает, что и в западных странах отсутствие работы привело бы к более богатой культуре. "Послевоенные годы, когда люди меньше работали и было легче получать пособие по безработице, породили поэзию битов, авангардный театр, 50-минутные барабанные соло и всю великую британскую поп-музыку — формы искусства, на производство и потребление которых требуется время".
Города и городские центры сегодня устроены для работы и потребления — соучастника работы — и очень немногого другого; это одна из причин, по которой так сложно представить мир после работы.
Post-work — это будущее, но оно также наполнена утраченными возможностями прошлого.
Теперь, когда работа настолько вездесуща и доминирует, смогут ли нынешние деятели post-work добиться успеха там, где не добились все остальные их предшественники?
Ханникатт, историк труда, считает, что США сопротивляются идем post-work более чем другие страны — по крайней мере, на данный момент. Когда в 2014 году он написал для веб-сайта Politico статью, в которой аргументировал необходимость сокращения рабочего дня, он был шокирован реакцией, которую вызвала статья.
«Это был суровый опыт, — говорит он. - Были личные нападки по электронной почте и по телефону — что я какой-то коммунист и дьяволопоклонник». И все же он чувствует слабость за такими напряженными усилиями свернуть рабочий разговор. «Роль работы сильно изменилась раньше. Она снова изменится. Вероятно, она уже находится в процессе изменения. Поколение миллениалов знает, что работа Прекрасного Принца, которая удовлетворит все ваши потребности - пропала».
Как указывает Фрейн, «в некотором смысле мы уже живем в обществе post-work. Но это антиутопия». Офисные сотрудники постоянно прерывают свой долгий рабочий день онлайн-развлечениями. Это работники гигаэкономики, чей труд не играет никакой роли в их самосознании, и все люди в депрессивных, постиндустриальных местах, которые тихонько отказались от попыток заработать больше. Это призрак post-work пронизывает жесткую блестящую современную трудовую культуру - скрытой коррозией.
В октябре прошлого года исследование, проведенное Университетом Шеффилд-Халлам, показало, что безработица в Великобритании в три раза превышает официальное количество тех, кто претендует на пособие, благодаря людям, которые подпадают под более широкое определение безработицы, чем используется в Обзоре рабочей силы, или при получения пособия.
Создать более благоприятный мир post-work сейчас будет труднее, чем было бы в 70-е годы. В сегодняшней экономике с более низкой заработной платой предложение, чтобы люди выполняли меньше работы и меньше получали - трудно продать.
Как и в случае со свободным рыночным капитализмом в целом, чем хуже становится работа, тем труднее представить, как можно на самом деле избежать ее, настолько необходимы огромные шаги.
Но для тех, кто думает, что работа будет продолжаться как есть, существует предупреждение из истории. 1 мая 1979 года одна из величайших поборниц современной "трудовой культуры" Маргарет Тэтчер произнесла свою речь перед избранием премьер-министром. Она размышляла о характере перемен в политике и обществе. «Ереси одного периода, — говорила она, — всегда становятся ортодоксией следующего».
Конец работы, какой мы ее знаем, будет казаться немыслимым — пока это не произошло.
Продолжение темы - следует.
...Такие дела...

[0 ссылок 164 комментариев 3026 посещений]
читать полный текст со всеми комментариями
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |






