-Maffia New

На ЛиРУ есть мафия. Защити друзей!
Рейтинг игроков LiveInternet.ru
1. AnnLays - 1811 ( +67)
+67)2. _Prince_ - 923 (
 +195)
+195)3. Carolle - 907 (
 +299)
+299)4. x_BoNy_x - 780 (
 +74)
+74)5. Tommy Ford - 746 (
 +123)
+123)Максимальный выигрыш игроков LiveInternet.ru
1. SeXyАнГеЛоК - 396 000 Лир (18:59 19.08.2008)2. Tommy_Jonson - 139 050 Лир (02:19 01.09.2008)
3. Mello666 - 111 600 Лир (04:59 13.08.2008)
4. FallenFairy - 111 600 Лир (20:14 01.09.2008)
5. Фрау Меркель - 98 100 Лир (15:39 25.08.2008)
Мой рейтинг
не сыграно ни одной игры.Мой максимальный выигрыш
не сыграно ни одной игры.Данные обновляются раз в день при входе в игру
-Битвы

Я голосовал за Carrey

Carrey 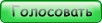
|

Нет_обещаниям 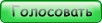
|
Прикиньте, еще есть много других битв, но вы можете создать свою и доказать всем, что вы круче!
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
[40] |
Мальчик в полосатой пижаме
The Boy in the Striped Pyjamas

4 сентября в Дублине состоялась премьера фильма Марка Германа "Мальчик в полосатой пижаме", снятого по мотивам нашумевшего романа ирландского писателя Джона Бойна.
Действие картины происходит во время Второй мировой войны. По сюжету, Бруно, восьмилетний сын офицера СС, ставшего комендантом Освенцима, знакомится с еврейским мальчиком Шмуэлем, находящимся по ту сторону колючей проволоки концентрационного лагеря. Между детьми, не понимающими, что происходит вокруг, в мире взрослых, завязывается дружба, в результате которой жизнь обоих принимает непредсказуемый оборот.

Маленьких друзей играют Аса Баттерфилд и Джек Скэнлон. В роли офицера СС снялся Руперт Френд известный по фильмам "Распутник", "Гордость и предубеждение". В фильме также играют Дэвид Тьюлис ("Омэн", "Гарри Поттер и Орден Феникса"), Вера Фармига ("Отступники", "Вторжение"). Музыку создал оскароносный композитор Джеймс Гомэр ("Титаник", "Апокалипсис"), в качестве оператора выступил Бенуа Дельом ("Предложение"). Фильм снят на студии Miramax.
Поначалу Руперт Френд отказался играть роль нацистского офицера. По словам актера, "этот персонаж напугал его. — В жизни я вовсе не таков. Но потом я понял, в чем смысл. Нужно было представить всю жестокость нацизма в человеческом обличье".

Роман Бойна стал бестселлером в 2006 году, было продано 3 миллиона экземпляров книги, которая была переведена на 30 языков. Сам писатель был в числе почетных гостей на премьере. Помимо него, ирландскую литературу там представляли Роди Дойл, Марита Конлон Маккина, Дермот Болгер и Патрисия Сканлан.
Кроме того, среди почетных гостей из Ирландии были обладатель ирландской премии в области кино и телевидения (IFTA) Лиам Кунингхэм, Син Макгинли и Орла Брэди.
The Boy in the Striped Pyjamas

4 сентября в Дублине состоялась премьера фильма Марка Германа "Мальчик в полосатой пижаме", снятого по мотивам нашумевшего романа ирландского писателя Джона Бойна.
Действие картины происходит во время Второй мировой войны. По сюжету, Бруно, восьмилетний сын офицера СС, ставшего комендантом Освенцима, знакомится с еврейским мальчиком Шмуэлем, находящимся по ту сторону колючей проволоки концентрационного лагеря. Между детьми, не понимающими, что происходит вокруг, в мире взрослых, завязывается дружба, в результате которой жизнь обоих принимает непредсказуемый оборот.

Маленьких друзей играют Аса Баттерфилд и Джек Скэнлон. В роли офицера СС снялся Руперт Френд известный по фильмам "Распутник", "Гордость и предубеждение". В фильме также играют Дэвид Тьюлис ("Омэн", "Гарри Поттер и Орден Феникса"), Вера Фармига ("Отступники", "Вторжение"). Музыку создал оскароносный композитор Джеймс Гомэр ("Титаник", "Апокалипсис"), в качестве оператора выступил Бенуа Дельом ("Предложение"). Фильм снят на студии Miramax.
Поначалу Руперт Френд отказался играть роль нацистского офицера. По словам актера, "этот персонаж напугал его. — В жизни я вовсе не таков. Но потом я понял, в чем смысл. Нужно было представить всю жестокость нацизма в человеческом обличье".

Роман Бойна стал бестселлером в 2006 году, было продано 3 миллиона экземпляров книги, которая была переведена на 30 языков. Сам писатель был в числе почетных гостей на премьере. Помимо него, ирландскую литературу там представляли Роди Дойл, Марита Конлон Маккина, Дермот Болгер и Патрисия Сканлан.
Кроме того, среди почетных гостей из Ирландии были обладатель ирландской премии в области кино и телевидения (IFTA) Лиам Кунингхэм, Син Макгинли и Орла Брэди.
Метки: кино |
[39] Чак Паланик "Невидимки". |
.jpg) Невидимки (англ. Invisible Monsters) (1994) — роман американского писателя Чака Паланика.
Невидимки (англ. Invisible Monsters) (1994) — роман американского писателя Чака Паланика.От издателя: «Роман, который Чак Паланик написал задолго до «Бойцовского клуба». Тогда эту книгу оценили очень немногие. Теперь — наконец‑то! — стало ясно: Чак Паланик был хорош всегда. Просто время воспринять его прозу настало не сразу… Эту книгу ее рассказчица пишет собственной кровью. Когда ее читаешь, возникает ощущение, что собственной кровью её написал Чак Паланик…»
Действие сосредоточено на трёх главных героях, включая рассказчицу, путешествующих по Северной Америке. Это книга, в которой нет содержания. Повествование перескакивает из одного времени в другое, а настоящие имена, изменяющиеся на протяжении романа, раскрываются только в конце.
Выстрел в кого бы то ни было в этом доме - моральный эквивалент
убийства автомобиля. Или пылесоса. Или куклы Барби. Он сравним с уничтожением
информации на компьютерном диске. С преданием книги огню. Наверное, точно так же
можно рассматривать любой акт убиения, совершенный в той или иной точке земного
шара. Все мы почти не отличаемся от продуктов, порожденных цивилизацией.
- У тебя есть родственники? - спросила сестра Кэтрин. Я написала на листке
бумаги, прикрепленном к специальной дощечке:
у меня был брат-гомосексуалист
он умер от СПИДa.
Монашка ответила:
- Наверное, так лучше. Правда ведь?
Ты ответственна за то, как ты выглядишь, не больше, чем автомобиль за то, как смотрится он. Иногда полезно размышлять о своей внешности именно подобным образом. Ты такой же продукт, как он. Продукт продукта продукта. Люди, создающие машины, - тоже продукты. И твои родители - продукты. Продуктами были их родители. Продуктами являются твои учителя. И священник в церкви, которую ты посещаешь
Истерики действенны лишь тогда, когда их кто-то наблюдает.
Все, о чем ты думаешь, приходит в голову миллионам других людей. Все твои действия кем-то повторяются. И никто ни за что не в ответе. Каждый из нас - это совместные усилия
Найди ценное в бесполезном. Рассмотри добро в том, что весь мир называет злом.
Ложь - не лучший фундамент для строительства нового будущего.
Мы запомнимся потомкам не тем, что создали, а тем, что разрушили.
Рождение человека - ошибка, которую он пытается исправить на протяжении всей жизни.
Что же касается моего мнения об этой книге, мне она понравилась, чем-то вначале напоминала "Ванильное небо", но все-таки радует, что только в начале. Скорее всего буду читать дальше Паланика. У него очень интересная позиция на некоторые вещи, например, на смерть, на наше предназначение, на Бога.
|
[38]Смешно^^ |
xxx:
Купила я тут оттеночный шампунь. Покрасила прядки и оставила в ванной. Ночью пришел пьяный отец. Поел, в душ и спать. Утром мало того что с похмела, так еще и проспал. Короче, чуть ли не в одних семейниках убежал.
xxx:
После работы пришел злой как собака и с РОЗОВЫМ ХАЕРОМ. Сказал, что обращения "Михалыч" и "Дулин" были самыми приличными. А потом говорит, что подарок мне принес и достает машинку для бритья.
xxx:
Думаю, конец мне, вот оно, возмездие!!!
xxx:
К счастью,попросил лишь помочь ему всю эту гомосятину сбрить. Ну я и решила для прикола ему сначала ирокез выбрить. Тут папец просек тему, включил "Секс Пистолс" и давай колбаситься. Надо же было бабушке именно в этот момент в гости наведаться.
xxx:
Узрев картину, она схватила поводок нашей собаки и со словами "Балбес, ты опять за старое!" начала стегать отца!!!
yyy:
Судя по бабушкиной реакции, буйная молодость у бати была.
Купила я тут оттеночный шампунь. Покрасила прядки и оставила в ванной. Ночью пришел пьяный отец. Поел, в душ и спать. Утром мало того что с похмела, так еще и проспал. Короче, чуть ли не в одних семейниках убежал.
xxx:
После работы пришел злой как собака и с РОЗОВЫМ ХАЕРОМ. Сказал, что обращения "Михалыч" и "Дулин" были самыми приличными. А потом говорит, что подарок мне принес и достает машинку для бритья.
xxx:
Думаю, конец мне, вот оно, возмездие!!!
xxx:
К счастью,попросил лишь помочь ему всю эту гомосятину сбрить. Ну я и решила для прикола ему сначала ирокез выбрить. Тут папец просек тему, включил "Секс Пистолс" и давай колбаситься. Надо же было бабушке именно в этот момент в гости наведаться.
xxx:
Узрев картину, она схватила поводок нашей собаки и со словами "Балбес, ты опять за старое!" начала стегать отца!!!
yyy:
Судя по бабушкиной реакции, буйная молодость у бати была.
Метки: юмор |
[37] |
Села перечитывать Мураками "Мой любимый sputnik". Помню как понравилась мне эта книга...а потом начинаешь переосмысливать и кажется, что она совершенно не интересная. Хочу убедиться в этом или обратном. Проверим.)
Я люблю этого человека. Точно.
(Лед, как и должно быть, - холодный,
розы, как и прежде, - красные.)
И любовь меня куда-то уносит.
Но вытащить себя из этого мощного потока невозможно. Ни единого шанса...
Остается лишь одно - довериться потоку.
(с) "Мой любимый sputnik"
Я люблю этого человека. Точно.
(Лед, как и должно быть, - холодный,
розы, как и прежде, - красные.)
И любовь меня куда-то уносит.
Но вытащить себя из этого мощного потока невозможно. Ни единого шанса...
Остается лишь одно - довериться потоку.
(с) "Мой любимый sputnik"
Метки: книги |
[36] |
Этот рассказ мне очень нравится.

Богомолов. Первая любовь
Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам
жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.
Мы встречались уже полгода - с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне
было девятнадцать, а ей - восемнадцать лет.
Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о
нашей любви и о том, что нас уже трое...
- Я чувствую, это мальчик! - шепотом в десятый раз уверяла она. Ей
страшно хотелось мне угодить: - И весь в тебя!
- В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя!
- думая совсем о другом, прошептал я.
Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и
сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой
редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.
На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не
смогла сделать рота штрафников - захватить высоту. Об этом в батальоне пока
знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку
майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:
- ...Значит, помни: сыграют "катюши", зеленые ракеты, и ты
пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!
...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не
думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я
мучительно соображал: что же делать?
- ...Я должна теперь спать за двоих, - меж тем шептала она окающим
певучим говорком. - Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и
все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть... Третий год уже - ведь не
может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а
войны нет, совсем нет...
- Я пойду сейчас к майору! - Высвободив руку из-под ее головы, я
решительно поднялся: - Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой.
Сегодня же!
- Да ты что? - привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула
к себе. - Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит!
И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным
шепотом медленно забасила:
- Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а
командиры теряют авторитет. Узнаю - выгоню любого! С такой характеристикой,
что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого
хотите и сколько хотите. А сейчас - запрещаю!..
Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась
беззвучно, - чтобы нас не услышали.
Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих
правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви - тем более.
- А я все равно к нему пойду!
- Тихо! - Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы,
вздохнув, зашептала: - Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка
будешь не ты!
- Не я?! - Меня бросило в жар. - То есть как не я?
- Ну какой же ты глупыш! - весело удивилась она. - Нет, не дай бог,
чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь
ты. А сейчас я скажу на другого!
Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость
поразила меня.
- На кого же ты скажешь?
- На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова.
- Нет, убитых не трогай.
- Гогда... на Киндяева.
Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор,
отправленный недавно в штрафную.
Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.
- Тихо! - Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. - Ты раздавишь
нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи
радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня
встретил. Со мной не пропадешь!
Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.
- Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!
- Ночью?.. Да ты что?!
- Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше
не можешь!
- Но это ж неправда!
- Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а
вдруг... А если завтра в бой?
- В бой? - Она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. - Нет, это
правда?
- Да-
Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию - такому знакомому - я
почувствовал, что она взволнована.
- Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня
комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к
майору завтра же. Решено?
Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.
- Думаешь, мне легко к нему идти? - вдруг прошептала она. - Да легче
умереть!.. Сколько раз он мне говорил: "Смотри, будь умницей!"...
А я... А еще комсомолка...
Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся
сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал
маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.
- Пусти, я пойду, - отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. - Ты
проводишь?..
...Мы спускались в темную, сырую балку, где помещался батальонный
медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я
поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не
оступилась, не оскользнулась, не упала. Словно я мог уберечь ее, оградить от
войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на
себе раненых...
С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было
вчера.
На рассвете сыграли "катюши", неистово били минометы и
дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты...
А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя
полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то,
поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень,
ничего не чувствуя, не видя и не слыша.
Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог
вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое...
Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она
осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды...
И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было
трое...
1958 г.
Владимир Богомолов. Второй сорт
Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и
виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на
часы.
Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным
лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим
полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к вниманию окружающих.
Для хозяев он - дядя Сережа или просто Сережа, а для гостей - Сергей
Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый.
И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым
многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал ему сам Горький.
Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавливают на верхней
полке серванта за толстым стеклом, на видном, почетном месте.
Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и
ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказывается.
Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей
тарелке да еще за вечер - с большими перерывами - выпивает рюмки три
коньяку, закусывая лимончиком.
Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала,
но виду не подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако просто и
мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже пошучивает.
А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент
первого курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской
деревушки.
В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно
вбирает столичные впечатления, способный без устали целыми днями слушать и
наблюдать. Попал он на именины случайно, и, увидев впервые в своей жизни
живого писателя, забыв о роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем,
ловит каждое его слово, и улыбку, и жест, смотрит с напряженным вниманием,
восхищением и любовью.
По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо
рассказывает о встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях,
под конец замечая с болью в голосе:
- Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох..
И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за
стеклом горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те
далекие, уже ставшие историей годы, вспоминает и воочию видит великого
коллегу.
Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати,
поперхнувшись от волнения, сдавленно кашляет будущий филолог.
Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив
короткий поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу
и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь,
неуверенно просит автограф.
Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию
- легко, разборчиво и красиво - на листке, где уже имеется редкий автограф:
экзотическая, непонятно замысловатая роспись Тони, африканского царька, а
ныне - студента-первогодка в университете Лумумбы.
Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его было уговаривают остаться
еще хоть немного, но он не может ("Делу - время, потехе - час... Да и шоферу
пора на отдых..."), и, услышав это с огорчением, более не настаивают.
Прощаясь, он дружески треплет вологодского паренька по плечу, целует
именинницу и ее мать, остальным же, устало улыбаясь, делает мягкий
приветственный жест поднятой вверх рукой.
Он уходит, и сразу становится как-то обыденно.
А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением
этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно
уставясь на горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная
сейчас не только глазам, манит его как ребенка - страшно хочется хотя бы
дотронуться. Наконец, не в силах более удерживаться, он с волнением,
осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. С благоговением
рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне донышка видит
бледно-голубоватую фабричную марку:
Дулево
--------------------
2с. - 51 г.
"Дулево... Второй сорт... 51-й год..." - мысленно повторяет он, в
растерянности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и
вдруг, пораженный в самое сердце, весь заливается краской и, расстроенный
буквально до слез, тихо, беспомощно всхлипывает и готов от стыда провалиться
сквозь землю - будто и сам в чем-то виноват.
...Дурная это привычка - заглядывать куда не просят. Дурная и
никчемная...
Владимир Богомолов. Кругом люди
Она дремлет в электричке, лежа на лавке и подложив руку под голову.
Одета бедно, в порыжелое кургузое пальтишко и теплые не по сезону коты; на
голове - серый обтерханный платок. Неожиданно подхватывается: "Это еще не
Рамень?" - садится и, увидев, что за окном - дождь, огорченно, с сердитой
озабоченностью восклицает:
- Вот враг!.. Ну надо же!
-- Грибной дождик - чем он вам помешал?
Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней - горожане,
поясняет:
- Для хлебов он теперь не нужон. Совсем не нужон. - И с мягкой
укоризной, весело: - Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!..
Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая - лет
восьмидесяти, но еще довольно живая. И руки заскорузлые, крепкие. Во рту
спереди торчат два желтых зуба, тонкие и длинные.
Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и
рассказывает о себе.
Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла, и родных - никого.
Ездила в Москву насчет "пензии", причем, как выясняется, и туда и обратно -
без билета.
И ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка...
- Как же так, без билета? И не ссадили?.. - удивляются вокруг. - А
контроль?.. Контроль-то был?
- Два раза приходил. А что контроль?.. - слабо улыбается она. -
Контроль тоже ведь люди. Кругом люди!.. - убежденно и радостно сообщает она
и, словно оправдываясь, добавляет: - Я ведь не так, я по делу...
В этом ее "Кругом люди!" столько веры в человека и оптимизма, что всем
становится как-то лучше, светлее...
Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч
километров, и точно так же возвращаться - уму непостижимо. Но ей верят. Есть
в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и
светятся приветливостью, и столь чистосердечна - вся наружу, - ей просто
нельзя не верить.
Кто-то из пассажиров угостил ее пирожком, она взяла, с достоинством
поблагодарив, и охотно сосет и жамкает, легонько жамкает своими двумя
зубами.
Меж тем за окном после дождя проглянуло солнышко и сверкает
ослепительно миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах.
И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блеклые старческие
глаза, смотрит как завороженная в окно и восторженно произносит:
- Батюшки, красота-то какая!.. Нет, вы поглядите...
1963 г.

Богомолов. Первая любовь
Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам
жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле.
Мы встречались уже полгода - с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне
было девятнадцать, а ей - восемнадцать лет.
Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о
нашей любви и о том, что нас уже трое...
- Я чувствую, это мальчик! - шепотом в десятый раз уверяла она. Ей
страшно хотелось мне угодить: - И весь в тебя!
- В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя!
- думая совсем о другом, прошептал я.
Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и
сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой
редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162.
На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не
смогла сделать рота штрафников - захватить высоту. Об этом в батальоне пока
знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку
майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне:
- ...Значит, помни: сыграют "катюши", зеленые ракеты, и ты
пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты!
...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не
думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я
мучительно соображал: что же делать?
- ...Я должна теперь спать за двоих, - меж тем шептала она окающим
певучим говорком. - Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро, и
все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть... Третий год уже - ведь не
может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а
войны нет, совсем нет...
- Я пойду сейчас к майору! - Высвободив руку из-под ее головы, я
решительно поднялся: - Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой.
Сегодня же!
- Да ты что? - привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула
к себе. - Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит!
И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным
шепотом медленно забасила:
- Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а
командиры теряют авторитет. Узнаю - выгоню любого! С такой характеристикой,
что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого
хотите и сколько хотите. А сейчас - запрещаю!..
Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась
беззвучно, - чтобы нас не услышали.
Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих
правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви - тем более.
- А я все равно к нему пойду!
- Тихо! - Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы,
вздохнув, зашептала: - Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка
будешь не ты!
- Не я?! - Меня бросило в жар. - То есть как не я?
- Ну какой же ты глупыш! - весело удивилась она. - Нет, не дай бог,
чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь
ты. А сейчас я скажу на другого!
Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость
поразила меня.
- На кого же ты скажешь?
- На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова.
- Нет, убитых не трогай.
- Гогда... на Киндяева.
Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор,
отправленный недавно в штрафную.
Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе.
- Тихо! - Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. - Ты раздавишь
нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи
радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня
встретил. Со мной не пропадешь!
Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха.
- Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же!
- Ночью?.. Да ты что?!
- Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше
не можешь!
- Но это ж неправда!
- Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а
вдруг... А если завтра в бой?
- В бой? - Она вмиг насторожилась, очевидно все поняв. - Нет, это
правда?
- Да-
Некоторое время она лежала молча. По ее дыханию - такому знакомому - я
почувствовал, что она взволнована.
- Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня
комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к
майору завтра же. Решено?
Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать.
- Думаешь, мне легко к нему идти? - вдруг прошептала она. - Да легче
умереть!.. Сколько раз он мне говорил: "Смотри, будь умницей!"...
А я... А еще комсомолка...
Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся
сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал
маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза.
- Пусти, я пойду, - отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. - Ты
проводишь?..
...Мы спускались в темную, сырую балку, где помещался батальонный
медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я
поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не
оступилась, не оскользнулась, не упала. Словно я мог уберечь ее, оградить от
войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на
себе раненых...
С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было
вчера.
На рассвете сыграли "катюши", неистово били минометы и
дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты...
А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя
полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то,
поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень,
ничего не чувствуя, не видя и не слыша.
Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог
вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое...
Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она
осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды...
И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было
трое...
1958 г.
Владимир Богомолов. Второй сорт
Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и
виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на
часы.
Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным
лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим
полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к вниманию окружающих.
Для хозяев он - дядя Сережа или просто Сережа, а для гостей - Сергей
Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый.
И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым
многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал ему сам Горький.
Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавливают на верхней
полке серванта за толстым стеклом, на видном, почетном месте.
Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и
ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказывается.
Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей
тарелке да еще за вечер - с большими перерывами - выпивает рюмки три
коньяку, закусывая лимончиком.
Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала,
но виду не подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако просто и
мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже пошучивает.
А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент
первого курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской
деревушки.
В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно
вбирает столичные впечатления, способный без устали целыми днями слушать и
наблюдать. Попал он на именины случайно, и, увидев впервые в своей жизни
живого писателя, забыв о роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем,
ловит каждое его слово, и улыбку, и жест, смотрит с напряженным вниманием,
восхищением и любовью.
По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо
рассказывает о встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях,
под конец замечая с болью в голосе:
- Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох..
И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за
стеклом горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те
далекие, уже ставшие историей годы, вспоминает и воочию видит великого
коллегу.
Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати,
поперхнувшись от волнения, сдавленно кашляет будущий филолог.
Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив
короткий поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу
и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь,
неуверенно просит автограф.
Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию
- легко, разборчиво и красиво - на листке, где уже имеется редкий автограф:
экзотическая, непонятно замысловатая роспись Тони, африканского царька, а
ныне - студента-первогодка в университете Лумумбы.
Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его было уговаривают остаться
еще хоть немного, но он не может ("Делу - время, потехе - час... Да и шоферу
пора на отдых..."), и, услышав это с огорчением, более не настаивают.
Прощаясь, он дружески треплет вологодского паренька по плечу, целует
именинницу и ее мать, остальным же, устало улыбаясь, делает мягкий
приветственный жест поднятой вверх рукой.
Он уходит, и сразу становится как-то обыденно.
А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением
этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно
уставясь на горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная
сейчас не только глазам, манит его как ребенка - страшно хочется хотя бы
дотронуться. Наконец, не в силах более удерживаться, он с волнением,
осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. С благоговением
рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне донышка видит
бледно-голубоватую фабричную марку:
Дулево
--------------------
2с. - 51 г.
"Дулево... Второй сорт... 51-й год..." - мысленно повторяет он, в
растерянности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и
вдруг, пораженный в самое сердце, весь заливается краской и, расстроенный
буквально до слез, тихо, беспомощно всхлипывает и готов от стыда провалиться
сквозь землю - будто и сам в чем-то виноват.
...Дурная это привычка - заглядывать куда не просят. Дурная и
никчемная...
Владимир Богомолов. Кругом люди
Она дремлет в электричке, лежа на лавке и подложив руку под голову.
Одета бедно, в порыжелое кургузое пальтишко и теплые не по сезону коты; на
голове - серый обтерханный платок. Неожиданно подхватывается: "Это еще не
Рамень?" - садится и, увидев, что за окном - дождь, огорченно, с сердитой
озабоченностью восклицает:
- Вот враг!.. Ну надо же!
-- Грибной дождик - чем он вам помешал?
Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней - горожане,
поясняет:
- Для хлебов он теперь не нужон. Совсем не нужон. - И с мягкой
укоризной, весело: - Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!..
Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая - лет
восьмидесяти, но еще довольно живая. И руки заскорузлые, крепкие. Во рту
спереди торчат два желтых зуба, тонкие и длинные.
Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и
рассказывает о себе.
Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла, и родных - никого.
Ездила в Москву насчет "пензии", причем, как выясняется, и туда и обратно -
без билета.
И ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка...
- Как же так, без билета? И не ссадили?.. - удивляются вокруг. - А
контроль?.. Контроль-то был?
- Два раза приходил. А что контроль?.. - слабо улыбается она. -
Контроль тоже ведь люди. Кругом люди!.. - убежденно и радостно сообщает она
и, словно оправдываясь, добавляет: - Я ведь не так, я по делу...
В этом ее "Кругом люди!" столько веры в человека и оптимизма, что всем
становится как-то лучше, светлее...
Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч
километров, и точно так же возвращаться - уму непостижимо. Но ей верят. Есть
в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и
светятся приветливостью, и столь чистосердечна - вся наружу, - ей просто
нельзя не верить.
Кто-то из пассажиров угостил ее пирожком, она взяла, с достоинством
поблагодарив, и охотно сосет и жамкает, легонько жамкает своими двумя
зубами.
Меж тем за окном после дождя проглянуло солнышко и сверкает
ослепительно миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах.
И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блеклые старческие
глаза, смотрит как завороженная в окно и восторженно произносит:
- Батюшки, красота-то какая!.. Нет, вы поглядите...
1963 г.
Метки: книги |
[35] |
Хуан Кабана (англ. Juan Cabana) – американский художник, скульптор, мистификатор, работающий в необычном жанре.
Его скульптуры созданы из реальной плоти некогда живых рыб и существ, из реальной чешуи, из костей и скелетов; утверждает, что они все реальны, что он действительно нашел их вблизи моря; до конца не последователен; время от времени, на некоторых форумах признаётся, что сделал эти скульптуры своими руками.(Wikipedia)
Одна из самых известных работ - чучело русалки, которое наделало немало шума в интернете.

Это работы, созданные за несколько последних лет. Juan Cabana использовал рыбьи шкуры, зубы, и кости, которые нашел на местном рыбном рынке. Использовал так же мертвых животных,которых обнаружил на побережье. Эти органические существа подверглись очистке, стерилизации, и были сохранены за счет использования таксидермии.





Его скульптуры созданы из реальной плоти некогда живых рыб и существ, из реальной чешуи, из костей и скелетов; утверждает, что они все реальны, что он действительно нашел их вблизи моря; до конца не последователен; время от времени, на некоторых форумах признаётся, что сделал эти скульптуры своими руками.(Wikipedia)
Одна из самых известных работ - чучело русалки, которое наделало немало шума в интернете.

Это работы, созданные за несколько последних лет. Juan Cabana использовал рыбьи шкуры, зубы, и кости, которые нашел на местном рыбном рынке. Использовал так же мертвых животных,которых обнаружил на побережье. Эти органические существа подверглись очистке, стерилизации, и были сохранены за счет использования таксидермии.





Метки: найдено |
[34] |
Здрасте!)
Столько всего нового за это время пока не писала тут))
Но времени все описывать нет...завал на работе...побежала делать) Потом все-все напишу))
P.S.Любимая, спасибо тебе огромное за все эти 3 дня!Эти дни просто замечательные...я, наверное, всю жизнь буду вспоминать их...Чудо моё))) Как жаль, что они закончались...(( Но будут и еще, я знаю))
P.P.S.Нашла сегодня в кармане 2 билета с фильма)) Буду хранить))))))
Столько всего нового за это время пока не писала тут))
Но времени все описывать нет...завал на работе...побежала делать) Потом все-все напишу))
P.S.Любимая, спасибо тебе огромное за все эти 3 дня!Эти дни просто замечательные...я, наверное, всю жизнь буду вспоминать их...Чудо моё))) Как жаль, что они закончались...(( Но будут и еще, я знаю))
P.P.S.Нашла сегодня в кармане 2 билета с фильма)) Буду хранить))))))
|
[33] |
Грустно что-то...
Рассказывать даже особо нечего..
Все как всегда...
дом.инет - школа - дом/инет - школа
вот так и живем..
Погода становится лучше.
Рассказывать даже особо нечего..
Все как всегда...
дом.инет - школа - дом/инет - школа
вот так и живем..
Погода становится лучше.
|
[32] |
Я приехала... пусто без тебя.
Не могла сказать тебе всего того, что хотела - стесняюсь.
И кстати, прости меня за чушь, которую я несла весь день.. =) Я больше так не буду.)
Мне безумно нравится твой запах... вспоминаю его, и руки теряют свою твердость..немеют и медленно опускаются на клавиатуру...
Не хочется уезжать, не хочется отпускать...не верится, что ты была рядом. Это все сон. Прекрасный, светлый, приятный сон.
Не могла сказать тебе всего того, что хотела - стесняюсь.
И кстати, прости меня за чушь, которую я несла весь день.. =) Я больше так не буду.)
Мне безумно нравится твой запах... вспоминаю его, и руки теряют свою твердость..немеют и медленно опускаются на клавиатуру...
Не хочется уезжать, не хочется отпускать...не верится, что ты была рядом. Это все сон. Прекрасный, светлый, приятный сон.
|
[31] |
Пора и мне написать) А то что-то я замоталась совсем.
За посленюю неделю устала дико: сплю мало(и не надо ругаться, Камилочка =))), ем ещё меньше, настроение плохое. Эх...прям, угнетающе все как-то. Ну ничего, заавтра все изменется, я тебя увижу! Соскучилась безумно!
Люблю - люблю- люблю! =)
За посленюю неделю устала дико: сплю мало(и не надо ругаться, Камилочка =))), ем ещё меньше, настроение плохое. Эх...прям, угнетающе все как-то. Ну ничего, заавтра все изменется, я тебя увижу! Соскучилась безумно!
Люблю - люблю- люблю! =)
|
[30] |
ВОт вчера я попала...((
Весь вечера добивалась того, что бы она не орала, добилась, а каков исход?
Подхожу к маме, говорю: "я в казань завтра поеду..." Что последовало дальше слишком нецензурно, поэтому, лучше не будем.
Камилочка, прости меня...
Я люблю тебя...люблю...
Весь вечера добивалась того, что бы она не орала, добилась, а каков исход?
Подхожу к маме, говорю: "я в казань завтра поеду..." Что последовало дальше слишком нецензурно, поэтому, лучше не будем.
Камилочка, прости меня...
Я люблю тебя...люблю...
|
[27] |
Стихи Агния Барто
Однажды я разбил стекло
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Оно под солнечным лучом
Сверкало и горело,
А я нечаянно - мячом!
Уж как мне нагорело!
И вот с тех пор,
С тех самых пор,
Как только выбегу
Во двор,
Кричит вдогонку кто-то:
- Стекло разбить охота?
Воды немало утекло
С тех пор, как я разбил стекло
Но стоит только мне вздохнуть,
Сейчас же спросит кто-нибудь:
- Вздыхаешь из-за стекол?
Опять стекло раскокал?
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Идет навстречу мне вчера,
Задумавшись о чем-то,
Девчонка с нашего двора,
Хорошая девчонка.
Хочу начать с ней разговор,
Но, поправляя локон,
Она несет какой-то вздор
Насчет разбитых окон.
Нет, в жизни мне не повезло,
Меня преследует стекло.
Когда мне стукнет двести лет,
Ко мне пристанут внуки.
Они мне скажут:
- Правда, дед,
Ты брал булыжник в руки,
Пулял по каждому окну?-
Я не отвечу, я вздохну.
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Вроде бы детское стихотворение...а меня задело почему-то...
Однажды я разбил стекло
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Оно под солнечным лучом
Сверкало и горело,
А я нечаянно - мячом!
Уж как мне нагорело!
И вот с тех пор,
С тех самых пор,
Как только выбегу
Во двор,
Кричит вдогонку кто-то:
- Стекло разбить охота?
Воды немало утекло
С тех пор, как я разбил стекло
Но стоит только мне вздохнуть,
Сейчас же спросит кто-нибудь:
- Вздыхаешь из-за стекол?
Опять стекло раскокал?
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Идет навстречу мне вчера,
Задумавшись о чем-то,
Девчонка с нашего двора,
Хорошая девчонка.
Хочу начать с ней разговор,
Но, поправляя локон,
Она несет какой-то вздор
Насчет разбитых окон.
Нет, в жизни мне не повезло,
Меня преследует стекло.
Когда мне стукнет двести лет,
Ко мне пристанут внуки.
Они мне скажут:
- Правда, дед,
Ты брал булыжник в руки,
Пулял по каждому окну?-
Я не отвечу, я вздохну.
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Вроде бы детское стихотворение...а меня задело почему-то...
Метки: книги |
[26] |
как же я устала...
когда это все кончится...
не могу больше слышать этот голос...
почему всегда только крики? почему нет нормального,человеческого разговора?
когда это все кончится...
не могу больше слышать этот голос...
почему всегда только крики? почему нет нормального,человеческого разговора?
|
|
[25] |
Просто нравится...
Цветаева.
Из цикла "Дон Жуан"
Ровно - полночь.
Луна - как ястреб.
- Что - глядишь?
- Так - гляжу!
- Нравлюсь? - Нет.
- Узнаешь? - Быть может.
- Дон-Жуан я.
- А я - Кармен.
22 февраля 1917
Цветаева.
Из цикла "Дон Жуан"
Ровно - полночь.
Луна - как ястреб.
- Что - глядишь?
- Так - гляжу!
- Нравлюсь? - Нет.
- Узнаешь? - Быть может.
- Дон-Жуан я.
- А я - Кармен.
22 февраля 1917
Метки: книги |
[24] |
вчера День такой странный был...
Утром хорошо,вечером плохо..=(
Скучаю по тебе,родная...
надо бы что-нибудь придумать...хочу к тебе снова.
Утром хорошо,вечером плохо..=(
Скучаю по тебе,родная...
надо бы что-нибудь придумать...хочу к тебе снова.
|
[23] |
Еще днем я могла бы сюда много написать, а теперь у меня прошло это состояние.
Если в кратце, то сегодня на уроке по обществу обсуждали стереотипное мышление: делала разные тесты, тренинги. В общем-то очень интересно. За это я и уважаю Н.К.(учительница), у нее всегда весело и интересно...может потому что она молодая еще, не знаю.
Ну так вот, было одно задание такое, надо было выбрать из 16 разных человек:
1)цыганка
2)явный гомосексуалист
3)скинхед
4)молодой человек больной СПИДом
5) неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
6)мусульманин, почетающий Бен Ладена
7)человек из деревни с большим мешком
8)африканский студент
9)подросток похожий на наркомана
10)бывший заключенный
11)таджик в национальной одежде
12)милиционер
13)индалид со складной коляской
14)кришнаит
15)китаец, который есть странно пахнущую еду
16)человек, который говорит на непонятном языке.
тех, -которые вам не приятны
-с которыми вы бы сели в одном купе, если бы вам было позволено выбирать
-с которыми вы бы не сели в одно купе.
Вот.. меня просто поразили их ответы.
Во-первых, добрая половина моих одноклассников не знают к то такое скинхеды. Поэтому от незнания они их не выбирали, хотя я считаю что выбор очевиден. Так кого же выбрали мои одноклассники?(вопрос с кем бы вы не поехали) Цыганку(потому что она ворует), бывшего заключенного(потому что страшно с ним ехать), молодого человека, который болеет СПИДОм(просто противно), всем парням не хотелось бы ехать с геем(да, конечно, гей сразу же к ним стал приставать...), мусульманина, почетающего Бен Ладена("он же террарист!!"), кришнаита("вот будет он тут сидеть с бубушчиками") и китайца(потому что от него пахнет.) Вот я и удивляюсь...как так? я могу каждый их ответ оспорить, но они и слушать не хотят...потому что они так считают и все тут.
Ну что плохого в человеке, который более СПИДом? Он что заразит их или убьет? Да,он болен, смертельно болен...но все мы когда-то умрем, но почему же мы не поимся самих себя? Потому что мы не любим тех, кто не похож на нас, тех, о ком мы не знаем ничего. Неизвестность всегда пугает, а такая, подкрепленная чувством самосохранения, тем более.
Мусульманин, почетающий Бен Ладена...террарист..хах) Они не знали, что на родине, в Сайдовской Аравии,Бен Ладен национальный герой, что он поднял экономику страны, что при нем жизнь для жителей страны в большинстве своем наладилась. Нет, я не оправдываю все негативные. порой просто ужасные деяния этого человека, но так как судят они нельзя.
Кришнаит..получается, страшно ехать с человеком, который исповедует другую веру? Думаю, нет.
Во-вторых, зашел разговор о гомосексуалистах...ох,ппц... что было, я думала что с ума сойду от их ответов. Двое из тех с кем я нормально общаюсь ненавидят таких людей, считают что это не правильно. Хах...Ванька(один из них..двоих)) сказал, что таких надо отстреливать, тогда Н.К. спросила его, чтобы он сделал если его сын или брат был геем, он не шутя повторил свои слова. Вот это меня и удивляет...толи он просто не осознает что говорит, хотя он не из тех людей.. совсем не дурак. Но его ответ меня просто шокировал, потом еще Оля...ой..страшно вспоминать..бббрр! Значит, по их мнению хорошо когда человек-скинхед и плохо, когда он-гей!?!?!?
Конечно,не все так плохо, не все так считают. Несколько человек, я слышала, сказали, что они не виноваты, что это природа у гомосексуалистов такая, что они нормальные, обычные люди. Хах, еще рассмешило мнение о том, что все геи добрые, нежные, ласковые, женоподобные...хах..ну-ну, тогда все русские вечнопьяные, ходят в ушанках по морозу и играют на горможке, а медведи им пританцовывают)))
Ладно, не буду продолжать....я просто зла, растроена...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перейдем к приятному)
Ты приедешь!!!!!!!!










я счастлива...=)
Если в кратце, то сегодня на уроке по обществу обсуждали стереотипное мышление: делала разные тесты, тренинги. В общем-то очень интересно. За это я и уважаю Н.К.(учительница), у нее всегда весело и интересно...может потому что она молодая еще, не знаю.
Ну так вот, было одно задание такое, надо было выбрать из 16 разных человек:
1)цыганка
2)явный гомосексуалист
3)скинхед
4)молодой человек больной СПИДом
5) неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
6)мусульманин, почетающий Бен Ладена
7)человек из деревни с большим мешком
8)африканский студент
9)подросток похожий на наркомана
10)бывший заключенный
11)таджик в национальной одежде
12)милиционер
13)индалид со складной коляской
14)кришнаит
15)китаец, который есть странно пахнущую еду
16)человек, который говорит на непонятном языке.
тех, -которые вам не приятны
-с которыми вы бы сели в одном купе, если бы вам было позволено выбирать
-с которыми вы бы не сели в одно купе.
Вот.. меня просто поразили их ответы.
Во-первых, добрая половина моих одноклассников не знают к то такое скинхеды. Поэтому от незнания они их не выбирали, хотя я считаю что выбор очевиден. Так кого же выбрали мои одноклассники?(вопрос с кем бы вы не поехали) Цыганку(потому что она ворует), бывшего заключенного(потому что страшно с ним ехать), молодого человека, который болеет СПИДОм(просто противно), всем парням не хотелось бы ехать с геем(да, конечно, гей сразу же к ним стал приставать...), мусульманина, почетающего Бен Ладена("он же террарист!!"), кришнаита("вот будет он тут сидеть с бубушчиками") и китайца(потому что от него пахнет.) Вот я и удивляюсь...как так? я могу каждый их ответ оспорить, но они и слушать не хотят...потому что они так считают и все тут.
Ну что плохого в человеке, который более СПИДом? Он что заразит их или убьет? Да,он болен, смертельно болен...но все мы когда-то умрем, но почему же мы не поимся самих себя? Потому что мы не любим тех, кто не похож на нас, тех, о ком мы не знаем ничего. Неизвестность всегда пугает, а такая, подкрепленная чувством самосохранения, тем более.
Мусульманин, почетающий Бен Ладена...террарист..хах) Они не знали, что на родине, в Сайдовской Аравии,Бен Ладен национальный герой, что он поднял экономику страны, что при нем жизнь для жителей страны в большинстве своем наладилась. Нет, я не оправдываю все негативные. порой просто ужасные деяния этого человека, но так как судят они нельзя.
Кришнаит..получается, страшно ехать с человеком, который исповедует другую веру? Думаю, нет.
Во-вторых, зашел разговор о гомосексуалистах...ох,ппц... что было, я думала что с ума сойду от их ответов. Двое из тех с кем я нормально общаюсь ненавидят таких людей, считают что это не правильно. Хах...Ванька(один из них..двоих)) сказал, что таких надо отстреливать, тогда Н.К. спросила его, чтобы он сделал если его сын или брат был геем, он не шутя повторил свои слова. Вот это меня и удивляет...толи он просто не осознает что говорит, хотя он не из тех людей.. совсем не дурак. Но его ответ меня просто шокировал, потом еще Оля...ой..страшно вспоминать..бббрр! Значит, по их мнению хорошо когда человек-скинхед и плохо, когда он-гей!?!?!?
Конечно,не все так плохо, не все так считают. Несколько человек, я слышала, сказали, что они не виноваты, что это природа у гомосексуалистов такая, что они нормальные, обычные люди. Хах, еще рассмешило мнение о том, что все геи добрые, нежные, ласковые, женоподобные...хах..ну-ну, тогда все русские вечнопьяные, ходят в ушанках по морозу и играют на горможке, а медведи им пританцовывают)))
Ладно, не буду продолжать....я просто зла, растроена...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перейдем к приятному)
Ты приедешь!!!!!!!!
я счастлива...=)
|
[22] |
Сегодня поняла, что не хочу видеть родителей старыми...((
Смотрела фотки старые...они молодые там, да даже 3 года назад были молодые, не седые.
А теперь как то страшно...
Смотрела фотки старые...они молодые там, да даже 3 года назад были молодые, не седые.
А теперь как то страшно...
|
[21] |
Меня пугают мой сны...уже второй день.
Такой бред снится...в каждом сне есть один бывший одноклассник, которого я терпеть не могу.
бррр...за что мне эти кошмары?
сегодня 2 недели как мы не виделись...
Такой бред снится...в каждом сне есть один бывший одноклассник, которого я терпеть не могу.
бррр...за что мне эти кошмары?
сегодня 2 недели как мы не виделись...
|






