-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Рer aspera ad astra
Автомат |
В 1841году начальник I-го отделения в департаменте уделов Иван Тимофеевич Калашников выпустил книгу "Автомат." Через 107лет Михаилом Тимофеевичем Калашниковым будет выпущен автомат под названием "7.62-мм автомат Калашниковы." Такой вот курьез истории.
Это нравоучительный роман о судьбе сибирского чиновника Евгения Судьбина. Жизнь Cудьбина описывается от рождения до зрелости. Евгений родился в Восточной Сибири на берегах реки Ангары. Рано лишился матери. Получил достаточно хорошее образование в гимназии. В отрочестве и ранней юности увлекался литературой, философией, искусством, следил за новинками науки.
Однажды Евгений встречает Петра Алексеевича Нейвина, который и определяет его дальнейшее мировоззрение. В молодости Нейвин, также как и Евгений, увлекался новейшей философией и вольнодумством, из-за чего и пострадал — был сослан в Иркутск. Перенесённые трудности полностью изменили его взгляды на жизнь. Нейвин начинает проповедовать против «гнусного шарлатанства» материалистической философии и пропагандирует религию как единственное спасение для человека. Нейвин становится духовным наставником Евгения, ведёт с ним нравоучительные беседы.
В финале романа Евгений заболевает и, находясь в бреду, видит сон. Во сне он сталкивается с неким Профессором в облике Сатаны. «Из уст его лилось развращение и богохульство под фирмою философии. Главная тема его учения состояла в том, что жизнь дана на время, что могила есть предел существования и что надобно пользоваться жизнью и жить только для себя». Евгений поддаётся искушению и начинает верить, что у него нет души, что он автомат и «голова у него алебастровая». Ему снится, что он убивает всех людей, которые были ему дороги и падает в геенну огненную. Однако в последний момент к нему является Ангел и говорит: «Ты спасён! Возвратись на землю, и раскайся в твоём заблуждении». Евгений кается и просыпается. Болезнь мгновенно отходит. Жена Евгения Ольга радуется, что он выздоровел и сообщает, что его назначили на новое место и его семья больше не будет терпеть нужду.
Данная же вещь даже вызвала вот такой отзыв из под пера Белинского:
"Требования читателей также различны, как и сами читатели; а между читателями есть множество таких, для которых каждая капля слёз чувствительного и великодушного сибирского чиновника покажется глубже и беспредельнее океана, потому что в этой капле «погружалась целая вечность неописанного блаженства». Другие, может быть, пожалеют, зачем автор, увлекаемый сценами любви, которые он изображает, по-своему, весьма интересно, — зачем он не посвятил больше труда изображению Сибири и нравов её жителей. Мы согласны, что тогда бы его повесть была бы ещё интереснее. «Автомат» написан языком правильным и приятным, а местами и романтически-восторженным."

|
|
К вопросу о медецине и человеческой природе |
Из книги В.В. Вересаева -"Записки врача"

Прошло много времени, прежде чем я свыкся с силами медицины и смирился
перед их ограниченностью. Мне было стыдно и тоскливо смотреть в глаза
больному, которому я был не в силах помочь; он, угрюмый и отчаявшийся, стоял
передо мною тяжким укором той науке, которой представителем я являлся, и в
душе опять и опять шевелилось проклятье этой немощной науке.
Was hab' ich,
Wenn ich nicht alles habe.
Что есть у меня,
Если у меня нет всего?
Этому я могу помочь, этому нет; а все они идут ко мне, все одинаково
хотят быть здоровыми, и все одинаково вправе ждать от меня спасения. И так
становятся понятными те вопли отчаянной тоски и падения веры в свое дело,
которыми полны интимные письма сильнейших представителей науки. И чем кто из
них сильнее, тем ярче осужден чувствовать свое бессилие.
"Из всей моей деятельности лекции - это единственное, что меня занимает
и живит, - писал Боткин своему другу, д-ру Белоголовому, - остальное тянешь,
как лямку, прописывая массу ни к чему не ведущих лекарств. Это не фраза и
дает тебе понять, почему практическая деятельность в моей поликлинике так
тяготит меня. Имея громадный материал хроников, я начинаю вырабатывать
грустное убеждение о бессилии наших терапевтических средств. Редкая
поликлиника пройдет мимо без горькой мысли: за что я взял с большей половины
народа деньги, да заставил ее потратиться на одно из наших аптечных средств,
которое, давши облегчение на 24 часа, ничего существенного не изменит?
Прости меня за хандру, но нынче у меня был домашний прием, и я еще под
свежим впечатлением этого бесплодного труда".
У Бильрота есть одно стихотворение; оно было послано им его другу,
известному композитору Брамсу, и не предназначалось для печати. В переводе
трудно передать всю силу и поэзию этого стихотворения. Вот оно:
... Я не в силах больше выносить, когда люди ежедневно, ежечасно мучают
меня, как они требуют от меня невозможного! Из того, что я немного глубже
других проник в сокровеннейшую суть природы, они заключают, что я, подобно
богам, способен чудом избавлять от страданий, давать счастье, а я - я такой
же человек, как и другие. Ах, если бы вы знали, как все волнуется и кипит во
мне, и как сердце замедляет свои удары, когда я вместо спасения едва могу в
неуверенных словах предложить погибшим утешение... Что же будет со мною? Со
мною, окруженным всеобщим удивлением, беспомощным человеком?
Но перед таки своим бессилием постепенно пришлось смириться: полная
неизбежность всегда несет в себе нечто примиряющее с собою. Все-таки наука
дает нам много силы, и с этой силою можно сделать многое. Но с чем
невозможно было примириться, что все больше подтачивало во мне
удовлетворение своею деятельностью, - это то, имеющаяся в нашем распоряжении
сила на деле оказывалась совершенно призрачною.
Медицина есть наука о лечении людей. Так оно выходило по книгам, так
выходило и по тому, что мы видели в университетских клиниках. Но в жизни
оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и
свободных людей. По отношению ко всем остальным она являлась лишь
теоретическою наукой о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были
богаты и свободны; а то, что за отсутствием последнего приходилось им
предлагать на деле, было не чем иным, как самым бесстыдным поруганием
медицины.
Изредка по праздникам ко мне приходит на прием мальчишка-сапожник из
соседней сапожной мастерской.
Лицо его зеленовато-бледно, как заплесневелая штукатурка; он страдает
головокружениями и обмороками. Мне часто случается проходить мимо
мастерской, где он работает, - окна ее выходят на улицу. И в шесть часов
утра и в одиннадцать часов ночи я вижу в окошко склоненную над сапогом
стриженую голову Васьки, а кругом него - таких же зеленых и худых мальчиков
и подмастерьев; маленькая керосиновая лампа тускло горит над их головами, из
окна тянет на улицу густою, прелою вонью, от которой мутит в груди. И вот
мне нужно лечить Ваську. Как его лечить! Нужно прийти, вырвать его из этого
темного, вонючего угла, пустить бегать в поле, под горячее солнце, на
вольный ветер, и легкие его развернутся, сердце окрепнет, кровь станет алою
и горячею. Между тем даже пыльную петербургскую улицу он видит лишь тогда,
когда хозяин посылает его с товаром к заказчику; даже по праздникам он не
может размяться, потому что хозяин, чтобы мальчики не баловались, запирает
их на весь день в мастерской. И единственное, что мне остается, - это
прописывать Ваське железо и мышьяк и утешаться мыслью, что все-таки я "хоть
что-нибудь" делаю для него.
Ко мне приходит прачка с экземою рук, ломовой извозчик с грыжею,
прядильщик с чахоткою; я назначаю им мази, пелоты и порошки - и неверным
голосом, сам, стыдясь комедии, которую разыгрываю, говорю им, что главное
условие для выздоровления - это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой
извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений. Они в
ответ вздыхают, благодарят за мази и порошки и объясняют, что дела своего
бросить не могут, потому что им нужно есть.
В такие минуты меня охватывает стыд за себя и за ту науку, которой я
служу, за ту мелкость и убогость, с какою она осуждена проявлять себя в
жизни. В деревне ко мне однажды обратился за помощью мужик с одышкою. Все
левое легкое у него оказалось сплошь пораженным крупозным воспалением. Я
изумился, как мог он добрести до меня, и сказал ему, чтобы он немедленно по
приходе домой лег и не вставал.
- Что ты, барин, как можно? - в свою очередь изумился он. - Нешто не
знаешь, время какое? Время страдное, горячее. Господь батюшка погодку
посылает, а я - лежать! Что ты, господи помилуй! Нет, ты уж будь милостив,
дай каких капелек, ослобони грудь.
- Да никакие капли не помогут, если пойдешь работать! Тут дело не
шуточное, - помереть можешь!
- Ну, господь милостив, зачем помирать? Перемогусь как-нибудь. А лежать
нам никак нельзя: мы от этих трех недель весь год бываем сыты.
С моею микстурою в кармане и с косою на плече он пошел на свою полосу и
косил рожь до вечера, а вечером лег на межу и умер от отека легких.
Грубая, громадная и могучая жизнь непрерывно делает свою слепую
жестокую работу, а где-то далеко внизу, в ее ногах, копошится бессильная
медицина, устанавливая свои гигиенические и терапевтические "нормы".
Вот - человеческий организм со всем богатством и разнообразием его
органов, требующих широких и полных отправлений. И как будто жизнь задалась
специальною целью посмотреть, что выйдет из этого организма, если ставить
его в самые немыслимые положения и условия. Одни люди пускай все время стоят
и ходят, не присаживаясь; и вот стопа их становится плоскою, ноги опухают,
вены на голенях растягиваются и обращаются в незаживающие язвы. Другие все
время пускай сидят, не вставая; и спина их искривляется, печень и легкие
сдавливаются, прямая кишка усеивается кровоточащими шишками. Саночники в
шахтах весь день непрерывно бегают с санками по просекам на четвереньках;
выдувальщики на стеклянных заводах все время работают одними легкими,
обращая их в меха. Нет таких самых неестественных движений и положений, в
которых бы жизнь не заставляла людей проводить все их время; нет таких ядов,
которыми бы она не заставляла их дышать; нет таких жизненных условий, в
которых бы она не заставляла их жить.
Сейчас только я воротился от одной больной папиросницы; она живет в
углу с двумя ребятами. Низкая комната имеет семь шагов в длину и шесть в
ширину. В этой комнате живет шестнадцать человек. Для меня составляет муку
пробыть в ней десять - пятнадцать минут: в комнате нет воздуха, нет в
буквальном смысле - лампа, как следует заправленная и пущенная, чадит и
коптит, не находя кислорода; иначе, как слабо, ее пускать нельзя; тяжелый и
влажный, как будто липкий воздух полон кислым запахом детских испражнений,
махорки и керосина. Из всех углов на меня смотрят восковые, странно
неподвижные лица ребят с кривыми зубами, куриною грудью и искривленными
конечностями; в их больших глазах нет и следа той живости и веселости,
которая "свойственна" детям.
Вообще, став врачом, я совершенно потерял представление о том, что,
собственно, свойственно человеку. Свойственно ли уставшему человеку хотеть
спать? - Нет, не свойственно! Сестра милосердия, учительница, журнальный
работник, утомленные и разбитые, не могут заснуть без бромистого натра.
Свойственно ли долго не евшему человеку хотеть есть? - Нет, не свойственно!
Ему приходится прибегать, словно пресыщенному обжоре, к искусственному
возбуждению аппетита. Меня это поразило у большинства фабричных работников и
ремесленников.
- Работаешь весь день, - машина стучит, пол под тобою трясется, ходишь,
как маятник. Устанешь с работы хуже собаки, а об еде и не думаешь. Все
только квас бы пил, а от квасу какая сила? Живот наливаешь себе, больше
ничего. Одна водочка только и спасает: выпьешь рюмочку, - ну, и есть
запросишь.
Я в течение нескольких лет веду прием в одной типографии, и за все это
время я ни разу не видел наборщика-старика! Нет старости, нет седых волос, -
сведенные свинцовою пылью, люди все сваливаются в могилу раньше.
Жизнь проделывает над человеком свои опыты и, глумясь, предъявляет на
наше изучение получающиеся результаты. Мы изучаем и приобретаем очень ясное
представление о том, как действует на человека хроническое отравление
свинцом, ртутью, фосфором, как влияет на рост детей отсутствие света,
воздуха и движения; мы узнаем, что из ста прядильщиков сорокалетний возраст
у нас переходит только девять человек, что из женщин, занятых при обработке
волокнистых веществ, дольше сорока лет живет только шесть процентов. Узнаем
мы также, что, вследствие непомерного труда, у крестьянок на все летние
месяцы совершенно прекращается свойственная женщинам физиологическая жизнь,
что швеи и учащиеся девушки в несколько лет вырождаются в бескровных,
больных уродов. И многое еще мы узнаем.
Но что же, чем во всем этом может помочь наша медицина? Какая цена ее
жалким средствам, которыми она пытается чинить то, что так глубоко уродуется
жизнью?.. Великий человек висит на кресте, его руки я ноги пробиты гвоздями,
а медицина обмывает кровавые язвы арникой и кладет на них ароматные
припарки.
Но ничего больше она и не в состоянии делать. Не может существовать
такой науки, которая бы научила залечивать язвы с торчащими в них гвоздями;
наука. Е может только указывать на то, что человечество так не может жить,
что необходимо прежде всего вырвать из язв гвозди. В двадцатых годах, по
исследованиям Виллерме, у мюльгаузенских ткачих половина детей умирала, не
дожив до пятнадцати месяцев. Виллерме уговорил фабриканта Дольфуса разрешить
своим работницам оставаться после родов дома в течение шести недель с
сохранением их содержания; и этого одного оказалось достаточным, чтобы
смертность грудных детей, без всякой помощи медицины, сразу уменьшилась
вдвое. Все яснее и неопровержимее для меня становилось одно: медицина не
может делать ничего иного, как только указывать на те условия, при которых
единственно возможно здоровье и излечение людей; но врач, - если он врач, а
не чиновник врачебного дела, - должен прежде всего бороться за устранение
тех условий, которые делают его деятельность бессмысленною и бесплодною; он
должен быть общественным деятелем в самом широком смысле слова, он должен не
только указывать, он должен бороться и искать путей, как провести свои
указания в жизнь.
И это тем более необходимо, что время не ждет, и жизнь быстро влечет
человечество в какую-то зловещую бездну. Все больше увеличивается число
"неуравновеценных", "отягченных" и алкоголиков, увеличивается число слепых,
глухих, заик. Лучший показатель физического состояния населения - процент
годных к военной службе, - падает всюду с быстротою барометра перед грозою;
в Австрии, напр., процент годных к военной службе составлял в 1870 году -
26%, в 1875 - 18%, 1880 - 14%. Ведь это вырождение, течение которого можно
почти осязать руками! И не фантазией, а голой правдой дышит следующее
грозное предсказание одного из антропологов: "Идеал гармонического и
солидарного общественного строя может не осуществиться вследствие
человеческого вырождения. Тогда появится централизованный
феодально-промышленный строй, в котором народным массам будет отведена в
несколько измененном виде роль спартанских илотов, органически
приспособленных, вследствие своего вырождения, к такому положению вещей".
XIV
Но вот я представляю себе, что общественные условия в корне изменились.
Каждый человек имеет возможность исполнять все предписания гигиены, каждому
заболевшему мы в состоянии предоставить все, что только может потребовать
врачебная наука. Будет ли, по крайней мере, тогда наша работа несомненно
плодотворна и свободна от противоречий?
Уже и теперь среди антропологов и врачей все чаще раздаются голоса,
указывающие на страшную однобокость медицины и на весьма сомнительную пользу
ее для человечества. "Медицина, конечно, помогает неделимому, но она
помогает ему лишь насчет вида..." Природа расточительна и неаккуратна; она
выбрасывает на свет много существ и не слишком заботится о совершенстве
каждого из них; отбирать и уничтожать все неудавшееся она предоставляет
беспощадной жизни. И вот является медицина и все силы кладет на то, чтобы
помешать этому делу жизни.
У роженицы узкий таз, она не может разродиться, и она сама и ребенок
должны погибнуть; медицина спасает мать и ребенка, и таким образом дает
возможность размножаться людям с узким, негодным для деторождения тазом. Чем
сильнее детская смертность, с которою так энергично борется медицина, тем
вернее очищается поколение от всех слабых и болезненных организмов.
Сифилитики, туберкулезные, психические и нервные больные, излеченные
стараниями медицины, размножаются и дают хилое и нервное, вырождающееся
потомство. Все эти спасенные, но слабые до самых своих недр, мешаются и
скрещиваются со здоровыми и таким образом вызывают быстрое общее ухудшение
расы чем больше будет преуспевать медицина, тем дальше будет идти это
ухудшение. Дарвин перед смертью не без основания высказывал Уоллесу весьма
безнадежный взгляд на будущее человечества, ввиду того что в современной
цивилизации нет места естественному отбору и переживанию наиболее способных.
Этот призрак всеобщего вырождения слишком резко бросается всем в глаза,
чтобы не заставлять глубоко задумываться над ним. И над ним задумываются, и
для его предотвращения измышляются очень широкие реформаторские проекты:
предлагают искоренить в человеческом обществе всякую "филантропию" и
превратить человечество в заводскую конюшню под верховым управлением
врачей-антропотехников. В кабинетах измышлять такие проекты очень нетрудно:
"счастье человечества" здесь так величественно и реально, а живые неделимые,
запрятанные в немые цифры, так легко поддаются сложению и вычитанию! Но ведь
в жизни-то, пожалуй, ничего в конце концов и не существует, кроме сознающего
себя существа, и каждое из этих существ есть центр всего и все. К чести
человечества, оно все сильнее проявляет стремление ломать стены у
существующих уже конюшен, а не влезать еще в новые. И тем не менее факт
все-таки остается фактом: естественный отбор все больше прекращает свое
действие, медицина все больше способствует этому, а взамен не дает ничего,
хоть сколько-нибудь заменяющего его.
А между тем исчезновение отбора сказывается вовсе не в одних только
указанных грубых результатах. Последствия этого исчезновения идут гораздо
дальше и глубже.
Долгим и трудным путем выработался тип нынешнего человека, более или
менее приспособленного к окружающей среде. Сама среда не остается
неподвижною, с течением времени она все сильнее и быстрее изменяется в самых
своих основах; но организм человека уже перестает за нею следовать, и
перестает как раз в смысле приобретения новых положительных качеств. В
прежнее время зубы были нужны человеку для разгрызания, разрывания и
пережевывания твердой, жесткой пищи, имевшей умеренную температуру. Теперь
человек ест пищу мягкую, очень горячую и очень холодную; для такой пищи
нужны какие-то совершенно другие зубы, прежние для нее не годятся. За это
говорит то ужасающее количество гнилых зубов, которые мы находим у
культурных народов. Дикие племена, стоящие вне всякой культуры, имеют сильно
развитые челюсти и крепкие, здоровые зубы; у народов полуцивилизованных
число людей с гнилыми зубами колеблется между 5-25 %, тогда как у народов
высшей культуры костоедою зубов поражено более 80%. Что это такое? Живой
орган, гниющий и распадающийся у живого человека! И это не как исключение, а
как правило с очень незначительными исключениями. Одно из двух: либо человек
должен воротиться к прежней пище, либо выработать себе новые зубы. Но что
делает медицина? Она чистит, пломбирует и всячески поддерживает наличные
зубы, портящиеся потому, что они не могут не портиться.
Глаз раньше был нужен человеку преимущественно для смотрения вдаль и
совершенно удовлетворял своему назначению. Условия изменились, к глазу
предъявляется требование большей работы вблизи. Должен выработаться новый
глаз, одинаково годный и для смотрения вдаль и для длительной аккомодации
вблизи. Но медицина услужливо подставляет близорукому глазу очки, и, таким
образом, негодный для новых условий глаз чисто внешними средствами делает
годным, число близоруких увеличивается с каждым десятилетием, и остается
лишь утешаться мыслью, что стекла, слава богу, хватит на очки для всех.
Положительных свойств, нужных для изменившихся условий среды,
человеческий организм не приобретает, зато он обнаруживает большую
склонность терять уже имеющиеся у него положительные свойства. Медицина,
стремясь к своим целям, и в этом отношении грозит оказать человечеству очень
плохую услугу.
В чем ставит себе медицина идеал? В том, чтобы каждую болезнь убить в
организме, при самом ее зарождении или, еще лучше, совсем не допустить ее до
человека. Хирургия, например, настойчиво требует, чтобы каждая рана, каждый
даже самый ничтожный порез немедленно подвергались тщательному
обеззараживанию. Для каждого отдельного случая это очень целесообразно, но
ведь таким образом организм совершенно отучится самостоятельно бороться с
заражением! Уж и для настоящего времени бесчисленными наблюдателями
установлен факт, что дикари без всякого лечения легко оправляются от таких
ран, от которых европейцы погибают при самом тщательном уходе. Взять, далее,
вообще заразные болезни. По отношению к тем из них, которые обычны в данной
местности. И данном народе, человеческий организм оказывается несравненно
более стойким, чем по отношению к болезням, дотоле неведомым. Скарлатина
среди дикарей сразу уносит в могилу половину населения. В Полинезии много
туземцев истреблено оружием, но еще более - "белой болезнью" (чахоткою).
- Кто убил твоего отца? Кто убил твою мать?
- Белая болезнь!
Полинезийская женщина, вступающая в связь с белым, всегда падает
жертвою чахотки; мало того, она заражает своих любовников из туземцев. Если
австралиец проведет несколько дней в европейском городке Новой Голландии, то
заражается чахоткой (Крживицкий).
На европейцев, в свою очередь, так же губительно действует малярия,
желтая лихорадка, тропическая дизентерия. Что же выйдет, если каждая
заразная болезнь будет медициною уничтожаться в самом зародыше? Каждая из
них станет для человека совершенно чуждою и без охраны медицины будет
убивать его почти наверняка.
И вот, как результат такого положения дел - полная зависимость людей от
медицины, без которой они не будут в состоянии сделать ни шагу. Недавно в
одной статье о задачах медицины в будущем я встретил следующие рассуждения:
"Оградить организм от той разнообразной массы ядов, которые беспрерывно в
него вносятся микробами, можно бы лишь тогда, когда бы был открыт один общий
антитоксин для ядов, выделяемых всеми видами микробов. При таких условиях мы
могли бы ежедневно вводить в организм определенное количество противоядного
начала и тем предупреждать вредное влияние ядов, ежедневно вносимых
микробами. Но в настоящее время нет, к сожалению, ни малейших оснований к
такого рода розовым надеждам.".
Но ведь это же ужасно! Каждый день, вставая, впрыскивай себе под кожу
порцию универсального антитоксина, а забыл сделать это - погибай, потому что
отвыкшим от самодеятельности организмом легко справится первая шальная
бактерия.
Гигиена рекомендует не ставить в спальне кровати между окном и печкою:
спящий человек будет в таком случае находиться в токе воздуха, идущем от
холодных стекол окна к нагретой печке, а это может повести к простуде. Та же
гигиена советует не производить зимою усиленной работы на холодном воздухе,
так как при глубоких вдыханиях сильно охлаждаются легкие, что также может
вызвать простуду. Но почему же не про-стуживается галка, спящая под холодным
осенним ветром, почему не простуживается олень, бешено мчащийся по тундре
при тридцати градусах мороза? Простуживавшиеся олени и галки погибали и
таким образом очистили свои виды от неприспособленных особей, а мы не имеем
права обрекать слабых людей в жертву отбору. Совершенно верно. Но в том-то и
задача медицины, чтобы сделать этих слабых людей сильными; она же вместо
того и сильных делает слабыми и стремится всех людей превратить в жалкие,
беспомощные существа, ходящие у медицины на помочах.
К великому счастью, в науке начинают за последнее время намечаться
новые пути, которые обещают в будущем очень много отрадного. В этом
отношении особенного интереса заслуживают опыты искусственной иммунизации
человека. Еще не вполне доказано, но очень вероятно, что суть ее действия
заключается в упражнении и приучении сил организма к самостоятельной борьбе
с врывающимися в него микробами и ядами. Если это действительно так, то мы
имеем здесь дело с громадным переворотом в самых основах медицины: вместо
того чтобы спешить выгнать из него уже внедрившуюся болезнь, медицина будет
делать из человека борца, который сам сумеет справляться с грозящими ему
опасностями. Вот, между прочим, пример, каким образом медицина без всяких
жертв может вести культурного человека к тому, к чему естественный отбор
приводит дикарей с громадными жертвами.
Чего нет сегодня, будет завтра; наука хранит в себе много непроявленной
и ею же самою еще непознанной силы; и мы вправе ждать, что наука будущего
найдет еще не один способ, которым она сумеет достигать того же, что в
природе достигается естественным отбором, - но достигать путем полного
согласования интересов неделимого и вида.
Насколько ей это удастся и до каких пределов, - мы не можем
предугадывать. Но задач перед этою истинною антропотехникою стоит очень
много, - задач широких и трудных, может быть, неразрешимых, но тем не менее
настоятельно требующих разрешения.
"Все совершенно, выходя из рук природы". Это утверждение Руссо уже
давно и бесповоротно опровергнуто, между прочим, и относительно человека.
Человек застигнут настоящим временем в определенной стадии своей эволюции, с
массою всевозможных недостатков, недоразвитии и пережитков; он как бы
выхвачен из лаборатории природы в самый разгар процесса своей формировки
недоделанным и незавершенным. Так, напр., толстая кишка начинается у нас
короткою "слепою кишкою"; когда-то, у наших зоологических предков она
представляла собой большой и необходимый для жизни орган, как у теперешних
травоядных животных. В настоящее время этот орган нам совершенно не нужен;
но он не исчез, а переродился в длинный, узкий червевидный отросток, висящий
в виде придатка на слепой кишке. Он не только не нужен, - он для нас вреден:
идущие в пищевой кашице семечки и косточки легко застревают в нем и вызывают
тяжелое, часто смертельное для человека воспаление червевидного отростка.
Далее, органы человека и их размещение до сих пор еще не приспособились
к вертикальному положению человека. Нужно себе ясно представить, как резко
при таком положении должны были измениться направление и сила давления на
различные органы, и тогда легко будет понять, что приспособиться к своему
новому положению органам вовсе не так легко. Не перечисляя всех
обусловленных этим несовершенств, укажу на одно из самых существенных: без
малого половину всех женских болезней составляют различного рода смещения
матки; между тем многие из этих смещений совсем не имели бы места, а
происшедшие - излечивались бы значительно легче, если бы женщины ходили на
четвереньках; даже в качестве временной меры предложенное Марион-Симсом
"коленно-локтевое" положение женщины играет в гинекологии и акушерстве
незаменимую роль; некоторые гинекологи признают открытие Марион-Симса даже
"поворотным пунктом в истории гинекологии".
Переходя специально к женщине, мы видим в ее организме массу таких
тяжелых физиологических противоречий и несовершенств, что ум положительно
отказывается признать их за "нормальные" и законные. Ужасно и в то же время
совершенно справедливо, когда женщину определяют как "животное, по самой
своей природе слабое и больное, пользующееся только светлыми промежутками
здоровья на фоне непрерывной болезни". Самая здоровая женщина, - это
доказано очень точными наблюдениями, - периодически несомненно больна. И
невозможно на такую ненормальность смотреть иначе, как на переходную стадию
к другому, более совершенному состоянию. То же самое и с материнством:
женщина все больше перестает быть самкою, и в этом нет ничего
"противоестественного", потому что у нее есть мозг с его могучими и широкими
запросами. Между тем, не ломая всей своей природы, она не может отказываться
от любви и непрерывного материнства, всасывающих в себя все силы женщины за
все время их расцвета. Два требования, одинаково сильных и законных,
сталкиваются, и выхода при теперешней организации нет.
Мечников указал еще на одно кричащее противоречие в человеческом
организме, - именно, в области полового чувства. Ребенок еще совершенно
неприспособлен для размножения, а между тем половое чувство у него настолько
обособлено, что он получает возможность злоупотреблять им. У девушки рост
тазовых костей, по окончании которого она становится способною к
материнству, заканчивается лишь к двадцати годам, тогда как половая зрелость
наступает у нее в шестнадцать лет. Что получается? Три момента, которые по
самой сути своей необходимо должны совпадать, - половое стремление, половое
удовлетворение и размножение, - отделяются друг от друга промежутками в
несколько лет. Девочка способна десяти лет стремиться стать женою, стать
женою она способна только в шестнадцать лет, а стать матерью - не раньше
двадцати!
"Замечательно также, - говорит Мечников, - что такие извращения
природных инстинктов, как самоубийство, детоубийство и т.п., - т. е. именно
так называемые "неестественные" действия, - составляют одну из самых
характерных особенностей человека. Не указывает ли это на то, что эти
действия сами входят в состав нашей природы и потому заслуживают очень
серьезного внимания? Можно утверждать, что вид Homo sapiens принадлежит к
числу видов, еще не вполне установившихся и неполно приспособленных к
условиям существования".
Особенно ярко эта неприспособленность человека к условиям существования
сказывается в несоразмерной слабости его нервной системы. Человек в этом
отношении страшно отстал от жизни. Жизнь требует от него все большей нервной
энергии, все больше умственных затрат; нервы его неспособны на такую
интенсивную работу, и вот человек прибегает к возбудителям, чтоб
искусственно поднять свою нервную энергию. Моралисты могут за это стыдить
человечество, медицина может указывать на "противоестественность" введения в
организм таких ядов, как никотин, теин, алкоголь и т.п. Но
противоестественность - понятие растяжимое. Сами по себе многие из
возбудителей, - как табак, водка, пиво, - на вкус отвратительны, действие их
на непривычного человека ужасно; почему же каждый из этих возбудителей так
быстро и победно распространяется из своей родины по всему миру и так легко
побеждает "естественную" природу человека? Противоестественна организация
человека, отставшая от изменившихся жизненных условий, противоестественно
то, что человек принужден на стороне черпать силу, источник которой он
должен бы носить в самом себе.
Так или иначе, раньше или позже, но человеческому организму необходимо
установиться и выработать нормальное соотношение между своими стремлениями и
отправлениями. Это не может не стать высшею и насущнейшею задачею науки,
потому что в этом - коренное условие человеческого счастья. Должен же
когда-нибудь кончиться этот вечный надсад, эта вечная ломка себя во всех
направлениях; должно же человечество зажить наконец вольно, всею широтою
своих потребностей, потеряв самое представление о возможности такой
нелепости, как "противоестественная потребность".
XV
Человеческий организм должен, наконец, установиться и вполне
приспособиться к условиям существования. Но в каком направлении пойдет само
это приспособление? Ястреб, с головокружительной высоты различающий глазом
приникшего к земле жаворонка, приспособлен к условиям существования; но
приспособлен к ним и роющийся в земле слепой крот. К чему же предстоит
приспособляться человеку, - к свободе ястреба или к рабству крота? Предстоит
ли ему улучшать и совершенствовать имеющиеся у него свойства или терять их?
Силою своего разума человек все больше сбрасывает с себя иго внешней
природы, становится все более независимым от нее и все более сильным в
борьбе с нею. Он спасается от холода посредством одежды и жилища, тяжелую
пищу, доставляемую природою, превращает в легко усвояемую, свои собственные
мышцы заменяет крепкими мышцами животных, могучими силами пара и
электричества. Культура быстро улучшает и совершенствует нашу жизнь и дает
нам такие условия существования, о которых под властью природы нельзя было и
мечтать. Та же культура в самом своем развитии несет залог того, что ее
удобства, доступные теперь лишь счастливцам, в недалеком будущем станут
достоянием всех.
Господству внешней природы над человеком приходит конец... Но так ли уж
беззаветно можно этому радоваться? Культура подхватила нас на свои мягкие
волны и несет вперед, не давая оглядываться по сторонам; мы отдаемся этим
волнам и не замечаем, как теряем в них одно за другим все имеющиеся у нас
богатства; мы не только не замечаем, - мы не хотим этого замечать: все наше
внимание устремлено исключительно на наше самое ценное богатство, - разум,
влекущий нас вперед, в светлое царство культуры. Но, когда подведешь итог
тому, что нами уже потеряно и что мы с таким легким сердцем собираемся
утерять, становится жутко, и в далеком светлом царстве начинает мерещиться
темный призрак нового рабства человека.
Измерения проф. Грубера показали, что длина кишечного канала у
европейцев значительно увеличивается по направлению с юго-запада на
северо-восток. Наибольшая длина кишечника встречается в Северной Германии и
особенно в России. Это объясняется тем, что северо-восточные европейцы
питаются менее удобоваримою пищею, чем юго-западные. Такого рода наблюдения
дают физиологам повод "к розовым надеждам" о постепенном телесном
перерождении и "совершенствовании" человека под влиянием рационального
питания. Питаясь в течение многих поколений такими концентрированными
химическими составами, которые бы переходили в кровь полностью и без
предварительной обработки пищеварительными жидкостями, человеческий организм
мог бы освободиться в значительной степени от излишней ноши пищеварительных
органов, причем сбережения в строительном материале и в материале на
поддержание их жизнедеятельности могли бы идти на усиление более благородных
высших органов (Сеченов).
Ради этих же "благородных высших органов" ставится идеалом человеческой
организации вообще сведение до нуля всего растительного аппарата
человеческого тела. Спенсер идет еще дальше и приветствует исчезновение у
культурных людей таких присущих дикарям свойств, как тонкость внешних
чувств, живость наблюдения, искусное употребление оружия и т.п. "В силу
общего антагонизма между деятельностями более простых и более сложных
способностей следует, - уверяет он, - что это преобладание низшей умственной
жизни мешает высшей умственной жизни. Чем более душевной энергии тратится на
беспокойное и многочисленное восприятие, тем менее остается на спокойную и
рассудительную мысль".
Культурная жизнь успешно и энергично идет навстречу подобным идеалам.
Орган обоняния принял у нас уж совершенно зачаточный вид; сильно ослабела
способность кожных нервов реагировать на температурные колебания и
регулировать теплообразование организма. Атрофируется железистая ткань
женской груди; замечается значительное падение половой силы; кости
становятся более тонкими, первое и два последних ребра выказывают
наклонность к исчезновению; зуб мудрости превратился в зачаточный орган и у
42% европейцев совсем отсутствует; предсказывают, что после исчезновения
зубов мудрости за ними последуют смежные с ними четвертые коренные зубы;
кишечник укорачивается, число плешивых увеличивается.
Когда я читаю о дикарях, об их выносливости, о тонкости их внешних
чувств, меня охватывает тяжелая зависть, и я не могу примириться с мыслью, -
неужели, действительно, необходимо и неизбежно было потерять нам все это?
Гвианец скажет, сколько мужчин, женщин и детей прошло там, где европеец
может видеть только слабые и перепутанные следы на тропинке. Когда к
таитянам приехал натуралист Коммерсон со своим слугою, таитяне повели
носами, обнюхали слугу и объявили, что он - не мужчина, а женщина; это,
действительно, была возлюбленная Коммерсона, Жанна Барэ, сопровождавшая его
в кругосветном плавании в костюме слуги-мужчины. Бушмен в течение нескольких
дней способен ничего не есть; он способен, с другой стороны, находить себе
пищу там, где европеец умер бы с голоду. Бедуин в пустыне подкрепляет свои
силы в течение дня двумя глотками воды и двумя горстями жареной муки с
молоком. В то время когда другие дрожат от холода, араб спит босой в
открытой палатке, а в полуденный зной он спокойно дремлет на раскаленном
песке под лучами солнца. На Огненной Земле Дарвин видел с корабля женщину,
кормившую грудью ребенка; она подошла к судну и оставалась на месте
единственно из любопытства, а между тем мокрый снег, падая, таял на ее голой
груди и на теле ее голого малютки. На той же Огненной Земле Дарвин и его
спутники, хорошо укутанные, жались к пылавшему костру и все-таки зябли, а
голые дикари, сидя поодаль от костра, обливались потом. Якуты за свою
выносливость к холоду прозваны "железными людьми"; дети эскимосов и чукчей
выходят нагие из теплой избы на 30-градусный мороз.
Ведь для нас все эти люди - существа совершенно другой планеты, с
которыми у нас нет ничего общего, даже в самом понятии о здоровье. Наш
культурный человек пройдет босиком по росистой траве - и простудится,
проспит ночь на голой земле - и калека на всю жизнь, пройдет пешком
пятнадцать верст - и получит синовит. И при всем этом мы считаем себя
здоровыми! Под перчатками скоро и руки станут у нас столь же чувствительными
к холоду, как ноги, и "промочить руки" будет значить то же, что теперь -
"промочить ноги".
И бог весть, что еще ждет нас в будущем, какие дары и удобства готовит
нам растущая культура! Как "нерациональною" будет для нас обыкновенная пища,
так "нерациональным" станет обыкновенный воздух: он будет слишком редок и
грязен для наших маленьких, нежных легких; и человек будет носить при себе
аппарат с сгущенным чистым кислородом и дышать им через трубочку; а
испортился вдруг аппарат, и человек на вольном воздухе будет, как рыба,
погибать от задушения. Глаз человека благодаря усовершенствованным стеклам
будет различать комара за десять верст, будет видеть сквозь стены и землю, а
сам превратится, подобно обонятельной части теперешнего носа, в зачаточный,
воспаленный орган, который ежедневно нужно будет спринцевать, чистить и
промывать. Мы и в настоящее время живем в непрерывном опьянении; со временем
вино, табак, чай окажутся слишком слабыми возбудителями, и человечество
перейдет к новым, более сильным ядам. Оплодотворение будет производиться
искусственным путем, оно будет слишком тяжело для человека, а любовное
чувство будет удовлетворяться сладострастными объятиями и раздражениями без
всякой "грязи", как это рисует Гюисманс в "La-bas" ("Там внизу" (франц.). -
Ред.) А может быть, дело пойдет и еще дальше. Проф. Эйленбург цитирует
одного из новейших немецких писателей, Германа. Бара, мечтающего о
"внеполовом сладострастии" и о "замене низких эротических органов более
утонченными нервами". По мнению Бара, двадцатому веку предстоит сделать
"великое открытие третьего пола между мужчиной и женщиной, не нуждающегося
более в мужских и женских инструментах, так как этот пол соединяет в своем
мозгу (!) все способности разрозненных полов и после долгого искуса научился
замещать действительное кажущимся".
Вот он, этот идеальный мозг, освободившийся от всех растительных и
животных функций организма! Уэльс в своем знаменитом романе "Борьба миров"
слишком бледными красками нарисовал образ марсианина. В действительности он
гораздо могучее, беспомощнее и отвратительнее, чем в изображении Уэльса.
Наука не может не видеть, как регрессирует с культурою великолепный
образ человека, создавшийся путем такого долгого и трудного развития. Но она
утешается мыслью, что иначе человек не мог бы развить до надлежащей высоты
своего разума. Спенсер, как мы видели, даже доволен тем, что этот разум
становится полуслепым, полуглухим и лишается возможности развлекаться
"беспокойными восприятиями". А вот что говорит известный сравнительно-анатом
Видерсгейм: "Развив свой мозг, человек совершенно возместил потерю большого
и длинного ряда выгодных приспособлений своего организма. Они должны были
быть принесены в жертву, чтоб мозг мог успешно развиться и превратить
человека в то, что он есть теперь, - в Homo sapiens".
Но ведь это еще нужно доказать! Нужно доказать, что указанные жертвы
мозгу действительно должны были приноситься и, главное, должны приноситься и
впредь. Если до сих пор мозг развивался, поедая тело, то это еще не значит,
что иначе он и не может развиваться.
К тем потерям, с которыми мы уже свыклись, мы относимся с большим
равнодушием: что же из того, что мы в состоянии есть лишь удобоваримую,
мягкую пищу, что мы кутаем свои нежные и зябкие тела в одежды, боимся
простуды, носим очки, чистим зубы и полощем рот от дурного запаха? Кишечный
канал человека длиннее его тела в шесть раз; что же было бы хорошего, если
бы он, как у овцы, был длиннее тела в двадцать восемь раз, чтоб у человека,
как у жвачных, вместо одного желудка, было четыре? В конце концов, "der
Mensch ist, was er isst, - человек есть то, что он ест". И нет для человека
ничего радостного превратиться в вялое жвачное животное, вся энергия
которого уходит на переваривание пищи. Если человек скинет с себя одежды,
организму также придется тратить громадные запасы своей энергии на усиленное
теплообразование, и совсем нет оснований завидовать какой-нибудь ледниковой
блохе, живущей и размножающейся на льду.
Против этого возражать нечего. Конечно, вовсе не желательно, чтоб
человек превратился в жвачное животное или ледниковую блоху. Но неужели
отсюда следует, что он должен превратиться в живой препарат мозга, способный
существовать только в герметически закупоренной склянке? Культурный человек
равнодушно нацепляет себе на нос очки, теряет мускулы и отказывается от
всякой "тяжелой" пищи; но не ужасает ли и его перспектива ходить всюду с
флаконом сгущенного кислорода, кутать в комнатах руки и лицо, вставлять в
нос обонятельные пластинки и в уши - слуховые трубки?
Все дело лишь в одном: принимая выгоды культуры, нельзя разрывать самой
тесной связи с природой; развивая в своем организме новые положительные
свойства, даваемые нам условиями культурного существования, необходимо в то
же время сохранить наши старые положительные свойства; они добыты слишком
тяжелою ценою, а утерять их слишком легко. Пусть все больше развивается
мозг, но пусть же при этом у нас будут крепкие мышцы, изощренные органы
чувств, ловкое и закаленное тело, дающее возможность действительно жить с
природою одною жизнью, а не только отдыхать на ее лоне в качестве
изнеженного дачника. Лишь широкая и разносторонняя жизнь тела во всем
разнообразии его отправлений, во всем разнообразии восприятии, доставляемых
им мозгу, сможет дать широкую и энергичную жизнь и самому мозгу.
"Тело есть великий разум, это - множественность, объединенная одним
сознанием. Лишь орудием твоего тела является и малый твой разум, твой "ум",
как ты его называешь, о, брат мой, - он лишь простое орудие, лишь игрушка
твоего великого разума".
Так говорил Заратустра, обращаясь к "презирающим тело..." Чем больше
знакомишься с душою человека, именуемого "интеллигентом", тем менее
привлекательным и удовлетворяющим является этот малый разум, отрекшийся от
своего великого разума.
А между тем несомненно, что ходом общественного развития этот последний
все больше обрекается на уничтожение, и, по крайней мере в близком будущем,
не предвидится условий для его процветания. Носителем и залогом
общественного освобождения человека является крупный город; реальные
основания имеют за собою единственно лишь мечтания о будущем в духе Беллами.
Будущее же это, такое радостное в общественном отношении, в отношении жизни
самого организма безнадежно-мрачно и скудно: ненужность физического труда,
телесное рабство, жир вместо мускулов, жизнь ненаблюдательная и близорукая -
без природы, без широкого горизонта .
Медицина может самым настойчивым образом указывать человеку на
необходимость всестороннего физического развития, - все ее требования будут
по отношению к взрослым людям разбиваться об условия жизни, как они
разбиваются и теперь по отношению к интеллигенции. Чтоб развиваться
физически, взрослый человек должен физически работать, а не "упражняться". С
целью поддержки здоровья можно три минуты в день убить на чистку зубов, но
неодолимо-скучно и противно несколько часов употреблять на бессмысленные и
бесплодные физические упражнения. В их бессмысленности лежит главная причина
телесной дряблости интеллигента, а вовсе не в том, что он не понимает пользы
физического развития; в этом я убеждаюсь на самом себе.
В отношении физического развития я рос в исключительно благоприятных
условиях. До самого окончания университета я каждое лето жил в деревне
жизнью простого работника, - пахал, косил, возил снопы, рубил лес с утра до
вечера. И мне хорошо знакомо счастье бодрой, крепкой усталости во всех
мускулах, презрение ко всяким простудам, волчий аппетит и крепкий сон. Когда
мне теперь удается вырваться в деревню, я снова берусь за косу и топор и
возвращаюсь в Петербург с мозолистыми руками и обновленным телом, с жадною
радостною любовью к жизни. Не теоретически, а всем существом своим я сознаю
необходимость для духа энергичной жизни тела, и отсутствие последней
действует на меня с мучительностью, почти смешною.
И все-таки в городе я живу жизнью чистого интеллигента, работаю только
мозгом. Первое время я пытаюсь против этого бороться, - упражняюсь гирями,
делаю гимнастику, совершаю пешие прогулки; но терпения хватает очень
ненадолго, до того все это бессмысленно и скучно . И если в будущем
физический труд будет находить себе применение только в спорте,
лаун-теннисе, гимнастике и т.п., то перед скукою такого "труда" окажутся
бессильными все увещания медицины и все понимание самих людей.
И вот жизнь говорит: "ты, крепкий человек с сильными мышцами, зорким
глазом и чутким ухом, выносливый, сам от себя во всем зависящий, - ты мне не
нужен и обречен на уничтожение ..."
Но что радостного несет с собою идущий ему на смену человек?........
|
|
Ne plous, ne moeins... |
В ночь на 24 августа 1572 года в Париже имело место пренеприятное событие – католики занялись окончательным решением гугенотского вопроса, устроив массовую резню, известную также как Варфоломеевская ночь. Бойня продолжалась всю ночь, перекинувшись с Парижа на провинции; общее число убитых достигало пятидесяти тысяч. Многие выжившие тогда французские гугеноты – и простолюдины, и аристократы, - решили не испытывать судьбу и покинули ставшую негостеприимной родину. Среди прочих были и представители древнего дворянского рода Терменов (Theremin), известного с XIV века. Девизом рода было «Ne plous, ne moeins» – «Не более, не менее».

За прошедшие с тех времен века появилась у рода Терменов и российская ветвь. Известнейшим представителем ее стал мсье Леон Серж Термен, более известный нам под именем Льва Сергеевича Термена. Родившись 28 августа 1896 года, Лев Сергеевич прожил яркую, насыщенную жизнь и умер осенью 1993 года в возрасте девяноста семи лет.
Лев Термен был первенцем в семье известного петербургского юриста Сергея Эмильевича Термена. Несмотря на приличный по тем временам достаток, Термены занимали достаточно скромную квартиру на Николаевской улице, и юный Лев провел первые годы жизни в одной комнате с бабушкой. Примерно в два года он уже довольно хорошо читал и расспрашивал обо всем отца; его первой книгой стали не сказки, а словарь Брокгауза и Эфрона в отцовском кабинете.

Родители не жалели средств на образование: Леон брал уроки игры на виолончели, для него в квартире были оборудованы физическая лаборатория и домашняя обсерватория. При этом учился мальчик в сравнительно недорогой государственной Петербургской первой мужской гимназии. С третьего класса страстью Льва стала физика. После нешуточной борьбы с учителем за право рассказывать про физические процессы «по своему», а не по учебнику – сначала нахальный ученик даже получил за это «пару», - Лев завоевал в школе репутацию если не гения, то кого-то к нему очень близкого.
Десяти лет от роду, в четвертом классе будущая знаменитость впервые выступает публично: в большом зале гимназии Лев Термен демонстрирует «резонанс типа Тесла». К специальной катушке подносилась лампочка с люминесцентным газом, и она еще на заметном удалении от катушки уже начинала светиться. Учитель физики был очень впечатлен – он «считал, что такие вещи, может, где-то и делают, но только не у нас в России».
Гимназию Лев Термен окончил с серебряной медалью в 1914 году, после поступил одновременно в консерваторию и на два факультета университета: физики и астрономии. Увы, его учебе помешала начавшаяся мировая война: Лев Сергеевич успел окончить только консерваторию по классу виолончели с дипломом «свободного художника».
Лев Термен

В начале 1917 года юного студиозуса определили, как было положено, на полгода в военную школу, а потом в Высшее Николаевское Военно-инженерное училище, которое он окончил подпоручиком, после чего был назначен в радиотехнический батальон в Петрограде. К счастью для Термена, его миновала отправка на фронт, и революция застала его младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в империи Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.
О годах Гражданской войны, как, впрочем, и о других периодах своей долгой жизни, Термен рассказывал скупо, многое не договаривая. Он вспоминал, что его призвали в Красную Армию, и он служил на той же радиостанции («когда к Петрограду подходил Юденич, мы станцию разобрали, Картина Эрнста Фишера, на которой художник запечатлел Люси Розен, демонстрирующую своим подругам возможности терменвоксаостались одни антенны, и я подготовил взрывное устройство, но оно не пригодилось»), а затем в военной радиолаборатории в Москве.
Есть, однако, и свидетельства в пользу того, что в 1919 году Л.С. Термена арестовывали «по делу белогвардейского заговора». Что именно происходило во время следствия, установить не удалось, но дело до ревтрибунала не дошло. В 1920 году Термена освободили. После демобилизации из Красного электротехнического батальона Абрам Федорович Иоффе пригласил Льва Сергеевича в физико-технический отдел Рентгенологического института, заведовать лабораторией. Будущему академику Иоффе не пришлось пожалеть о сделанном им выборе.
Музыкальный трактор на смену сохе
Однажды Абрам Федорович Иоффе рассказал Термену о ряде проблем, связанных с измерением диэлектрической постоянной некоторых сложных газов и их смесей при определенных температурных состояниях, попросив придумать устройство, измеряющее эти вариации по изменению электроемкости конденсатора, заполненного газом. Увидев большое количество разных электронных схем в полумакетном выполнении и понаблюдав их действие, он предложил Термену занять значительно большее помещение – большую чертежную, специальный зал электротехнического факультета политехнического института.
В новом помещении Термен построил конденсаторное устройство для измерения диэлектрической постоянной газов с чувствительностью до миллионных долей процента. Измерение температуры производилось болометрическим методом с применением усилителей постоянного тока и мостовых схем с модуляцией частотной составляющей. Лаборатория Льва ТерменаДля устранения механических влияний система имела специальный амортизирующий подвес.
Система отлично работала, и Термену с Иоффе захотелось найти для нее дополнительные применения. Первое лежало на поверхности: система могла бы использоваться как сигнализация, срабатывающая при приближении человека на расстояние 2-3 метра к открытому проводнику-антенне.
Сигнализация – это полезно, но не зрелищно. Музыкальное образование Термена натолкнуло его на мысль: вместо банального вольтметра включить в контур наушник (динамиков тогда еще не было) – колебания-то лежат в диапазоне слышимых звуков… Сказано – сделано: после дополнения прибора управляемым ножной педалью угольным реостатом для изменения громкости, на свет родился этеротон («звук из эфира»), позднее переименованный в терменвокс - «голос Термена».

Идея использовать электричество в целях музыкального искусства была не новой. В одном экзотическом изобретении начала века, когда еще не было электроники, использовалась «поющая дуга» – звучали разряды на острие электрода, подсоединенного ко вторичной обмотке трансформатора Тесла. Большую известность получил инструмент американца Кахилла, представлявший собой набор электрогенераторов общим весом до 200 тонн, каждый из которых возбуждал свою частоту. Похоже, это был первый в мире MIDI-синтезатор…
Электромузыкальный инструмент Кахилла занимал целое здание, а слушать его предлагалось… через наушники. Впрочем, наушников этих было много: инструмент-Один из первых серийных терменвоксов, произведенных компанией RCAмонстр был подключен к телефонной сети Нью-Йорка. В каком-то смысле Термену повезло – в его распоряжении уже были радиолампы и громкоговорители, – однако это везение не отменяет того факта, что именно зарегистрированный Львом Сергеевичем в 1921 году патент №780 «Музыкальный прибор с катодными лампами» стал первым в мире концертным электромузыкальным инструментом. Первым его слушателем стал Абрам Федорович Иоффе, а первым исполненным на нем произведением – «Лебедь» Сен-Санса.

Изначально несколько скептическое отношение коллег по институту - «Термен играет Глюка на вольтметре» - вскоре сменилось признанием. Причем не столько талантов Термена как музыканта или инженера, сколько огромной пропагандистской ценности терменвокса для страны, для партии, для института. После нескольких, так сказать, камерных выступлений, 5 октября 1921 года терменвокс и его изобретатель выступают на VIII Всероссийском Электротехническом Съезде – том самом, на котором обсуждался план ГОЭЛРО.
Советская власть уже была, и теперь для построения коммунизма нужна была электрификация всей страны. А что есть электромузыкальный инструмент как не яркий и наглядный пример «электрификации музыки»? Советские газеты с восторгом называли изобретение Термена «началом века радиомузыки» и «музыкальным трактором, идущим на смену сохе». А «Известия» дали «музыкальному трактору» имя – «терменвокс».
Одно из первых выступлений Льва Термена, и его последнее выступлениеСпустя некоторое время после съезда, в марте 1922 года, Термен был приглашен в Кремль для показа Владимиру Ильичу Ленину сигнализации и терменвокса. Демонстрация происходила утром, в присутствии членов ВЦИКа; аккомпанировала на рояле секретарь Ленина Лидия Александровна Фотиева. Исполнялись «Аве Мария», ноктюрн Шопена и романс «Не искушай меня без нужды».
Ленин сам попробовал сыграть на терменвоксе, и хорошо исполнил «Жаворонка» Глинки. В полном восторге вождь сказал, что такие достижения надо широко пропагандировать по всей стране, и велел выдать изобретателю мандат, дающий право беспрепятственного проезда по всем железным дорогам России (позднее Термен провел около 180 лекций-концертов по всей стране).

Сигнализация имела не меньший успех. Емкостный датчик присоединили к большой вазе с цветком, при приближении к которой срабатывал звуковой сигнал. Сигнал срабатывал исправно даже тогда, когда какой-то военный надел на голову теплую шапку, обернул руку и ногу шубой, и в таком виде стал медленно подползать к вазе на корточках. Сигнализация сработала, присутствующие зааплодировали, Ленин был в полнейшем восторге: «Посмотрите, какие у нас военные: электричества до сих пор не знают, как же это так?».
Менее известные изобретения Термена: емкостная сигнализация и видеонаблюдениеВ конце встречи Ленин дал Термену два совета – вступить в партию и почаще демонстрировать свой музыкальный инструмент народу. А также написал записку наркомвоенмору Льву Троцкому: «Обсудить, нельзя ли уменьшить караулы кремлевских курсантов посредством введения в Кремле электрической сигнализации? (Один инженер, Термен, показывал нам в Кремле свои опыты…)» Курсантов терменовская сигнализация не заменила, но исправно применялась в Гохране, «Эрмитаже» и банках.
Неожиданный юбилей
Если, проходя случайно мимо здания Министерства обороны Российской Федерации, что в Москве, вы увидите на его стене камеру видеонаблюдения, знайте: это скромное устройство может с полным правом праздновать свой восьмидесятилетний юбилей. Весной 1926 года вездесущий Термен установил объектив камеры над входом в Наркомат обороны, а экран – в приемной наркомвоенмора Ворошилова. Ворошилов демонстрировал свою новую любимую игрушку гостям – Орджоникидзе, Буденному, Тухачевскому – и те радовались как дети, когда на экране появлялся хорошо узнаваемый Сталин: трубка, усы и все такое… Терменовская установка обеспечивала чересстрочную развертку на сто строк (в шесть раз меньше, чем в современных телевизорах) и имела экран 1,5×1,5 м (то есть его диагональ была больше двух метров).
Первый действующий образец дальновизора ТерменаТелевидением (точнее – «дальновидением», как это тогда называлось) Термен тоже занялся с подачи своего наставника и покровителя А.Ф. Иоффе во второй половине 1924 года. Решив завершить образование в Петроградском политехническом институте, Лев Сергеевич занялся модной в то время проблемой дальновидения, и в 1925 году изготовил опытный образец телевизионной установки.
Для самого Термена идея дальновидения не была новой: уже в 1921 году он выступал с обзором работ по дальновидению на семинаре в Физико-техническом институте, а через год – в Петроградском отделении Российского общества радиоинженеров.
Для решения поставленной задачи Термен выбрал, как всегда, свой собственный, оригинальный подход, собрав уже известные приборы и устройства новым, неожиданным образом.
Термен разработал и изготовил четыре варианта телевизионной системы, включающей в себя передающее и приемное устройства. Первый вариант, демонстрационный, созданный в конце 1925 года, был рассчитан на 16-строчное разложение изображения. На этой установке можно было «увидеть» элементы, например, лица человека, но узнать, кого именно показывают, было невозможно. Первый и второй вариант телевизионной системы ТерменаВо втором, также демонстрационном, варианте использовалась уже чересстрочная развертка на 32 строки.
Весной 1926 года был сделан третий вариант, положенный в основу дипломной работы Термена. В нем использовалась чересстрочная развертка на 32 и на 64 строки, изображение воспроизводилось на экране размером 1,5×1,5 м.

Уже первые опыты показали, что удалось получить изображение достаточно высокого качества: можно было узнать человека – правда, если он не делал резких движений. Первая успешная публичная демонстрация «терменвизора» состоялась 7 июня 1926 года в актовом зале Физико-технического института, во время защиты дипломного проекта Льва Термена «Установка для передачи изображения на расстояние». 16 декабря 1926 года состоялась еще одна и, пожалуй, последняя публичная демонстрация этой установки дальновидения на V Всесоюзном съезде физиков в Москве. Почти сразу после этого Термена вызвали в Совет Труда и Обороны, где предложили создать телевизионную систему специально для пограничных воинских частей. Все работы в этой области были сразу же строго засекречены.
Технические требования к установке предъявлялись очень строгие: она должна была работать на открытом воздухе при обычном дневном освещении и быть рассчитана на 100-строчное разложение изображения. Третий вариант телевизионной системы ТерменаЭтот четвертый вариант установки и простоял в течение нескольких месяцев в приемной Ворошилова в Кремле, позволяя обозревать на большом экране и кремлевский двор, и отдельных людей, проходящих по этому двору.
Практика показала, что разработанная Л.С. Терменом конструкция установки дальновидения оказалась вполне работоспособной, и более того – последний вариант ее предназначался для работы в армии, где традиционно предъявляются очень жесткие требования к аппаратуре.
В 1926 году, еще до засекречивания работ, журнал «Огонек» и газета «Известия» успели проинформировать об этих экспериментах, но с 1927 по 1984 годы никаких открытых публикаций о работах Термена в области телевидения больше не было, а сами эти работы уже никак не влияли на развитие телевидения у нас в стране и в мире.
За границей
Летом 1927 года во Франкфурте-на-Майне должна была состояться международная конференция по физике и электронике. Кого было послать туда, как не Термена с его инструментом? Термен едет в Германию – и немедля производит настоящий фурор. Западные газеты захлебываются хвалебными эпитетами: «небесная музыка», «голоса ангелов»… А крупнейшие концертные залы наперебой зазывают русского, играющего Глюка на вольтметре. Одно за другим следуют приглашения из Берлина, Лондона, Парижа… В Париже консервативный театр «Гранд-Опера» впервые в своей истории отдал зал на целый вечер какому-то неизвестному русскому – такого аншлага Статья в журнале «Популярная электроника» рассказывает о самом знаменитом изобретении Термена(продавали даже стоячие билетов в ложи) и такого успеха в театре не видели уже 35 лет.

Тем временем Иоффе, который в это время находился в США, получил заказы от нескольких фирм на изготовление двух тысяч терменвоксов с тем условием, что Термен приедет в Америку курировать работы. И Термен поехал.
В Америке его снова ждал успех. Знакомства со звездой искали выдающиеся музыканты, артисты, ученые и бизнесмены. В гостях у Термена бывал Чарли Чаплин, дуэтом с ним любил играть скрипач и физик Альберт Эйнштейн.
Первое время доходы от выступлений позволяли Термену жить на широкую ногу. Он даже арендовал на 99 лет помещение в шестиэтажном доме на Западной 54-й улице в центре Нью-Йорка. Термен продал лицензию на изготовление терменвоксов корпорации «Дженерал электрик» и RCA (Radio Corporation of America), и с разрешения советских властей основал в Нью-Йорке фирму-студию Teletouch Corporation по производству терменвоксов.
Терменвоксы, однако, не могли обеспечить большую прибыль: играть на них мог только профессиональный музыкант, да и то лишь после долгих упражнений (даже Термена регулярно обвиняли в том, что он безбожно фальшивит). Соответственно, в Штатах было продано лишь порядка трехсот терменвоксов.
В те годы Термен заинтересовался идеей так называемого микровремени-идеей что время для микрообъектов должно иметь иные свойства чем для нас и протекать иначе.
Итак, Термен рассуждал следующим образом. Когда мы рассматриваем в микроскоп бактерии, эритроциты, сперматозоиды, увеличивая объект в тысячи раз, почему-то совершаем одну и ту же детскую в своей нелепости ошибку: линейные размеры изменяем, а время протекания процессов оставляем неизменным. Не случайно картина, которую мы наблюдаем в микроскоп, статична и малоинформативна. Хорошо уяснив с помощью Эйнштейна, что пространство и время взаимосвязаны, Термен считал необходимым, обращаясь к микромиру, изменять масштаб времени сообразно изменению линейного масштаба.
Для этого Термен соорудил специальный лентопротяжный механизм, позволяющий ускорять бег кинопленки в камере в сотни раз. И начал вести киносъемку через окуляр микроскопа, соотнося увеличение объекта со скоростью движения ленты.
То, что он увидел на экране, было фантастической сказкой, уносящей за сегодняшние пределы познания. Снимая сперматозоидов (здесь нет грамматической ошибки: использую форму склонения одушевленных существ), он увидел целую цивилизацию. Они разумны, они взаимодействуют. У них своя иерархия, свои армия, построения, турниры, в которых победитель умерщвляет побежденного. Отбор по признакам физических данных ведется в мире сперматозоидов постоянно. Вся их жизнь - подготовка к единственному состязанию, в котором сильнейший из сильных, опередив конкурентов, добирается до женской яйцеклетки.
Между тем приносила доход изобретателю-емкостная сигнализация.Только за металлодетекторы для знаменитой тюрьмы Алькатрас компания Термена получила около $10 тыс. Были заказы на подобные устройства для не менее известной тюрьмы Синг-Синг и хранилища американского золотого запаса в Форт-Ноксе, а также на разработку охранной сигнализации для оборудования американо-мексиканской границы. Береговая охрана предложила Термену разработать систему дистанционного подрыва группы мин с помощью одного кабеля. Именно это направление позволило Teletouch Corporation пережить Великую Депрессию, разразившуюся на рубеже 1930-х.
Книга о Льве Термене: «Музыка и шпионаж»В США Термен продолжает заниматься изобретательством, развивая и совершенствуя свои ранние изобретения. Как развитие идеи терменвокса, появляется терпситрон – устройство для прямого преобразования танца в музыку; ведутся эксперименты с цветомузыкальными системами. Продолжаются работы по дальновидению: камера безопасности стоит в нью-йоркском доме изобретателя, Термен успешно занимается опытами по передаче на расстояние цветного изображения. Совершенствовались и системы сигнализации. Тем не менее, по признанию самого Термена, он рассчитывал, что своими изобретениями приобретет мировую известность, положение и деньги, но этого достичь не сумел и, по сути, до дня своего отъезда в Советский Союз оставался владельцем кустарной мастерской.
Вскоре после приезда в США Термен попадает в поле зрения НКВД, и наркомат решает использовать его в разведывательных целях. По словам самого Термена, большинство заданий были простыми – например, имелся самолет номер такой-то, и нужно было узнать диаметр глушителя. Термен был вхож во многие места, и без особого труда добывал нужную советской разведке информацию.
Первая жена Термена, Катя Константинова, на которой Лев Сергеевич женился в 1921 году, последовала за мужем в США. Однако позднее она оказалась замешана в скандале с фашистской организацией – и советское посольство в Нью-Йорке оформило Термену развод.
В 1934 году судьба сводит Льва Термена с восемнадцатилетней эмигранткой из России Кларой Рейзенберг. В детстве она слыла чудо-ребенком, скрипачкой с великим будущим. Но то ли «переиграла» руки, то ли из-за голодного детства, но со скрипкой ей пришлось расстаться: мышцы не выдерживали нагрузок. Клара Рейзенберг во время игры на терменвоксеА вот терменвокс оказался впору, и Клара быстро научилась играть на нем. Что пришлось очень кстати – ведь игра Термена на его собственном изобретении была отнюдь не виртуозной и вызывала все больше нареканий пресытившейся публики.
Однако не талантливая Клара стала второй женой Термена – ею оказалась Лавиния Уильямс, прекрасная танцовщица-мулатка из труппы Афроамериканской балетной компании, с которой Термен работал над терпситроном. Брак, заключенный с ней, сделал Термена счастливым – и закрыл перед ним большинство дверей: чопорное и консервативное американское общество шокировали межрасовые браки. Вскоре после этого иссяк и поток поставляемой Терменом разведывательной информации, после чего Родина в лице НКВД ощутила непреодолимую потребность в возвращении своего блудного сына. Термену было предложено вернуться в Советский Союз. Одному: жена должна была приехать позднее – но в итоге так и не приехала. Ей не дали выездной визы – и, наверное, это было к лучшему.
Ну а Термен… Термен возвращался на Родину, взяв с собой четверть своего капитала. 31 августа 1938 года под видом помощника капитана он поднялся на советское судно «Старый большевик». В каюте капитана была потайная дверь в каморку, где умещалась только узкая койка. Еду капитану приносили в каюту, и солидных порций вполне хватало на двоих. На время пограничного Американец Роберт Муг (Robert Moog) основал в 60-х годах собственную компанию, производящую музыкальные инструменты, работающие на базовых принципах терменвоксаи таможенного досмотров потайных пассажиров перемещали в более укромные места вроде угольных ям.
Через две недели Термен прибыл в Ленинград. Потом – в Москву. Там его уже ждали…
Магаданский монорельс
Второй раз в своей жизни Лев Сергеевич Термен был арестован 10 марта 1939 года. По его собственным словам, произошло это крайне буднично: к нему в гостиницу пришел «человек с толстым портфелем» и сказал, чтобы Термен не волновался – работа-де найдется. «И прямо сейчас нужно поехать и выяснить все это. Мы поехали куда-то на автомобиле – и приехали в Бутырскую тюрьму».
В камере Термен провел неделю. У него не было скверного впечатления. В свободное время он читал Лидию Чарскую. В несвободное – ходил на допросы. Ввиду отсутствия более серьезного (и более смертоносного) компромата Термена с группой арестованных ранее астрономов Пулковской обсерватории «прицепили» к заговору с целью убийства Кирова (убитого, кстати, в то время, когда Термен находился в Штатах). Версия была такая: Киров собирался посетить Пулковскую обсерваторию, астрономы заложили фугас в маятник Фуко (ну да, маятник Фуко был не в Пулковской обсерватории, а в Казанском соборе, - но кого волнуют такие мелочи?), а лично Термен радиосигналом из США должен был взорвать его, как только Киров подойдет к маятнику. За эту фантасмагорию, в сочинении неправдоподобных деталей которой сам обвиняемый принял живейшее участие, Льву Сергеевичу дали восемь лет и отправили на дорожное строительство в Сибирь.
Лев Термен участвовал в строительстве железной дороги в СибириЛагерный период продолжался где-то год. Как инженер, Термен возглавил бригаду из двадцати уголовников («политические ничего делать не хотели»). Изобретя «деревянный монорельс» (то есть предложив катать тачки не по грунту, а по деревянным желобам-направляющим), Термен зарекомендовал себя с лучшей стороны в глазах лагерного начальства: бригаде в три раза увеличили пайку, а самого Термена вскоре перевели в другое место – в Туполевскую авиационную «шарашку» в Москве, которая после начала войны переехала в Омск. Там Термен разрабатывал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами, радиолокационные системы, радиобуи для военно-морских операций.
Златоуст
«Засветился» ЗК Термен и в другой «шарашке», НКВД-шной, где занимался разработкой систем для прослушивания разговоров в зарубежных посольствах.
Триумфом Льва Сергеевича на новом поприще стала операция «Златоуст». В День Независимости, 4 июля 1945 года, американский посол в России Аверелл Гарриман получил в подарок от советских пионеров деревянное панно с изображением орла. Панно повесили в рабочем кабинете посла, после чего американские спецслужбы потеряли покой: началась загадочная утечка информации. Второе, послевоенное поколение терменвоксовТолько 7 лет спустя они обнаружили внутри подарка пионеров загадочный полый металлический цилиндр с мембраной и торчащим из нее штырьком, после чего еще полтора года разгадывали его тайну. Не было ни источников питания, ни проводов, ни радиопередатчиков, - просто при облучении внешним электромагнитным полем подходящей частоты полость цилиндра вступала с ним в резонанс и радиоволна переизлучалась обратно через антенну-штырек. Колеблющаяся под действием звука мембрана модулировала частоту излученной волны. Детектировать полученный сигнал было делом техники.
За эту разработку Термен не только получил в 1947 году по личному представлению Берии Сталинскую премию I степени (говорят, что Сталин собственноручно исправил степень со второй на первую), но и – беспрецедентный случай! – даже был выпущен на волю. Впрочем, это не намного изменило его судьбу: Термен продолжал работать в той же «шарашке» уже в качестве вольнонаемного. Он совершенствовал систему прослушивания «Буран» - теперь уже безо всяких там загадочных цилиндров звуковые колебания снимались радиолучом с оконного стекла. Сейчас то же самое делают с помощью лазеров. Идея с лазером, к слову, принадлежит Петру Леонидовичу Капице, и тоже отмечена, но не Сталинской, а Ленинской премией…
Стоит рассказать, кстати, и относительно курьезный случай. Воспользовавшись эвакуацией зарубежных дипломатов во время войны из Москвы в Куйбышев, НКВД не преминул нашпиговать московские посольства микрофонами – при всех достижениях миниатюризации, в то время подобные устройства в лучшем случае были размером с хоккейную шайбу.
Четвертый вариант телевизионной системы ТерменаНекоторое время после возвращения посольств из Куйбышева повальная микрофонизация приносила неплохие результаты, но все хорошее рано или поздно кончается: стало известно, что из Америки едут специалисты, и, дабы избежать дипломатического скандала, посольства стали «чистить»: выманивали дипломатов, вытаскивали мешками микрофоны…
Сюрприз ждал чекистов там, где они меньше всего могли его предвидеть – в посольстве Новой Зеландии. Дипломатами этой страны никто никогда особенно не интересовался, и, как оказалось, у контрразведчиков не существовало даже схемы «развода» сотрудников этого посольства. Начали что-то на ходу импровизировать, но, как ни старались, хотя бы один из дипломатов продолжал бдительно торчать в посольстве. Время идет, американские спецы обследовали свое посольство, перешли на остальные… Абакумов, тогдашний министр госбезопасности, был в ярости. Собрал всех и орет: «Да вы что! Баб им красивых найти не можете?! Они что, не люди?! Или они выпить не любят?». Все они любили, но строго по очереди.
Решили посоветоваться с Терменом, нельзя ли придумать что-нибудь, чтобы американцы не нашли микрофоны. Он помозговал и порекомендовал направить на посольство мощное радиоизлучение: оно, мол, заглушит приборы американцев и не позволит найти «шайбы». Привезли его с аппаратурой, выбрали точки вокруг посольства, установили передатчики, антенны. Но пробный пуск этой системы окончился полным провалом. Термен был изобретателем, а не ученым, и все делал на глазок, без расчетов.
И вот... Во дворе посольства дворник в это время ломом колол лед. Когда все включили, он лом бросил, скинул шапку, начал креститься, вопить «Свят, свят, свят!», - и бросился в посольство. Современные терменвоксыЛом у него, видите ли, полетел (по менее драматичной, но не менее впечатляющей версии – просто вырвался из рук и встал вертикально). Термен чуть улыбнулся и сказал: «Наверное, с мощностью переборщили».
Впрочем, скандал удалось замять. Во-первых, речь шла всего лишь о Новой Зеландии. Во-вторых, Термен тоже был, как говорится, не лыком шит, смел и на хорошем счету. По слухам, когда Берия хотел включить Термена в число участников атомного проекта и спросил изобретателя, что ему нужно для создания атомной бомбы, Термен ответил: «Персональную машину с водителем и полторы тонны алюминиевого уголка». Берия засмеялся и оставил его в покое.
Конец легенды
Шли годы, появлялись новые технологии. В 1964 году Термен ушел из исследовательских центров КГБ. По одним слухам, ушел из-за попыток начальства заставить его заниматься «ненаучной чепухой» – эзотерикой, телепатией и прочим, по другим – из-за собственной неспособности перейти от привычных радиоламп к полупроводникам и микросхемам.
Термен устроился на работу в Институт звукозаписи, взялся еще за пару работ по совместительству, чтобы семья не заметила потери в зарплате. А в 1965 году, когда Институт звукозаписи закрыли, Термен перешел на работу в Московскую консерваторию. Современный терменвокс и его прародительОн совершенствовал терменвоксы, дорабатывал другие задумки. Но в начале 1970-х его лабораторию в консерватории ликвидировали. Последним пристанищем «отца электронной музыки» стала кафедра акустики физфака МГУ, куда его принял на работу механиком 6-го разряда академик Рем Хохлов, тоже физик и музыкант.
В конце 1980-х благодаря гласности и перестройке Запад с удивлением узнал о том, что Термен жив. В 1989 году Термена пригласили – и он поехал! – на Фестиваль экспериментальной музыки во Францию. В 1991-м побывал в Нью-Йорке. Потом – фестиваль «Шенберг – Кандинский» в Нидерландах. Тогда же Термен вступает в КПСС. На удивленные вопросы он отвечает «Я обещал Ленину».
3 ноября 1993 года живой легенды не стало. На похоронах Льва Сергеевича Термена присутствовали лишь дочери с семьями да несколько человек, несших гроб.
***
Здесь рассказано далеко не обо всех работах Льва Сергеевича. Например, ни словом не упомянута тема практического долголетия, или омоложения организма. А ведь он весьма серьезно интересовался этими проблемами... Термен умел находить нестандартное решение различных проблем там где их никто не видел...

|
|
Понравилось: 1 пользователю
Exegi monumentum |
В череде античных произведений одним из наиболее резонансных является ода "я памятник воздвиг"-Exegi monumentum" или ода "к Мельпомене" Квинта Горация Флакка.Причем насчет резонансности это не преувеличения-мало есть таких произведений чьих переводов и подражаний десятки.На эту тему можно даже написать книгу.Ниже я поместил наиболее удачные варианты "памятников"
Квинт Гораций Флакк
* * *

Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam: usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex:
dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge volens, Melpomene, comam.
К Мельпомене
(пер. С.В. Шервинского)
Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет — время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию
Жрец верховный ведёт деву безмолвную.
Назван буду везде — там, где неистовый
Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царём
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,
Первым я приобщил песню Эолии
К италийским стихам. Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись и, благосклонная,
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.
Публий Овидий Назон

Завершение поэмы "Метаморфозы"
Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба
Не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость.
Пусть же тот день прилетит, что над плотью одной возымеет
Власть, для меня завершить неверной течение жизни.
Лучшею частью своей, вековечен, к светилам высоким
Я вознесусь, и мое нерушимо останется имя.
Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима,
Будут народы читать, и на вечные веки, во славе -
Ежели только певцов предчувствиям верить - пребуду.
М.В. Ломоносов

* * *
Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру: но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом,
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе;
Отечество моё молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, Муза,
И увенчай главу дельфийским лавром!
Капнист В. В.

Я памятник себе воздвигнул долговечной;
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно —
Не сокрушат его. — Не весь умру я; нет: —
Большая часть меня от строгих Парк уйдет;
В потомстве возрасту я славой справедливой:
И в гордый Капитол с Весталкой молчаливой,
Доколе будет жрец торжественно всходить,
Не перестанет всем молва о мне твердить,
Что тамо, где Авфид стремит ревущи воды,
И в дебрях где простым народом Давн владел,
Я первый, вознесясь от низкия породы,
В латинские стихи эольску меру ввел.
Гордись блистательным отличьем, Мельпомена!
Гордись; права тебе достоинство дало.
Из лавра Дельфского, в честь Фебу посвященна,
Венок бессмертный свив, укрась мое чело.
Г.Р. Державин. Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный;
Металлов твёрже он и выше пирамид:
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полёт его не сокрушит.
Так! Весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастёт моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселенна будет чтить.
Слух пройдет обо мне от белых вод до чёрных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;
Всяк помнить будет то в народах неисчётных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.
О муза! Возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринуждённою рукой, неторопливой
Чело твоё зарёй бессмертия венчай.
Батюшков К. Н.

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон)
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить:
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А кесарь мой — святой косарь.
Пушкин А.С.

Exegi monumentum.*
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.**
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тлeнья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью бoжию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приeмли равнодушно
И не оспаривай глупца.
Фет А. А.

Воздвиг я памятник вечнее меди прочной
И зданий царственных превыше пирамид;
Его ни едкий дождь, ни Аквилон полночный,
Ни ряд бесчисленных годов не истребит.
Нет, весь я не умру, и жизни лучшей долей
Избегну похорон, и славный мой венец
Все будет зеленеть, доколе в Капитолий
С безмолвной девою верховный ходит жрец.
И скажут, что рожден, где Ауфид говорливый
Стремительно бежит, где средь безводных стран
С престола Давн судил народ трудолюбивый,
Что из ничтожества был славой я избран
За то, что первый я на голос эолийский
Свел песнь Италии. О, Мельпомена, свей
Заслуге гордой в честь сама венец дельфийский
И лавром увенчай руно моих кудрей.
В.Я. Брюсов.

Памятник
Sume superbiam... Horatius1
1 Преисполнись гордости... — Гораций (лат.).
Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен.
Кричите, буйствуйте, — его вам не свалить!
Распад певучих слов в грядущем невозможен, —
Я есмь и вечно должен быть.
И станов всех бойцы, и люди разных вкусов,
В каморке бедняка, и во дворце царя,
Ликуя, назовут меня — Валерий Брюсов,
О друге с дружбой говоря.
В сады Украйны, в шум и яркий сон столицы,
К преддверьям Индии, на берег Иртыша, —
Повсюду долетят горящие страницы,
В которых спит моя душа.
За многих думал я, за всех знал муки страсти,
Но станет ясно всем, что эта песнь — о них,
И, у далёких грёз в неодолимой власти,
Прославят гордо каждый стих.
И в новых звуках зов проникнет за пределы
Печальной родины, и немец, и француз
Покорно повторят мой стих осиротелый,
Подарок благосклонных Муз.
Что слава наших дней? — случайная забава!
Что клевета друзей? — презрение хулам!
Венчай моё чело, иных столетий Слава,
Вводя меня в всемирный храм.
В.Ф. Ходасевич.

Памятник
Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрёстке двух дорог,
Где время, ветер и песок...
Иосиф Бродский

* * *
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию - спиной.
К любви своей потерянной - лицом.
И грудь - велосипедным колесом.
А ягодицы - к морю полуправд.
Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять,-
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталось вознесла.
Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят,-
в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.
Иосиф Бродский. Назидание.
СП "СМАРТ", 1990.
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Булатович |
Александр Ксаверьевич Булатович (отец Антоний; 26 сентября (8 октября) 1870, Орёл — 5 декабря 1919, Луциковка, ныне Сумской области Украины) — русский учёный и религиозный деятель, исследователь Эфиопии, офицер, впоследствии иеросхимонах, лидер догматического движения «имяславие» Русской православной церкви.

Александр Булатович родился в городе Орёл в благородной семье. Отец — генерал-майор Ксаверий Викентьевич Булатович, из потомственных дворян Гродненской губернии, умер около 1873 г. Мать — Евгения Андреевна Альбрандт, осталась после смерти мужа с тремя детьми: Александром и двумя его сёстрами. В жилах его текла татарская, грузинская, французская и русская кровь.
Детство Александра прошло в богатом поместье Луциковка Марковской волости Лебединского уезда Харьковской губернии. В 1884 году он вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург.
Александр Булатович учился в Александровском Лицее (1884—1891), который окончил среди лучших выпускников. После окончания лицея 1 мая 1891 года поступил на гражданскую службу в чине титулярного советника в собственную его величества канцелярию по ведомству учреждений императрицы Марии, руководившую учебными и благотворительными учреждениями. Вскоре А. Булатович подал прошение о выдаче ему на руки документов, и поступил на военную службу: 28 мая 1891 года он был зачислен рядовым на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии Гусарский полк. 16 августа 1892 года получил первый офицерский чин — корнета.
В 1896 году Булатович добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии, где он стал доверенным лицом негуса Менелика II.
Совершил в апреле 1896 в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Хараре, преодолев расстояние свыше 350 вёрст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6—18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры.

В 1897—1899 стал военным помощником Менелика II в его войне с Италией и южными племенами.
Булатович — первый европеец, который пересёк из конца в конец Каффу (сейчас — провинция Эфиопии). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо.
В России миссия Булатовича была высоко оценена: он получил серебряную медаль от Русского географического общества за работы по Эфиопии (1899). Ему также был присвоено звание поручика лейб-гвардии Гусарского полка.
Николай Гумилёв с детства восхищался эфиопскими экспедициями Булатовича и был первым, кто смог повторить эфиопский маршрут Булатовича.
23 июня 1900 г. по личному указанию Николая II Главному штабу Булатович был направлен в Порт-Артур в распоряжение командующего войсками Квантунской области. Затем он направлен в отряд генерала Н. А. Орлова, действовавший вдоль Китайской-Восточной железной дороги. Участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания. 18 июля 1900 года отряд Булатовича вошёл в Хайлар, захваченный до этого повстанцами, и двое суток удерживал его до подхода основных сил. После взятия Хайлара отряд Орлова двинулся к Хинганскому перевалу. В ночь на 8 августа Булатович лично руководил разведкой вражеских позиций, а затем смелым обходным маневром вышел противнику в тыл. После жестокой схватки китайцы отступили. 135 забайкальских казаков получили за этот бой Георгиевские кресты, а сам Булатович - орден Владимира 4-й степени. Предводитель китайских войск Шоу Шань вскоре после поражения покончил с собой.
8 июня 1901 г. Булатович возвратился в полк. Там он через месяц был назначен командовать 5-м эскадроном. 14 апреля 1902 г. произведён в ротмистры. Закончил ускоренный курс 1-го Военного Павловского училища.
18 декабря 1902 г. А. К. Булатович был освобождён от командования эскадроном. С 27 января 1903 г. уволился в запас по «семейным обстоятельствам».
Постриг
В 1903 после разговора с Иоанном Кронштадтским он ушёл из армии и стал монахом (позже иеросхимонахом) русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон в Греции. Он снова посетил Эфиопию и попытался основать там русский православный монастырь.
Был пострижен как отец Антоний и стал известен как иеромонах Антоний Булатович.
Лидер имяславия
В 1907 после чтения книги «На горах Кавказа», написанную схимонахом Иларионом, он стал одним из лидеров имяславия. Когда движение было объявлено еретическим и расформировано, стал одним из лидеров защиты Свято-Пантелеимонова монастыря при его штурме посланными туда русскими войсками в 1913. Был схвачен и вывезен вместе с другими монахами Афона в Россию на судне «Херсон».

Он продолжал свою борьбу за признание имяславия, издал несколько богословских книг, доказывающих его правоту, встречался с императором Николаем II, и в конечном счете сумел обеспечить своего рода оправдание для себя и своих товарищей по имяславию — имяславцам позволили возвратиться к служению в Церкви без покаяния.
В 1914 году иеросхимонах Антоний (Булатович) направил государю императору Николаю II письмо в защиту имяславия.
Мы не хотим раскола и скорбим о том бедствии, которое ныне постигло нашу Церковь, желали бы, чтобы в Церкви снова наступил мир и всякие догматические споры прекратились, но отступать от исповедания Божества Имени Божия мы не считаем для себя вправе и покориться Святейшему Синоду считаем за вероотступничество.
Государь в ответ направил письмо на имя митрополита Московского Макария, в котором благоприятно отозвался о имяславцах
Когда иеросхимонах Антоний (Булатович) приехал с Афона в Россию искать «правды Божией» у Русской православной церкви, то его прежде всего подвергли обыску, потом Св. Синод предложил Министерству внутренних дел выслать его из Петербурга как человека беспокойного. «Полицейскими преследованиями ответили на его духовную жажду».[1]
Первая мировая война
28 августа 1914 Антоний Булатович получил разрешение поехать в действующую армию как армейский священник.
Во время Первой мировой войны отец Антоний не только служил священником, но и во «многих случаях вёл солдат в атаку», был награждён наперсным (священническим) крестом на Георгиевской ленте.
Отец Антоний был убит бандитами в ночь с 5 на 6 декабря 1919 года. Похоронен в селе Луциковка Белопольского района Сумской области, Украина. 23 августа 2009 года на могиле установлен и освящен гранитный крест.
Награды
* Орден Святой Анны 2-й степени с мечами;
* Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом;
* Орден Почётного легиона (за спасение из плена французского миссионера сеньора Лавесьера во время подавления «восстания боксёров» в 1900 году).
* Высшая военная награда Эфиопии при негусе Менелике II — золотой щит и сабля, подаренные расой Вальде Георгисом.
* Георгиевский крест
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Avalon |
Известной во многих странах,нашедшая отражение в кинематографе является легенда об Авалоне.Эта легенда-часть мифологии кельтов-древнего народа некогда проживавшего на територии современных-Франции,Германии и ряда других стран.Кельты были вытеснены римлянами и нашли свое пристанище на Британских островах-оказав влияние на возникшие там позже этросы.Но вернемся к Авалону.Он представлялся островом среди безкрайних волн.В сагах нередко рассказывается о большом изобилии золота и хрусталя, а также о тумане, который окружает остров.

А все эти признаки явственно указывали на принадлежность к Иному миру. Кельты изначально полагали, что шелк, парча, золото, драгоценные камни – дар существ из параллельного измерения. Стеклянная башня, не раз фигурирующая в сказаниях, также указывает на представления кельтов об Аваллоне, как о загробном мире. На неземное происхождение острова указывает и отсутствие ночи на острове («Плавание святого Брендана»). Да и адские соблазны, которым подвергаются нечаянно забредшие на остров путники, говорят в пользу того, что Аваллон – рай или ад, смотря как на него посмотреть.

Обитатели Обетованной Страны не нуждались в пище. Те, кто туда попадал, также обходились без материальной пищи и воды. Правда, подобный факт есть далеко не во всех сагах и сказаниях. Не зря же котел Дагды родился именно на этой земле. Кроме того, большинство кельтов все же не верили в загробный мир, поэтому если Аваллон для них и виделся островом с Иного мира, то только в виде места, где их душа, прошедшая долгий путь спасения, наконец, обретет покой.
Аваллон под землей?

Конечно, сегодня эта точка зрения практически не проходит даже в качестве гипотетической. Все давно известно, или, по крайней мере, кажется, что научно это доказано, о наличии внутри земли ядра, мантии и так далее. Хотя каких-то несколько веков назад люди также уверенно говорили о плоскости земли. Что мешает допустить мысль, что и сейчас нас обманывают. Раньше обманывали о существовании космоса, теперь о существовании полостей внутри земли. Похоже на бред, но некоторые исследователи до конца не решаются отринуть эту идею. И вот почему.

Миф о том, что Аваллон скрывается под толщей воды или земли также теряет свои корни очень далеко от начала нашей эры. Но о дремучести тех народов лучше даже не задумываться хотя бы потому, что примерно в то же время, жили продвинутые шумеры, которые во многом были умнее и просвещеннее нас. Поэтому люди, считавшие, что существование земли под водой возможно, верили в это. А может и видели. Не зря же в течение длительного периода возникали произведения о путешествиях к центру земли (Жюля Верна, к примеру). Верили в эту идею и британский астроном Галлей, и известный математик Эйлер.

Еще в прошлом веке Амундсен, Кук, Пири и другие фиксировали в записях явления неизвестных земель на территории Арктики. А Кук даже попробовал ее сфотографировать. Норвежец Олаф Янсен с отцом, якобы, даже совершали путешествие на север Земли. Там в какой-то определенной точке они, не заметив, попали в дыру, а потом вышли на южном полюсе. Но до того как выйти, повстречали великанов, побывали в городах, похожих на те, что описываются в мифах об Эдеме и Аваллоне. Тот же туман, мягкий рассеивающийся свет, отсутствие ночей, потому что свет опять же, видимо, искусственный (под землей нет ни солнца, ни других небесных светил, а, значит, нет и смены дня и ночи). Есть и другие, подобные этому описанию, произведения. Современные, они несут в себе массу отражений кельтской мифологии и мифологий других стран. Конечно, возможно, путешественники просто перечитали в свое время саг и сказаний.

Но если предположить, что остров (земля, материк или что-то другое) все-таки есть, то, возможно, повествуя о дверях в море, земле, на севере и так далее, очевидцы говорили только о входах. Сама же земля Обетованная может существовать где угодно. Даже под земной твердью. Эта невероятная теория, однако, единственная легко объясняет внезапное исчезновение фоморов, Туата де Дананн (по легендам они как раз ушли под землю). И дает надежду на существование Шамбалы, Агарти, града Китеж и других легендарных земель, которые разыскиваются уже много столетий. Если они внутри гор или под водой, или под землей – все объяснимо. А зайти к ним можно через ходы вроде тех, кто расположены в холмах сидов в Великобритании.




|
|
Понравилось: 1 пользователю
Без заголовка |
Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Хищные
Семейство: Кошачьи
Род: Caracal Gray, 1843
Вид: Каракал
Название «каракал» происходит от тур. karakulak «чёрное ухо», так как задняя сторона ушей у этих кошек чёрная. В Северной Африке каракала также называют берберийской рысью.
Каракал, или степная рысь (лат. Caracal caracal), хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям (Lynx), на которых он похож внешне, однако ряд генетических отличий выделил его в отдельный род. Несмотря на это, каракал ближе стоит к рысям, чем другие кошки.

Внешне напоминает рысь, но меньше размерами, стройнее и с однотонной окраской. Длина тела 65—82 см, хвоста — 25—30 см, высота в плечах около 45 см; масса — 11—19 кг. Уши с кисточками (до 5 см) на концах. На лапах развита щётка из жёстких волос, облегчающая передвижение по песку.

Мех короткий и густой. Окраской напоминает северо-американскую пуму (Felis concolor): песчаный или красновато-коричневый верх, беловатый низ; по бокам морды черные отметины. Кисточки и наружная сторона ушей — чёрные. Очень редко встречаются чёрные каракалы-меланисты.

Хотя внешне каракал похож на рысь, по морфологическим признакам он ближе всего к пуме. Близок каракал и к африканскому сервалу, с которым хорошо скрещивается в неволе.
Водится в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, в пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии. На территории СНГ малочислен: встречается в пустынях Южной Туркмении, по побережью Каспийского моря доходит до полуострова Мангышлак, на востоке иногда появляется в Бухарской области Узбекистана.
Подвиды каракала распространены:

Caracal caracal caracal — в Судане и Южной Африке,
Caracal caracal algira — в Северной Африке,
Caracal caracal damarensis — в Намибии,
Caracal caracal limpopoensis — в Ботсване,
Caracal caracal lucani — в Габоне,
Caracal caracal michaelis — в Туркмении (вымирающий вид, не более 300 особей),
Caracal caracal nubicus — в Судане и Эфиопии,
Caracal caracal poecilictis — в Нигерии,
Caracal caracal schmitzi — от Аравии до Передней Индии.
Образ жизни и питание

Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днем. Убежищами ему служат расщелины скал и норы дикобразов и лисиц; иногда они используются несколько лет подряд. Самцы занимают обширные территории, а территории самок, более скромные, располагаются на периферии.

Хотя у каракала длинные ноги, долго бежать он не может, поэтому охотится, скрадывая жертву и настигая ее большими (до 4,5 м в длину) прыжками. Обладая необычайной скоростью реакции и очень острыми втяжными когтями, каракал способен выхватить несколько птиц из взлетающей стаи. Однако главной пищей ему служат грызуны (песчанки, тушканчики, суслики), зайцы-толаи, отчасти мелкие антилопы, в Туркменистане — джейраны. Иногда добывает ежей, дикобразов, рептилий, насекомых, небольших хищных зверей, вроде лисицы и мангуста, молодых страусов. Может похищать домашнюю птицу, нападать на ягнят и коз. Каракал способен долгое время обходиться без воды, получая жидкость из съеденной добычи.
Подобно леопарду, каракал затаскивает убитую дичь на деревья, чтобы спрятать ее от других хищников.

Размножение происходит круглый год, самка может иметь до трех партнеров. После беременности в 78—81 дней рождается 1—6 детенышей. До достижения ими месячного возраста самка раз в день переносит их из одного логова в другое. В 6 месяцев молодые каракалы покидают мать и обосновываются в своих владениях. Половозрелыми становятся в 16—18 месяцев.
Каракал в истории, приручение

Каракалы легко приручаются. В Азии (Индия, Персия) с ручными каракалами охотились на зайцев, фазанов, павлинов и мелких антилоп. В древности такая охота была очень популярна на Востоке; в Индии каракала называют «маленьким гепардом» или «гепардом для бедных», поскольку в отличие от гепардов каракала отлавливали и держали небогатые люди. Теперь такая охота — редкость.
Статус популяции и охрана

В Африке, особенно Южной, каракал достаточно обычен и считается вредителем. Существует особая культура охоты на каракала: его подманивают приборами, имитирующими крик раненого зайца или мыши, и ночью стреляют из-под фар. Кроме того, в Южной Африке каракалов используют, чтобы отгонять птиц (в основном, цесарок) со взлётно-посадочных полос военных аэродромов.

Азиатские подвиды каракала гораздо более редки и занесены в всемирную програму по охране диких животных.
Крайне редко попадаются каракалы черной окраски.

|
|
Ламия |
Ламии - По мнению римских и греческих классиков, ламии обитают в Африке. Кверху от пояса у них формы красивой женщины, нижняя же половина - змеиная. Некоторые ученые называли их колдуньями, другие злобными чудовищами. Они лишены способности говорить, однако умеют издавать мелодичный свист и, завлекая им путников в пустыне, пожирают их. Происхождения они божественного - они потомки одной из многих любовных связей Зевса.
"Филострат в четвертой книге его "О жизни Аполлония" приводит достопамятный пример этого рода, который я не могу опустить, о некоем Мениппе Ликии, молодом человеке 25 лет, который на пути меж Кенхреями и Коринфом встретил подобное призрачное существо в облике прекрасной молодой женщины; взяв его за руку, она повела его к себе в дом в предместе Коринфа и сказала, что она родом финикиянка и что, ежели он с нею будет жить, то "услышат, как она поет и играет, и будет пить такие вина, каких в жизни не пивал, и никто им не помешает; она же верно и преданно будет с ним жить и с ним умрет и обещает ему это верно и преданно". Молодой человек был философом, жил степенно и скромно и умел сдерживать свои страсти, но перед любовной страстью не устоял; он довольно долго прожил с этой женщиной к великому своему удовольствию и наконец женился на ней, и на свадьбу, среди прочих гостей, явился Аполлоний, который по некоторым признакам обнаружил, что эта женщина — змея, ламия, и что все ее имущество, подобно описанному Гомером золоту Тантала, — ничего настоящего, одна мнимость. Когда она увидела, что ее изобличили, то заплакала и попросила Аполлония молчать, но его это не тронуло, и в тот же миг она, серебряная посуда, дом и все, что в нем было, исчезло: "многие тысячи людей знали об этом происшествии, ибо оно случилось в самом центре Греции"." Роберт Бертон "Анатомия меланхолии"

Прародительница скифов,если верить Геродоту также имела вид женщиты-змеи.Легенда повествует что Геракл во время своих путешествий забрел в незнакомые земли и попал в огромную пещеру.Там он встретил женщину-змею.Она обещала ему указать путь из этих мест в обмен на интимные услуги.Герой согласился и видимо ему так понравилось что прошло несколько лет.Наконец он засобирался домой(на тот момент у него уже были детишки) и как не просила его подруга остаться он наотрез отказался,оставив ей лишь лук,рог для питья и сандалии.Выросшие дети должны были попытаться натянуть лук-тот у которого это получится и должен остаться хозяином на этой земле- двое остальных должны искать приют для себя в других землях.Скиф и стал тем кто смог натянуть лук.

В религиях многих стран существовали культ змея,Русь не является исключением,но эта тема стоит отдельного рассмотрения.

Пьесу Еврипида «Ламия» (где говорилось о ливийской сивилле) упоминает Лактанций.
"Название "ламия" этимологически выводится из "lammaszt'a", слова, которым в Ассирии и Вавилоне называли демонов, убивающих грудных младенцев.

Древнееврейским словом "лилим" в мидраше именуют демонических детей Лилит.(Кто не знает Лилит считается первой женой Адама-до Евы,она тоже была наполовину змеей). Известны строки из Книги пророка Исайи (34:14), которые в большинстве переводов говорят о "Лилит", или "ночном привидении", в переводе же Св.Иеронима они выглядит так: "...ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem".

В восточной Европе ламия "ассоциировалась также с ночным кошмаром — Марой. У южных славян ламя — чудовище с телом змеи и собачьей головой; она темной тучей опускается на поля и сады, пожирает плоды земледельческого труда."

Дело в том, что в средневековье ламия (как и Лилит) стала синонимом сатанинского демона, дьявола родом из ада. Опороченное произведение Ульриха Молитора "О демонах и чародейках" (1493) это ведь в оригинале-то "De lamiis et Phitonicis mulicribus". Ламий связали с инкубами и суккубами, превратили в упырей, демонов ночи, добавив к ним такие разновидности, как лемуры, эмпузы (ср. "Фауст" Гёте) и мормолики" и поселив в лесах, оврагах и заброшенных замках.

Не демоном а вполне земной женщиной была-Ламия флейтистка родом из Афин, она за долги родителей была еще ребенком продана в рабство в Египет, где и обучалась игре на флейте и искусству любви. О египетском периоде ее жизни сведений не сохранилось. Известно, что там, на одном из празднеств, она покорила сердце царя Птоломея, которому принадлежала вплоть до морского поражения, нанесенного ему Дмитрием, царем Македонии. Кто знает, может, не возьми Птоломей с собой в поход Ламию и проводи он больше времени в подготовке к сражению, история повернулась бы совсем иначе. Попав в числе прочей военной добычи в плен к победителю, выступив на пиру в честь победы со своим коронным номером с раздеванием и игрой на флейте во время танца, она сумела покорить сердце Дмитрия, став его любовницей и госпожой в полном смысле этого слова. Плутарх сохранил для нас историю любви Дмитрия и Ламии. Он описывал македонского царя человеком такой совершенной красоты, с такой благородной, величественной осанкой, что ни художники, ни скульпторы не могли уловить черты его лица. Лицо его выражало одновременно мягкость и суровость, жестокость и притягательность. Живость, гордость и пыл юности соединялись в нем с видом героя, с геройским величием и истинно царским блеском. Таков был покоритель городов, супруг нескольких королев и развращенный любовник флейтистки. Ламия была искусна не только в любви, был у нее и талант композитора. «В своем эротическом экстазе Дмитрий доходил до того, что лежа ночью на ложе своей любовницы, галлюцинировал, слышал ее музыку, слышал вновь те мотивы, которые она играла ему во время ужина, восхищаясь особенно чарующими отрывками». Разумеется, жены ревновали, а царь жил как хотел.
Страшная месть землякам
Ламия сопровождала царя во всех военных походах. Впрочем, это было принято в те времена: жен оставляли дома, а сами уходили воевать, прихватив для потехи публичных женщин. В отличие от Птоломея, царь Дмитрий во время похода не терял головы и сумел покорить Афины. Ламия не забыла, как с ней обошлись земляки, как ей пришлось стоять голой на рабском рынке, демонстрируя свое юное тело. Теперь она имела возможность отомстить, что она и сделала. По ее настоянию, Дмитрий тотчас же по взятии Афин потребовал с покоренного города контрибуцию в 250 талантов. Один талант равнялся 25,8 кг золота. (При современной цене 313 долларов за унцию это 65 миллионов долларов.) Когда после неимоверных усилий сумма эта была собрана и принесена к ногам победителя, он презрительно отвернулся от золота, сказав: «Отдайте его Ламии, это ей на туалетное мыло!» Позор от сознания, что их золото будет потрачено таким образом, был для афинян гораздо тяжелее, чем самый факт уплаты контрибуции, обиднее же всего был сам тон слов Дмитрия. Но одним выкупом не обошлось. Ламия широко воспользовалась властью победителя над своими соотечественниками. Чтобы оскорбить религиозные чувства земляков, она заставила своего любовника устроить ей спальню в храме Минервы. За эту выходку ни боги, ни люди ее не покарали. Только смерть царя во время одной оргии прекратила господство Ламии. Но афиняне не стали преследовать ее, видимо, из-за того, что она вернула часть денег, и ей удалось умереть своей смертью. После ее смерти они воздвигли статую в честь Венеры в образе Ламии, решив, что боги ведут себя именно так, как она.

|
|
Понравилось: 1 пользователю
Параллели |
Во все времена человек пытался заглянуть за грань известного ему мира.Помимо того что вселенная разделяется,кроме физического мира на ряд тонких миров-астральных он множится на мирриады вполне физических миров и вселенных,по крайней мере так считают некоторые чудаки от науки.

Альберт Эйнштейн в течение всей жизни пытался создать «теорию всего», которая описала бы все законы мироздания. Однако у него это неполучилось.
Сегодня астрофизики предполагают, что наилучшим кандидатом на эту теорию является теория суперструн. Она не только объясняет процессы расширения нашей Вселенной, но и подтверждает существование других вселенных, находящихся рядом с нами. Кстати сама по себе теория о постоянном расширении вселенной довольно спорная но сейчас не об этом.«Космические струны» представляют собой искажения пространства и времени. Они могут быть больше, чем сама Вселенная, хотя толщина их не превышает размеров атомного ядра.

Тем не менее, несмотря на удивительную математическую красоту и целостность, теория струн пока не нашла экспериментального подтверждения. Вся надежда на Большой адронный коллайдер. Ученые ждут от него не только открытия частицы Хиггса, но и некоторых суперсимметричных частиц. Это будет серьезной поддержкой теории струн, а значит, и других миров. Пока же физики строят теоретические модели иных миров.
1950-е год ы. Миры Эверетта

Первым о параллельных мирах в 1895 году землянам сообщил писатель-фантаст Герберт Уэллс в рассказе «Дверь в стене». Спустя 62 года выпускник Принстонского университета Хью Эверетт поразил коллег темой своей докторской диссертации о расщеплении миров.
Вот ее суть: каждый миг каждая вселенная расщепляется на непредставимое количество себе подобных, а уже в следующий миг каждая из этих новорожденных расщепляется точно таким же образом. И в этом огромном множестве есть множество миров, в которых существуете вы. В одном мире вы, читая эту статью, едете в метро, в другом — летите в самолете. В одном — вы царь, в другом — раб.
Толчком к размножению миров служат наши поступки, объяснял Эверетт. Стоит нам сделать какойнибудь выбор — «быть или не быть», например, — как в мгновение ока из одной вселенной получилось две. В одной мы живем, а вторая — сама по себе, хотя мы присутствуем и там.
Интересно, но… Даже отец квантовой механики Нильс Бор остался тогда к этой сумасшедшей идее равнодушным.
1980-е годы. Миры Линде

Теория многомирья могла бы и забыться. Но вновь на помощь ученым пришел писатель-фантаст. Майкл Муркок по какому-то наитию поселил всех жителей своего сказочного города Танелорн в Мультивселенную. Термин Multiverse тотчас замелькал в трудах серьезных ученых.
Дело в том, что в 1980-е у многих физиков уже созрело убеждение, что идея параллельных вселенных может стать одним из краеугольных камней новой парадигмы науки о структуре мироздания. Главным поборником этой красивой идеи стал Андрей Линде. Наш бывший соотечественник, сотрудник Физического института им. Лебедева Академии наук, а ныне профессор физики Стэнфордского университета.
Линде строит свои рассуждения на базе модели Большого взрыва, в результате которого возник молниеносно расширяющийся пузырек — зародыш нашей Вселенной. Но если какое-то космическое яйцо оказалось способным породить Вселенную, то почему нельзя предположить возможность существования других подобных яиц? Задавшись этим вопросом, Линде построил модель, в которой инфляционные (inflation — разду-вание) вселенные возникают непрерывно, отпочковываясь от своих родительниц.

Для иллюстрации можно представить себе некий резервуар, заполненный водой во всех возможных агрегатных состояниях. Там будут жидкие зоны, глыбы изо льда и пузыри пара — их и можно считать аналогами параллельных вселенных инфляционной модели. Она представляет мир как огромный фрактал, состоящий из однородных кусков с разными свойствами. Передвигаясь по этому миру, вы сможете плавно переходить из одной вселенной в другую. Правда, ваше путешествие продлится долго — десятки миллионов лет.
1990-е годы. Миры Риса
Логика рассуждений профессора космологии и астрофизики Кембриджского университета Мартина Риса примерно такова.
Вероятность зарождения жизни во Вселенной априори настолько мала, что смахивает на чудо, рассуждал профессор Рис. И если не исходить из гипотезы Создателя, то почему бы не предположить, что Природа случайным образом рождает множество параллельных миров, которые служат для нее полем для экспериментов по созданию жизни.
По мнению ученого, жизнь возникла на небольшой планете, обращающейся вокруг рядовой звезды одной из рядовых галактик именно нашего мира по той простой причине, что этому благоприятствовало его физическое устройство. Другие миры Мультивселенной, скорее всего, пусты.
2000-е год ы. Миры Тегмарка
Профессор физики и астрономии Пенсильванского университета Макс Тегмарк убежден, что вселенные могут различаться не только местоположением, космологическими свойствами, но и законами физики. Они существуют вне времени и пространства, и их почти невозможно изобразить.
Рассмотрим простую вселенную, состоящую из Солнца, Земли и Луны, предлагает физик. Для объективного наблюдателя такая вселенная представляется кольцом: орбита Земли, «размазанная» во времени, как будто обернута оплеткой — ее создает траектория движения Луны вокруг Земли. А другие формы олицетворяют иные физические законы.
Свою теорию ученый любит иллюстрировать на примере игры в
«русскую рулетку». По его мнению, каждый раз, когда человек нажимает на курок, его вселенная расщепляется на две: где выстрел произошел, и где его не было. Но сам Тегмарк не рискует проводить такой опыт в реальности — по крайней мере, в
нашей Вселенной.
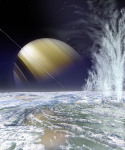
|
|
















