-Рубрики
- (0)
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕЛА (5)
- АВТОРСКОЕ (11)
- ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ (25)
- ВОЙНА,АРМИЯ,Россия (3)
- ЖЕНЩИНЫ (15)
- ИСКУССТВО (37)
- КЗОТ,ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (1)
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФАНТАЗИИ (29)
- ЛЮБОВЬ (34)
- МЕДИЦИНА (61)
- МОРАЛЬ,ФИЛОСОФИЯ (46)
- МУЖСКАЯ КУЛИНАРИЯ, САМ СЕБЕ ПОВАР (196)
- МУЗЫКА КЛАССИЧЕСКАЯ (6)
- МУЗЫКА ЛЮБОВНАЯ-ЛЮБОВНАЯ (17)
- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (44)
- ПОЛИТИКА,МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (10)
- поэзия (1)
- РЕЛИГИЯ (3)
- РОДИНА,ПАТРИОТИЗМ (9)
- СТРАНА РУКОЖОПИЯ (20)
- ФОТОГРАФИЯ,КИНОСЪЕМКА (6)
- ЮМОР, САТИРА,ПАРОДИЯ (52)
-Музыка
- Goran Karan
- Слушали: 12081 Комментарии: 0
- Майя Розова. Уехала Ты
- Слушали: 1603 Комментарии: 2
- Der Rebe Elimeylekh
- Слушали: 243 Комментарии: 1
- Оттепель - К.Меладзе, Исполняет Паулина Андреева
- Слушали: 5649 Комментарии: 0
- Тихо плачет душа
- Слушали: 143094 Комментарии: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Создан: 23.05.2018
Записей: 1371
Комментариев: 890
Написано: 2920
Записей: 1371
Комментариев: 890
Написано: 2920
Какое-то чудо витает.... |
Rada Rakhim
Какой он, все таки, неподражаемо великолепен!! Божественно красив и талантлив! Не пишу "был", ибо он и есть, и будет, всегда! В одной поре, всегда молодой и любимый всеми...
Хворостовский ! Как же обеднела без тебя Земля !
Татьяна Строкова
Хворостовский - это Вечность !!!!! Это - Совершенство !!!!!!! Это - Вселенская Гармония, Свет и Любовь !!!!!!!!!!
Нет, сегодня грусть-не по Парижу, эта музыка сегодня-грусть по Светлому Рыцарю...Любимому ПЕВЦУ!
Но-Продолжается- ЖИЗНЬ!
Maksím Fedótov
Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далёко улетает.
Звук привычный, звук живой,
Как ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой.
Зорю бьют... Зорю бьют...
Ирина Султанова
Как же это
- прекрасно!!!
Ljudmila
Вечная Память Золотому Голосу России..🙏🙏🙏🙏
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Работа с программой Microsoft Office...Уроки Г.ЩАДРИНОЙ |


 Знакомство с Microsoft Office. Microsoft Office — это пакет прикладных программ, позволяющих решать разнообразные задачи. Эти программы в значительной степени взаимосвязаны, имеют схожие оформление и инструменты, но все же каждая из них является самостоятельным приложением.
Знакомство с Microsoft Office. Microsoft Office — это пакет прикладных программ, позволяющих решать разнообразные задачи. Эти программы в значительной степени взаимосвязаны, имеют схожие оформление и инструменты, но все же каждая из них является самостоятельным приложением. - Знакомство с Microsoft Office
- Открываем документ Word
- Ввод текста
- Форматирование текста в Word
- Оформление документов Word
- Вставка в документ Word
- Вставка в документ Word данных из других приложений
- Сохранение нового документа Word на диске
- Сохранение измененного документа Word
- Закрытие файла и программы Word
- Окно приложения
- Окна документов
- Окно Word


Серия сообщений " Полезное о компьютере":
Часть 1 - Устанавливаем автоматический веб переводчик в МАЗИЛЕ
Часть 2 - Хотите проверить свой компьютер на наличие уязвимости в интернете
...
Часть 19 - Более 30 бесплатных антивирусные программы для Windows
Часть 20 - Программы восстановления данных с жесткого диска и флешки
Часть 21 - Работа с программой Microsoft Office
Часть 22 - Расширения, форматы файлов, чем открыть
Часть 23 - Набираем на клавиатуре символы, которых на ней нет
...
Часть 26 - Как узнать возможности вашего компьютера?
Часть 27 - Все, что вы могли не знать о значениях клавиш F1-F12
Часть 28 - Зачем нужна «лишняя» кнопка Win?
|
|
РАЗДЕЛИТЕЛИ ТЕКСТА..и-много "ВКУСНОГО"... |
|
|
Понравилось: 1 пользователю
ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО...ЧЕМ СЕРДЦЕ СОГРЕТЬ И-РАЗУМ "ПОШЕВЕЛИТЬ"... |


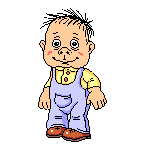
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Лепешки чуду...Действительно -ЧУДО! |
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Без заголовка |





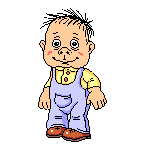







 | alt +0147 “ Закрывающая лапка alt +0148 ” Английская закрывающая лапка alt +0149 • Большая точка alt +0150 – Короткое тире (минус) alt +0151 — Тире alt +0153 ™ alt +0155 › Правый уголок alt +0167 § Параграф alt +0169 © alt +0171 « Открывающая елочка alt +0174 ® alt +0176 ° Знак градуса alt +0177 ± alt +0183 • Точка по центру alt +0187 »Закрывающая елочка |  |


| alt +0130 ‚ Нижняя бинарная кавычка alt +0132 „ Открывающая лапка alt +0133 … Многоточие alt +0136 € Евро alt +0139 ‹ Левый уголок alt +0145 ‘Перевернутый апостроф alt +0146 ’ Апостроф alt + 1 = ☺ alt + 2 = ☻ alt + 3 = ♥ alt + 4 = ♦ alt + 5 = ♣ alt + 6 = ♠ alt + 7 = • alt + 8 = ◘ alt + 9 = ○ alt + 10 = ◙ alt + 11 = ♂ alt + 12 =♀ alt + 13 = ♪ alt + 14 = ♫ alt + 15 = ☼ alt + 16 = ► alt + 17 = ◄ alt + 18 = ↕ alt + 19 = ‼ alt + 20 = ¶ alt + 21 = § alt + 22 = ▬ alt + 23 = ↨ alt + 24 = ↑ alt + 25 = ↓ alt + 26 = → alt + 27 = ← alt + 28 = ∟ alt + 29 = ↔ alt + 30 =▲ alt + 31 = ▼ alt + 177 = ▒ alt + 987 = █ |
|
|
Понравилось: 2 пользователям
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУРТА. |
Не так давно здесь была ссылочка на историю о том, как немецкая журналистка узнала на выставке фотографий из Белоруссии врмен ВОВ своего отца.
Она с детства привыкла считать его героем, погибшим на фронте, а на фотографии он участвовал в казни молодой девушки.
Стоял рядом, когда ей накидывали петлю на шею...
Потрясенная немецка журналистка публично покаялась в зверствах своего отца и в итоге через 7 лет покончила жизнь самоубийством.
Сделала ли она это из-за глубокой душевной раны? Вероятно.
Однако её дети решили похоронить эту историю и отказываются рассказывать о матери и о деде, высказывать свое отношение к произошедшему, передавать документы, дневники деда той поры и т.д.
А мне вспомнился рассказ от своей ЛиРушной подруги из Израиля Феникс_94, К сожалению её самой уже нет на ЛиРу.
Поэтому привожу выдержки из её поста. Сами понимаете израильтяне люди многословные, поэтому сокращено.
Итак, представьте яркое южное солнце, пальмы, и т.д. Мы в Иерусалиме:
МИРИАМ ГУРОВА.(ИЗРАИЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУРТА.
http://booknik.ru/
.. .Случайная встреча в 2003 году.
Обычный рабочий день в Кнессете — я тогда служила парламентским помощником. «Наш» депутат Юра Штерн— все его звали просто Юра — был человек в высшей степени энергичный, и его команде помощников приходилось буквально носиться за ним с комиссии на комиссию, с этажа на этаж и ловить задания на лету. Вот так и в тот день. Бегу за Юрой по коридору с пачкой писем в руках, как вдруг у дверей фракции «Ликуд» нас тормозит Эстер — помощница одного из министров.— Послушай, — говорит она Юре, — ты можешь мне помочь? Завтра прилетает друг из Германии, а мне ночью улетать в Америку с делегацией босса. Не мог бы ты поручить Мириам встретить этого паренька и показать ему Кнессет, а? Я сама обещала, да не выходит. Курт прилетает на неделю, а я вернусь только через 8 дней. Это жених дочери моей школьной подруги.
— А подруга не может?
— Она не работает в Кнессете и вообще живет в Хайфе. А наша секретарша на больничном. Так поможешь?
— Что за вопрос! — согласился Юра и, убегая, бросил мне: — Запиши его данные и догоняй.
— Он еврей из Германии? — пытаюсь внести ясность. — Говорит по-русски?
— Стопроцентный немец, баварец.
— Но я не знаю немецкого…
— Представь себе, он говорит на иврите! Так я дам подруге твой телефон, а ты назначь в удобное время. Вот его данные — закажешь пропуск.
Бэседер?
.…У входа все думала, как же я узнаю этого паренька.
Зря переживала. Он вытарчивал из толпы — почти два метра истинного арийца, белокурая бестия лет восемнадцати, улыбка до ушей. Его видеокамеру, как водится, отобрали на контроле, но одежда и обувь выдавали туриста — израильтяне такое не носят.
Подошел поближе, вижу надпись нанаклейке-пропуске — он самый, Курт. Ого, как бойко заговорил на нормальном иврите! Почти без акцента. Ах да, подумала я, это нас израильская невеста вымуштровала. Полное погружение в языковую стихию — залог успеха. Вожу его по Кнессету, показываю все, что положено, — вот «Декларация Независимости», а вот вход на галерею прессы… Он задает вполне грамотные вопросы по истории Израиля, охает и ахает перед гигантским триптихом Марка Шагала, мило шутит по разным поводам. Немец с чувством юмора, это свежо. Короче, мне приятно в его обществе, и я не стараюсь отделаться от него поскорее.
Мы уже были в конце маршрута, как вдруг забренькал мобильник.
Юра сообщил, что задерживается на час-полтора на важный бизнес-ланч, и просил его дождаться — будет срочно диктовать статью.—
Может, и мы с вами выпьем кофе в буфете? — предложил Курт.
— Ну, если начальство обедает, то можно, — согласилась я.Поглядывая на часы, я рассеянно слушала Курта. Оказывается, его невеста Сара хотела бы пожить у него в Мюнхене годик-другой. Ей там очень нравится. «Ну вот, — подумала я. — Еще одна наша девочка уедет навсегда в Европу. Семья — светские профессора либеральных взглядов, брак с немцем для них вполне приемлем».
И тут он заявил, что мечтает жить в Израиле. Готов репатриироваться прямо сейчас.
Вот только гиюр, который он собирается пройти, не вполне его устраивает. У них в Германии все гиюры — реформистские.
А он хочет ортодоксальный гиюр в Израиле, и чтобы хупу где-нибудь в Хевроне, да по всем правилам.
На слове «Хеврон» я подавилась булочкой.
Долго кашляла, потом пила воду. Во сне не приснится: этакий хорст вессель с плаката гитлерюгенда, мечта Геббельса во плоти, которая рассуждает о гиюре и хупе! Повисла пауза. Видимо, мальчик понял, какие-такие неудобные вопросы я не решаюсь задать. И сказал совсем уж неожиданную вещь:— Я слышал от Сары, что ваш муж погиб в теракте…
Поверьте, мне хотелось бы как-то выразить вам сочувствие. Но… я не знаю, как… У меня болит сердце оттого, что погибают такие хорошие и молодые люди.
Я ненавижу убийц.
Можно я расскажу вам свою историю?
И он рассказал.
* * *
…Курт рос очень послушным ребенком. Младший сын. Отличник, спортсмен, король школы — девчонки телефон обрывали. Обожаемый бабушками и дедушкой Эрихом. Вполне бодрый старик любил гулять с малышом в зоопарке и по мере вырастания внука дарил новые велосипеды. К восьмидесяти годам дед стал сдавать, часто болел. Однажды17-летний Курт был у него в гостях.
Дедушке стало плохо, и Курт вызвал «неотложку», а пока решил, что надо бы измерить деду давление.
Он знал, что аппарат лежит в дедовском кабинете.
И вот он открывает ящики стола и видит изумительной красоты фотоальбом в кожаной обложке с золотым тиснением и обрезом.
Когда после визита врача и уколов дед уснул, Курт вернулся в кабинет, достал альбом и стал рассматривать. Он увидел молодого Эриха, очень похожего на него самого, с улыбкой до ушей — на лесной поляне, где разбросаны голые трупы.
На другом снимке — веселый Эрих позирует, держа пистолет возле уха старика со звездой на пальто. Еще — на фоне одетых мертвых тел, отдает честь командиру и смеется.
И еще — улыбка на фоне кучи обнаженных женских трупов. И еще одна — развесёлая такая компания распивает, судя по бутылкам, шнапс на фоне дымящегося крематория. И везде — его, Курта, лицо у паренька в эсэсовской форме.
Курт позвонил отцу и попросил приехать — мол, разболелась голова, наверное, температура. Он дождался папу и покинул этот дом.
Больше он никогда туда не возвращался.
Никому ничего не сказав перестал разговаривать с дедом.
С того дня Курта как подменили. Он теперь был молчалив. Нет, не грубил старшим, не пропускал уроки и не искал утешения в наркотиках или выпивке. Но в нем появилась отрешенность, будто какой дементор высосал из него всю радость. Так продолжалось до выпускного вечера.
И вдруг — новый перелом: он начал регулярно исчезать из дома — в направлении еврейского клуба и синагоги.
Вздумал изучать иврит. У него завелись новые друзья — еврейские ребята и девушки. А потом он попал на урок юной израильтянки, присланной Сохнутом на три месяца, и влюбился по уши.
Когда обоим стало ясно, что это всерьез, он ушел из дома и снял у друзей-евреев комнату поближе к синагоге.
Потом дед Эрих попал в больницу. Курт отказывался его проведывать. Родители умоляли приехать — дни дедушки сочтены, хотя бы попрощаться.
Невеста не знала причины Куртова упрямства. Семья для израильтянки — это все, Сара не понимала, как так можно, он же дедушка, как бы ни поссорились — надо пойти навестить.
И буквально приволокла его в госпиталь.
Эрих был очень слаб, но в полном сознании.
Поначалу обрадовался, увидев Курта. Но перевел взгляд на девушку и оторопел. Сомнений быть не могло. (Курт показал мне ее фотографию. Сара — типичная еврейская красавица: кудрявая рыжая грива, ашкеназский нос с горбинкой и печальные мятежные глазищи). И внук сказал Эриху: «Дед. Я все знаю — кем ты был в СС и что ты там делал. Я нашел твой золоченый альбом. Я хочу, чтобы и ты знал. Это Сара — она будет моей женой.
Я сам стану евреем.
Мы нарожаем много-много еврейских детей.
И мы построим свой дом в Израиле».
Посреди тишины в реанимационной палате раздавались короткие «бип» мониторов, было слышно, как капает в мешочке инфузия.
Потрясенные, затаили дыхание родители.
Курт взял Сару за руку, и они ушли.
— Знаете, почему я понял, что сделал это не зря? — спросил меня Курт. — Не только потому, что успел ему все сказать.
Главное — он прожил еще два месяца и все оставшееся время думал о том, что я ему сказал. Передавал мне через отца, что ни в чем не виноват, что это было жестокое время, он свое отсидел в плену и был наказан, он-де выполнял приказ — обычная их песня.
Но ведь никакой приказ не оправдывает вот этого их кайфа! Смеяться, снимаясь на фоне убитых. И любоваться этими снимками всю жизнь.
Он хуже зверя. Я не хочу быть его внуком. Я тогда же фамилию поменял на мамину — ее отец был в войну ребенком, а мамин дед — хирургом в Берлине.
А может, я вообще возьму новую фамилию — ивритскую.
— А имя? — зачем-то спросила я.
— Буду Ноах бен Авраам.
Он постепенно успокоился, вытер лоб салфеткой и снова улыбался, как на плакате.

Она с детства привыкла считать его героем, погибшим на фронте, а на фотографии он участвовал в казни молодой девушки.
Стоял рядом, когда ей накидывали петлю на шею...
Потрясенная немецка журналистка публично покаялась в зверствах своего отца и в итоге через 7 лет покончила жизнь самоубийством.
Сделала ли она это из-за глубокой душевной раны? Вероятно.
Однако её дети решили похоронить эту историю и отказываются рассказывать о матери и о деде, высказывать свое отношение к произошедшему, передавать документы, дневники деда той поры и т.д.
А мне вспомнился рассказ от своей ЛиРушной подруги из Израиля Феникс_94, К сожалению её самой уже нет на ЛиРу.
Поэтому привожу выдержки из её поста. Сами понимаете израильтяне люди многословные, поэтому сокращено.
Итак, представьте яркое южное солнце, пальмы, и т.д. Мы в Иерусалиме:
МИРИАМ ГУРОВА.(ИЗРАИЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУРТА.
http://booknik.ru/
.. .Случайная встреча в 2003 году.
Обычный рабочий день в Кнессете — я тогда служила парламентским помощником. «Наш» депутат Юра Штерн— все его звали просто Юра — был человек в высшей степени энергичный, и его команде помощников приходилось буквально носиться за ним с комиссии на комиссию, с этажа на этаж и ловить задания на лету. Вот так и в тот день. Бегу за Юрой по коридору с пачкой писем в руках, как вдруг у дверей фракции «Ликуд» нас тормозит Эстер — помощница одного из министров.— Послушай, — говорит она Юре, — ты можешь мне помочь? Завтра прилетает друг из Германии, а мне ночью улетать в Америку с делегацией босса. Не мог бы ты поручить Мириам встретить этого паренька и показать ему Кнессет, а? Я сама обещала, да не выходит. Курт прилетает на неделю, а я вернусь только через 8 дней. Это жених дочери моей школьной подруги.
— А подруга не может?
— Она не работает в Кнессете и вообще живет в Хайфе. А наша секретарша на больничном. Так поможешь?
— Что за вопрос! — согласился Юра и, убегая, бросил мне: — Запиши его данные и догоняй.
— Он еврей из Германии? — пытаюсь внести ясность. — Говорит по-русски?
— Стопроцентный немец, баварец.
— Но я не знаю немецкого…
— Представь себе, он говорит на иврите! Так я дам подруге твой телефон, а ты назначь в удобное время. Вот его данные — закажешь пропуск.
Бэседер?
.…У входа все думала, как же я узнаю этого паренька.
Зря переживала. Он вытарчивал из толпы — почти два метра истинного арийца, белокурая бестия лет восемнадцати, улыбка до ушей. Его видеокамеру, как водится, отобрали на контроле, но одежда и обувь выдавали туриста — израильтяне такое не носят.
Подошел поближе, вижу надпись нанаклейке-пропуске — он самый, Курт. Ого, как бойко заговорил на нормальном иврите! Почти без акцента. Ах да, подумала я, это нас израильская невеста вымуштровала. Полное погружение в языковую стихию — залог успеха. Вожу его по Кнессету, показываю все, что положено, — вот «Декларация Независимости», а вот вход на галерею прессы… Он задает вполне грамотные вопросы по истории Израиля, охает и ахает перед гигантским триптихом Марка Шагала, мило шутит по разным поводам. Немец с чувством юмора, это свежо. Короче, мне приятно в его обществе, и я не стараюсь отделаться от него поскорее.
Мы уже были в конце маршрута, как вдруг забренькал мобильник.
Юра сообщил, что задерживается на час-полтора на важный бизнес-ланч, и просил его дождаться — будет срочно диктовать статью.—
Может, и мы с вами выпьем кофе в буфете? — предложил Курт.
— Ну, если начальство обедает, то можно, — согласилась я.Поглядывая на часы, я рассеянно слушала Курта. Оказывается, его невеста Сара хотела бы пожить у него в Мюнхене годик-другой. Ей там очень нравится. «Ну вот, — подумала я. — Еще одна наша девочка уедет навсегда в Европу. Семья — светские профессора либеральных взглядов, брак с немцем для них вполне приемлем».
И тут он заявил, что мечтает жить в Израиле. Готов репатриироваться прямо сейчас.
Вот только гиюр, который он собирается пройти, не вполне его устраивает. У них в Германии все гиюры — реформистские.
А он хочет ортодоксальный гиюр в Израиле, и чтобы хупу где-нибудь в Хевроне, да по всем правилам.
На слове «Хеврон» я подавилась булочкой.
Долго кашляла, потом пила воду. Во сне не приснится: этакий хорст вессель с плаката гитлерюгенда, мечта Геббельса во плоти, которая рассуждает о гиюре и хупе! Повисла пауза. Видимо, мальчик понял, какие-такие неудобные вопросы я не решаюсь задать. И сказал совсем уж неожиданную вещь:— Я слышал от Сары, что ваш муж погиб в теракте…
Поверьте, мне хотелось бы как-то выразить вам сочувствие. Но… я не знаю, как… У меня болит сердце оттого, что погибают такие хорошие и молодые люди.
Я ненавижу убийц.
Можно я расскажу вам свою историю?
И он рассказал.
* * *
…Курт рос очень послушным ребенком. Младший сын. Отличник, спортсмен, король школы — девчонки телефон обрывали. Обожаемый бабушками и дедушкой Эрихом. Вполне бодрый старик любил гулять с малышом в зоопарке и по мере вырастания внука дарил новые велосипеды. К восьмидесяти годам дед стал сдавать, часто болел. Однажды17-летний Курт был у него в гостях.
Дедушке стало плохо, и Курт вызвал «неотложку», а пока решил, что надо бы измерить деду давление.
Он знал, что аппарат лежит в дедовском кабинете.
И вот он открывает ящики стола и видит изумительной красоты фотоальбом в кожаной обложке с золотым тиснением и обрезом.
Когда после визита врача и уколов дед уснул, Курт вернулся в кабинет, достал альбом и стал рассматривать. Он увидел молодого Эриха, очень похожего на него самого, с улыбкой до ушей — на лесной поляне, где разбросаны голые трупы.
На другом снимке — веселый Эрих позирует, держа пистолет возле уха старика со звездой на пальто. Еще — на фоне одетых мертвых тел, отдает честь командиру и смеется.
И еще — улыбка на фоне кучи обнаженных женских трупов. И еще одна — развесёлая такая компания распивает, судя по бутылкам, шнапс на фоне дымящегося крематория. И везде — его, Курта, лицо у паренька в эсэсовской форме.
Курт позвонил отцу и попросил приехать — мол, разболелась голова, наверное, температура. Он дождался папу и покинул этот дом.
Больше он никогда туда не возвращался.
Никому ничего не сказав перестал разговаривать с дедом.
С того дня Курта как подменили. Он теперь был молчалив. Нет, не грубил старшим, не пропускал уроки и не искал утешения в наркотиках или выпивке. Но в нем появилась отрешенность, будто какой дементор высосал из него всю радость. Так продолжалось до выпускного вечера.
И вдруг — новый перелом: он начал регулярно исчезать из дома — в направлении еврейского клуба и синагоги.
Вздумал изучать иврит. У него завелись новые друзья — еврейские ребята и девушки. А потом он попал на урок юной израильтянки, присланной Сохнутом на три месяца, и влюбился по уши.
Когда обоим стало ясно, что это всерьез, он ушел из дома и снял у друзей-евреев комнату поближе к синагоге.
Потом дед Эрих попал в больницу. Курт отказывался его проведывать. Родители умоляли приехать — дни дедушки сочтены, хотя бы попрощаться.
Невеста не знала причины Куртова упрямства. Семья для израильтянки — это все, Сара не понимала, как так можно, он же дедушка, как бы ни поссорились — надо пойти навестить.
И буквально приволокла его в госпиталь.
Эрих был очень слаб, но в полном сознании.
Поначалу обрадовался, увидев Курта. Но перевел взгляд на девушку и оторопел. Сомнений быть не могло. (Курт показал мне ее фотографию. Сара — типичная еврейская красавица: кудрявая рыжая грива, ашкеназский нос с горбинкой и печальные мятежные глазищи). И внук сказал Эриху: «Дед. Я все знаю — кем ты был в СС и что ты там делал. Я нашел твой золоченый альбом. Я хочу, чтобы и ты знал. Это Сара — она будет моей женой.
Я сам стану евреем.
Мы нарожаем много-много еврейских детей.
И мы построим свой дом в Израиле».
Посреди тишины в реанимационной палате раздавались короткие «бип» мониторов, было слышно, как капает в мешочке инфузия.
Потрясенные, затаили дыхание родители.
Курт взял Сару за руку, и они ушли.
— Знаете, почему я понял, что сделал это не зря? — спросил меня Курт. — Не только потому, что успел ему все сказать.
Главное — он прожил еще два месяца и все оставшееся время думал о том, что я ему сказал. Передавал мне через отца, что ни в чем не виноват, что это было жестокое время, он свое отсидел в плену и был наказан, он-де выполнял приказ — обычная их песня.
Но ведь никакой приказ не оправдывает вот этого их кайфа! Смеяться, снимаясь на фоне убитых. И любоваться этими снимками всю жизнь.
Он хуже зверя. Я не хочу быть его внуком. Я тогда же фамилию поменял на мамину — ее отец был в войну ребенком, а мамин дед — хирургом в Берлине.
А может, я вообще возьму новую фамилию — ивритскую.
— А имя? — зачем-то спросила я.
— Буду Ноах бен Авраам.
Он постепенно успокоился, вытер лоб салфеткой и снова улыбался, как на плакате.

|
|
Понравилось: 1 пользователю
«Hotel California»: о каком отеле пели The Eagles |

По-настоящему гениальные песни обрастают невероятным количеством легенд.
Песня The Eagles является, пожалуй, одним из лидеров по количеству фанатских версий, толкующих её смысл.
И, как это чаще всего бывает, ни одна из них не была даже близка к истине.
Как была написана эта композиция на века
Музыка к песне, по воспоминаниям Дона Фелдера, появилась буквально из воздуха.
В невыносимо жаркий день, отдыхая в Малибу, музыкант вяло перебирал струны своей 12-струнки, не собираясь ничего создавать, тем более шедевральное.
И вдруг рандомные ноты начали складываться в завораживающую мелодию.
Завершенность композиции придал Фрай, а Хенли довёл до ума слова.
В 1977 году выходит сингл, который неожиданно для группы становится мегапопулярным.
Завистники начали злобно шептаться о том, что The Eagles просто немного переделали песню «We Used to Know» музыкантов из Jethro Tull.
Вокалист группы даже в шутку как-то сказал, что надеется на порядочность The Eagles, и что они наверняка поделятся с ним заработанными на сингле деньгами.
И даже в свои выступления включил номер «Как сделать «Отель Калифорния».
А всерьёз, позже заявил, что не видит ничего заимствованного и никаких претензий не имеет.
Но гораздо больший резонанс получили слова «Hotel California», а точнее — толкование их смысла.
В каком только направлении не работала мысль поклонников. И каждый верил, что именно его версия ближе всех к правде.
Так, в 80-х, члены христианской общины увидели в песне повествование об одном из отелей Сан-Франциско, приобретенном ведущим идеологом сатанизма Антоном Шандором Ла-Веем.
В этом здании он планировал открыть Церковь дьявола.
Сторонники другой версии были уверены, что в песне идёт речь о сумасшедшем доме калифорнийского города Камарильо.
Также песню считали повествованием о пребывании в крупнейшем центре Калифорнии для реабилитации наркозависимых.
Правила здесь схожи с тюремными.
В тексте песни есть несколько моментов, например зеркальные потолки, очень схожих с условиями в центре.
Долгое время особой популярностью пользовалась версия о том, что под отелем «Калифорния» подразумевается замок в Шотландии, принадлежавший когда-то знаменитому адепту чёрной магии Алистеру Кроули.
Особо глазастые фанаты уверяли, что на обложке сингла, при взгляде под правильным углом, чётко видна расплывчатая фигура в чёрном.
А самые раскованные поклонники были уверены, что речь в песне идёт о поместье Playboy Хью Хефнера.
Нельзя не упомянуть и о романтическом толковании смысла «Hotel California».
Авторы этой версии объясняли, что лирический герой наконец-то обрёл настоящую любовь после долгих поисков, женился. Но суженая мечтала жить в роскоши, и паре пришлось расстаться.
Авторская версия
Если честно, то при подключении фантазии любая из вышеперечисленных теорий подходит к тексту.
Но Дон Хенли, устав от необходимости комментировать домыслы журналистов и поклонников, в 2007 году поставил точку в этой истории.
Он объяснил, что изначально в «Отель Калифорния» речь идёт об «излишествах американской культуры и конкретных знакомых девушках, шатком балансе между искусством и коммерцией, ахиллесовой пяте «американской мечты».
Дон добавлял, что стремился продемонстрировать то, как смотрит на жизнь лос-анджелесское светское общество.
Глен Фрай дополнил высказывание Хенли словами о том, что песня является попыткой отобразить низменную сторону популярности, «тёмную сторону рая».
А отель — всего лишь поэтический образ, метафора.
Песня удостоилась статуэтки Грэмми. Однако музыканты были заняты на репетиции и не пришли на церемонию, так как Хенли считал, что «граммофон» вручается нечестно.
Они посмотрели её по телевизору.
Астронавты шаттла «Колумбия», потерпевшего крушение в 2003 году, вместо мелодии будильника использовали песню «Hotel California» в исполнении супруги одного из членов экипажа Уильяма МакКула.
В строчке «They stab it with their steely knives/Они вонзают в него свои стальные ножи» намекается на коллектив Steely Dan/Стальной Дэн.
У групп был общий менеджер, и музыканты постоянно «подкалывали» друг друга. «Стилли Дэн», например, намекали на «Иглз» в своей песне «Everything You Did».
Строчка «Warm smell of colitas» переводится как «Тёплый запах колитас». Последним словом мексиканцы называют маленькие почки конопли.

И-весь МИР, каждый,кто обладает минимальным музыкальным слухом,хоть раз в своей жизни -для себя, пел эту песню..Как мог...Пел!
Не мог-не петь!
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Гимн кабачкам... |
Для всех мужчин,с руками -"на месте",не боящихся "тяжелого" женского труда,умеющих взяться этими руками-за "неизвестное и непознанное", фантазировать,способных к творческому труду,и-к разумным компромиссам-эта "шпаргалка!
Победитель-да,ВОЗРАДУЕТСЯ!
|
|
Понравилось: 1 пользователю
«На поиски счастья...»: философский диалог о самом главном в жизни |

- Здравствуйте. Я собираюсь отправиться на поиски счастья. Хочу прикупить что- нибудь в дорогу.
- Хорошо. Осматривайтесь, выбирайте.
- Скажите, сколько весит
вон та любовь?
- Она слишком тяжёлая. С ней далеко не уйдёте. Да с ней вообще никуда не уйдёте.. И выбросить не получится, потому что жалко будет - это ведь очень дорогая любовь.
- Хорошо. Может быть взять слова?
- Да. Слова - хороший выбор... Они почти ничего не весят. Тем более, они пусты...
в них можно хранить всякую всячину.
- Отлично... А может взять ещё немножко сладких амбиций?
- Вряд ли вы их вынесете.

Да и дорого обойдётся.
- Оу.. А вон то, такое красивое-красивое - что это?
- Это свобода.
В руках дурака она весит столько же, сколько могильная плита... а в руках мастера
позволяет летать.
- За ней я вернусь на обратном пути...
- Ну что, вы определились с заказом?
- Да. Я, наверное, возьму ничего.
Оно ведь ничего не весит?
- Ха-ха.. Ничего
HD 1700×900
весит столько же, сколько любовь, слова, амбиции и свобода вместе взятые. Хоть и не весит ничего...
- Что же мне тогда брать!?
- Давайте я вам отсыплю немного понимания.

Бессмысленная штука, но успокаивает.
|
|
Гиперреалистичные портреты художника Вячеслава Грошева: талант или ремесло? |
Не секрет, что гиперреализм в современном мире искусства особо не жалуют ни критики, ни продвинутые ценители, которые так и норовят приписать этот стиль к обычному, никому не интересному ремеслу. Тем не менее некоторые художники считают, что лишь опираясь на реалии жизни, технические наработки мастеров прошлого, собственный талант и свое художественное мировоззрение можно создавать настоящую подлинную живопись, которая останется на века.
По правде говоря, творческий путь, избранный художником-гиперреалистом, зачастую бывает очень нелегок и тернист.
Эти живописцы постоянно находятся под шквальным огнём критики, причем «достается» им, что называется, «со всех сторон».
Одни упрекают авторов в недостаточной оригинальности сюжетов, «механичности», в плагиате, что превращает их высококвалифицированный труд из высокого искусства в обыденное ремесло.
Эти высказывания постоянно перекликаются с недовольством, звучащим из другого «лагеря» критиков: «чересчур сильные заигрывания с эротоманией», а также «сто раз виденные у других авторов мифологические и фэнтезийные аллюзии».
К глубокому сожалению, все это вместе взятое просто-напросто обесценивает кропотливый труд художника, превращая его в продукт низшего качества, предназначенный для дилетантов от мира ценителей живописи.
Именно поэтому в сегодняшней нашей публикации мы попытаемся представить гиперреализм в самом, что называется лучшем свете.
Портрет девушки.

Гиперреализм, воплощённый кистью Вячеслава Грошева
Современный художник Грошев (1974 г.р.) родом из России, но уже много лет живет в Канаде, где имеет свою прекрасно оборудованную студию
И отбоя от заказчиков у художника нет.
Пишет он портреты в потрясающей технике гиперреализма, пишет очень много, успешно и весьма плодотворно.
И хотя художник утверждает, что искусство, это, в первую очередь, очень тяжелый труд (и это действительно является абсолютной правдой), зрителя не покидает ощущение, что его работы необычайно легки и изящны.
Будто написаны они на одном дыхании, на одном взмахе кисти.
Это касается практически всех полотен автора, будь то дети в виде ангелочков, портреты подростков, взрослых людей или изображения красивых женщин в стиле ню...

Автопортрет

Маленькая шалунья.
Невероятно впечатляет зрителя и великолепная техника живописи мастера, основанная на кропотливом и доскональном изучении творческих секретов художников-классиков, а также талант самого художника, что и позволяет создавать ему настоящие шедевры в жанрах портрета и сюжетной картины. Вильям Бугро, Леон Базиль Перро, Фредерик Морган. Присмотритесь к работам этих мастеров-портретистов - не они ли вдохновляли нашего современника ?

Полевые цветы.
К слову сказать, невзирая ни на какие критические замечания, на сегодняшний день герой нашей статьи всячески обласкан экспертами и ценителями живописи, живущими по ту сторону Атлантики.
Популярность его выставок растёт из года в год, но сам мастер воспринимает это как на некий моральный «аванс» и стимул к дальнейшему самосовершенствованию. Для него живопись — пусть любимая и благодарная, но упорная и требующая полнейшей самоотдачи - работа.

Беззаботное лето.
"Приехав в Монреаль, я начал писать картины.
Я всегда знал, что могу это делать, но не было ни времени, ни возможности. Разумеется, что я был обучен основам живописи, рисунка, композиции и т.д., сначала в художественной школе, затем пару лет с преподавателями.
Но именно здесь я начал рисовать по десять часов в сутки, шесть дней в неделю.
И уже сейчас мои картины не только у частных заказчиков, но и в собраниях коллекционеров Канады, США и Европы," - говорит сам художник о своем увлечении, ставшим профессией.

Задумчивое настроение.
Работу этого художника можно сравнить с манипуляциями заправского фотокорреспондента,
который буквально «ловит» в объектив реальную жизнь в высшей точке её эмоционального выражения, как бы «вырывая» из рук Вечности глубоко символичный миг, и делится им со зрителем.
Однако у живописца-реалиста, желающего достичь того же эффекта, куда больше свободы действий, чем у работника камеры.
Он посредством холста и красок творит собственную реальность.
Однако, как ни крути, добиться от публики доверия к достоверности своего «высказывания» художнику намного сложнее.

Сын раввина.

Гимнастка.

Увлекательная книга.

Портреты девочек.

Потаенное место.
Хотелось бы также отметить, что помимо изумительных портретов пишет художник и сюжетные полотна на библейские темы.
К слову, весьма оригинальны и эротичны работы художника, выполненные в стиле "ню". (Их можно посмотреть на других ресурсах)

Библия. Десять заповедей. / Суд царя Соломона.

Авраам и Исаак. / Сара и Исаак.

Маленькие ангелочки.
Источник: kulturologia.ru
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Время переваривания пищи в желудке |
Время переваривания пищи в желудке

1-2 часа - вода, чай, кофе, какао, бульон, молоко, яйца, сваренные всмятку, рис, рыба речная отварная.
2-3 часа - яйца, сваренные вкрутую, омлет, рыба отварная морская, отварной картофель, хлеб.
3-4 часа - курица и говядина (отварная), ржаной хлеб, яблоки, морковь, редис, шпинат, огурцы, жареный картофель, ветчина.
4-5 часов - бобы (фасоль, горох), дичь, сельдь, жареное мясо.
5-6 часов - грибы, шпик.
Старайтесь не есть за 3-4 часа до сна.
Если придерживаться принципа и не есть, пока в желудке есть пища, то вы сможете сохранить здоровье желудочно-кишечному тракту. Постепенно привычка не переедать останется с вами.
Приятного Всем аппетита!
angel devid
1-2 часа - вода, чай, кофе, какао, бульон, молоко, яйца, сваренные всмятку, рис, рыба речная отварная.
2-3 часа - яйца, сваренные вкрутую, омлет, рыба отварная морская, отварной картофель, хлеб.
3-4 часа - курица и говядина (отварная), ржаной хлеб, яблоки, морковь, редис, шпинат, огурцы, жареный картофель, ветчина.
4-5 часов - бобы (фасоль, горох), дичь, сельдь, жареное мясо.
5-6 часов - грибы, шпик.
Старайтесь не есть за 3-4 часа до сна.
Если придерживаться принципа и не есть, пока в желудке есть пища, то вы сможете сохранить здоровье желудочно-кишечному тракту. Постепенно привычка не переедать останется с вами.
Приятного Всем аппетита!
angel devid
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Рыбный заливной пирог...как раньше делали... |
Заливной пирог с рыбными консервами и варёными яйцами
Фото к рецепту: Заливной пирог с рыбными консервами и варёными яйцами
Думаю, многим людям, которые жили в СССР, этот рыбный пирог знаком. Я же о нём узнала совсем недавно от сотрудницы. Приготовила по её рецепту, и мне очень понравился этот заливной пирог с рыбными консервами и варёными яйцами, а особенно тесто - оно очень мягкое, нежное и воздушное. Но самое главное, что готовится тесто за 1 минуту: просто смешиваем все ингредиенты - и готово, не нужно ждать, можно сразу приступать к выпечке пирога. По вкусу пирог похож на салат «Мимоза».
Продукты:
Для теста:
Мука пшеничная - 200 г
Сметана 10% - 200 г
Майонез 30% - 200 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 1 ч. ложка (без горки)
Соль - 0,5 ч. ложки
Разрыхлитель теста - 10 г
*
Для начинки:
Консервы рыбные - 1 банка (жидкость слить)
Яйца отварные - 2 шт.
Укроп свежий - 1 небольшой пучок
Лук репчатый - 1 шт.
*
Для маринования лука:
Уксус яблочный 6% - 2 ч. ложки
Сахар - 1/3 ч. ложки
*
Кунжут - 1 горсть
Масло растительное - для смазывания формы

Приятного аппетита!
|
|
С-ТРЕБОВАНИЕМ ВЕРЫ !И-просьбой -о ЛЮБВИ.... |
* * *
Простите меня, Марина Цветаева,
Веры вашей в меня не оправдаю я.
Строкою избитой хожу прихрамывая,
А на полке книга, ваша, та самая.
До точки, до запятой, до профиля -
Прочитано, где-то рядом пройдено.
Но, спотыкаясь в строфе заезженной,
К вам обращаюсь теперь все реже я.
Пена морская, да неба зарево -
Простите меня, Марина Цветаева.
Каданова Тамара
Особая благодарность
Iliana11

|
|
Понравилось: 2 пользователям
"Верьте мне, старому дураку": Энтони Хопкинс обратился к выпускникам всего мира |

Сэр Энтони Хопкинс на карантине нашёл время не только для лихих танцев в тиктоке, но и для вдохновляющего обращения к молодому поколению.
Из-за пандемии выпускники лишились нормальных выпускных и вместо этого вынуждены довольствоваться жалкой пародией на выпускной по видеоконференции. Актёр, композитор и художник Энтони Хопкинс решил поднять настроение юношам и девушкам, в смутное время окончившим школу или институт. Он выложил в твиттер коротенькую мотивационную речь, в которой поздравил выпуск-2020.
"Всем привет! Поздравляю выпускников-2020. Люди всего мира, где бы вы ни были, я знаю, вам сейчас нелегко. Я старик, живу давно, и живу я с оптимизмом. Обращаюсь к отчаявшимся молодым людям. Поверьте мне. Я читал, уже не помню где, то ли в Ветхом Завете, то ли у Карлоса Кастанеды, про одного шамана. Была засуха - умирал скот, умирали люди. И шаман сказал: “Делайте рвы. Ройте рвы для дождя”. “Но ведь дождя нет”. “Ройте рвы, и дождь придёт”.
Неверующие скажут, что это чушь. Хорошо, верьте во что хотите. Это рациональное мышление. Но я не думаю, что рациональное мышление в настоящее время работает. Нужно иррациональное мышление, подсознание! Когда я был маленьким, я мечтал стать тем, кто я сейчас. Может, у меня было видение, я не знаю. Я не сильно надеялся, но то, о чём я мечтал, произошло со мной. И теперь я верю, что мы можем сгущать время, притягивать его к себе.

1280×696
Вальс Энтони Хопкинса
Как же нам-не хватает таких Великих , таких МУДРЫХ - ДУРАКОВ!
А-нам-все : про Ефремова!
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Глаза ЛЮБИМОГО МУЖЧИНЫ-МИР ЕЕ ДУШИ... |

Любимые глаза любимого мужчины...
Любимые глаза - лишь так глядят.
На женщину глядят, как на картину
И кажется порой - боготворят.
И никогда мне в них не наглядеться,
И никогда, быть может, не понять...
Но никуда от них уже не деться,
Не повернуть мне всё, что было вспять,
Да и зачем…Я столько лет искала
Любимые глаза, чтоб отражаться в них
И вот нашла! Взглянула… и пропала…
И в целом мире нет других таких!!
К его губам хочу прижаться,
Хочу прильнуть к его груди,
В его "люблю" хочу купаться…
О, Господи, не осуди…
Не осуди, что я украдкой,
Тайком к нему бегу опять…
Мне страшно, горько, стыдно, сладко…
Всех чувств моих не передать…
Не осуждай меня, не надо,
Ты накажи – я всё стерплю,
Не испугают муки ада –
В сто крат сильней его люблю…
© Prometey Бруштейн Евгений: 6 1 2008





|
|
Понравилось: 2 пользователям
Любовь и Разлука.. |

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,

И хор в нашу честь не споет...
А время торопит возница беспечный,
И просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
Бубенчик не смолк под дугой.
Две вечных подруги — любовь и разлука –
Не ходят одна без другой.
HD 1400×800
Мы сами раскрыли ворота, мы сами
Счастливую тройку впрягли,

И вот уже что-то сияет пред нами,
Но что-то погасло вдали.
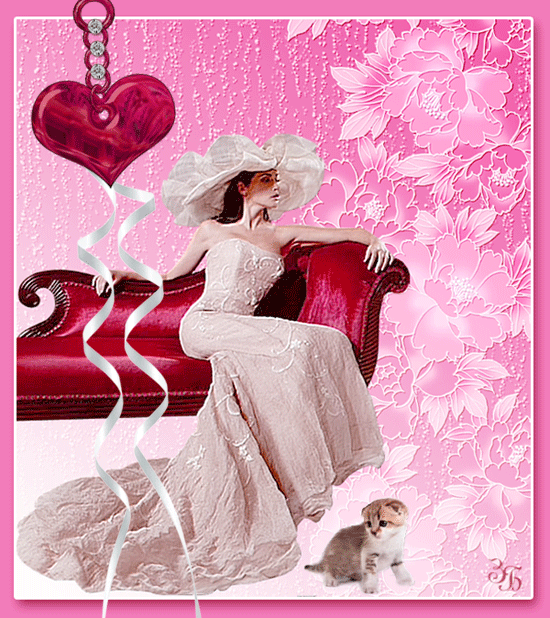
Святая наука — расслышать друг друга
Сквозь ветер на все времена!

Две странницы вечных — любовь и разлука —
Поделятся с нами сполна.
Чем дольше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза!

То берег, то море, то солнце, то вьюга,
То ласточки, то воронье...
Две вечных дороги — любовь и разлука —
600×400
Проходят сквозь сердце мое...
Булат Окуджава

|
|
Понравилось: 2 пользователям
РАЗДЕЛИТЕЛИ ТЕКСТА.. |
|
|
Процитировано 1 раз








































 /i080.radikal.ru/1005/6f/43116328624d.gif" alt="" width="552">
/i080.radikal.ru/1005/6f/43116328624d.gif" alt="" width="552">