-Музыка
- Евгений Дога - ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ
- Слушали: 3447 Комментарии: 0
- Евгений Дога - ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ
- Слушали: 3447 Комментарии: 0
- Eva Cassidy -"Blue Skies"
- Слушали: 2237 Комментарии: 0
- Пётр Лещенко. Танго
- Слушали: 5418 Комментарии: 0
- Пётр Лещенко. Танго
- Слушали: 5418 Комментарии: 1
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Рекомендуется иметь при посещении районной поликлиники |
Ars longa, vita brevis… ОклятвеГиппократа
«Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile»
«Жизнь коротка, искусство вечно, удачный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно».
Эти слова принадлежат легендарному древнегреческому мудрецу Гиппократу из Коса (5-4 века до н. э.). Философ Гиппократ считается наравне с Гигеей и Асклепием одним из отцов медицины.
В последнее время нередко слова «клятва Гиппократа» и смысл этого документа муссируются разными источниками, далеко не всегда корректно передавая даже суть ее содержания и предназначение.
Предлагаем обратиться к истории.
Согласно преданию, клятва восходит к прямым потомкам Асклепия, она переходила из уст в уста, как семейная традиция, из рода в род. Впервые клятва записана Гиппократом и стала документом с III века до н.э.,и этим Гиппократ вошёл в историю науки.
Чтобы напомнить себе и всем интересующимся, приведем тексты Клятвы Гиппократа, начиная с самых ее истоков.
Текст клятвы на языке оригинала
(ионийский диалект древнегреческого языка)
Рукопись XII века с текстом Клятвы в форме креста
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.
Текст клятвы Гиппократа на латыни
Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.
Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.
Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.
Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.
Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.
Текст клятвы Гиппократа в переводе на русский язык
Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство:
Считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
Таким образом, принципиально Клятва Гиппократа содержит 9 этических обязательств:
• обязательства перед учителями, коллегами и учениками;
• принцип непричинения вреда;
• обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);
• принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;
• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;
• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;
• обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;
• обязательство личного совершенствования;
• врачебная тайна (принцип конфиденциальности).
Смысл. Пациент доверяет свою жизнь врачу – человеку, которого не знает лично, но твёрдо убежден, что врач – человек высоких моральных и этических качеств, а следовательно - заслуживает доверия.
Со времен первоисточников текст клятвы многократно переводился на новые языки, подвергался редактированию, существенно меняющим его смысл.
Для сравнения смотрите тексты следующих документов:
Международный кодекс медицинской этики ...
Кодекс врачебной этики РФ ...
Клятва российского врача ...
Клятва врача закрепленная в Основах законодательства об охране здоровья граждан ...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ - действующий:
Статья 71 . Клятва врача
1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания:
"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.".
2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.
«Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile»
«Жизнь коротка, искусство вечно, удачный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно».
Эти слова принадлежат легендарному древнегреческому мудрецу Гиппократу из Коса (5-4 века до н. э.). Философ Гиппократ считается наравне с Гигеей и Асклепием одним из отцов медицины.
В последнее время нередко слова «клятва Гиппократа» и смысл этого документа муссируются разными источниками, далеко не всегда корректно передавая даже суть ее содержания и предназначение.
Предлагаем обратиться к истории.
Согласно преданию, клятва восходит к прямым потомкам Асклепия, она переходила из уст в уста, как семейная традиция, из рода в род. Впервые клятва записана Гиппократом и стала документом с III века до н.э.,и этим Гиппократ вошёл в историю науки.
Чтобы напомнить себе и всем интересующимся, приведем тексты Клятвы Гиппократа, начиная с самых ее истоков.
Текст клятвы на языке оригинала
(ионийский диалект древнегреческого языка)
Рукопись XII века с текстом Клятвы в форме креста
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.
Текст клятвы Гиппократа на латыни
Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.
Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.
Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.
Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.
Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.
Текст клятвы Гиппократа в переводе на русский язык
Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство:
Считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
Таким образом, принципиально Клятва Гиппократа содержит 9 этических обязательств:
• обязательства перед учителями, коллегами и учениками;
• принцип непричинения вреда;
• обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);
• принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;
• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;
• принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;
• обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;
• обязательство личного совершенствования;
• врачебная тайна (принцип конфиденциальности).
Смысл. Пациент доверяет свою жизнь врачу – человеку, которого не знает лично, но твёрдо убежден, что врач – человек высоких моральных и этических качеств, а следовательно - заслуживает доверия.
Со времен первоисточников текст клятвы многократно переводился на новые языки, подвергался редактированию, существенно меняющим его смысл.
Для сравнения смотрите тексты следующих документов:
Международный кодекс медицинской этики ...
Кодекс врачебной этики РФ ...
Клятва российского врача ...
Клятва врача закрепленная в Основах законодательства об охране здоровья граждан ...
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ - действующий:
Статья 71 . Клятва врача
1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания:
"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.".
2. Клятва врача дается в торжественной обстановке.
|
|
Понравилось: 2 пользователям
США не помешают нам трудиться? |
Политолог Валерий Соловей объяснил опасность Трампа: "Экономику России разорвут в клочья"
Политолог Валерий Соловей: "Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть"
Владимир Путин сегодня рассказал о своей недавней телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду на выправление российско-американских отношений. Насколько они оправданы? Действительно ли Трамп «наш»? Своей точкой зрения с нами поделился профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, известный точными прогнозами: он, кстати, предсказал и победу Трампа на выборах.
- В российской правящей элите эйфория от победы Трампа была даже сильнее, чем в штабе Трампа, - говорит Валерий Соловей. - Мне, например, известно, что в некоторых кабинетах власти при получении известий об итогах американских выборов стали открывать шампанское и закуривать сигары.
Но сейчас эйфория, естественно, спала. Прежде всего - у людей, которые кое-что понимают во внешней политике, в том, как устроена американская государственная машина.
Трамп не такой уж непредсказуемый, каким его часто представляют. Для того, чтобы править успешно, он должен править в согласии со своей собственной партией. Сейчас, кстати, в США сложилась уникальная ситуация: республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, они же во главе большинства штатов.
Отсюда следует, что Трамп вынужден соответствовать балансу сил, интересов и взглядов, которые сложились в партийном истеблишменте, являющемся частью истеблишмента общеамериканского. И первые назначения, сделанные Трампом, свидетельствуют как раз о реалистичном и очень сбалансированном подходе.
Читайте материал «Свита играет президента»: кто будет определять политику администрации Трампа
Примечательно, что эти кадровые решения заслужили поощрение не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов. Надо сказать, что сегодня в американском истеблишменте существует широкий антироссийский консенсус, носящий надпартийный характер. Все оценивают Россию как бывшую великую державу, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка. Но которая в пароксизме, так сказать, отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Подчеркну: это мнение американского истеблишмента в целом.
Тем не менее, у американцев есть ряд очевидных интересов, по которым они готовы с русскими сотрудничать. Трамп прекрасно понимает, что важным индикатором его успешности во внешней политике является умение решить сирийскую головоломку. При этом он не ставит своей целью - по крайней мере, публично - свержение Асада.
Трамп заявляет, что главной задачей является борьба с терроризмом. То есть существует определенная основа не просто для координации, но даже для каких-то совместных действий.
Российское руководство, конечно, в тайне надеется обменять Сирию на Украину. То есть, договорившись с американцами по Сирии, выторговать согласие на то, чтобы Украина вошла в зону российских интересов. И могу сказать, что официальный Киев этого чрезвычайно боится. До судорог.
Что будет происходить на этом направлении, пока не очень понятно. Но вернусь к началу своего спича: есть республиканский истеблишмент, есть американский истеблишмент, который считает важным сдерживать ревизионистские поползновения России. Даже если Трамп решит заключить такую сделку с Москвой, истеблишмент, скорее всего, не позволит ее осуществить.
Что же касается Крыма, то этот вопрос в любом случае вынесен за скобки. Это сегодня понятно всем. Америка, как и Евросоюз, никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Но де-факто ситуация сохранится такой, какая она сейчас.
Есть и ряд других проблемных вопросов в российско-американских отношениях, которые вряд ли будут решены с приходом администрации Трампа. Например, "список Магнитского" или дело сбитого малазийского "Боинга". Довольно скоро международная комиссия по расследованию катастрофы опубликует список виновных. И в Москве опасаются, что это будет очень неприятный для нас список.
Как только он появится, незамедлительно последуют иски родственников и близких погибших, которые с большой вероятностью создадут серьезную угрозу имуществу Российской Федерации за границей. Россия, наверное, предпочла бы пакетную сделку с Америкой - сесть и сразу, за одним столом решить все вопросы. Но я уверен, что американцы на это не пойдут.
Кроме того, есть еще одна серьезнейшая концептуальная проблема, о которой мало кто сегодня задумывается. Дело в том, что Россия в последние два года продемонстрировала всему миру, что она ставит во главу угла силу. Мол, вы, американцы и европейцы, говорите о ценностях, но все это лицемерие, вранье. Никаких ценностей для вас нет: мы надавили - вы отступаете, не решаетесь ничего сделать.
Но дело в том, что Трамп - это не Обама. Администрация Обамы во внешнеполитической области была самой слабой послевоенной американской администрацией. Трамп такой слабости себе позволить не сможет. Поэтому, хотя ситуация открывает для нас некоторые новые возможности, она несет гораздо большие риски.
Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть. Советский Союз ее проиграл, а Россия намного слабее Советского Союза. Наши потенциалы несоизмеримы, не надо питать на сей счет никаких иллюзий.
То есть все будет зависеть от нашей готовности реалистически оценивать ситуацию и идти на компромисс. Если не сумеем договориться с американцами, то окажемся в очень неприятном положении. В их арсенале очень много рычагов, позволяющих загнать нас в угол. Достаточно одних только экономических и финансовых: в течение 2-3 лет российская экономика будет разорвана в клочья.
Из Интарнета
Политолог Валерий Соловей: "Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть"
Владимир Путин сегодня рассказал о своей недавней телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду на выправление российско-американских отношений. Насколько они оправданы? Действительно ли Трамп «наш»? Своей точкой зрения с нами поделился профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей, известный точными прогнозами: он, кстати, предсказал и победу Трампа на выборах.
- В российской правящей элите эйфория от победы Трампа была даже сильнее, чем в штабе Трампа, - говорит Валерий Соловей. - Мне, например, известно, что в некоторых кабинетах власти при получении известий об итогах американских выборов стали открывать шампанское и закуривать сигары.
Но сейчас эйфория, естественно, спала. Прежде всего - у людей, которые кое-что понимают во внешней политике, в том, как устроена американская государственная машина.
Трамп не такой уж непредсказуемый, каким его часто представляют. Для того, чтобы править успешно, он должен править в согласии со своей собственной партией. Сейчас, кстати, в США сложилась уникальная ситуация: республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, они же во главе большинства штатов.
Отсюда следует, что Трамп вынужден соответствовать балансу сил, интересов и взглядов, которые сложились в партийном истеблишменте, являющемся частью истеблишмента общеамериканского. И первые назначения, сделанные Трампом, свидетельствуют как раз о реалистичном и очень сбалансированном подходе.
Читайте материал «Свита играет президента»: кто будет определять политику администрации Трампа
Примечательно, что эти кадровые решения заслужили поощрение не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов. Надо сказать, что сегодня в американском истеблишменте существует широкий антироссийский консенсус, носящий надпартийный характер. Все оценивают Россию как бывшую великую державу, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка. Но которая в пароксизме, так сказать, отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Подчеркну: это мнение американского истеблишмента в целом.
Тем не менее, у американцев есть ряд очевидных интересов, по которым они готовы с русскими сотрудничать. Трамп прекрасно понимает, что важным индикатором его успешности во внешней политике является умение решить сирийскую головоломку. При этом он не ставит своей целью - по крайней мере, публично - свержение Асада.
Трамп заявляет, что главной задачей является борьба с терроризмом. То есть существует определенная основа не просто для координации, но даже для каких-то совместных действий.
Российское руководство, конечно, в тайне надеется обменять Сирию на Украину. То есть, договорившись с американцами по Сирии, выторговать согласие на то, чтобы Украина вошла в зону российских интересов. И могу сказать, что официальный Киев этого чрезвычайно боится. До судорог.
Что будет происходить на этом направлении, пока не очень понятно. Но вернусь к началу своего спича: есть республиканский истеблишмент, есть американский истеблишмент, который считает важным сдерживать ревизионистские поползновения России. Даже если Трамп решит заключить такую сделку с Москвой, истеблишмент, скорее всего, не позволит ее осуществить.
Что же касается Крыма, то этот вопрос в любом случае вынесен за скобки. Это сегодня понятно всем. Америка, как и Евросоюз, никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Но де-факто ситуация сохранится такой, какая она сейчас.
Есть и ряд других проблемных вопросов в российско-американских отношениях, которые вряд ли будут решены с приходом администрации Трампа. Например, "список Магнитского" или дело сбитого малазийского "Боинга". Довольно скоро международная комиссия по расследованию катастрофы опубликует список виновных. И в Москве опасаются, что это будет очень неприятный для нас список.
Как только он появится, незамедлительно последуют иски родственников и близких погибших, которые с большой вероятностью создадут серьезную угрозу имуществу Российской Федерации за границей. Россия, наверное, предпочла бы пакетную сделку с Америкой - сесть и сразу, за одним столом решить все вопросы. Но я уверен, что американцы на это не пойдут.
Кроме того, есть еще одна серьезнейшая концептуальная проблема, о которой мало кто сегодня задумывается. Дело в том, что Россия в последние два года продемонстрировала всему миру, что она ставит во главу угла силу. Мол, вы, американцы и европейцы, говорите о ценностях, но все это лицемерие, вранье. Никаких ценностей для вас нет: мы надавили - вы отступаете, не решаетесь ничего сделать.
Но дело в том, что Трамп - это не Обама. Администрация Обамы во внешнеполитической области была самой слабой послевоенной американской администрацией. Трамп такой слабости себе позволить не сможет. Поэтому, хотя ситуация открывает для нас некоторые новые возможности, она несет гораздо большие риски.
Новая американская администрация будет отвечать с позиции силы, а в такой конкуренции нам никогда не выиграть. Советский Союз ее проиграл, а Россия намного слабее Советского Союза. Наши потенциалы несоизмеримы, не надо питать на сей счет никаких иллюзий.
То есть все будет зависеть от нашей готовности реалистически оценивать ситуацию и идти на компромисс. Если не сумеем договориться с американцами, то окажемся в очень неприятном положении. В их арсенале очень много рычагов, позволяющих загнать нас в угол. Достаточно одних только экономических и финансовых: в течение 2-3 лет российская экономика будет разорвана в клочья.
Из Интарнета
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Гасконец,рождённый в зауральском лагере. |
_______________________________________
НЕУТОЛИМАЯ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ
Рубрика: Культура
Выпуск: #303
Дата: Ноябрь 17, 2011
Автор: Михаил Болотовский
________________________________________
Знакомьтесь: Гийом дю Вентре, блестящий французский поэт 16 века, гасконец, красавец, весельчак и умница, любимец прекрасных дам, друг Генриха Наваррского, отчаянный дуэлянт.
Место рождения: 1943 год, СССР, зауральский лагерь-завод «Свободное» на трассе нынешнего БАМа…
Зона без отдыха
Среди великого множества литературных мистификаций эта - особенная. Никогда не существовавшего французского поэта придумали два зэка, Яков Харон и Юрий Вейнерт. Сонеты, якобы переводы с французского, рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий. И даже без бумаги - использовалась инженерная синька и калька…
Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве машинисткой. Блестяще окончил гимназию, поступил в консерваторию, где увлекся музыкой кино и изучал технику звукозаписи. Вернувшись в Москву, озвучил знаменитые фильмы тех лет - «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга…
В лагере Харон создал оркестр и даже оперную труппу. И руководил конструкторским бюро, будучи технически очень грамотным человеком.
Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи. Первый раз он отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки: в разговоре с друзьями сказал что- то крамольное. В промежутках между отсидками окончил ФЗУ на техника-путейца и один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Потом - опять арест.
На последнем допросе следователь заявил, что семнадцатилетний парень заслуживает высшей меры наказания. «Что ж, я передам от тебя привет!» - дерзко отвечал Юрий. «Кому?» - удивился следователь. «Товарищу Дзержинскому! Или даже самому Ленину…»
Когда в «Свободное» прибыла очередная партия заключенных, Харон познакомился с Юрием Вейнертом. Заговорили о музыке, о Шекспире и Петрарке - и мгновенно подружились.
1943 год, из Ставки поступил ответственный заказ - освоить производство минометов. При том что на заводе не было литейного производства! Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех, из Москвы даже приехали именитые специалисты перенимать опыт.
Расплавленный чугун наполнил первый ковш.
- Вот так Вулкан ковал оружье богу, - вдруг продекламировал Вейнерт, перекрикивая грохот.
- Персей Пегаса снаряжал в дорогу, - ответил Харон устало, почти автоматически. Через пару дней друзья придумали автора сонетов, бесшабашного гасконца Гийома дю Вентре. Такая веселая литературная игра - ради выживания. А может, и ради самой игры.
Поэт, которого не было
Биография у Вентре получилась отчаянная. Семнадцатилетний красавец-юноша, приехав из гасконской глубинки, мгновенно покоряет Париж. И шпагой, и рифмами, и искусством обольщения прекрасных дам владеет с блеском. Высший свет боится его язвительных шуток и эпиграмм. А тот, кто рискнет бросить ему вызов, получит, вопреки всем королевским эдиктам, приглашение на Пре-о-де Клер - и останется там…
Его друзья - принцы и графы, писатели и поэты - такие, как блестящий Агриппа дОбинье, который с ним соперничает, принцессы и герцогини, которые в него влюблены. А он посвящает множество сонетов таинственной «маркизе Л.»
Чтоб в рай попасть мне - множество помех:
Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,
Любовь к тебе и самый тяжкий грех -
Неутолимая любовь к свободе.
Сонеты у дю Вентре самые разные: тут и сатира, и жанровая сценка, и любовное послание, и философская притча. Многие порицали его за неслыханные поэтические вольности, а другие восхищались. Но когда настала Варфоломеевская ночь, дю Вентре, эпикуреец, скептик и атеист, отважно сражался, защищая несчастных гугенотов. И сочинил множество язвительных эпиграмм, в которых высмеивал короля Карла, его всесильную мать Екатерину Медичи и герцога Гиза. Заключение в Бастилию, смертная казнь на Гревской площади не за горами - но вступаются влиятельные друзья, и дю Вентре за «королевскую измену» приговаривают к вечному изгнанию из Франции.
Пять чувств оставил миру Аристотель
Прощупал мир и вдоль, и поперек
И чувства все порастрепал в лохмотья -
Свободы отыскать нигде не мог.
Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,
Шестое чувство - вечно голодало.
Генрих Наваррский, бежав на юг Франции, собрал армию и отправился покорять Париж. Гийом дю Вентре нелегально вернулся из Англии, чтобы сменить перо на пистолеты.
Его друг Генрих вскоре стал королем, но через пару лет они сильно разругались. «И впрямь занятно поколенье наше:
король - смешон, шут королевский - страшен»…
Дю Вентре отправился в свое захолустное поместье в западной Гаскони, коротать вечера с бутылкой бургундского и старинным фолиантом…
Пока из рук не выбито оружье,
Пока дышать и мыслить суждено,
Я не разбавлю влагой равнодушья
Моих сонетов терпкое вино.
В дальневосточных лагерях ГУЛАГа - в бараках и на лесоповале, в штольнях рудника и в шарашке, заключенные из интеллигенции читали сонеты дю Вентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные.
Через родственников и друзей сонеты дю Вентре разлетелись по стране. И авторы стали получать массу ответных писем с благодарностью и восхищением. Чему сами очень удивлялись.
Кстати, многие маститые литераторы поверили в эту мистификацию. К примеру, стихами малоизвестного гасконца восторгался поэт Владимир Луговской. Блестящую оценку труду мнимых переводчиков дали Михаил Лозинский в Петербурге и Михаил Морозов в Москве - литературоведы мирового уровня.
А вот еще один видный ученый, крупный специалист по литературе французского Возрождения, утверждал, что еще в двадцатых годах, учась в Сорбонне, откопал томик дю Вентре у букиниста на Монмартре.
Сонет да любовь
Вейнерт переписал своим каллиграфическим почерком первые сорок сонетов на инженерных синьках, вынесенных из заводского КБ, где они с Хароном работали. Но ведь портрет поэта нужен! Тогда мистификаторы взяли тюремное фото Вейнерта, пририсовали усы и мушкетерскую эспаньолку.
В конце 1947 года их освободили. Жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах не разрешалось. Вейнерт устроился в Калинине на вагоностроительный завод, Харон - в Свердловске, на киностудию. Через год - опять арест и бессрочная ссылка. Харона отправили в местечко Абан, что в Зауралье, Вейнерта - на шахту, в четырехстах километрах от Абана.
Новые сонеты Гийома дю Вентре рождались исключительно по переписке.
Харон преподавал в школе физику и черчение, вел автокружок, ставил спектакли в самодеятельности. Словом, жил по сонету дю Вентре: «Я вам мешаю? Смерть моя - к добру? Так я - назло! - возьму и не умру».
У Вейнерта была только работа в шахте - и большая любовь. Люся Хотимская, талантливый филолог, красавица и умница, пользовавшаяся большим успехом в актерских и писательских кругах. Она ждала его десять лет, а на предложения руки и сердца отвечала очередному завидному ухажеру: милый, но у меня ведь есть Юра.
Люся обещала, что приедет к Вейнерту в Северо-Енисейск, как только получит гонорар за книгу - нужны были огромные деньги, три тысячи рублей. Но заболела и умерла в больнице. Вейнерт получил от Люсиной подруги по почте ее книгу. И - приступ отчаяния. Сжег все письма любимой женщины. И пошел в шахту, которую назавтра должен был запустить. Случился то ли несчастный случай, то ли самоубийство.
В 1954 году, ровно через год после придуманного когда-то четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца - их накопилось ровно сто. Шлифовал, обрабатывал, перепечатал, собрал в томик форматом в полмашинописного листа. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.
Харон всю жизнь был закоренелым оптимистом и весьма легкомысленным человеком. Восемнадцать лет тюрьмы, лагерей и ссылок считал досаднейшей помехой и радовался каждому прожитому дню на свободе, как ребенок. Любимая работа на «Мосфильме» и со студентами во ВГИКе, своя программа на телевидении, путешествия по Германии и Италии, медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи, профессиональные занятия биологией, которой сильно увлекся.
Семейная жизнь тоже удалась. Сын Юрка-маленький, как он его называл. Любимая жена, с которой, представьте, познакомился благодаря придуманному гасконцу.
В Воркуте, в женском лагере «Кирпичный завод», образованные дамы в бараке после смены наслаждались сонетами дю Вентре. Женщина, которая читала стихи, была когда-то знакома с Хароном и рассказывала о нем взахлеб. Так сонеты дю Вентре впервые услышала Стелла Корытная. А через пару лет Яков и Стелла случайно встретились на вечеринке у общих знакомых. И потом прожили достаточно долго и очень счастливо.
Не рано ли поэту умирать?
Еще не все написано и спето!
Хотя б еще одним блеснуть сонетом -
И больше никогда пера не брать…
Умер Харон от полученного в лагере туберкулеза, сохранив до последнего удивительную бодрость духа. А книга сонетов Гийома дю Вентре с его комментарием вышла в 1989 году.
________________________________________
.
НЕУТОЛИМАЯ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ
Рубрика: Культура
Выпуск: #303

Дата: Ноябрь 17, 2011
Автор: Михаил Болотовский
________________________________________
Знакомьтесь: Гийом дю Вентре, блестящий французский поэт 16 века, гасконец, красавец, весельчак и умница, любимец прекрасных дам, друг Генриха Наваррского, отчаянный дуэлянт.
Место рождения: 1943 год, СССР, зауральский лагерь-завод «Свободное» на трассе нынешнего БАМа…
Зона без отдыха
Среди великого множества литературных мистификаций эта - особенная. Никогда не существовавшего французского поэта придумали два зэка, Яков Харон и Юрий Вейнерт. Сонеты, якобы переводы с французского, рождались в нечеловеческих условиях, без словарей и энциклопедий. И даже без бумаги - использовалась инженерная синька и калька…
Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве машинисткой. Блестяще окончил гимназию, поступил в консерваторию, где увлекся музыкой кино и изучал технику звукозаписи. Вернувшись в Москву, озвучил знаменитые фильмы тех лет - «Поколение победителей» и «Мы из Кронштадта». А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга…
В лагере Харон создал оркестр и даже оперную труппу. И руководил конструкторским бюро, будучи технически очень грамотным человеком.
Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи. Первый раз он отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки: в разговоре с друзьями сказал что- то крамольное. В промежутках между отсидками окончил ФЗУ на техника-путейца и один курс Ленинградского университета железнодорожного транспорта. Потом - опять арест.
На последнем допросе следователь заявил, что семнадцатилетний парень заслуживает высшей меры наказания. «Что ж, я передам от тебя привет!» - дерзко отвечал Юрий. «Кому?» - удивился следователь. «Товарищу Дзержинскому! Или даже самому Ленину…»
Когда в «Свободное» прибыла очередная партия заключенных, Харон познакомился с Юрием Вейнертом. Заговорили о музыке, о Шекспире и Петрарке - и мгновенно подружились.
1943 год, из Ставки поступил ответственный заказ - освоить производство минометов. При том что на заводе не было литейного производства! Благодаря Харону уже через сорок дней был пущен уникальный литейный цех, из Москвы даже приехали именитые специалисты перенимать опыт.
Расплавленный чугун наполнил первый ковш.
- Вот так Вулкан ковал оружье богу, - вдруг продекламировал Вейнерт, перекрикивая грохот.
- Персей Пегаса снаряжал в дорогу, - ответил Харон устало, почти автоматически. Через пару дней друзья придумали автора сонетов, бесшабашного гасконца Гийома дю Вентре. Такая веселая литературная игра - ради выживания. А может, и ради самой игры.
Поэт, которого не было
Биография у Вентре получилась отчаянная. Семнадцатилетний красавец-юноша, приехав из гасконской глубинки, мгновенно покоряет Париж. И шпагой, и рифмами, и искусством обольщения прекрасных дам владеет с блеском. Высший свет боится его язвительных шуток и эпиграмм. А тот, кто рискнет бросить ему вызов, получит, вопреки всем королевским эдиктам, приглашение на Пре-о-де Клер - и останется там…
Его друзья - принцы и графы, писатели и поэты - такие, как блестящий Агриппа дОбинье, который с ним соперничает, принцессы и герцогини, которые в него влюблены. А он посвящает множество сонетов таинственной «маркизе Л.»
Чтоб в рай попасть мне - множество помех:
Лень, гордость, ненависть, чревоугодье,
Любовь к тебе и самый тяжкий грех -
Неутолимая любовь к свободе.
Сонеты у дю Вентре самые разные: тут и сатира, и жанровая сценка, и любовное послание, и философская притча. Многие порицали его за неслыханные поэтические вольности, а другие восхищались. Но когда настала Варфоломеевская ночь, дю Вентре, эпикуреец, скептик и атеист, отважно сражался, защищая несчастных гугенотов. И сочинил множество язвительных эпиграмм, в которых высмеивал короля Карла, его всесильную мать Екатерину Медичи и герцога Гиза. Заключение в Бастилию, смертная казнь на Гревской площади не за горами - но вступаются влиятельные друзья, и дю Вентре за «королевскую измену» приговаривают к вечному изгнанию из Франции.
Пять чувств оставил миру Аристотель
Прощупал мир и вдоль, и поперек
И чувства все порастрепал в лохмотья -
Свободы отыскать нигде не мог.
Пять чувств всю жизнь кормил я до отвала,
Шестое чувство - вечно голодало.
Генрих Наваррский, бежав на юг Франции, собрал армию и отправился покорять Париж. Гийом дю Вентре нелегально вернулся из Англии, чтобы сменить перо на пистолеты.
Его друг Генрих вскоре стал королем, но через пару лет они сильно разругались. «И впрямь занятно поколенье наше:
король - смешон, шут королевский - страшен»…
Дю Вентре отправился в свое захолустное поместье в западной Гаскони, коротать вечера с бутылкой бургундского и старинным фолиантом…
Пока из рук не выбито оружье,
Пока дышать и мыслить суждено,
Я не разбавлю влагой равнодушья
Моих сонетов терпкое вино.
В дальневосточных лагерях ГУЛАГа - в бараках и на лесоповале, в штольнях рудника и в шарашке, заключенные из интеллигенции читали сонеты дю Вентре наизусть. Легкие, ироничные, одновременно веселые и печальные.
Через родственников и друзей сонеты дю Вентре разлетелись по стране. И авторы стали получать массу ответных писем с благодарностью и восхищением. Чему сами очень удивлялись.
Кстати, многие маститые литераторы поверили в эту мистификацию. К примеру, стихами малоизвестного гасконца восторгался поэт Владимир Луговской. Блестящую оценку труду мнимых переводчиков дали Михаил Лозинский в Петербурге и Михаил Морозов в Москве - литературоведы мирового уровня.
А вот еще один видный ученый, крупный специалист по литературе французского Возрождения, утверждал, что еще в двадцатых годах, учась в Сорбонне, откопал томик дю Вентре у букиниста на Монмартре.
Сонет да любовь
Вейнерт переписал своим каллиграфическим почерком первые сорок сонетов на инженерных синьках, вынесенных из заводского КБ, где они с Хароном работали. Но ведь портрет поэта нужен! Тогда мистификаторы взяли тюремное фото Вейнерта, пририсовали усы и мушкетерскую эспаньолку.
В конце 1947 года их освободили. Жить в Москве, Ленинграде и еще одиннадцати городах не разрешалось. Вейнерт устроился в Калинине на вагоностроительный завод, Харон - в Свердловске, на киностудию. Через год - опять арест и бессрочная ссылка. Харона отправили в местечко Абан, что в Зауралье, Вейнерта - на шахту, в четырехстах километрах от Абана.
Новые сонеты Гийома дю Вентре рождались исключительно по переписке.
Харон преподавал в школе физику и черчение, вел автокружок, ставил спектакли в самодеятельности. Словом, жил по сонету дю Вентре: «Я вам мешаю? Смерть моя - к добру? Так я - назло! - возьму и не умру».
У Вейнерта была только работа в шахте - и большая любовь. Люся Хотимская, талантливый филолог, красавица и умница, пользовавшаяся большим успехом в актерских и писательских кругах. Она ждала его десять лет, а на предложения руки и сердца отвечала очередному завидному ухажеру: милый, но у меня ведь есть Юра.
Люся обещала, что приедет к Вейнерту в Северо-Енисейск, как только получит гонорар за книгу - нужны были огромные деньги, три тысячи рублей. Но заболела и умерла в больнице. Вейнерт получил от Люсиной подруги по почте ее книгу. И - приступ отчаяния. Сжег все письма любимой женщины. И пошел в шахту, которую назавтра должен был запустить. Случился то ли несчастный случай, то ли самоубийство.
В 1954 году, ровно через год после придуманного когда-то четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца - их накопилось ровно сто. Шлифовал, обрабатывал, перепечатал, собрал в томик форматом в полмашинописного листа. И только потом пошел получать бумаги по реабилитации.
Харон всю жизнь был закоренелым оптимистом и весьма легкомысленным человеком. Восемнадцать лет тюрьмы, лагерей и ссылок считал досаднейшей помехой и радовался каждому прожитому дню на свободе, как ребенок. Любимая работа на «Мосфильме» и со студентами во ВГИКе, своя программа на телевидении, путешествия по Германии и Италии, медаль ВДНХ за изобретение новой четырехканальной системы звукозаписи, профессиональные занятия биологией, которой сильно увлекся.
Семейная жизнь тоже удалась. Сын Юрка-маленький, как он его называл. Любимая жена, с которой, представьте, познакомился благодаря придуманному гасконцу.
В Воркуте, в женском лагере «Кирпичный завод», образованные дамы в бараке после смены наслаждались сонетами дю Вентре. Женщина, которая читала стихи, была когда-то знакома с Хароном и рассказывала о нем взахлеб. Так сонеты дю Вентре впервые услышала Стелла Корытная. А через пару лет Яков и Стелла случайно встретились на вечеринке у общих знакомых. И потом прожили достаточно долго и очень счастливо.
Не рано ли поэту умирать?
Еще не все написано и спето!
Хотя б еще одним блеснуть сонетом -
И больше никогда пера не брать…
Умер Харон от полученного в лагере туберкулеза, сохранив до последнего удивительную бодрость духа. А книга сонетов Гийома дю Вентре с его комментарием вышла в 1989 году.
________________________________________
.
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Потеряли ещё одного человека |
Последнее стихотворение Эльдара Рязанова (фото)
Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написанное в 67-й больнице города Москвы.
Рязанов стихотворение
1.

В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные простые корпуса...
Как жаль, что не учился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.
А за окном моей палаты осень,
листве почившей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.
Что мне теперь до участи народа,
куда пойдет и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.
Мне здесь дано уйти и раствориться...
Прощайте, запахи и голоса,
цвета и звуки, дорогие лица,
кирпичные простые корпуса...
Последнее, прощальное стихотворение Эльдара Рязанова написанное в 67-й больнице города Москвы.
Рязанов стихотворение
1.

В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные простые корпуса...
Как жаль, что не учился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.
А за окном моей палаты осень,
листве почившей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.
Что мне теперь до участи народа,
куда пойдет и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.
Мне здесь дано уйти и раствориться...
Прощайте, запахи и голоса,
цвета и звуки, дорогие лица,
кирпичные простые корпуса...
|
|
Лётчик и роза. |
Лётчик и роза. Удивительная история любви
1.

Пожалуй, одна из самых удивительных историй любви прошлого века! Если бы в жизни французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери не существовало маленького дьяволёнка Консуэло, придуманный им Маленький Принц мог бы остаться без Розы. Ведь именно с Консуэло был списан портрет прекрасного цветка с шипами. Впрочем, официальные биографы так не считают, более того, они уверены, что брак с этой женщиной был трагедией всей жизни Экзюпери.
Он был добродушным и покладистым, а она непредсказуемой и взбалмошной. Похожи они были в одном – они были людьми не от мира сего. В авиации легендарная рассеянность Антуана стала притчей во языцех. Он летал, забывая захлопнуть дверцу, убрать шасси, подключал пустой бензобак и садился не на те дорожки. Не удивительно, что его постоянно сопровождали ЧП в воздухе. Уже через пару месяцев, как только впервые сел за штурвал, он разбил самолёт, получив черепно-мозговую травму. В 1932 году едва успел выбраться из кабины тонущей машины при испытаниях нового гидросамолета. В конце 1935-го года терпит аварию при перелёте Париж – Сайгон и Новый год встречает в Ливийской пустыне. Умирающего от жажды, его случайно обнаружил проходивший мимо караван. В 1938-м едва остался жив, потерпев крушение в Гватемале…
На момент встречи с Экзюпери Консуэло Гомес Каррильо имела статус дважды вдовы. Если бы она была ураганом, ей можно было бы смело присвоить 12 баллов.
2.

«Маленьким сальвадорским вулканом» прозвал её Антуан, и слово «маленький» здесь было применимо исключительно к росту черноглазой, стремительной и редко молчащей женщины, потому что шум она производила преогромный.
3.

Жениться на «стихийном бедствии» Антуана отговаривали все. Но он не послушал даже мать, которой беспрекословно подчинялся. И возник союз, где не находилось места спокойствию, разумному бюджету, супружеской верности, детям, покорному старению. Но, видимо, Сент-Экзюпери нужен был имено такой брак, качавшийся, как парусник, из стороны в сторону. Впрочем, свадьба, на которой поначалу так настаивал Экзюпери, всё время откладывалась: Антуан ждал приезда матери. Однажды, когда Консуэло, казалось, совсем потеряла терпение, он повёл её в местную мэрию, чтобы зарегистрировать брак. Но в тот момент, когда нужно было произнести сакраментальное «да», отважный лётчик на глазах у всех разрыдался: «Я не хочу жениться вдали от родины и своей семьи!» «А я не хочу выходить замуж за плачущего мужчину»,- в тон ему ответила Консуэло. Лишь через два года после знакомства она стала графиней де Сент-Экзюпери.
4.

Свадьба Антуана и Консуэло
Современники описывали отношения супругов одним словом – парадокс. Вспыльчивая, неуправляемая, взбалмошная, несдержанная на язык и неудержимая в капризах Консуэло кричала, дралась и сердилась сотни раз на дню. Била посуду и проклинала мужа. А он уворачивался и улыбался.
5.

Там, где другие могли углядеть только скандал и смуту, Экзюпери видел поэзию. Консуэло мечтала купить простыни алого цвета и на них Антуана зарезать. Но он бы сам убил её, если бы вместо склок она вдруг принялась штопать ему носки. Рассказывают, что с одной возлюбленной он потому и расстался, что застал её за этим занятием. То, что большинство людей называют счастьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, тишина не только не соответствовали его характеру, наоборот, для творчества он нуждался в беспокойной, тревожной атмосфере, которую и создавала ему жена. Он вообще придерживался мысли, что любовь – это счастье, изрядно сдобренное страданиями.
6.

Тем не менее, это своеобразное счастье здорово ранило, и раны уже не успевали затягиваться. Однажды Консуэло, ничего не сказав мужу, исчезла на двое суток. Экзюпери всю ночь искал жену по барам. Утром за руль штурвала он сел злой и невыспавшийся. В результате сбился с маршрута, на огромной скорости врезался в бархан в Ливийской пустыне, два дня бродил по пескам и спасся лишь благодаря бедуинам. Позже, вспоминая своё приключение, он написал матери: «Ужасно оставлять позади себя кого-нибудь, кто, как Консуэло, постоянно нуждается в тебе. Чувствуешь огромную необходимость вернуться, чтоб оберегать и ограждать, и ломаешь ногти о песок, который не даёт тебе выполнить свой долг.»
Бурные романы Консуэло всё меньше нравились Экзюпери. А с годами капризная гордячка ещё и стала без конца упрекать мужа в импотенции. Случалось, что она бросала ему эти обвинения публично. Как раз тогда в жизни Экзюпери стали появляться другие женщины. Консуэло не могла смотреть на это спокойно. Она ревновала своего мужа не столько к женщинам, сколько к вниманию, которое ему уделяли. Она всегда хотела сама быть на первом плане.
Надо сказать, что выдуманная Консуэло импотенция не мешала молодой актрисе Натали Палей и художнице Хедде Стерни быть любовницами Экзюпери и восхищаться им как мужчиной. Особую роль играла в жизни автора «Маленького принца» юная Сильвия Рейнхардт. Как бы Экзюпери ни презирал мещанский покой, все же иногда и он в нём нуждался. С Сильвией он обретал то, чего не могла ему дать Консуэло: уют и душевное тепло. Но всё равно противоречивый Антуан возвращался к своей жене, которая с каждым годом всё больше терзала его.
Писатель-лётчик, которым восторгался весь мир, мужественно нес свой крест, свою дикую любовь к полусумасшедшей лгунье. Не раз супруги принимали решение расстаться. В 1938 году после тяжёлого разговора Консуэло, полуживая от горя, отправляется морем домой, в Сальвадор. Путешествие уже подходило к концу, когда ей вручили телеграмму от матери: «Твой муж серьёзно ранен, 32 перелома, 11 тяжёлых, не допустила ампутации до твоего приезда, как можно скорее вылетай к нам в Панаму.» (Экзюпери потерпел крушение в Гватемале.)
7.

«Я с трудом узнала лицо Тонио, так оно опухло. Один глаз находился практически на лбу, а другой почти висел у бесформенного, фиолетового рта»,- писала Консуэло в своих воспоминаниях. В день выписки из больницы исхудавший, изуродованный Экзюпери сказал: «Завтра ты посадишь меня в самолёт до Нью-Йорка. Там я сделаю пластическую операцию, чтобы привести в порядок лицо. Ты же не можешь жить с чудовищем.» Однако взять с собой жену отказался: «Мы же расстались, ты не забыла?»
8.

Отправляясь летом 1944 года в разведывательный полёт, он, наверное, уже знал, что не вернется. Как и упавшая на кровать ничком, не пожелавшая проводить его взглядом из окна Консуэло. Как раз перед тем вылетом гадалка предсказала Экзюпери гибель в морской пучине. Антуан пересказал пророчество всем друзьям, не успевая повторять, что его, видимо, перепутали с моряком. А 31 июля полетел в сторону Лиона. Вскоре связь с самолетом прервалась. Обломков самолёта не нашли. Где он погиб и как – загадка. Осталась красивая легенда о том, что он, подобно Маленькому Принцу, не умер, а просто улетел к своей звезде.
В течение многих лет Консуэло не могла поверить в то, что её мужа нет в живых. «Он часто оставлял меня одну, – упрямо говорила она, – но всегда возвращался.»
Консуэло пережила мужа на 35 лет: она умерла в 1979 году. Уже после смерти вышла её книга «Воспоминания Розы», в которой женщина рассказывала подробно о годах семейной жизни со знаменитым писателем. А спустя несколько лет в сетях рыбака запутался браслет, на котором были выбиты имена Антуана и Консуэло. Это был браслет Экзюпери.
9.

-
1.

Пожалуй, одна из самых удивительных историй любви прошлого века! Если бы в жизни французского лётчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери не существовало маленького дьяволёнка Консуэло, придуманный им Маленький Принц мог бы остаться без Розы. Ведь именно с Консуэло был списан портрет прекрасного цветка с шипами. Впрочем, официальные биографы так не считают, более того, они уверены, что брак с этой женщиной был трагедией всей жизни Экзюпери.
Он был добродушным и покладистым, а она непредсказуемой и взбалмошной. Похожи они были в одном – они были людьми не от мира сего. В авиации легендарная рассеянность Антуана стала притчей во языцех. Он летал, забывая захлопнуть дверцу, убрать шасси, подключал пустой бензобак и садился не на те дорожки. Не удивительно, что его постоянно сопровождали ЧП в воздухе. Уже через пару месяцев, как только впервые сел за штурвал, он разбил самолёт, получив черепно-мозговую травму. В 1932 году едва успел выбраться из кабины тонущей машины при испытаниях нового гидросамолета. В конце 1935-го года терпит аварию при перелёте Париж – Сайгон и Новый год встречает в Ливийской пустыне. Умирающего от жажды, его случайно обнаружил проходивший мимо караван. В 1938-м едва остался жив, потерпев крушение в Гватемале…
На момент встречи с Экзюпери Консуэло Гомес Каррильо имела статус дважды вдовы. Если бы она была ураганом, ей можно было бы смело присвоить 12 баллов.
2.

«Маленьким сальвадорским вулканом» прозвал её Антуан, и слово «маленький» здесь было применимо исключительно к росту черноглазой, стремительной и редко молчащей женщины, потому что шум она производила преогромный.
3.

Жениться на «стихийном бедствии» Антуана отговаривали все. Но он не послушал даже мать, которой беспрекословно подчинялся. И возник союз, где не находилось места спокойствию, разумному бюджету, супружеской верности, детям, покорному старению. Но, видимо, Сент-Экзюпери нужен был имено такой брак, качавшийся, как парусник, из стороны в сторону. Впрочем, свадьба, на которой поначалу так настаивал Экзюпери, всё время откладывалась: Антуан ждал приезда матери. Однажды, когда Консуэло, казалось, совсем потеряла терпение, он повёл её в местную мэрию, чтобы зарегистрировать брак. Но в тот момент, когда нужно было произнести сакраментальное «да», отважный лётчик на глазах у всех разрыдался: «Я не хочу жениться вдали от родины и своей семьи!» «А я не хочу выходить замуж за плачущего мужчину»,- в тон ему ответила Консуэло. Лишь через два года после знакомства она стала графиней де Сент-Экзюпери.
4.

Свадьба Антуана и Консуэло
Современники описывали отношения супругов одним словом – парадокс. Вспыльчивая, неуправляемая, взбалмошная, несдержанная на язык и неудержимая в капризах Консуэло кричала, дралась и сердилась сотни раз на дню. Била посуду и проклинала мужа. А он уворачивался и улыбался.
5.

Там, где другие могли углядеть только скандал и смуту, Экзюпери видел поэзию. Консуэло мечтала купить простыни алого цвета и на них Антуана зарезать. Но он бы сам убил её, если бы вместо склок она вдруг принялась штопать ему носки. Рассказывают, что с одной возлюбленной он потому и расстался, что застал её за этим занятием. То, что большинство людей называют счастьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, тишина не только не соответствовали его характеру, наоборот, для творчества он нуждался в беспокойной, тревожной атмосфере, которую и создавала ему жена. Он вообще придерживался мысли, что любовь – это счастье, изрядно сдобренное страданиями.
6.

Тем не менее, это своеобразное счастье здорово ранило, и раны уже не успевали затягиваться. Однажды Консуэло, ничего не сказав мужу, исчезла на двое суток. Экзюпери всю ночь искал жену по барам. Утром за руль штурвала он сел злой и невыспавшийся. В результате сбился с маршрута, на огромной скорости врезался в бархан в Ливийской пустыне, два дня бродил по пескам и спасся лишь благодаря бедуинам. Позже, вспоминая своё приключение, он написал матери: «Ужасно оставлять позади себя кого-нибудь, кто, как Консуэло, постоянно нуждается в тебе. Чувствуешь огромную необходимость вернуться, чтоб оберегать и ограждать, и ломаешь ногти о песок, который не даёт тебе выполнить свой долг.»
Бурные романы Консуэло всё меньше нравились Экзюпери. А с годами капризная гордячка ещё и стала без конца упрекать мужа в импотенции. Случалось, что она бросала ему эти обвинения публично. Как раз тогда в жизни Экзюпери стали появляться другие женщины. Консуэло не могла смотреть на это спокойно. Она ревновала своего мужа не столько к женщинам, сколько к вниманию, которое ему уделяли. Она всегда хотела сама быть на первом плане.
Надо сказать, что выдуманная Консуэло импотенция не мешала молодой актрисе Натали Палей и художнице Хедде Стерни быть любовницами Экзюпери и восхищаться им как мужчиной. Особую роль играла в жизни автора «Маленького принца» юная Сильвия Рейнхардт. Как бы Экзюпери ни презирал мещанский покой, все же иногда и он в нём нуждался. С Сильвией он обретал то, чего не могла ему дать Консуэло: уют и душевное тепло. Но всё равно противоречивый Антуан возвращался к своей жене, которая с каждым годом всё больше терзала его.
Писатель-лётчик, которым восторгался весь мир, мужественно нес свой крест, свою дикую любовь к полусумасшедшей лгунье. Не раз супруги принимали решение расстаться. В 1938 году после тяжёлого разговора Консуэло, полуживая от горя, отправляется морем домой, в Сальвадор. Путешествие уже подходило к концу, когда ей вручили телеграмму от матери: «Твой муж серьёзно ранен, 32 перелома, 11 тяжёлых, не допустила ампутации до твоего приезда, как можно скорее вылетай к нам в Панаму.» (Экзюпери потерпел крушение в Гватемале.)
7.

«Я с трудом узнала лицо Тонио, так оно опухло. Один глаз находился практически на лбу, а другой почти висел у бесформенного, фиолетового рта»,- писала Консуэло в своих воспоминаниях. В день выписки из больницы исхудавший, изуродованный Экзюпери сказал: «Завтра ты посадишь меня в самолёт до Нью-Йорка. Там я сделаю пластическую операцию, чтобы привести в порядок лицо. Ты же не можешь жить с чудовищем.» Однако взять с собой жену отказался: «Мы же расстались, ты не забыла?»
8.

Отправляясь летом 1944 года в разведывательный полёт, он, наверное, уже знал, что не вернется. Как и упавшая на кровать ничком, не пожелавшая проводить его взглядом из окна Консуэло. Как раз перед тем вылетом гадалка предсказала Экзюпери гибель в морской пучине. Антуан пересказал пророчество всем друзьям, не успевая повторять, что его, видимо, перепутали с моряком. А 31 июля полетел в сторону Лиона. Вскоре связь с самолетом прервалась. Обломков самолёта не нашли. Где он погиб и как – загадка. Осталась красивая легенда о том, что он, подобно Маленькому Принцу, не умер, а просто улетел к своей звезде.
В течение многих лет Консуэло не могла поверить в то, что её мужа нет в живых. «Он часто оставлял меня одну, – упрямо говорила она, – но всегда возвращался.»
Консуэло пережила мужа на 35 лет: она умерла в 1979 году. Уже после смерти вышла её книга «Воспоминания Розы», в которой женщина рассказывала подробно о годах семейной жизни со знаменитым писателем. А спустя несколько лет в сетях рыбака запутался браслет, на котором были выбиты имена Антуана и Консуэло. Это был браслет Экзюпери.
9.

-
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Вот это характер! |
Математическая система Трахтенберга
Трудно поверить, что одна из самых оригинальных и остроумных математических систем, известная под названием «система Трахтенберга», создана автором в концентрационном лагере…
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ В ОСВЕНЦИМЕ
Яаков Трахтенберг родился 17 июня 1888 года в Одессе (Украина). Завершив среднее образование, он отправился в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. Окончив его с отличием, работал на судостроительном заводе. Сначала — «рядовым», а потом — главным инженером.
Когда Россию захлестнула волна погромов, Трахтенберг уехал в Германию и поселился в Берлине. Во время Первой мировой войны он считался одним из самых выдающихся экспертов по делам России. В этот период он создал уникальный метод изучения иностранных языков, который с успехом применяется и сегодня.
Во время Второй мировой войны Яакова Трахтенберга вместе с другими евреями погрузили в товарные вагоны, в которых раньше возили скот. Так он попал в концентрационный лагерь «Освенцим».
…Люди исчезали ежедневно. Все новые и новые жертвы, по случайному выбору, направлялись в печи крематориев. Кругом — смерть и страдания. Кормили узников плохо — еды хватало лишь на то, чтобы в их телах хоть как-то теплилась жизнь. Чтобы не сойти с ума, Трахтенберг погрузился в собственный мир, где царили порядок и логики. Его тело истощалось с каждым днем, но разум отказывался принять окончательное поражение и устремлялся в мир беспристрастных, жизнеутверждающих чисел, которые по его воле складывались в удивительные по своей красоте математические построения.
Ни книг, ни бумаги, ни карандаша у него не было. Но мысль работала четко и ясно. Расчеты он производил в уме и верил, что математика развивает точность мышления. В лучшие времена, «играя» числами, Яаков развлекался в нечастые периоды отдыха. Теперь, в лагере, цифры стали для него верными, испытанными друзьями. Его ум, выстраивая и передвигая их, находил самые разные способы манипулирования числами.
Сначала он просто занимался сложением многозначных величин. Но как запомнить тысячи чисел? Задача оказалась нелегкой, и Трахтенберг придумал элементарный в обращении; понятный каждому метод, который позволяет любому, даже ребенку, безошибочно производить простое арифметическое действие, оперируя цифрами, каждая из которых могла бы занять в карманном блокноте целую строку.
Четыре нескончаемых года, проведенных в аду концентрационного лагеря, Яаков каждую свободную минуту тратил на то, чтобы вернуться к придуманной им математической системе. Он разрабатывал упрощенные методы осуществления математических действий. Когда арифметика начала казаться ему слишком уж «простой», он перешел к алгебре.
Каждый день и для него мог оказаться последним. Но страха он не испытывал. Разрабатывая и совершенствуя созданную им систему, Яаков забывал о своей «физической оболочке» — не ощущал ни голода, ни зловония, не слышал криков, которые доносились из камеры пыток.
Нечеловеческая реальность концентрационного лагеря как будто бы совсем ничего не значила для него. Единственно реальными стали упорядоченные вереницы чисел.
Наступил момент, когда ему понадобились подручные материалы. Яаков подбирал куски оберточной бумаги и мятые, использованные конверты. Порой его поиски увенчивались настоящей удачей — он находил выброшенные в мусор администрацией лагеря бумажные листы с текстами устаревших приказов и совершенно чистой обратной стороной. Кто-то из заключенных сделал ему поистине царский подарок — отдал огрызок чернильного карандаша.
Конечно же, не без труда добытые приобретения были истинной драгоценностью и требовали использования в режиме жесткой экономии. Поэтому разработки теорий Трахтенберг по-прежнему хранил в голове, а на бумагу записывал только завершенные, сложившиеся варианты.
Сегодня, те, кто применяет метод Трахтенберга на практике, считают его очень удобным и легким. Действительно, придуманные узником лагеря приемы позволяют производить промежуточные вычисления в уме, записывая на листе лишь окончательные результаты.
…В один из апрельских дней 1944-го Яаков случайно узнал, что его ждет смертная казнь. Но в лагере, на его счастье, царила полная неразбериха. И вместо этого, его внезапно перевели в другой лагерь, в Лейпциге.
Той же весной Лейпциг нещадно бомбили. В городе началась паника и хаос. Жители Лейпцига остались без еды и отопления. Трахтенберг оказался в мрачном, тесном бараке Лейпцигского концлагеря. В тот же барак то и дело приводили все новых и новых узников. И вскоре народу в нем стало так много, что не было никаких шансов отыскать такое местечко, где можно было бы прилечь. Это право оставалось лишь за умершими, тела которых разлагались здесь же, в бараке, в течение многих дней. Заключенные были слишком слабы, чтобы рыть могилы, охранники — настолько охвачены паникой, что не настаивали на выполнении собственных приказов.
В одну из черных, глухих ночей Яаков решился на побег. Прополз под ограждениями из колючей проволоки и выбрался на свободу. Но куда бежать? Никаких документов у него, разумеется, не было. Первая же случайная проверка и снова — арест. Так и вышло…
Однако побег из Лейпцигского лагеря все же принес ему некую пользу. По счастливому стечению обстоятельств, офицер, которому предстояло теперь решить его судьбу, знал, как выяснилось, о деятельности Трахтенберга. «Войдя в положение», он отправил Яакова в трудовой лагерь в Триесте. И это было заметным улучшением жизненных условий. Его определили на работу в каменоломню. Труд — не из легких. Но погода к тому времени установилась теплая и солнечная, да и охранники здесь не мучили узников.
И все же мысль о побеге прочно засела в голове Трахтенберга. Вторичный побег оказался удачным. Он благополучно пересек немецкую границу и попал в Швейцарию, где его поместили в лагерь для беженцев.
Постепенно силы возвращались к нему. Прошло еще какое-то время, и о том, что он пережил страшные годы неопределенности и отчаяния, внешне напоминала разве что «беспросветная» седина.
Придя в себя, он усовершенствовал свою математическую систему, которая помогла ему пережить годы в аду, а теперь — готовила его к новой жизни.
В 1950 году, Трахтенберг основал в Цюрихе (Швейцария) институт математики, где он обучал своему уникальному математическому методу. День проходил в занятиях с детьми — от семи до восемнадцати лет, вечерами на его уроки собирались взрослые.
http://www.evrey.com/sitep/person/trahtenberg.jpgМатематическая система Яакова Трахтенберга описана в изданной в США книге для детей «Мгновенная математика». Ее автор — журналистка, корреспондент Ассошиэйтед Пресс, Анна Кутлер.
В самом начале 50-х Кутлер по заданию агентства прилетела в Швейцарию. В Цюрихе проходила международная конференция, о которой ей предстояло написать.
— В жизни нередко важные открытия делаются случайно, — рассказывает она о своем знакомстве с Яаковом Трахтенберге. — Если бы мне не попался «нужный» таксист, который вез меня в аэропорт, я, быть может, никогда не узнала бы о существовании этой уникальной математической системы. Но оказалось, что внук этого таксиста учится в школе Трахтенберга, и успехи внука произвели на него такое впечатление, что он, этот таксист, узнав, что я — журналист, несмотря на мои протесты (я боялась опоздать на свой рейс), вознамерился непременно нас познакомить. И настоял на своем. Самолет улетел без меня. Но это меня ничуть не расстроило. Удивительная встреча с гением стоила гораздо большего. Помнится, я была просто потрясена, когда он продемонстрировал, как его ученики нежного возраста производят сложнейшие расчеты, с которыми в состоянии справиться не каждый взрослый, даже с помощью калькулятора…
В Соединенные Штаты мисс Кутлер вернулась страстной поклонницей теорий Трахтенберга и результатов их использования на практике. Издание книги для детей стало лишь началом ее популяризаторской деятельности.
Она обратилась к известному профессору математики Рудольфу МакШэйну и рассказала ему о работе Яакова Трахтенберга. Шэйн «загорелся», высоко оценив остроумные математические решения коллеги.
Вскоре на основе изысканий Трахтенберга профессор Рудольф МакШэйн и журналист Анна Кутлер вместе составили учебник, предназначенный для учителей и учеников старших классов, а также студентов колледжей. Эта книга вышла в свет под названием «Быстрая система элементарной математики Трахтенберга».
Тем временем в Цюрихе Яаков, чтобы доказать, что систему может освоить каждый, начал заниматься с больным десятилетним ребенком. Его «умственную отсталость» зафиксировали врачи. В ходе этой работы выяснилось, что система имеет весьма неожиданные «побочные» свойства. Мальчик не только научился быстро производить сложнейшие вычисления, но и значительно повысил свой коэффициент умственного развития. Оказалось, что процессы, которые происходят в мозге человека, когда он делает расчеты в уме (это — один из неотъемлемых элементов системы Трахтенберга) заметно улучшают память и способность концентрироваться.
Сегодня многие медики пропагандируют систему Трахтенберга, рекомендуя пожилым пациентам тренировать ум и память, чтобы предотвратить нежелательные эффекты, которые возникают обычно в процессе старения.
Швейцария, известная своей деловой хваткой, давно признала уникальность и совершенство системы Трахтенберга. Его разработки широко используются в деятельности банков, больших компаний и налоговых управлений. Яаков Трахтенберг умер в 1953 году.
Арнольд Файн

Трудно поверить, что одна из самых оригинальных и остроумных математических систем, известная под названием «система Трахтенберга», создана автором в концентрационном лагере…
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ В ОСВЕНЦИМЕ
Яаков Трахтенберг родился 17 июня 1888 года в Одессе (Украина). Завершив среднее образование, он отправился в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. Окончив его с отличием, работал на судостроительном заводе. Сначала — «рядовым», а потом — главным инженером.
Когда Россию захлестнула волна погромов, Трахтенберг уехал в Германию и поселился в Берлине. Во время Первой мировой войны он считался одним из самых выдающихся экспертов по делам России. В этот период он создал уникальный метод изучения иностранных языков, который с успехом применяется и сегодня.
Во время Второй мировой войны Яакова Трахтенберга вместе с другими евреями погрузили в товарные вагоны, в которых раньше возили скот. Так он попал в концентрационный лагерь «Освенцим».
…Люди исчезали ежедневно. Все новые и новые жертвы, по случайному выбору, направлялись в печи крематориев. Кругом — смерть и страдания. Кормили узников плохо — еды хватало лишь на то, чтобы в их телах хоть как-то теплилась жизнь. Чтобы не сойти с ума, Трахтенберг погрузился в собственный мир, где царили порядок и логики. Его тело истощалось с каждым днем, но разум отказывался принять окончательное поражение и устремлялся в мир беспристрастных, жизнеутверждающих чисел, которые по его воле складывались в удивительные по своей красоте математические построения.
Ни книг, ни бумаги, ни карандаша у него не было. Но мысль работала четко и ясно. Расчеты он производил в уме и верил, что математика развивает точность мышления. В лучшие времена, «играя» числами, Яаков развлекался в нечастые периоды отдыха. Теперь, в лагере, цифры стали для него верными, испытанными друзьями. Его ум, выстраивая и передвигая их, находил самые разные способы манипулирования числами.
Сначала он просто занимался сложением многозначных величин. Но как запомнить тысячи чисел? Задача оказалась нелегкой, и Трахтенберг придумал элементарный в обращении; понятный каждому метод, который позволяет любому, даже ребенку, безошибочно производить простое арифметическое действие, оперируя цифрами, каждая из которых могла бы занять в карманном блокноте целую строку.
Четыре нескончаемых года, проведенных в аду концентрационного лагеря, Яаков каждую свободную минуту тратил на то, чтобы вернуться к придуманной им математической системе. Он разрабатывал упрощенные методы осуществления математических действий. Когда арифметика начала казаться ему слишком уж «простой», он перешел к алгебре.
Каждый день и для него мог оказаться последним. Но страха он не испытывал. Разрабатывая и совершенствуя созданную им систему, Яаков забывал о своей «физической оболочке» — не ощущал ни голода, ни зловония, не слышал криков, которые доносились из камеры пыток.
Нечеловеческая реальность концентрационного лагеря как будто бы совсем ничего не значила для него. Единственно реальными стали упорядоченные вереницы чисел.
Наступил момент, когда ему понадобились подручные материалы. Яаков подбирал куски оберточной бумаги и мятые, использованные конверты. Порой его поиски увенчивались настоящей удачей — он находил выброшенные в мусор администрацией лагеря бумажные листы с текстами устаревших приказов и совершенно чистой обратной стороной. Кто-то из заключенных сделал ему поистине царский подарок — отдал огрызок чернильного карандаша.
Конечно же, не без труда добытые приобретения были истинной драгоценностью и требовали использования в режиме жесткой экономии. Поэтому разработки теорий Трахтенберг по-прежнему хранил в голове, а на бумагу записывал только завершенные, сложившиеся варианты.
Сегодня, те, кто применяет метод Трахтенберга на практике, считают его очень удобным и легким. Действительно, придуманные узником лагеря приемы позволяют производить промежуточные вычисления в уме, записывая на листе лишь окончательные результаты.
…В один из апрельских дней 1944-го Яаков случайно узнал, что его ждет смертная казнь. Но в лагере, на его счастье, царила полная неразбериха. И вместо этого, его внезапно перевели в другой лагерь, в Лейпциге.
Той же весной Лейпциг нещадно бомбили. В городе началась паника и хаос. Жители Лейпцига остались без еды и отопления. Трахтенберг оказался в мрачном, тесном бараке Лейпцигского концлагеря. В тот же барак то и дело приводили все новых и новых узников. И вскоре народу в нем стало так много, что не было никаких шансов отыскать такое местечко, где можно было бы прилечь. Это право оставалось лишь за умершими, тела которых разлагались здесь же, в бараке, в течение многих дней. Заключенные были слишком слабы, чтобы рыть могилы, охранники — настолько охвачены паникой, что не настаивали на выполнении собственных приказов.
В одну из черных, глухих ночей Яаков решился на побег. Прополз под ограждениями из колючей проволоки и выбрался на свободу. Но куда бежать? Никаких документов у него, разумеется, не было. Первая же случайная проверка и снова — арест. Так и вышло…
Однако побег из Лейпцигского лагеря все же принес ему некую пользу. По счастливому стечению обстоятельств, офицер, которому предстояло теперь решить его судьбу, знал, как выяснилось, о деятельности Трахтенберга. «Войдя в положение», он отправил Яакова в трудовой лагерь в Триесте. И это было заметным улучшением жизненных условий. Его определили на работу в каменоломню. Труд — не из легких. Но погода к тому времени установилась теплая и солнечная, да и охранники здесь не мучили узников.
И все же мысль о побеге прочно засела в голове Трахтенберга. Вторичный побег оказался удачным. Он благополучно пересек немецкую границу и попал в Швейцарию, где его поместили в лагерь для беженцев.
Постепенно силы возвращались к нему. Прошло еще какое-то время, и о том, что он пережил страшные годы неопределенности и отчаяния, внешне напоминала разве что «беспросветная» седина.
Придя в себя, он усовершенствовал свою математическую систему, которая помогла ему пережить годы в аду, а теперь — готовила его к новой жизни.
В 1950 году, Трахтенберг основал в Цюрихе (Швейцария) институт математики, где он обучал своему уникальному математическому методу. День проходил в занятиях с детьми — от семи до восемнадцати лет, вечерами на его уроки собирались взрослые.
http://www.evrey.com/sitep/person/trahtenberg.jpgМатематическая система Яакова Трахтенберга описана в изданной в США книге для детей «Мгновенная математика». Ее автор — журналистка, корреспондент Ассошиэйтед Пресс, Анна Кутлер.
В самом начале 50-х Кутлер по заданию агентства прилетела в Швейцарию. В Цюрихе проходила международная конференция, о которой ей предстояло написать.
— В жизни нередко важные открытия делаются случайно, — рассказывает она о своем знакомстве с Яаковом Трахтенберге. — Если бы мне не попался «нужный» таксист, который вез меня в аэропорт, я, быть может, никогда не узнала бы о существовании этой уникальной математической системы. Но оказалось, что внук этого таксиста учится в школе Трахтенберга, и успехи внука произвели на него такое впечатление, что он, этот таксист, узнав, что я — журналист, несмотря на мои протесты (я боялась опоздать на свой рейс), вознамерился непременно нас познакомить. И настоял на своем. Самолет улетел без меня. Но это меня ничуть не расстроило. Удивительная встреча с гением стоила гораздо большего. Помнится, я была просто потрясена, когда он продемонстрировал, как его ученики нежного возраста производят сложнейшие расчеты, с которыми в состоянии справиться не каждый взрослый, даже с помощью калькулятора…
В Соединенные Штаты мисс Кутлер вернулась страстной поклонницей теорий Трахтенберга и результатов их использования на практике. Издание книги для детей стало лишь началом ее популяризаторской деятельности.
Она обратилась к известному профессору математики Рудольфу МакШэйну и рассказала ему о работе Яакова Трахтенберга. Шэйн «загорелся», высоко оценив остроумные математические решения коллеги.
Вскоре на основе изысканий Трахтенберга профессор Рудольф МакШэйн и журналист Анна Кутлер вместе составили учебник, предназначенный для учителей и учеников старших классов, а также студентов колледжей. Эта книга вышла в свет под названием «Быстрая система элементарной математики Трахтенберга».
Тем временем в Цюрихе Яаков, чтобы доказать, что систему может освоить каждый, начал заниматься с больным десятилетним ребенком. Его «умственную отсталость» зафиксировали врачи. В ходе этой работы выяснилось, что система имеет весьма неожиданные «побочные» свойства. Мальчик не только научился быстро производить сложнейшие вычисления, но и значительно повысил свой коэффициент умственного развития. Оказалось, что процессы, которые происходят в мозге человека, когда он делает расчеты в уме (это — один из неотъемлемых элементов системы Трахтенберга) заметно улучшают память и способность концентрироваться.
Сегодня многие медики пропагандируют систему Трахтенберга, рекомендуя пожилым пациентам тренировать ум и память, чтобы предотвратить нежелательные эффекты, которые возникают обычно в процессе старения.
Швейцария, известная своей деловой хваткой, давно признала уникальность и совершенство системы Трахтенберга. Его разработки широко используются в деятельности банков, больших компаний и налоговых управлений. Яаков Трахтенберг умер в 1953 году.
Арнольд Файн

|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Богатые и жадные |
 Исследования в США свидетельствуют: каждый четвертый американский миллионер носит ботинки не дороже 100 долларов, каждый десятый заплатил за свой костюм максимум 200 долларов. Лишь 50 процентов миллионеров согласны купить часы дороже 240 долларов, и только треть богатеев ездит на машине, которой еще нет 3 лет…
Исследования в США свидетельствуют: каждый четвертый американский миллионер носит ботинки не дороже 100 долларов, каждый десятый заплатил за свой костюм максимум 200 долларов. Лишь 50 процентов миллионеров согласны купить часы дороже 240 долларов, и только треть богатеев ездит на машине, которой еще нет 3 лет…Мать пожалела денег на ногу сына
Одной из самых больших скряг в мире была Генриетта Хоуленд Грин — гениальная американская финансистка 20-го века. Женщина, оставившая после своей смерти в 1916 году больше 100 миллионов долларов (примерно 20 миллиардов сегодня), подогревала овсянку на батарее, так как считала, что пользоваться плитой накладно. Почти всю жизнь она провела в самых дешевых съемных квартирах, владея целыми кварталами в Чикаго. А однажды потратила целую ночь на поиски почтовой марки за 2 цента.

Но апофеозом «бережливости» стал другой случай: ее сыну ампутировали ногу из-за того, что Генриетта три дня искала бесплатную больницу. В возрасте 82 лет миллионершу хватил удар, когда она узнала, что кухарка «переплатила» за бутылку молока.
А дедушка на жизнь внука
Нефтяной король Джон Пол Гетти, который 30 лет назад со своими 4 миллиардами долларов считался самым богатым человеком на свете, экономил на всем. Например, на своей вилле он установил таксофоны для гостей, чтобы не платить за их разговоры.

Когда в 1973 году похитили его внука Джона, дедушка отказался выплачивать выкуп в 17 миллионов. Сжалился он только тогда, когда ему прислали конверт с отрезанным кусочком уха Джона. Но даже тут Гетти сэкономил. Он отдал лишь 2,7 млн долларов.
Финансист живет в хрущевке
Второй в списке «Форбса» богач — американский финансист Уоррен Баффет (состояние — 44 миллиарда долларов) — по Уолл-стрит разъезжает на непрестижной в его кругу и далеко не новой машине Lincoln Towncar с номерным знаком THRIFTY, что означает «бережливый». Да и малогабаритную квартирку, купленную еще 40 лет назад всего лишь за 30 тысяч долларов, менять пока не спешит.

Баффет непритязателен в жизни, избегает предметов роскоши, за исключением только частного самолета. К примеру, питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он ее купил.
Скромная \" Нива\"
На старенькой Morris Minor долгое время ездил богатый скандинав — основатель компании по производству упаковочных материалов Tetra Pak Ханс Раусинг.

Однако пару лет назад миллиардер (состояние свыше 8 млрд. долларов) решил сменить авто. И приобрел… 12-летнюю российскую «Ниву». Кстати, Раусинг прославился еще и тем, что всегда жестко торгуется в магазинах.
Бизнес на одноклассниках
Свою первую крону основатель компании IKEA и самый богатый швед Ингвар Кампрад (его состояние оценивается в 28 миллиардов долларов) начал в начальных классах школы. Закупая оптом карандаши и ластики, будущий мебельный магнат продавал их втридорога одноклассникам. А деньги копил.

Он известен тем, что даже сейчас питается в дешевых ресторанах, летает эконом-классом, ездит на автобусе и останавливается в трехзвездочных гостиницах. А отпуск проводит с удочкой на берегу какой-нибудь речушки в родной Швеции.
От своих подчиненных Ингвар требует использовать обе стороны листа бумаги. Вся мебель в его доме из магазина IKEA, за исключением «старого кресла и прекрасных стоячих часов». Более того, Ингвар 32 года пользуется одним и тем же креслом: «Я пользуюсь им 32 года. Жена считает, что мне нужно новое, потому что материал загрязнился. Но в остальном оно не хуже нового»
Все виртуальное
Основатель одного из самых популярных интернет-поисковиков Google, наш бывший соотечественник, а ныне гражданин США 33-летний Сергей Брин, заработал около 11 миллиардов долларов. Но живет в небольшой трехкомнатной квартире, сидит за рулем недорогой «Тойоты». И это при том, что Google получает деньги за каждый заход на рекламную ссылку.

У «неправильного миллиардера» нет ни яхт, ни вилл. У него даже нет спортивного супер-автомобиля. По слухам, Сергей ездит на «Приусе», неброской, но экологически продвинутой Toyota, работающей не только на бензине, но и на электричестве.
На работу, как и многие другие директора Google, он нередко ездит на роликах, а во время перерывов играет на автостоянке в роликовый хоккей. Говорят, он еще частенько посещает многочисленные русские рестораны Сан-Франциско, в частности, «Катину чайную».
Жадные звезды
Миллионные доходы не мешают некоторым звездам шоу-бизнеса быть весьма осторожными во всем, что касается повседневных расходов. Так, прекрасную половину звездной пары Бекхэмов, в прошлом солистку поп-группы Spice Girls Викторию Бекхэм, не раз видели в трамвае, направлявшемся в сторону стадиона в Манчестере, где тогда играл ее муж.

Известно, что госпожа Бекхэм, личное состояние которой составляет $18 млн., питает слабость к дешевому немецкому вину Blue Nun, которое она регулярно покупает в местном супермаркете, а повседневную одежду приобретает не у Christian Dior или Versace, а в дисконтном магазине Matalan и считает своим любимым магазином одежды далеко не самый фешенебельный Top Shop.
Известный кинорежиссер Майкл Уиннер, которому успешная коммерческая деятельность принесла $72 млн., иногда позволяет себе бутылку вина за $6 тыс., что не мешает ему несколько раз использовать старые почтовые конверты и резать пополам тюбики с зубной пастой, чтобы не пропало ни капли ценного продукта.

Звезда эстрады Мадонна, заработавшая за свою блистательную карьеру $150 млн., тоже привыкла считать каждую копейку. Она регулярно проверяла телефонные счета, приходящие в ее особняк в Кенсингтоне, и вычитает из зарплаты прислуги плату за телефонные разговоры.
Имидж ничто — жажда все!
Несколько лет назад британского миллионера Николаса фон Хоогстратена (состояние около 800 миллионов долларов) посадили на десять лет за убийство компаньона. А полицейские, делавшие в доме Хоогстратена обыск, рассказали газетчикам о необычной находке.

На кухне богача обнаружили залежи использованных пакетиков чая. Он их высушивал, а затем заваривал чай по новой. Через год, правда, миллионера выпустили. Однако мнение о нем как о жутком скупердяе если и изменится, то не скоро.
Замуж хоть за собаку
23-летняя американская актриса Уэнди Доркас выскочила замуж за кинорежиссера-миллионера Роджера Доркаса. Он был старше Уэнди почти в три раза, и актриса рассчитывала, что со временем миллионы муженька перекочуют на ее счет.
Через год семейной жизни Роджер скоропостижно скончался. Но когда адвокаты огласили его завещание, Уэнди не пришла в ярость: ей достался в наследство… 1 цент. Все остальное (а это 64 миллиона долларов) режиссер завещал… своему псу Максимилиану.

Суд принял сторону собаки, но актриса нашла способ оставить миллионы себе — она… вышла замуж за Максимилиана. Оказалось, что когда Доркас открывал счет на собаку, ему пришлось оформить кобеля как гражданина США, чтобы выплатить необходимые налоги. Брак актрисы с собакой даже зарегистрировали — бумаги-то у пса были в порядке. И когда Максимилиан околел, «вдова» унаследовала все его богатства…
|
|
Понравилось: 2 пользователям
О контрафакте. |
Закон есть закон.За всё надо платить.Пытаюсь скачивать литературные творения современников и регулярно получаю предложение купить в бумажном виде или оплатить как-нибудь виртуально.
Книги ставить некуда,платить за скачивание обидно,ибо неизвестно,кот ли в мешке или какая-нибудь гадость.А вот классика открывается беспрекословно.Почитал Бунина,Брехта,Лескова.Перечитываю Л.Н.Толстого.На столе Гонкуры, Барбюс,Леонов.Очень верно говорили древние:"Sapiens sempere beata est".И всё же жаль,что кончается халява.
Книги ставить некуда,платить за скачивание обидно,ибо неизвестно,кот ли в мешке или какая-нибудь гадость.А вот классика открывается беспрекословно.Почитал Бунина,Брехта,Лескова.Перечитываю Л.Н.Толстого.На столе Гонкуры, Барбюс,Леонов.Очень верно говорили древние:"Sapiens sempere beata est".И всё же жаль,что кончается халява.
|
|
Погода! Погода! |
Какая была самая популярная песня среди советских людей? Вы не поверите, если я скажу, что это был хит французской актрисы Мари Лафоре «Манчесте и Ливерпуль»! Правда мы тогда не знали, что это так называется, а о Мари Лафоре слышали краем уха, и далеко не все.
Но музыку знали все, поголовно, начиная от детсадовцев и кончая пенсионерами. Не могли не знать. Ведь именно эта мелодия звучала под показ прогноза погоды в программе «Время».
С 1968 по 1981 год!
Каждый день!
13 лет!
И еще потом, во время перестройки.
-- Же тэм! Же тэм! – напевала Мари Лафоре…
-- Погода! Погода! – в унисон ей напевал весь советский народ.
Как так получилось? Да очень просто!
Певец Юрий Визбор услышал песню Мари Лафоре и написал к музыке свои слова:
Вот и снова пал туман на полосу аэродрома
И алмазинки дождя на крыльях вогнутых дрожат.
Ах, как это грустно все,
Как это все давно знакомо,
А по радио твердят, что здесь никто не виноват.
Припев: Погода, погода, с заката, с восхода
Тянется погода, погода - циклон свиданий и разлук.
Песня Юрия Визбора о погоде
Песенка о погоде быстро стала популярной, и кто-то из редакторов программы время, когда встал вопрос о музыкальной заставке, взял для нее «музыку из песни Визбора про погоду».
Но вот ведь какое дело, музыка-то звучала по телевизору без слов. А про Визбора, и тем более про Мари Лафоре слышали далеко не все.
Вот и стали появляться народные слова на популярную погодную мелодию.
А потом и профессиональные поэты подтянулись. Тот же Роберт Рождественский, например…
Я прошу тебя простить – Роберт Рождественский
Взято с сайта: My Lovely Songs
Но музыку знали все, поголовно, начиная от детсадовцев и кончая пенсионерами. Не могли не знать. Ведь именно эта мелодия звучала под показ прогноза погоды в программе «Время».
С 1968 по 1981 год!
Каждый день!
13 лет!
И еще потом, во время перестройки.
-- Же тэм! Же тэм! – напевала Мари Лафоре…
-- Погода! Погода! – в унисон ей напевал весь советский народ.
Как так получилось? Да очень просто!
Певец Юрий Визбор услышал песню Мари Лафоре и написал к музыке свои слова:
Вот и снова пал туман на полосу аэродрома
И алмазинки дождя на крыльях вогнутых дрожат.
Ах, как это грустно все,
Как это все давно знакомо,
А по радио твердят, что здесь никто не виноват.
Припев: Погода, погода, с заката, с восхода
Тянется погода, погода - циклон свиданий и разлук.
Песня Юрия Визбора о погоде
Песенка о погоде быстро стала популярной, и кто-то из редакторов программы время, когда встал вопрос о музыкальной заставке, взял для нее «музыку из песни Визбора про погоду».
Но вот ведь какое дело, музыка-то звучала по телевизору без слов. А про Визбора, и тем более про Мари Лафоре слышали далеко не все.
Вот и стали появляться народные слова на популярную погодную мелодию.
А потом и профессиональные поэты подтянулись. Тот же Роберт Рождественский, например…
Я прошу тебя простить – Роберт Рождественский
Взято с сайта: My Lovely Songs
![]() Вложение: 4172752_manchester_i_liverpul.mp4
Вложение: 4172752_manchester_i_liverpul.mp4
|
|
Без заголовка |
Добровольный крест - Татьяна Григорьевна Гнедич
Она переводила «Дон Жуана» Байрона по памяти во внутренней тюрьме Большого дома в Ленинграде
24.08.2011
Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: «Автора!» В другом конце зала раздался смех. Он меня обидел, нетрудно было догадаться, почему засмеялись: шел «Дон Жуан» Байрона. Публика, однако, поняла смысл возгласа, и другие закричали: «Автора!».
Николай Павлович Акимов вышел на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку Воропаеву, который играл заглавного героя, и подступил к самому краю подмостков. Ему навстречу встала женщина в длинном черном платье, похожем на монашеское одеяние, — она сидела в первом ряду и теперь, повинуясь жесту Акимова, поднялась на сцену и стала рядом с ним; сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сторону.
Аплодисменты усилились, несколько зрителей встали, и вслед за ними поднялся весь партер — хлопали стоя. Вдруг, мгновенно, воцарилась тишина: зал увидел, как женщина в черном, покачнувшись, стала опускаться — если бы Акимов ее не поддержал, она бы упала. Ее унесли — это был инфаркт.
Догадывалась ли публика, собравшаяся на генеральную репетицию акимовского спектакля «Дон Жуан», о происхождении пьесы? Был ли возглас «Автора!» всего лишь непосредственной эмоциональной репликой или женщина, первой выкрикнувшая это многозначительное слово, знала историю, которую я собираюсь рассказать?
Татьяна Григорьевна Гнедич, праправнучатая племянница переводчика «Илиады», училась в начале тридцатых годов в аспирантуре филологического факультета Ленинградского университета; занималась она английской литературой XVII века и была ею настолько увлечена, что ничего не замечала вокруг. А в это время происходили чистки, из университета прогоняли «врагов»; вчера формалистов, сегодня вульгарных социологов, и всегда — дворян, буржуазных интеллигентов, уклонистов и воображаемых троцкистов. Татьяна Гнедич с головой уходила в творчество елизаветинских поэтов, ни о чем ином знать не желая.
Ее, однако, вернули к реальности, на каком-то собрании обвинив в том, что она скрывает свое дворянское происхождение. На собрании ее, конечно, не было — узнав о нем, она громко выразила недоумение: могла ли она скрывать свое дворянство? Ведь ее фамилия Гнедич; с допушкинских времен известно, что Гнедичи — дворяне старинного рода. Тогда ее исключили из университета за то, что она «кичится дворянским происхождением».
Действительность была абсурдна и не скрывала этого. Единственным оружием в руках ее жертв — в сущности, беспомощных — был именно этот абсурд; он мог погубить, но мог, если повезет, спасти.
Татьяна Гнедич где-то сумела доказать, что эти два обвинения взаимоисключающие — она не скрывала и не кичилась; ее восстановили. Она преподавала, переводила английских поэтов, писала стихи акмеистического толка, даже стала переводить русских поэтов на английский.
Мы жили с нею в одном доме — это был знаменитый в Петербурге, потом Петрограде и Ленинграде дом «собственных квартир» на Каменноостровском (позднее — Кировском) проспекте, 73/75. В этом огромном здании, облицованном гранитом и возвышавшемся у самых Островов, жили видные деятели российской культуры: историк Н.Ф. Платонов, литературовед В.А. Десницкий, поэт и переводчик М.Л. Лозинский.
Случилось так, что я в этом доме родился — мой отец владел в нем квартирой № 2, но позднее я оказался в нем случайно; нам, только что поженившимся, досталась на время комната отчима моей молодой жены — в большой коммунальной квартире.
Татьяна Григорьевна Гнедич жила вдвоем с матерью в еще более коммунальной квартире, по другой лестнице — в комнате, пропахшей нафталином и, кажется, лавандой, заваленной книгами и старинными фотографиями, уставленной ветхой, покрытой самоткаными ковриками мебелью. Сюда я приходил заниматься с Татьяной Григорьевной английским; в обмен я читал с ней французские стихи, которые, впрочем, она и без моей помощи понимала вполне хорошо.
Началась война. Я окончил университет, мы с женой уехали в город Киров, а потом — в армию, на Карельский фронт. О Гнедич мы знали, что перед самой войной она вместе с матерью переехала в деревянный особнячок на Каменном Острове. Потом, уже на фронте, нам стало известно, что в блокаду умерла ее мать, дом сгорел, она оказалась переводчицей в армии, в Штабе партизанского движения.
Иногда от нее приходили письма — часто стихи, потом она исчезла. Исчезла надолго. Никаких сведений ниоткуда не поступало. Я пытался наводить справки — Татьяна Гнедич как сквозь землю провалилась.
После войны мы с женой оказались в той же квартире, в доме 73/75. Прежнего населения не осталось: почти все умерли в блокаду. Лишь изредка встречались чудом уцелевшие старорежимные дамы в шляпках с вуалью.
Однажды — дело было, кажется, в 1948 году — за мной пришли из квартиры 24; просил зайти Лозинский. Такое случалось редко — я побежал. Михаил Леонидович усадил меня рядом, на диванчик и, старательно понижая свой низкий голос, прохрипел: «Мне прислали из Большого дома рукопись Татьяны Григорьевны Гнедич. Помните ли вы ее?»
Из Большого дома, с Литейного, из государственной безопасности? (Лозинский по старой памяти говорил то ЧК, то ГПУ.) Что же это? Чего они хотят от вас? «Это, — продолжал Лозинский, — перевод поэмы Байрона «Дон Жуан». Полный перевод. Понимаете? Полный. Октавами, прекрасными классическими октавами. Все семнадцать тысяч строк. Огромный том первоклассных стихов. И знаете, зачем они прислали? На отзыв. Большому дому понадобился мой отзыв на перевод «Дон Жуана» Байрона».
Как это понять? Я был не менее ошеломлен, чем Лозинский, — возможно, даже более; ведь мы не знали, что Гнедич арестована. За что? В те годы «за что» не спрашивали; если уж произносили такие слова, то предваряли их иронической оговоркой: «Вопрос идиота — за что?»
И откуда взялся «Дон Жуан»? Перевод Гнедич и в самом деле был феноменален. Это я понял, когда Лозинский, обычно сдержанный, вполголоса, с затаенным восторгом прочел несколько октав — комментируя их, он вспоминал два предшествующих образца: пушкинский «Домик в Коломне» и «Сон Попова» Алексея Толстого.
И повторял: «Но ведь тут — семнадцать тысяч таких строк, это ведь более двух тысяч таких октав… И какая легкость, какое изящество, свобода и точность рифм, блеск остроумия, изысканность эротических перифраз, быстрота речи…» Отзыв он написал, но я его не видел; может быть, его удастся разыскать в архивах КГБ.
Прошло восемь лет. Мы уже давно жили в другой коммунальной квартире, недалеко от прежней — на Кировском, 59. Однажды раздалось три звонка — это было к нам; за дверью стояла Татьяна Григорьевна Гнедич, еще более старообразная, чем прежде, в ватнике, с узелком в руке.
Она возвращалась из лагеря, где провела восемь лет. В поезде по пути в Ленинград она читала «Литературную газету», увидела мою статью «Многоликий классик» — о новом однотомнике Байрона, переведенном разными, непохожими друг на друга поэтами, — вспомнила прошлое и, узнав наш новый адрес на прежней квартире, пришла к нам.
Жить ей было негде, она осталась в нашей комнате. Нас было уже четверо, а с домработницей Галей, для которой мы соорудили полати, пятеро.
Когда я повесил ватник в общей прихожей, многочисленные жильцы квартиры подняли скандал: смрад, исходивший от него, был невыносим; да и то сказать — «фуфайка», как называла этот предмет Татьяна Григорьевна, впитала в себя тюремные запахи от Ленинграда до Воркуты. Пришлось ее выбросить; другой не было, купить было нечего, и мы выходили из дому по очереди.
Татьяна Григорьевна все больше сидела за машинкой: перепечатывала своего «Дон Жуана». Вот как он возник. Гнедич арестовали перед самым концом войны, в 1945 году. По ее словам, она сама подала на себя донос. То, что она рассказала, мало правдоподобно, однако могло быть следствием своеобразного военного психоза: будто бы она, в то время кандидат партии (в Штабе партизанского движения это было необходимым условием), принесла в партийный комитет свою кандидатскую карточку и оставила ее, заявив, что не имеет морального права на партийность после того, что совершила. Ее арестовали.
Следователи добивались ее признания — что она имела в виду? Ее объяснениям они не верили (я бы тоже не поверил, если бы не знал, что она обладала чертами юродивой).
Будто бы она по просьбе какого-то английского дипломата перевела для публикации в Лондоне поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан» — английскими октавами. Он, прочитав, сказал: «Вот бы вам поработать у нас — как много вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!» Его слова произвели на нее впечатление, идея поездки в Великобританию засела в ее сознании, но она сочла ее предательством. И отдала кандидатскую карточку.
Понятно, следствие не верило этому дикому признанию, но других обвинений не рождалось. Ее судили — в ту пору было уже принято «судить» — и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению «в измене советской родине» — девятнадцатая статья, означавшая неосуществленное намерение.
После суда она сидела на Шпалерной, в общей камере, довольно многолюдной, и ожидала отправки в лагерь. Однажды ее вызвал к себе последний из ее следователей и спросил: «Почему вы не пользуетесь библиотекой? У нас много книг, вы имеете право…» Гнедич ответила: «Я занята, мне некогда». — «Некогда? — переспросил он, не слишком, впрочем, удивляясь (он уже понял, что его подопечная отличается, мягко говоря, странностями). — Чем же вы так заняты?» — «Перевожу. — И уточнила: — Поэму Байрона».
Следователь оказался грамотным; он знал, что собой представляет «Дон Жуан». «У вас есть книга?» — спросил он. Гнедич ответила: «Я перевожу наизусть». Он удивился еще больше: «Как же вы запоминаете окончательный вариант?» — спросил он, проявив неожиданное понимание сути дела. «Вы правы, — сказала Гнедич, — это и есть самое трудное. Если бы я могла, наконец, записать то, что уже сделано… К тому же я подхожу к концу. Больше не помню».
Следователь дал Гнедич листок бумаги и сказал: «Напишите здесь все, что вы перевели, — завтра погляжу». Она не решилась попросить побольше бумаги и села писать. Когда он утром вернулся к себе в кабинет, Гнедич еще писала; рядом с ней сидел разъяренный конвоир. Следователь посмотрел: прочесть ничего нельзя; буквы меньше булавочной головки, октава занимает от силы квадратный сантиметр. «Читайте вслух!» — распорядился он. Это была девятая песнь — о Екатерине Второй. Следователь долго слушал, по временам смеялся, не верил ушам, да и глазам не верил; листок c шапкой «Показания обвиняемого» был заполнен с обеих сторон мельчайшими квадратиками строф, которые и в лупу нельзя было прочесть.
Он прервал чтение: «Да вам за это надо дать Сталинскую премию!» — воскликнул он; других критериев у него не было. Гнедич горестно пошутила в ответ: «Ее вы мне уже дали». Она редко позволяла себе такие шутки. Чтение длилось довольно долго — Гнедич уместила на листке не менее тысячи строк, то есть 120 октав. «Могу ли чем-нибудь вам помочь?» — спросил следователь. «Вы можете — только вы!» — ответила Гнедич. Ей нужны: книга Байрона (она назвала издание, которое казалось ей наиболее надежным и содержало комментарии), словарь Вебстера, бумага, карандаш ну и, конечно, одиночная камера.
Через несколько дней следователь обошел с ней внутреннюю тюрьму ГБ при Большом доме, нашел камеру чуть посветлее других; туда принесли стол и то, что она просила. В этой камере Татьяна Григорьевна провела два года. Редко ходила гулять, ничего не читала — жила стихами Байрона. Рассказывая мне об этих месяцах, она сказала, что постоянно твердила про себя строки Пушкина, обращенные к ее далекому предку, Николаю Ивановичу Гнедичу:
С Гомером долго ты беседовал один Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали…
Он «беседовал один» с Гомером, она — с Байроном.
Два года спустя Татьяна Гнедич, подобно Николаю Гнедичу, сошла «с таинственных вершин» и вынесла «свои скрижали». Только ее «таинственные вершины» были тюремной камерой, оборудованной зловонной парашей и оконным «намордником», который заслонял небо, перекрывая дневной свет. Никто ей не мешал — только время от времени, когда она ходила из угла в угол камеры в поисках рифмы, надзиратель с грохотом открывал дверь и рявкал: «Тебе писать велено, а ты тут гуляешь!»
Два года тянулись ее беседы с Байроном. Когда была поставлена последняя точка в конце семнадцатой песни, она дала знать следователю, что работа кончена. Он вызвал ее, взял гору листочков и предупредил, что в лагерь она поедет только после того, как рукопись будет перепечатана. Тюремная машинистка долго с нею возилась. Наконец, следователь дал Гнедич выправить три экземпляра — один положил в сейф, другой вручил ей вместе с охранной грамотой, а насчет третьего спросил, кому послать на отзыв. Тогда-то Гнедич и назвала М.Л. Лозинского.
Она уехала этапом в лагерь, где провела — от звонка до звонка — оставшиеся восемь лет. С рукописью «Дон Жуана» не расставалась; нередко драгоценные страницы подвергались опасности: «Опять ты шуршишь, спать не даешь? — орали соседки по нарам. — Убери свои сраные бумажки…» Она сберегла их до возвращения — до того дня, когда села у нас на Кировском за машинку и стала перепечатывать «Дон Жуана». За восемь лет накопилось множество изменений. К тому же от прошедшей тюрьму и лагеря рукописи шел такой же смрад, как и от «фуфайки».
В Союзе писателей состоялся творческий вечер Т.Г. Гнедич — она читала отрывки из «Дон Жуана». Перевод был оценен по заслугам. Гнедич особенно гордилась щедрыми похвалами нескольких мастеров, мнение которых ставила очень высоко: Эльги Львовны Линецкой, Владимира Ефимовича Шора, Елизаветы Григорьевны Полонской.
Прошло года полтора, издательство «Художественная литература» выпустило «Дон Жуана» с предисловием Н.Я. Дьяконовой тиражом сто тысяч экземпляров. Сто тысяч!
Могла ли мечтать об этом арестантка Гнедич, два года делившая одиночную камеру с тюремными крысами?
В то лето мы жили в деревне Сиверская, на реке Оредеж. Там же, поблизости от нас, мы сняли комнату Татьяне Григорьевне. Проходя мимо станции, я случайно встретил ее: она сходила с поезда, волоча на спине огромный мешок. Я бросился ей помочь, но она сказала, что мешок очень легкий — в самом деле, он как бы ничего не весил. В нем оказались игрушки из целлулоида и картона — для всех соседских детей.
Татьяна Григорьевна получила гонорар за «Дон Жуана» — много денег: 17 тысяч рублей да еще большие «потиражные». Впервые за много лет она купила себе необходимое и другим подарки. У нее ведь не было ничего: ни авторучки, ни часов, ни даже целых очков. На подаренном мне экземпляре стоит № 2. Кому же достался первый экземпляр? Никому. Он был предназначен для следователя, но Гнедич, несмотря на все усилия, своего благодетеля не нашла. Вероятно, он был слишком интеллигентным и либеральным человеком; судя по всему, органы пустили его в расход.…
Режиссер и художник Акимов на отдыхе прочитал «Дон Жуана», пришел в восторг, пригласил к себе Гнедич и предложил ей свое соавторство; вдвоем они превратили поэму в театральное представление. Их дружба породила еще одно незаурядное произведение искусства: портрет Т.Г. Гнедич, написанный Н.П. Акимовым, — из лучших в портретной серии современников, созданной им.
Спектакль, поставленный и оформленный Акимовым в руководимом им ленинградском Театре комедии, имел большой успех, он держался на сцене несколько лет. Первое представление, о котором шла речь в самом начале, окончилось триумфом Татьяны Гнедич. К тому времени тираж двух изданий «Дон Жуана» достиг ста пятидесяти тысяч, уже появилось новое издание книги К.И. Чуковского «Высокое искусство», в котором перевод «Дон Жуана» оценивался как одно из лучших достижений современного поэтического перевода, уже вышла в свет и моя книга «Поэзия и перевод», где бегло излагалась история перевода, причисленного мною к шедеврам переводческого искусства.
И все же именно тот момент, когда поднявшиеся с мест семьсот зрителей в Театре комедии единодушно благодарили вызванного на сцену автора, — именно этот момент стал апофеозом жизни Татьяны Григорьевны Гнедич.
После возвращения на волю она прожила тридцать лет. Казалось бы, все наладилось. Даже семья появилась: Татьяна Григорьевна привезла из лагеря старушку, которая, поселившись вместе с ней, играла роль матери. И еще она привезла мастера на все руки «Егория» — он был как бы мужем. Несколько лет спустя она усыновила Толю — мальчика, сохранившего верность своей приемной матери. Благодаря ее заботам он, окончив университет, стал филологом-итальянистом.
«Казалось бы, все наладилось», — оговорился я. На самом деле «лагерная мама», Анастасия Дмитриевна, оказалась ворчуньей, постоянно впадавшей в черную мрачность; «лагерный муж», водопроводчик Георгий Павлович («Егорий») — тяжелым алкоголиком и необузданным сквернословом.
Внешне Татьяна Григорьевна цивилизовала его — например, научила заменять излюбленное короткое слово именем древнегреческого бога, и теперь он говорил, обращаясь к приходившим в дом ученикам своей супруги и показывая на нее: «Выпьем, ребята? А что она не велит, так Феб с ней!»
В литературе «мама» и «муж» ничего не понимали, да и не хотели и не могли понимать. Зато Егорий под руководством супруги украшал новогоднюю елку хитроумными игрушечными механизмами собственной конструкции.
Случалось, что он поколачивал жену. Когда я спросил, не боится ли она худшего, Татьяна Григорьевна рассудительно ответила: «Кто же убивает курицу, несущую золотые яйца?»
Жила Татьяна Григорьевна последние десятилетия, как ей всегда мечталось: в Павловске, на краю парка, поблизости от любимого ею Царского Села — она посвятила ему немало стихотворений, оставшихся неопубликованными, как большая часть ее стихов:
Как хорошо, что парк хотя бы цел,
Что жив прекрасный контур Эрмитажа,
Что сон его колонн все так же бел,
И красота капризных линий та же…
Как хорошо, что мы сидим вдвоем
Под сенью лип, для каждого священной,
Что мы молчим и воду Леты пьем
Из чистой чаши мысли вдохновенной…
20 августа 1955 г.
Г. Пушкин
Ефим Эткинд
Об авторе
Ефим Григорьевич Эткинд (26 февраля 1918 г., Петроград — 22 ноября 1999 г., Потсдам) — советский и российский филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, теоретик перевода. В 1960—1970 годах — диссидент.
Мать — певица, отец — коммерсант, несколько раз подвергался репрессиям, погиб в годы Большого террора.
Ефим Григорьевич окончил Ленинградский государственный университет (1941). В 1942-м ушел в армию добровольцем, был военным переводчиком. После войны защитил диссертацию по творчеству Золя, преподавал в 1-м Ленинградском педагогическом институте иностранных языков. В 1949-м был «за методологические ошибки» уволен в ходе развязанной властями кампании по борьбе с космополитизмом, уехал в Тулу, где преподавал в педагогическом институте.
С 1952-го — снова в Ленинграде. Доктор филологических наук (1965), профессор (1967) Ленинградского педагогического института им. Герцена. В 1964-м выступил свидетелем защиты Иосифа Бродского на суде, суд вынес в его адрес частное определение, после чего Эткинд получил взыскание Ленинградского отделения Союза писателей СССР (член СП с 1956-го). Позднее открыто поддерживал А.И. Солженицына, помогал ему в работе, встречался и переписывался с А.Д. Сахаровым. Несколько статей и переводов Эткинда распространялись в самиздате.
В 1972—1973-м участвовал в подготовке самиздатского собрания сочинений И. Бродского. В 1974 году был исключен из Союза писателей, лишен академических званий, был вынужден эмигрировать во Францию. Поселился в Париже, был профессором Х Парижского университета (Нантерр, 1974—1986). В годы перестройки Е.Г. Эткинду были возвращены академические звания, он постоянно приезжал в Россию, печатался в российской прессе.
Статью «Добровольный крест» Ефим Григорьевич передал в московско-петербургский журнал «Русская виза», где она и была опубликована в 1994 году. К сожалению, большая часть тиража этого последнего номера «Русской визы» была уничтожена наводнением в Питере.
Она переводила «Дон Жуана» Байрона по памяти во внутренней тюрьме Большого дома в Ленинграде
24.08.2011
Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: «Автора!» В другом конце зала раздался смех. Он меня обидел, нетрудно было догадаться, почему засмеялись: шел «Дон Жуан» Байрона. Публика, однако, поняла смысл возгласа, и другие закричали: «Автора!».
Николай Павлович Акимов вышел на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку Воропаеву, который играл заглавного героя, и подступил к самому краю подмостков. Ему навстречу встала женщина в длинном черном платье, похожем на монашеское одеяние, — она сидела в первом ряду и теперь, повинуясь жесту Акимова, поднялась на сцену и стала рядом с ним; сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сторону.
Аплодисменты усилились, несколько зрителей встали, и вслед за ними поднялся весь партер — хлопали стоя. Вдруг, мгновенно, воцарилась тишина: зал увидел, как женщина в черном, покачнувшись, стала опускаться — если бы Акимов ее не поддержал, она бы упала. Ее унесли — это был инфаркт.
Догадывалась ли публика, собравшаяся на генеральную репетицию акимовского спектакля «Дон Жуан», о происхождении пьесы? Был ли возглас «Автора!» всего лишь непосредственной эмоциональной репликой или женщина, первой выкрикнувшая это многозначительное слово, знала историю, которую я собираюсь рассказать?
Татьяна Григорьевна Гнедич, праправнучатая племянница переводчика «Илиады», училась в начале тридцатых годов в аспирантуре филологического факультета Ленинградского университета; занималась она английской литературой XVII века и была ею настолько увлечена, что ничего не замечала вокруг. А в это время происходили чистки, из университета прогоняли «врагов»; вчера формалистов, сегодня вульгарных социологов, и всегда — дворян, буржуазных интеллигентов, уклонистов и воображаемых троцкистов. Татьяна Гнедич с головой уходила в творчество елизаветинских поэтов, ни о чем ином знать не желая.
Ее, однако, вернули к реальности, на каком-то собрании обвинив в том, что она скрывает свое дворянское происхождение. На собрании ее, конечно, не было — узнав о нем, она громко выразила недоумение: могла ли она скрывать свое дворянство? Ведь ее фамилия Гнедич; с допушкинских времен известно, что Гнедичи — дворяне старинного рода. Тогда ее исключили из университета за то, что она «кичится дворянским происхождением».
Действительность была абсурдна и не скрывала этого. Единственным оружием в руках ее жертв — в сущности, беспомощных — был именно этот абсурд; он мог погубить, но мог, если повезет, спасти.
Татьяна Гнедич где-то сумела доказать, что эти два обвинения взаимоисключающие — она не скрывала и не кичилась; ее восстановили. Она преподавала, переводила английских поэтов, писала стихи акмеистического толка, даже стала переводить русских поэтов на английский.
Мы жили с нею в одном доме — это был знаменитый в Петербурге, потом Петрограде и Ленинграде дом «собственных квартир» на Каменноостровском (позднее — Кировском) проспекте, 73/75. В этом огромном здании, облицованном гранитом и возвышавшемся у самых Островов, жили видные деятели российской культуры: историк Н.Ф. Платонов, литературовед В.А. Десницкий, поэт и переводчик М.Л. Лозинский.
Случилось так, что я в этом доме родился — мой отец владел в нем квартирой № 2, но позднее я оказался в нем случайно; нам, только что поженившимся, досталась на время комната отчима моей молодой жены — в большой коммунальной квартире.
Татьяна Григорьевна Гнедич жила вдвоем с матерью в еще более коммунальной квартире, по другой лестнице — в комнате, пропахшей нафталином и, кажется, лавандой, заваленной книгами и старинными фотографиями, уставленной ветхой, покрытой самоткаными ковриками мебелью. Сюда я приходил заниматься с Татьяной Григорьевной английским; в обмен я читал с ней французские стихи, которые, впрочем, она и без моей помощи понимала вполне хорошо.
Началась война. Я окончил университет, мы с женой уехали в город Киров, а потом — в армию, на Карельский фронт. О Гнедич мы знали, что перед самой войной она вместе с матерью переехала в деревянный особнячок на Каменном Острове. Потом, уже на фронте, нам стало известно, что в блокаду умерла ее мать, дом сгорел, она оказалась переводчицей в армии, в Штабе партизанского движения.
Иногда от нее приходили письма — часто стихи, потом она исчезла. Исчезла надолго. Никаких сведений ниоткуда не поступало. Я пытался наводить справки — Татьяна Гнедич как сквозь землю провалилась.
После войны мы с женой оказались в той же квартире, в доме 73/75. Прежнего населения не осталось: почти все умерли в блокаду. Лишь изредка встречались чудом уцелевшие старорежимные дамы в шляпках с вуалью.
Однажды — дело было, кажется, в 1948 году — за мной пришли из квартиры 24; просил зайти Лозинский. Такое случалось редко — я побежал. Михаил Леонидович усадил меня рядом, на диванчик и, старательно понижая свой низкий голос, прохрипел: «Мне прислали из Большого дома рукопись Татьяны Григорьевны Гнедич. Помните ли вы ее?»
Из Большого дома, с Литейного, из государственной безопасности? (Лозинский по старой памяти говорил то ЧК, то ГПУ.) Что же это? Чего они хотят от вас? «Это, — продолжал Лозинский, — перевод поэмы Байрона «Дон Жуан». Полный перевод. Понимаете? Полный. Октавами, прекрасными классическими октавами. Все семнадцать тысяч строк. Огромный том первоклассных стихов. И знаете, зачем они прислали? На отзыв. Большому дому понадобился мой отзыв на перевод «Дон Жуана» Байрона».
Как это понять? Я был не менее ошеломлен, чем Лозинский, — возможно, даже более; ведь мы не знали, что Гнедич арестована. За что? В те годы «за что» не спрашивали; если уж произносили такие слова, то предваряли их иронической оговоркой: «Вопрос идиота — за что?»
И откуда взялся «Дон Жуан»? Перевод Гнедич и в самом деле был феноменален. Это я понял, когда Лозинский, обычно сдержанный, вполголоса, с затаенным восторгом прочел несколько октав — комментируя их, он вспоминал два предшествующих образца: пушкинский «Домик в Коломне» и «Сон Попова» Алексея Толстого.
И повторял: «Но ведь тут — семнадцать тысяч таких строк, это ведь более двух тысяч таких октав… И какая легкость, какое изящество, свобода и точность рифм, блеск остроумия, изысканность эротических перифраз, быстрота речи…» Отзыв он написал, но я его не видел; может быть, его удастся разыскать в архивах КГБ.
Прошло восемь лет. Мы уже давно жили в другой коммунальной квартире, недалеко от прежней — на Кировском, 59. Однажды раздалось три звонка — это было к нам; за дверью стояла Татьяна Григорьевна Гнедич, еще более старообразная, чем прежде, в ватнике, с узелком в руке.
Она возвращалась из лагеря, где провела восемь лет. В поезде по пути в Ленинград она читала «Литературную газету», увидела мою статью «Многоликий классик» — о новом однотомнике Байрона, переведенном разными, непохожими друг на друга поэтами, — вспомнила прошлое и, узнав наш новый адрес на прежней квартире, пришла к нам.
Жить ей было негде, она осталась в нашей комнате. Нас было уже четверо, а с домработницей Галей, для которой мы соорудили полати, пятеро.
Когда я повесил ватник в общей прихожей, многочисленные жильцы квартиры подняли скандал: смрад, исходивший от него, был невыносим; да и то сказать — «фуфайка», как называла этот предмет Татьяна Григорьевна, впитала в себя тюремные запахи от Ленинграда до Воркуты. Пришлось ее выбросить; другой не было, купить было нечего, и мы выходили из дому по очереди.
Татьяна Григорьевна все больше сидела за машинкой: перепечатывала своего «Дон Жуана». Вот как он возник. Гнедич арестовали перед самым концом войны, в 1945 году. По ее словам, она сама подала на себя донос. То, что она рассказала, мало правдоподобно, однако могло быть следствием своеобразного военного психоза: будто бы она, в то время кандидат партии (в Штабе партизанского движения это было необходимым условием), принесла в партийный комитет свою кандидатскую карточку и оставила ее, заявив, что не имеет морального права на партийность после того, что совершила. Ее арестовали.
Следователи добивались ее признания — что она имела в виду? Ее объяснениям они не верили (я бы тоже не поверил, если бы не знал, что она обладала чертами юродивой).
Будто бы она по просьбе какого-то английского дипломата перевела для публикации в Лондоне поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан» — английскими октавами. Он, прочитав, сказал: «Вот бы вам поработать у нас — как много вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!» Его слова произвели на нее впечатление, идея поездки в Великобританию засела в ее сознании, но она сочла ее предательством. И отдала кандидатскую карточку.
Понятно, следствие не верило этому дикому признанию, но других обвинений не рождалось. Ее судили — в ту пору было уже принято «судить» — и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению «в измене советской родине» — девятнадцатая статья, означавшая неосуществленное намерение.
После суда она сидела на Шпалерной, в общей камере, довольно многолюдной, и ожидала отправки в лагерь. Однажды ее вызвал к себе последний из ее следователей и спросил: «Почему вы не пользуетесь библиотекой? У нас много книг, вы имеете право…» Гнедич ответила: «Я занята, мне некогда». — «Некогда? — переспросил он, не слишком, впрочем, удивляясь (он уже понял, что его подопечная отличается, мягко говоря, странностями). — Чем же вы так заняты?» — «Перевожу. — И уточнила: — Поэму Байрона».
Следователь оказался грамотным; он знал, что собой представляет «Дон Жуан». «У вас есть книга?» — спросил он. Гнедич ответила: «Я перевожу наизусть». Он удивился еще больше: «Как же вы запоминаете окончательный вариант?» — спросил он, проявив неожиданное понимание сути дела. «Вы правы, — сказала Гнедич, — это и есть самое трудное. Если бы я могла, наконец, записать то, что уже сделано… К тому же я подхожу к концу. Больше не помню».
Следователь дал Гнедич листок бумаги и сказал: «Напишите здесь все, что вы перевели, — завтра погляжу». Она не решилась попросить побольше бумаги и села писать. Когда он утром вернулся к себе в кабинет, Гнедич еще писала; рядом с ней сидел разъяренный конвоир. Следователь посмотрел: прочесть ничего нельзя; буквы меньше булавочной головки, октава занимает от силы квадратный сантиметр. «Читайте вслух!» — распорядился он. Это была девятая песнь — о Екатерине Второй. Следователь долго слушал, по временам смеялся, не верил ушам, да и глазам не верил; листок c шапкой «Показания обвиняемого» был заполнен с обеих сторон мельчайшими квадратиками строф, которые и в лупу нельзя было прочесть.
Он прервал чтение: «Да вам за это надо дать Сталинскую премию!» — воскликнул он; других критериев у него не было. Гнедич горестно пошутила в ответ: «Ее вы мне уже дали». Она редко позволяла себе такие шутки. Чтение длилось довольно долго — Гнедич уместила на листке не менее тысячи строк, то есть 120 октав. «Могу ли чем-нибудь вам помочь?» — спросил следователь. «Вы можете — только вы!» — ответила Гнедич. Ей нужны: книга Байрона (она назвала издание, которое казалось ей наиболее надежным и содержало комментарии), словарь Вебстера, бумага, карандаш ну и, конечно, одиночная камера.
Через несколько дней следователь обошел с ней внутреннюю тюрьму ГБ при Большом доме, нашел камеру чуть посветлее других; туда принесли стол и то, что она просила. В этой камере Татьяна Григорьевна провела два года. Редко ходила гулять, ничего не читала — жила стихами Байрона. Рассказывая мне об этих месяцах, она сказала, что постоянно твердила про себя строки Пушкина, обращенные к ее далекому предку, Николаю Ивановичу Гнедичу:
С Гомером долго ты беседовал один Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали…
Он «беседовал один» с Гомером, она — с Байроном.
Два года спустя Татьяна Гнедич, подобно Николаю Гнедичу, сошла «с таинственных вершин» и вынесла «свои скрижали». Только ее «таинственные вершины» были тюремной камерой, оборудованной зловонной парашей и оконным «намордником», который заслонял небо, перекрывая дневной свет. Никто ей не мешал — только время от времени, когда она ходила из угла в угол камеры в поисках рифмы, надзиратель с грохотом открывал дверь и рявкал: «Тебе писать велено, а ты тут гуляешь!»
Два года тянулись ее беседы с Байроном. Когда была поставлена последняя точка в конце семнадцатой песни, она дала знать следователю, что работа кончена. Он вызвал ее, взял гору листочков и предупредил, что в лагерь она поедет только после того, как рукопись будет перепечатана. Тюремная машинистка долго с нею возилась. Наконец, следователь дал Гнедич выправить три экземпляра — один положил в сейф, другой вручил ей вместе с охранной грамотой, а насчет третьего спросил, кому послать на отзыв. Тогда-то Гнедич и назвала М.Л. Лозинского.
Она уехала этапом в лагерь, где провела — от звонка до звонка — оставшиеся восемь лет. С рукописью «Дон Жуана» не расставалась; нередко драгоценные страницы подвергались опасности: «Опять ты шуршишь, спать не даешь? — орали соседки по нарам. — Убери свои сраные бумажки…» Она сберегла их до возвращения — до того дня, когда села у нас на Кировском за машинку и стала перепечатывать «Дон Жуана». За восемь лет накопилось множество изменений. К тому же от прошедшей тюрьму и лагеря рукописи шел такой же смрад, как и от «фуфайки».
В Союзе писателей состоялся творческий вечер Т.Г. Гнедич — она читала отрывки из «Дон Жуана». Перевод был оценен по заслугам. Гнедич особенно гордилась щедрыми похвалами нескольких мастеров, мнение которых ставила очень высоко: Эльги Львовны Линецкой, Владимира Ефимовича Шора, Елизаветы Григорьевны Полонской.
Прошло года полтора, издательство «Художественная литература» выпустило «Дон Жуана» с предисловием Н.Я. Дьяконовой тиражом сто тысяч экземпляров. Сто тысяч!
Могла ли мечтать об этом арестантка Гнедич, два года делившая одиночную камеру с тюремными крысами?
В то лето мы жили в деревне Сиверская, на реке Оредеж. Там же, поблизости от нас, мы сняли комнату Татьяне Григорьевне. Проходя мимо станции, я случайно встретил ее: она сходила с поезда, волоча на спине огромный мешок. Я бросился ей помочь, но она сказала, что мешок очень легкий — в самом деле, он как бы ничего не весил. В нем оказались игрушки из целлулоида и картона — для всех соседских детей.
Татьяна Григорьевна получила гонорар за «Дон Жуана» — много денег: 17 тысяч рублей да еще большие «потиражные». Впервые за много лет она купила себе необходимое и другим подарки. У нее ведь не было ничего: ни авторучки, ни часов, ни даже целых очков. На подаренном мне экземпляре стоит № 2. Кому же достался первый экземпляр? Никому. Он был предназначен для следователя, но Гнедич, несмотря на все усилия, своего благодетеля не нашла. Вероятно, он был слишком интеллигентным и либеральным человеком; судя по всему, органы пустили его в расход.…
Режиссер и художник Акимов на отдыхе прочитал «Дон Жуана», пришел в восторг, пригласил к себе Гнедич и предложил ей свое соавторство; вдвоем они превратили поэму в театральное представление. Их дружба породила еще одно незаурядное произведение искусства: портрет Т.Г. Гнедич, написанный Н.П. Акимовым, — из лучших в портретной серии современников, созданной им.
Спектакль, поставленный и оформленный Акимовым в руководимом им ленинградском Театре комедии, имел большой успех, он держался на сцене несколько лет. Первое представление, о котором шла речь в самом начале, окончилось триумфом Татьяны Гнедич. К тому времени тираж двух изданий «Дон Жуана» достиг ста пятидесяти тысяч, уже появилось новое издание книги К.И. Чуковского «Высокое искусство», в котором перевод «Дон Жуана» оценивался как одно из лучших достижений современного поэтического перевода, уже вышла в свет и моя книга «Поэзия и перевод», где бегло излагалась история перевода, причисленного мною к шедеврам переводческого искусства.
И все же именно тот момент, когда поднявшиеся с мест семьсот зрителей в Театре комедии единодушно благодарили вызванного на сцену автора, — именно этот момент стал апофеозом жизни Татьяны Григорьевны Гнедич.
После возвращения на волю она прожила тридцать лет. Казалось бы, все наладилось. Даже семья появилась: Татьяна Григорьевна привезла из лагеря старушку, которая, поселившись вместе с ней, играла роль матери. И еще она привезла мастера на все руки «Егория» — он был как бы мужем. Несколько лет спустя она усыновила Толю — мальчика, сохранившего верность своей приемной матери. Благодаря ее заботам он, окончив университет, стал филологом-итальянистом.
«Казалось бы, все наладилось», — оговорился я. На самом деле «лагерная мама», Анастасия Дмитриевна, оказалась ворчуньей, постоянно впадавшей в черную мрачность; «лагерный муж», водопроводчик Георгий Павлович («Егорий») — тяжелым алкоголиком и необузданным сквернословом.
Внешне Татьяна Григорьевна цивилизовала его — например, научила заменять излюбленное короткое слово именем древнегреческого бога, и теперь он говорил, обращаясь к приходившим в дом ученикам своей супруги и показывая на нее: «Выпьем, ребята? А что она не велит, так Феб с ней!»
В литературе «мама» и «муж» ничего не понимали, да и не хотели и не могли понимать. Зато Егорий под руководством супруги украшал новогоднюю елку хитроумными игрушечными механизмами собственной конструкции.
Случалось, что он поколачивал жену. Когда я спросил, не боится ли она худшего, Татьяна Григорьевна рассудительно ответила: «Кто же убивает курицу, несущую золотые яйца?»
Жила Татьяна Григорьевна последние десятилетия, как ей всегда мечталось: в Павловске, на краю парка, поблизости от любимого ею Царского Села — она посвятила ему немало стихотворений, оставшихся неопубликованными, как большая часть ее стихов:
Как хорошо, что парк хотя бы цел,
Что жив прекрасный контур Эрмитажа,
Что сон его колонн все так же бел,
И красота капризных линий та же…
Как хорошо, что мы сидим вдвоем
Под сенью лип, для каждого священной,
Что мы молчим и воду Леты пьем
Из чистой чаши мысли вдохновенной…
20 августа 1955 г.
Г. Пушкин
Ефим Эткинд
Об авторе
Ефим Григорьевич Эткинд (26 февраля 1918 г., Петроград — 22 ноября 1999 г., Потсдам) — советский и российский филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, теоретик перевода. В 1960—1970 годах — диссидент.
Мать — певица, отец — коммерсант, несколько раз подвергался репрессиям, погиб в годы Большого террора.
Ефим Григорьевич окончил Ленинградский государственный университет (1941). В 1942-м ушел в армию добровольцем, был военным переводчиком. После войны защитил диссертацию по творчеству Золя, преподавал в 1-м Ленинградском педагогическом институте иностранных языков. В 1949-м был «за методологические ошибки» уволен в ходе развязанной властями кампании по борьбе с космополитизмом, уехал в Тулу, где преподавал в педагогическом институте.
С 1952-го — снова в Ленинграде. Доктор филологических наук (1965), профессор (1967) Ленинградского педагогического института им. Герцена. В 1964-м выступил свидетелем защиты Иосифа Бродского на суде, суд вынес в его адрес частное определение, после чего Эткинд получил взыскание Ленинградского отделения Союза писателей СССР (член СП с 1956-го). Позднее открыто поддерживал А.И. Солженицына, помогал ему в работе, встречался и переписывался с А.Д. Сахаровым. Несколько статей и переводов Эткинда распространялись в самиздате.
В 1972—1973-м участвовал в подготовке самиздатского собрания сочинений И. Бродского. В 1974 году был исключен из Союза писателей, лишен академических званий, был вынужден эмигрировать во Францию. Поселился в Париже, был профессором Х Парижского университета (Нантерр, 1974—1986). В годы перестройки Е.Г. Эткинду были возвращены академические звания, он постоянно приезжал в Россию, печатался в российской прессе.
Статью «Добровольный крест» Ефим Григорьевич передал в московско-петербургский журнал «Русская виза», где она и была опубликована в 1994 году. К сожалению, большая часть тиража этого последнего номера «Русской визы» была уничтожена наводнением в Питере.
|
|
Подбодрение пожилым |
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Как остановить старость.
Россия радуется: её граждане доживают до всё более преклонных лет.
А вот в ЕС этому давно уже не радуются. «50% европейцев перешагнули пенсионный рубеж. В Швейцарии, например, возраста 80 лет достигла чуть ли не половина жителей, - рассказывает Роненн РУБЕНОФФ, доктор медицинских наук, глава подразделения трансляционной медицины (подразделение заболеваний костно-мышечной системы) Института биомедицинских исследований Novartis (NIBR). -Человечество стареет просто семимильными шагами. Согласно прогнозу учёных, за 10 лет число больных Альцгеймером возрастёт до 1 млрд, диабетом станут страдать на 100% больше пациентов. Чем старше становится человечество, тем стремительнее растут затраты на здравоохранение. Уже сегодня многим странам, в том числе и России, денег на медицину не хватает именно потому, что слишком много средств уходит на старческие хвори. Медики пока видят лишь два сценария развития дальнейших событий. Первый - «жестокий мир»: когда лечение, которое не возвращает здоровье полностью, а лишь содействует поддержанию жизни, перестанет оплачиваться государством. Бюджетные деньги станут тратиться только на спасение от простых, излечиваемых болезней. Второй - позитивный: когда благодаря внедрению инноваций затраты на лечение станут меньше, а потому денег хватит на всех».
Большинство современных 40-летних по своим физическим данным и состоянию внутренних органов оказываются не старше 30-35 лет. Но нужно, чтобы этот процесс «омоложения» стремительно ускорялся.
«Более 1 млрд долл. выделено на разработку программы, которая должна найти причину возникновения болезни Альцгеймера, - говорит доктор Ферах ХЕРИФ, сопредседатель медицинской информационной платформы проекта мозга человека Лозаннского университета. -
Вскоре на рынке должны появиться медикаменты, регенерирующие волосковые части в клетках уха. Они уже прошли апробацию на животных. Ещё один препарат - он возвращает зрение - тоже в стадии испытаний».
Новое направление в онкологии - лечение не конкретного органа, а всего организма. «Остановить старение невозможно, но реально преодолеть инвалидность и болезни, - уверен Р. Рубенофф. - Стареть надо здоровыми!» Главное только - успеть всех вылечить до того, как мир превратится в один большой дом престарелых!
Статья «Здоровые старики» на 33 странице. АиФ №37-2014 г
Как остановить старость.
Россия радуется: её граждане доживают до всё более преклонных лет.
А вот в ЕС этому давно уже не радуются. «50% европейцев перешагнули пенсионный рубеж. В Швейцарии, например, возраста 80 лет достигла чуть ли не половина жителей, - рассказывает Роненн РУБЕНОФФ, доктор медицинских наук, глава подразделения трансляционной медицины (подразделение заболеваний костно-мышечной системы) Института биомедицинских исследований Novartis (NIBR). -Человечество стареет просто семимильными шагами. Согласно прогнозу учёных, за 10 лет число больных Альцгеймером возрастёт до 1 млрд, диабетом станут страдать на 100% больше пациентов. Чем старше становится человечество, тем стремительнее растут затраты на здравоохранение. Уже сегодня многим странам, в том числе и России, денег на медицину не хватает именно потому, что слишком много средств уходит на старческие хвори. Медики пока видят лишь два сценария развития дальнейших событий. Первый - «жестокий мир»: когда лечение, которое не возвращает здоровье полностью, а лишь содействует поддержанию жизни, перестанет оплачиваться государством. Бюджетные деньги станут тратиться только на спасение от простых, излечиваемых болезней. Второй - позитивный: когда благодаря внедрению инноваций затраты на лечение станут меньше, а потому денег хватит на всех».
Большинство современных 40-летних по своим физическим данным и состоянию внутренних органов оказываются не старше 30-35 лет. Но нужно, чтобы этот процесс «омоложения» стремительно ускорялся.
«Более 1 млрд долл. выделено на разработку программы, которая должна найти причину возникновения болезни Альцгеймера, - говорит доктор Ферах ХЕРИФ, сопредседатель медицинской информационной платформы проекта мозга человека Лозаннского университета. -
Вскоре на рынке должны появиться медикаменты, регенерирующие волосковые части в клетках уха. Они уже прошли апробацию на животных. Ещё один препарат - он возвращает зрение - тоже в стадии испытаний».
Новое направление в онкологии - лечение не конкретного органа, а всего организма. «Остановить старение невозможно, но реально преодолеть инвалидность и болезни, - уверен Р. Рубенофф. - Стареть надо здоровыми!» Главное только - успеть всех вылечить до того, как мир превратится в один большой дом престарелых!
Статья «Здоровые старики» на 33 странице. АиФ №37-2014 г
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Без заголовка |
Дневник-это информационное пространство, где можно поделиться интересной информацией. А можно, если кому надо, поведать о своих радостях и злоключениях. Правда, есть опасность, что над тобой посмеются. Ладно, рискну, а может, будет и не так уж больно.
Плохое сегодня утро - хмурое, пасмурное. Как в классическом романсе И.Тургенева и Э.Абазы. Мои близкие уходят в туман, не знаю - вернутся ли домой из тумана, как пел В.Даль в советском кинофильме про бомбардировщиков. При таком-то росте ДТП и разгуле преступности. Об одиночестве, о тревоге, о зыбкости нашей жизни вообще писали все поэты и философы. А я - Поэт печали! Но до меня были С. Есенин, Н. Некрасов, А. Блок и тысячи, тысячи. Все японские хокку и танки, о чём бы они ни были, пропитаны печалью. Все романсы и романсеро. И Низами, и Хайям. Да не перескажешь. Ибо печалью пропитана вся жизнь наша. И я думаю безнадёжно, что всё уже написано. До малейшего нюанса чувств и переживаний, всё уже высказали (написали, изваяли) миллионы поэтов, композиторов, скульпторов. Причём они все были великими или гениальными! И у меня опускаются руки от невозможности выразить свои чувства. Впрочем, об этом уже писали: Тютчев («Мысль изреченная есть ложь»), В. Маяковский, царь Соломон. Кто лучше Святителя Игнатия Брянчанинова написал о смерти? А кто не пытался прокричать или прошептать о своей любви? Вот по этой самой причине у крепкого профессионала К. Малевича возник «Чёрный квадрат». Огромные пласты философии посвящены непознаваемости и невозможности выразить – читайте «Критику чистого разума» Канта, труды по агностицизму Д.Юма и А. Шопенгауэра, если не боитесь свихнуться (лучше на немецком).
Я читал лет эдак 50 назад, когда готовился к сдаче кандидатского минимума в Университете Марксизма-Ленинизма. Смешно? Да уж...
Выходит, пора мне менять квалификацию. И никнейм. Ведь никогда мне не сочинить ничего, достойного сравнения с пронзительным восьмистишием Аф. Фета, почти мантрой :
«Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали.
Конный или пеший-
Не видать в пыли.
Вижу - всадник скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!»
Плохое сегодня утро - хмурое, пасмурное. Как в классическом романсе И.Тургенева и Э.Абазы. Мои близкие уходят в туман, не знаю - вернутся ли домой из тумана, как пел В.Даль в советском кинофильме про бомбардировщиков. При таком-то росте ДТП и разгуле преступности. Об одиночестве, о тревоге, о зыбкости нашей жизни вообще писали все поэты и философы. А я - Поэт печали! Но до меня были С. Есенин, Н. Некрасов, А. Блок и тысячи, тысячи. Все японские хокку и танки, о чём бы они ни были, пропитаны печалью. Все романсы и романсеро. И Низами, и Хайям. Да не перескажешь. Ибо печалью пропитана вся жизнь наша. И я думаю безнадёжно, что всё уже написано. До малейшего нюанса чувств и переживаний, всё уже высказали (написали, изваяли) миллионы поэтов, композиторов, скульпторов. Причём они все были великими или гениальными! И у меня опускаются руки от невозможности выразить свои чувства. Впрочем, об этом уже писали: Тютчев («Мысль изреченная есть ложь»), В. Маяковский, царь Соломон. Кто лучше Святителя Игнатия Брянчанинова написал о смерти? А кто не пытался прокричать или прошептать о своей любви? Вот по этой самой причине у крепкого профессионала К. Малевича возник «Чёрный квадрат». Огромные пласты философии посвящены непознаваемости и невозможности выразить – читайте «Критику чистого разума» Канта, труды по агностицизму Д.Юма и А. Шопенгауэра, если не боитесь свихнуться (лучше на немецком).
Я читал лет эдак 50 назад, когда готовился к сдаче кандидатского минимума в Университете Марксизма-Ленинизма. Смешно? Да уж...
Выходит, пора мне менять квалификацию. И никнейм. Ведь никогда мне не сочинить ничего, достойного сравнения с пронзительным восьмистишием Аф. Фета, почти мантрой :
«Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали.
Конный или пеший-
Не видать в пыли.
Вижу - всадник скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!»
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Анекдот. |
Чем пишут в космосе? Уточнение одного приятного анекдота
Есть такой старый-престарый, возможно еще дореволюционный анекдот:
- Правда ли, что Цукерман выиграл в лотерею миллион?
- Правда! Только не Цукерман, а Сахарович, не в лотерею, а в покер, не
миллион, а три рубля, не выиграл, а проиграл.
Почему-то этот анекдотик вспоминается, когда читаешь в сотый раз перепечатанную
веселую байку, как тупые специалисты NASA потратили два
миллиона долларов на разработку специальной авторучки для писания в невесомости,
а советские космонавты догадались, что можно писать карандашами.
Тут рассказчик (возможно, даже юморист Задорнов) просто ухохатывается от того,
какие же они там тупые и зажравшиеся, и какие наши простые и находчивые.
Слушатели тоже ужасно довольны.
Спору нет, история замечательная.
Но в ней, как в истории с выигрышем миллиона в лотерею, есть некоторые
неточности.
Прежде всего, карандаши в невесомости неприменимы, потому что стружки и
грифельная крошка не ссыпаются в мусор, а плавают по кабине, чем создают
немалую опасность: их можно вдохнуть, они могут залететь в глаз, в тонкий
прибор и т.д. Кроме того, карандаш состоит из дерева и
графита – чрезвычайно горючих материалов, что в условиях замкнутого
пространства, наполненного кислородом, очень нежелательно.
В начальный период освоения космоса, когда фломастеров еще не было,
единственной возможностью было использование шариковых авторучек.
Однако и они не работают в невесомости.
Частный предприниматель Поль Фишер (PaulC. Fisher) и его фирма
FisherPenCompany вложили миллион долларов (своих денег, а не средств
NASA) в разработку того, что теперь известно как «космическая ручка
Фишера». Устройством, запатентованным в 1965 г., можно писать,
находясь вверх ногами, при температуре от -45 °C до +200 °C, и даже
под водой.
В ручке Фишера для работы в отсутствие силы тяжести чернила
залиты в картридж, заполненный азотом под давлением 2,5 атм. – в 2,5
раза выше давления земной атмосферы на уровне моря. Это давление
подает чернила к кончику ручки, где находится шарик из карбида
вольфрама. Сами чернила похожи на плотный гель, они не окисляются и не
высыхают.
Фишер предложил свое изобретение NASA. После испытаний в феврале 1968 г.
NASA заказало 400 антигравитационных шариковых изделий Фишера для
лунной программы «Аполлон».
Через год Советский Союз заказал Фишеру 100 ручек и 1000 картриджей к ним
для использования на кораблях «Союз». Сообщившее об этом международное
агентство «Юнайтед Пресс» отметило, что и NASA, и Советское космическое
агентство при массовой закупке получили 40-процентную скидку:
вместо $3,98 (себестоимость) за штуку они заплатили по $2,39.
Так что потрачены были отнюдь не миллионы.
Ручка Фишера использовалась и на американском Шаттле,
и на российской станции «Мир».
Сейчас любой землянин может приобрести такую ручку за $50.
Интересно, что советским изобретателем М.И. Клевцовым также была разработана аналогичная
шариковая авторучка, в которую паста подается к шарику при помощи поршня,
вмонтированного в герметический стержень с пастой, куда накачан азот под давлением.
Но из-за тупости и медлительности чиновников Министерства приборостроения,
в ведении которого были заводы-изготовители авторучек, в США успели раньше.
Там авторучка запатентована и изготавливается массовым тиражом,
давно окупившим затраты на ее разработку.
Жалко расставаться с такой красивой, такой приятной историей про ручку за миллион и карандаш
за копейку, но... вспомним анекдот:
и не миллион, а три бакса, и не NASA, а частный предприниматель, и карандаш в космосе не годится,
и для наших космонавтов покупали эти ручки в США, да еще и наш изобретатель придумал их
раньше американцев – но не сумели внедрить в производство...
А так все правда – хороший был анекдот
Есть такой старый-престарый, возможно еще дореволюционный анекдот:
- Правда ли, что Цукерман выиграл в лотерею миллион?
- Правда! Только не Цукерман, а Сахарович, не в лотерею, а в покер, не
миллион, а три рубля, не выиграл, а проиграл.
Почему-то этот анекдотик вспоминается, когда читаешь в сотый раз перепечатанную
веселую байку, как тупые специалисты NASA потратили два
миллиона долларов на разработку специальной авторучки для писания в невесомости,
а советские космонавты догадались, что можно писать карандашами.
Тут рассказчик (возможно, даже юморист Задорнов) просто ухохатывается от того,
какие же они там тупые и зажравшиеся, и какие наши простые и находчивые.
Слушатели тоже ужасно довольны.
Спору нет, история замечательная.
Но в ней, как в истории с выигрышем миллиона в лотерею, есть некоторые
неточности.
Прежде всего, карандаши в невесомости неприменимы, потому что стружки и
грифельная крошка не ссыпаются в мусор, а плавают по кабине, чем создают
немалую опасность: их можно вдохнуть, они могут залететь в глаз, в тонкий
прибор и т.д. Кроме того, карандаш состоит из дерева и
графита – чрезвычайно горючих материалов, что в условиях замкнутого
пространства, наполненного кислородом, очень нежелательно.
В начальный период освоения космоса, когда фломастеров еще не было,
единственной возможностью было использование шариковых авторучек.
Однако и они не работают в невесомости.
Частный предприниматель Поль Фишер (PaulC. Fisher) и его фирма
FisherPenCompany вложили миллион долларов (своих денег, а не средств
NASA) в разработку того, что теперь известно как «космическая ручка
Фишера». Устройством, запатентованным в 1965 г., можно писать,
находясь вверх ногами, при температуре от -45 °C до +200 °C, и даже
под водой.
В ручке Фишера для работы в отсутствие силы тяжести чернила
залиты в картридж, заполненный азотом под давлением 2,5 атм. – в 2,5
раза выше давления земной атмосферы на уровне моря. Это давление
подает чернила к кончику ручки, где находится шарик из карбида
вольфрама. Сами чернила похожи на плотный гель, они не окисляются и не
высыхают.
Фишер предложил свое изобретение NASA. После испытаний в феврале 1968 г.
NASA заказало 400 антигравитационных шариковых изделий Фишера для
лунной программы «Аполлон».
Через год Советский Союз заказал Фишеру 100 ручек и 1000 картриджей к ним
для использования на кораблях «Союз». Сообщившее об этом международное
агентство «Юнайтед Пресс» отметило, что и NASA, и Советское космическое
агентство при массовой закупке получили 40-процентную скидку:
вместо $3,98 (себестоимость) за штуку они заплатили по $2,39.
Так что потрачены были отнюдь не миллионы.
Ручка Фишера использовалась и на американском Шаттле,
и на российской станции «Мир».
Сейчас любой землянин может приобрести такую ручку за $50.
Интересно, что советским изобретателем М.И. Клевцовым также была разработана аналогичная
шариковая авторучка, в которую паста подается к шарику при помощи поршня,
вмонтированного в герметический стержень с пастой, куда накачан азот под давлением.
Но из-за тупости и медлительности чиновников Министерства приборостроения,
в ведении которого были заводы-изготовители авторучек, в США успели раньше.
Там авторучка запатентована и изготавливается массовым тиражом,
давно окупившим затраты на ее разработку.
Жалко расставаться с такой красивой, такой приятной историей про ручку за миллион и карандаш
за копейку, но... вспомним анекдот:
и не миллион, а три бакса, и не NASA, а частный предприниматель, и карандаш в космосе не годится,
и для наших космонавтов покупали эти ручки в США, да еще и наш изобретатель придумал их
раньше американцев – но не сумели внедрить в производство...
А так все правда – хороший был анекдот
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Эдит Пиаф "Падам, падам, падам" |
|
|
Понравилось: 1 пользователю
"Падам, падам, падам… Он за мною по следу бежит" |
Она называла его «мой Ноно», а свои письма к нему подписывала «Твоя Фифи». Она утверждала, что он владеет ключом к тайне музыки, а он написал для нее песню, ставшую одним из музыкальных символов Франции. Ее имя знает весь мир — это Эдит Пиаф. Его же звали Норберт Гланцберг.
Натан Гланцберг родился в 1910 году в Рогатине, в Галиции, в семье мелкого торговца Шмуэля Гланцберга. В надеждах на лучшую жизнь семья перебралась на Запад, в баварский город Вюрцбург. Сразу же после переезда Натана стали называть Норберт.
Неподалеку от Гланцбергов жила еще одна семья переселенцев из Восточной Европы по фамилии Ойстрах. Согласно семейной легенде, первым собственным музыкальным инструментом Норберта стала губная гармошка, подаренная Ойстрахами. Через много лет, на концерте великого скрипача Давида Ойстраха в Париже пожилая дама, сидевшая рядом с Норбертом, неожиданно спросила, уж не сын ли он Гланцберга, и, пояснив, что она — г-жа Ойстрах из Вюрцбурга, с гордостью добавила: «Давид — мой племянник».
Вскоре среди вюрцбургского еврейского сообщества распространился слух о необычайной музыкальной одаренности мальчика, который еще трехлетним спросил маму, почему музыка смеется и плачет. Его даже стали называть маленьким Моцартом.
1.

В 1914 году в жизни Норберта произошло несколько знаменательных событий: родилась сестричка Лизель, началась Первая мировая война и отца призвали служить санитаром. Впрочем, прощание с ним прошло почти незамеченным, потому что в тот самый день привезли огромный ящик с пианино, приобретенным мамой Норберта, которая верила в талант своего сына больше всех.
В школе Норберт скучал, гораздо интереснее для него были занятия в вюрцбургской консерватории, которую он начал посещать еще 14-летним и сразу же прослыл «божественно талантливым». Композиции юный Гланцберг обучался в классе профессора Германа Цильхера, директора консерватории, основателя вюрцбургского Моцартовского фестиваля, старейшего в Германии и одного из первых в Европе.
В 1927 году Норберт сообщил отцу, что бросает школу и начинает работать в театре аккомпаниатором. А ведь Шмуэль, как многие еврейские родители, мечтал видеть сына врачом или юристом. Для того ли он день за днем колесил по всей Баварии, предлагая розничным торговцам образцы вина, чтобы его первенец стал каким-то клезмером, странствующим музыкантом, радующимся каждой заработанной на свадьбе монете?
Но Норберт и не думал становиться скрипачом на свадьбах. Он был принят концертмейстером в вюрцбургский театр; по случаю ему удалось дирижировать несколькими операми и даже руководить постановкой «Трехгрошовой оперы» Брехта. Мировой экономический кризис 1929 года не миновал и Вюрцбург, театральный бюджет сократился, а вместе с ним и репертуар. Но Норберт и так уже все чаще поглядывал в сторону вокзала — его влекли те города, чьи названия он еще малышом зачарованно читал на вокзальных табличках: Мюнхен, Вена, Берлин.
2.

Норберт отправился в Аахен, где должен был аккомпанировать на репетициях балетной труппы, сопровождать драматические спектакли, а также дирижировать. Аахен стал еще одним профессиональным трамплином для Гланцберга. В тамошней балетной труппе служила некая Ирмгард Керн, также приехавшая из Вюрцбурга. Однажды она попросила Норберта аккомпанировать ей на показе в берлинском театре-варьете «Адмиралпаласт», где в то время готовилась новая постановка «Королевы чардаша» Имре Кальмана. Можно только догадываться, что пережил юноша из провинции, который еще не видал больших городов, попав в метрополию на Шпрее? Улицы, полные тарахтящих автомобилей, двухэтажные автобусы, метро, о котором он прежде только слышал. Но самое неожиданное произошло во время показа в «Адмиралпаласте». Когда Ирмгард закончила свой номер, члены комиссии буквально взбежали на сцену, и среди них сам маэстро Кальман. Но их интересовала не танцовщица. «Где вы работаете?» — спросил Кальман пианиста. — «Я концертмейстер в Аахенском театре».-- «Сколько вы там зарабатываете?» – «150 марок в месяц». – «Если останетесь здесь, получите 350».
Это щедрое предложение решило судьбу двадцатилетнего музыканта из Вюрцбурга. «В Берлине столько музыкантов, что они нашли во мне?» — спрашивал себя Гланцберг.
Каждая репетиция приносила Норберту знакомство со знаменитостями. Одним из новых знакомых Гланцберга стал элегантный блондин Ганс Альберс, звезда сцены и немого кино. Гансу нравился рыжеволосый капельмейстер Гланцберг, и он часто приглашал Норберта в свою уборную.
В те годы кинематограф был необычайно популярен в Берлине. Достаточно сказать, что в 1925 году кинотеатры в общей сложности посетили 44 миллиона зрителей. Одной из самых популярных была музыкальная комедия «Трое с бензоколонки», в которой снималась среди прочих и Ольга Чехова. Мелодии из этого фильма распевают в Германии по сей день.
На киностудии УФА, где только что был снят первый немецкий звуковой фильм, получивший мировой признание, «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли, режиссер Билли Уайлдер приступил к съемкам фильма «Фальшивый супруг». Для этого фильма Гланцберг сочинил заглавную песню: «Лови меня, любимый, я — твоя весна, я — твой солнечный свет...», ставшую хитом летнего сезона. Газеты восторгались: «Новичка зовут Норберт Гланцберг. Его ритмы соблазнительны, а композиции захватывают, как лучшие творения Фридриха Холландера [автора песен к «Голубому ангелу»]. Он пишет легко и непринужденно, буквально одной левой». «Фальшивый супруг» демонстрировался и в Вюрцбурге. Шмуэль Гланцберг, давно переставший осуждать выбор сына, стоял у входа в кинотеатр и, указывая на афишу, где имя Норберта было выведено большими буквами, гордо повторял: «Это — мой сын!»
Гланцберг сочинял музыку и к другим фильмам, но вскоре УФА перестала сотрудничать с евреями. 15 июля 1932 года журнал «Немецкий фильм» написал о том, что композиторы УФА — сплошь евреи, а немецкую литературу и кино должны создавать только люди, «чувствующие по-немецки». Сам тогдашний гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс выступил по этому вопросу, упомянув конкретно Гланцберга: «Этот маленький галицийский еврей Гланцберг слизывает у молодых светловолосых композиторов масло с хлеба». Позже Норберт с горькой улыбкой вспоминал об этом персональном упоминании как об особой чести.
Травля усугублялась. Однажды вечером хозяйка квартиры встретила Гланцберга на углу перед домом и предупредила: «Не ходите домой — вас ждут двое из гестапо!»
Центром эмиграции для многих немцев в первые годы гитлеровского режима был Париж, и Гланцберг, по примеру коллег, поспешил во Францию. Эмигранты встречались в кафе и беседовали ночи напролет. Нередко там же случалось найти работу. Немецкий писатель Герман Кестен в своей книге «Поэт в кафе» писал: «В эмиграции кафе были домом и родиной, церковью и парламентом, пустыней и полем брани, колыбелью иллюзий и кладбищем».
В Париже Гланцберг встретил Билли Уайлдера, готовившегося к дальнейшему путешествию — в США. «Поехали вместе, Норберт». Но Гланцбергу было трудно представить свою жизнь за океаном. Он и сам не знал, почему. Возможно, это был страх провинциального юноши, да и родители с сестрой оставались в Вюрцбурге, он не хотел еще более удаляться от них.
Нужно было зарабатывать деньги, и комитет беженцев предложил Гланцбергу работу уличного продавца мелких канцелярских принадлежностей, но, как композитор вспоминал впоследствии, среди всех талантов, дарованных ему, талант предпринимательства отсутствовал.
Заработанных франков едва хватало на питание, но все-таки ему удалось взять напрокат аккордеон, и он играл во дворах, а потом шел в эмигрантскую столовую, занимал место за столом, покрытым белой скатертью, получал обед из четырех блюд, стакан вина, и ему казалось, будто вернулась прежняя жизнь.
Затем была работа пианистом в еврейском театре и руководство небольшим ансамблем: аккордеон, контрабас, он сам — за роялем, гитаристом же был легендарный цыган Джанго Рейнхард, автор «Минорного свинга». Они регулярно играли в танцевальных залах и кафе, и именно тогда Гланцберг впитал стиль французской легкой музыки.
*
В это время Эдит Пиаф тоже должна была доказывать самой себе и окружающим, на что способна она, подобранная на улице папашей Лепле, владельцем кабаре на Елисейских Полях. Лепле научил ее репетировать с концертмейстером, выбирать репертуар и вести себя на сцене. Именно он нашел для Эдит псевдоним — Пиаф, «воробышек». Первые выступления были успешными, но вскоре Луи Лепле был убит выстрелом в голову, и Эдит Пиаф оказалась в числе подозреваемых, так как в завещании он оставил ей небольшую сумму. Газеты раздули эту историю, и посетители кабаре, где выступала Эдит, вели себя враждебно, считая, что они вправе «наказать преступницу». Все отвернулись от нее, друзей можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Однажды ансамблю Гланцберга довелось аккомпанировать маленькой певице. На ней болталась бесформенная одежда, на ногах были массивные ботинки, говорила она так, что Гланцберг не разобрал ни слова, а петь не умела вовсе. Голос звучал одновременно и скрипуче, и пронзительно, и к тому же почти не был поставлен. Но какая-то глубокая меланхолия в сочетании с драматизмом исполнения увлекли слушателей. Закончив петь, она спустилась с балкона в зал, к публике, чтобы по обыкновению уличной певицы с жестяной тарелкой в руках собрать чаевые. Тогда никто не предвидел, что через несколько лет Эдит Пиаф станет всемирно известной звездой шансона. И Гланцберг никак не мог предположить той ночью, что однажды от этой малышки будет зависеть его жизнь.
Когда Гланцберг прибыл в 1933 году в Париж, его зарегистрировали не как немца, а как поляка, ведь он родился в Польше. Поэтому уже 6 сентября 1939 года, через 5 дней после нападения Гитлера на Францию, Норберта призвали в пехотные части польской Армии в изгнании под командованием маршала Сикорского, входившей в состав французской армии. Внезапно Норберт Гланцберг, музыкант, антимилитарист, поляк против своей воли, оказался среди решительных и не слишком дружелюбных польских солдат, под бомбежкой немецкой авиации. И Гланцберг бежал; он прошел 200 км до Марселя, где нашел убежище в центре для беженцев под многообещающим названием «Добро пожаловать».
3.

В марсельских кафе, служивших, как и в Париже, местом встречи эмигрантов, Гланцберг сразу же встретил своих прежних коллег и познакомился со многими знаменитостями: Фернанделем, Тино Росси, Морисом Шевалье. И вот, в начале октября 1941 года, в том кафе, где частенько сиживал Норберт, появилась Она, та малышка, которая несколько лет назад в Париже собирала чаевые в жестяную тарелку. Теперь все переменилось. Двадцатипятилетняя Эдит Пиаф была звездой, каждый во Франции знал ее имя. Певице предстояли новые гастроли — «воробей из Парижа собирался облететь Южную Францию». Гланцберг вспоминал: «Она искала пианиста и решила взять меня». В то время немецкие войска заняли Париж, был образован новый правительственный кабинет маршала Петена, чья политика по отношению к евреям отвечала нацистским требованиям.
"Когда я сидел за пианино, внутренний голос часто зло нашептывал мне на ухо: «Все бессмысленно, клавиши пианино поют о будущем, которого не существует. Все равно немцы тебя настигнут. И неважно, когда и где это будет, ты — живой мертвец»."
Как раз когда турне закончилось, положение драматизировалось. Немцы потребовали выдачи евреев и с французскими паспортами, и иностранцев. Проводились облавы, все пойманные были безжалостно депортированы. Эдит Пиаф прятала Гланцберга у бабушки своего секретаря под Марселем. Это стало первым убежищем Гланцберга, за которым последовало много других. Некоторые принадлежали марсельской сети нелегального сопротивления, там не только скрывались люди, но и хранились продукты и одежда. Гланцберг больше не мог выступать, даже выходить на улицу было рискованно. Эдит видела, что петля вокруг шеи «ее Норберта» затягивается, и искала выход. Ее известность помогла найти путь к спасению.
4.

Эдит попросила графиню Лили Пастре предоставить убежище Гланцбергу в своем роскошном замке неподалеку от Марселя. Замок в необарочном стиле был окружен огромным парком с прудами и каналами, засаженным магнолиями и платанами. Бесчисленные маленькие гроты, укрытые кустами, в случае облавы могли стать убежищами, и затворники даже засекали время, которое требовалось, чтобы добежать до них при малейшей угрозе. Помимо Гланцберга, чье пребывание в замке оплачивала Эдит, графиня приютила Клару Хаскил, одну из лучших пианисток мира. Та страдала от рака мозга и ожидала операции, которая впоследствии была успешно проведена прямо в подвале замка. Кроме того, в замке жили хореограф и секретарь Дягилева Борис Кохно, известный сценограф Кристиан Берар и дирижер Мануэль Розенталь, ученик Равеля. Эти деятели искусства создавали для графини своего рода салон, в котором она царила. Лили Пастре многие описывали как эксцентричную особу, гонявшую в спортивном авто и больше всего на свете любившую искусство.
Гланцберга укрывал и композитор Жорж Орик, ставший после войны директором Гранд-Опера. У него был дом в Антибах, где нередко вечерами музицировали гости и сам хозяин. Они забывали об осторожности. Однажды, когда Гланцберг играл на рояле произведения Бетховена, в дверь постучали. Это были немцы, пришедшие напомнить о затемнении. Один из них спросил: «Кто здесь играет музыку моей родины?» Норберт окаменел за инструментом. Солдат смерил его долгим взглядом, повернулся, и незваные гости ушли. Гланцберг был уверен, что это провал, и через много лет еще помнил ужас тех секунд, когда находился между жизнью и смертью.
5.
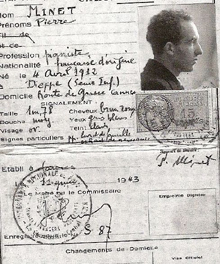
В тот раз обошлось, но 2 мая 1943 года в Ницце в отеле, где он жил по фальшивому паспорту, Гланцберг был схвачен. Ему было разрешено отправить письмо графине Пастре, которая вместе с Эдит и Тино Росси стала добиваться его освобождения. В конце концов известная актриса «Комеди Франсез» и звезда киноэкрана Мари Белл сумела убедить префекта полиции Дурафу принять участие в судьбе талантливого музыканта. Последовало счастливое спасение в машине префекта, который через десятилетия, в 90-х годах, увидев передачу о Гланцберге по французскому телевидению, позвонил ему и напомнил давние события.
6 июня 1944 года состоялась высадка союзников в Нормандии, вскоре Пиаф впервые выступила в дневных спектаклях «Мулен Руж» вместе с молодым Ивом Монтаном, а 24 августа танки французского генерала Леклерка въехали в столицу.
Все деятели искусства, которые выступали во время оккупации, должны были предстать перед «Комитетом по чистке». Среди них и Эдит Пиаф. Норберт Гланцберг неоднократно выступал в этих процессах как свидетель, подтверждая честное имя многих коллег. В пользу Эдит кроме Гланцберга свидетельствовали спасенные ею евреи — композитор Михаэль Эмер и режиссер Марсель Блистен.
Весной 1947 года Гланцберг, сопровождая Тино Росси в гастрольной поездке по Америке, впервые за долгие годы разлуки встретился со своими родителями и сестрой, успевшими эмигрировать буквально в последние мгновенья.
В 1949 году появилась песня, которая стала визитной карточкой Ива Монтана и Гланцбергу принесла большой успех: Les grands boulevards, «Большие бульвары».
А вскоре Пиаф вспомнила о мелодии с пульсирующим мотивом, которую Гланцберг наиграл ей еще в 1942 году. Она позвонила поэту Анри Конте: «Анри, вот мелодия, сочиненная Норбертом, которая преследует меня повсюду. Моя голова просто гудит от нее. Мне быстро нужен чудесный текст». И стала по телефону напевать: «Tada-tada-tada!».
Конте озарило: «Вот оно! Нет более прекрасной истории для шансона! Слова Эдит просто нужно обратить в поэзию! Padam, рadam — как биение сердца. Padam, этот мотив преследует меня день и ночь, он приходит издалека и сводит меня с ума!»
15 октября 1951 года песня «Padam, рadam» была записана на пластинку. Этот шансон обрел бессмертие, воплотившись в бесчисленных версиях и став легендой двадцатого столетия, а с ним и они — Эдит Пиаф и Норберт Гланцберг. Песня перешагнула океан, и мать Норберта с гордостью написала сыну, что много раз слышала его песню по американскому радио.
6.

В 1950-х Гланцберг познакомился с Марией Мазурек, двадцатилетней полькой, выросшей во Франции. Так встретились два человека родом из Польши, католичка и еврей, знающие Восточную Европу лишь по рассказам родителей. Гланцберг, по его словам, был сыт богемными бестиями. Маришка была иной. С ней он чувствовал себя спокойно, именно это и было ему необходимо после всего пережитого. Они поженились 15 января 1952 года, а в ноябре 1959-го родился долгожданный сын Серж. Его фотографии напоминали маме Гланцберг самого Норберта, и она была полна гордости, несмотря на то, что внук не был евреем.
В конце пятидесятых Гланцберг интенсивно сочинял музыку к французским кинофильмам: «Мой дядюшка» с Брижит Бардо, «Михаил Строгов — курьер царя» с Курдом Юргенсом, и любимая многими поколениями «Колдунья» с юной Мариной Влади.
Гланцбергу не удалось получить французское гражданство, а принимать польское или немецкое у него не было желания: «Я решил остаться без гражданства. Ведь принять одно, значит, сделать шаг против другого».
В 1976-м Маришка, которая, казалось бы, всегда зависела от Норберта и была привязана к нему, ушла от мужа. Сын Серж, до того живший то у отца, то у матери, в двадцать лет уехал в Англию — семейная история Гланцбергов повторилась. Молодой человек, пресытившись классической музыкой, постоянно звучавшей дома, обожал рок, Rolling Stones, Джимми Хендрикса и не расставался с электрогитарой, которую отец и за музыкальный инструмент-то не считал. В Англию Серж отправился учиться звукозаписи, так как считал, что в Париже этому научиться нельзя.
7.

Все покинули Гланцберга. Он жил в Нёйи-сюр-Сен, западном пригороде Парижа, столь любимом творческими людьми, где на кладбище покоятся Василий Кандинский, Анатоль Франс, Андре Моруа, Рене Клер и Франсуа Трюффо. Вечера коротал на концертах и в опере, одиночество переносил болезненно. Открыв для себя библиотеку Института Гете, он начал опять читать по-немецки и однажды увидел сборник Der Tod ist ein Meister aus Deutschland («Смерть — мастер из Германии»), составленный из стихов, написанных заключенными в концлагерях, евреями и борцами Сопротивления, большинство из которых погибли. Впечатление было так велико, что Гланцберг, выбрав двенадцать стихотворений, создал вокальный цикл «Песни Холокоста». Гланцберг говорил, что самый веселый мотив звучит у восточноевропейских евреев в миноре. Музыкальное подтверждение этому — «Еврейская сюита» для двух фортепьяно, которую композитор создал, читая книги Исаака Башевиса Зингера и вспоминая рассказы матери.
Имя Гланцберга было популярно во Франции, фильмы с его музыкой демонстрировались во многих странах, но в Вюрцбурге, где он вырос, никому ничего не было известно о его судьбе. Все изменилось в 1997 году — когда в городе была организована выставка, посвященная немецким эмигрантам во Франции.
Вюрцбургская журналистка Астрид Фрайайзен натолкнулась на упоминание о Норберте Гланцберге и, полная любопытства, разыскала его во Франции. Она сама рассказывает об этом так:
"Это было 3 апреля 1997 года. В биографическом справочнике вюрцбургских евреев значилось, что он родился в 1910 году, местожительство в 1982 году — Нёйи-сюр-Сен. Но ведь уже прошло 15 лет..."
Я позвонила в международную справочную и попросила найти парижский номер Норберта Гланцберга. Оператор привычно ответил «Минуточку!», а затем быстро продиктовал цифры. Я была ошеломлена. Если это действительно он, то наверняка уже страдает амнезией, глух и не хочет больше говорить по-немецки после всего, что пережил, а то и просто не помнит немецкий. Но нужно все-таки попытаться, и я решительно набрала номер.
Женский голос ответил по-французски: «Месье Гланцберг в ванной, попробуйте через десять минут». Так просто и почти невероятно! Почему же никто не пробовал отыскать его раньше?
8.

Как только Астрид назвала себя и сообщила, что работает на баварском радио в Вюрцбурге, Гланцберг заплакал. Вспомнил город, театр и консерваторию, в которой учился. По-немецки говорил сначала с запинками, потом все свободнее, остроумно и выразительно, за двадцать минут развернув перед Астрид десятилетия своей жизни. Но не случайно он озаглавил заключительную часть «Еврейской сюиты» «И все же!». Потому что вслед за рассказом о драматических событиях своей жизни, Гланцберг сказал: «Прекрасно. Я хочу еще раз увидеть Вюрцбург и показать там мои сочинения. Нужно найти музыкантов и хорошую вокалистку, например, Ханну Шигула, известную певицу и актрису».
Закончив разговор, Астрид долго не могла прийти в себя. Ночь прошла без сна, а на следующий день в эфир вышла первая радиопередача о Норберте Гланцберге. Позже Астрид написала книгу Chanson für Edith — «Шансон для Эдит».
Композитор, который, рассказывая сыну о Германии, никогда не связывал немецкую культуру с фашизмом и «сладким Адольфом, укравшим его годы», хотел этим возвращением замкнуть круг своей жизни. Вернувшись в город детства почти через семьдесят лет, в 1998 году, Гланцберг бродил по улицам, вспоминал людей и здания и удивлялся новому Вюрцбургу. Концерт состоялся в зале Высшей школы музыки. После опустошительной бомбардировки 16 марта 1945 года от старого здания, в котором учился Гланцберг, остались только ворота, но у композитора не было времени на сентиментальность. Репетируя, он забывал обо всем, ведь им руководило одно желание: именно здесь, в Вюрцбурге, показать, к чему он пришел в конце жизни, поэтому требования к музыкантам были очень высоки.
«Еврейская сюита и «Песни Холокоста» прозвучали при переполненном зале, а когда 88-летний композитор, который от волнения не мог говорить, сел за рояль, чтобы сыграть на бис, все восемьсот зрителей начали подпевать с первых же тактов, причем многие из них только тогда узнали, кто же написал «Падам, падам» и «Большие бульвары».
В 2000 году дирижер Фред Часлин, который был очень близок с Гланцбергом в последние годы, оркестровал «Еврейскую сюиту», что придало ей еще большую выразительность и красочность. После премьеры во Франции и в Израиле произведение впервые прозвучало в Германии в исполнении филармонического оркестра Вюрцбурга, а композитор был награжден премией города в области культуры. Вскоре Даниэль Кляйнер, музыкальный директор театра и художественный руководитель Моцартовского фестиваля, сделал оркестровое переложение фортепьянной партии «Песен Холокоста». Но композитор не успел услышать цикл в таком исполнении — он скончался 25 февраля 2001 года.
В память о Гланцберге премьера «Еврейской сюиты» в Иерусалиме транслировалась по всей Европе, а в день объединения Германии она прозвучала на площади перед рейхстагом в исполнении берлинского молодежного оркестра. На доме, в котором композитор провел 20 лет своей жизни, ныне висит мемориальная доска, а перед каждым Рождеством хор мальчиков исполняет его песню Noël c'est l'amour — «Рождество это — любовь».
Норберт Гланцберг вернулся в Вюрцбург навсегда.
9.
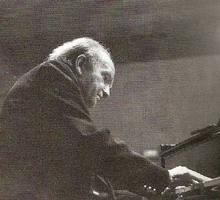
Натан Гланцберг родился в 1910 году в Рогатине, в Галиции, в семье мелкого торговца Шмуэля Гланцберга. В надеждах на лучшую жизнь семья перебралась на Запад, в баварский город Вюрцбург. Сразу же после переезда Натана стали называть Норберт.
Неподалеку от Гланцбергов жила еще одна семья переселенцев из Восточной Европы по фамилии Ойстрах. Согласно семейной легенде, первым собственным музыкальным инструментом Норберта стала губная гармошка, подаренная Ойстрахами. Через много лет, на концерте великого скрипача Давида Ойстраха в Париже пожилая дама, сидевшая рядом с Норбертом, неожиданно спросила, уж не сын ли он Гланцберга, и, пояснив, что она — г-жа Ойстрах из Вюрцбурга, с гордостью добавила: «Давид — мой племянник».
Вскоре среди вюрцбургского еврейского сообщества распространился слух о необычайной музыкальной одаренности мальчика, который еще трехлетним спросил маму, почему музыка смеется и плачет. Его даже стали называть маленьким Моцартом.
1.

В 1914 году в жизни Норберта произошло несколько знаменательных событий: родилась сестричка Лизель, началась Первая мировая война и отца призвали служить санитаром. Впрочем, прощание с ним прошло почти незамеченным, потому что в тот самый день привезли огромный ящик с пианино, приобретенным мамой Норберта, которая верила в талант своего сына больше всех.
В школе Норберт скучал, гораздо интереснее для него были занятия в вюрцбургской консерватории, которую он начал посещать еще 14-летним и сразу же прослыл «божественно талантливым». Композиции юный Гланцберг обучался в классе профессора Германа Цильхера, директора консерватории, основателя вюрцбургского Моцартовского фестиваля, старейшего в Германии и одного из первых в Европе.
В 1927 году Норберт сообщил отцу, что бросает школу и начинает работать в театре аккомпаниатором. А ведь Шмуэль, как многие еврейские родители, мечтал видеть сына врачом или юристом. Для того ли он день за днем колесил по всей Баварии, предлагая розничным торговцам образцы вина, чтобы его первенец стал каким-то клезмером, странствующим музыкантом, радующимся каждой заработанной на свадьбе монете?
Но Норберт и не думал становиться скрипачом на свадьбах. Он был принят концертмейстером в вюрцбургский театр; по случаю ему удалось дирижировать несколькими операми и даже руководить постановкой «Трехгрошовой оперы» Брехта. Мировой экономический кризис 1929 года не миновал и Вюрцбург, театральный бюджет сократился, а вместе с ним и репертуар. Но Норберт и так уже все чаще поглядывал в сторону вокзала — его влекли те города, чьи названия он еще малышом зачарованно читал на вокзальных табличках: Мюнхен, Вена, Берлин.
2.

Норберт отправился в Аахен, где должен был аккомпанировать на репетициях балетной труппы, сопровождать драматические спектакли, а также дирижировать. Аахен стал еще одним профессиональным трамплином для Гланцберга. В тамошней балетной труппе служила некая Ирмгард Керн, также приехавшая из Вюрцбурга. Однажды она попросила Норберта аккомпанировать ей на показе в берлинском театре-варьете «Адмиралпаласт», где в то время готовилась новая постановка «Королевы чардаша» Имре Кальмана. Можно только догадываться, что пережил юноша из провинции, который еще не видал больших городов, попав в метрополию на Шпрее? Улицы, полные тарахтящих автомобилей, двухэтажные автобусы, метро, о котором он прежде только слышал. Но самое неожиданное произошло во время показа в «Адмиралпаласте». Когда Ирмгард закончила свой номер, члены комиссии буквально взбежали на сцену, и среди них сам маэстро Кальман. Но их интересовала не танцовщица. «Где вы работаете?» — спросил Кальман пианиста. — «Я концертмейстер в Аахенском театре».-- «Сколько вы там зарабатываете?» – «150 марок в месяц». – «Если останетесь здесь, получите 350».
Это щедрое предложение решило судьбу двадцатилетнего музыканта из Вюрцбурга. «В Берлине столько музыкантов, что они нашли во мне?» — спрашивал себя Гланцберг.
Каждая репетиция приносила Норберту знакомство со знаменитостями. Одним из новых знакомых Гланцберга стал элегантный блондин Ганс Альберс, звезда сцены и немого кино. Гансу нравился рыжеволосый капельмейстер Гланцберг, и он часто приглашал Норберта в свою уборную.
В те годы кинематограф был необычайно популярен в Берлине. Достаточно сказать, что в 1925 году кинотеатры в общей сложности посетили 44 миллиона зрителей. Одной из самых популярных была музыкальная комедия «Трое с бензоколонки», в которой снималась среди прочих и Ольга Чехова. Мелодии из этого фильма распевают в Германии по сей день.
На киностудии УФА, где только что был снят первый немецкий звуковой фильм, получивший мировой признание, «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли, режиссер Билли Уайлдер приступил к съемкам фильма «Фальшивый супруг». Для этого фильма Гланцберг сочинил заглавную песню: «Лови меня, любимый, я — твоя весна, я — твой солнечный свет...», ставшую хитом летнего сезона. Газеты восторгались: «Новичка зовут Норберт Гланцберг. Его ритмы соблазнительны, а композиции захватывают, как лучшие творения Фридриха Холландера [автора песен к «Голубому ангелу»]. Он пишет легко и непринужденно, буквально одной левой». «Фальшивый супруг» демонстрировался и в Вюрцбурге. Шмуэль Гланцберг, давно переставший осуждать выбор сына, стоял у входа в кинотеатр и, указывая на афишу, где имя Норберта было выведено большими буквами, гордо повторял: «Это — мой сын!»
Гланцберг сочинял музыку и к другим фильмам, но вскоре УФА перестала сотрудничать с евреями. 15 июля 1932 года журнал «Немецкий фильм» написал о том, что композиторы УФА — сплошь евреи, а немецкую литературу и кино должны создавать только люди, «чувствующие по-немецки». Сам тогдашний гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс выступил по этому вопросу, упомянув конкретно Гланцберга: «Этот маленький галицийский еврей Гланцберг слизывает у молодых светловолосых композиторов масло с хлеба». Позже Норберт с горькой улыбкой вспоминал об этом персональном упоминании как об особой чести.
Травля усугублялась. Однажды вечером хозяйка квартиры встретила Гланцберга на углу перед домом и предупредила: «Не ходите домой — вас ждут двое из гестапо!»
Центром эмиграции для многих немцев в первые годы гитлеровского режима был Париж, и Гланцберг, по примеру коллег, поспешил во Францию. Эмигранты встречались в кафе и беседовали ночи напролет. Нередко там же случалось найти работу. Немецкий писатель Герман Кестен в своей книге «Поэт в кафе» писал: «В эмиграции кафе были домом и родиной, церковью и парламентом, пустыней и полем брани, колыбелью иллюзий и кладбищем».
В Париже Гланцберг встретил Билли Уайлдера, готовившегося к дальнейшему путешествию — в США. «Поехали вместе, Норберт». Но Гланцбергу было трудно представить свою жизнь за океаном. Он и сам не знал, почему. Возможно, это был страх провинциального юноши, да и родители с сестрой оставались в Вюрцбурге, он не хотел еще более удаляться от них.
Нужно было зарабатывать деньги, и комитет беженцев предложил Гланцбергу работу уличного продавца мелких канцелярских принадлежностей, но, как композитор вспоминал впоследствии, среди всех талантов, дарованных ему, талант предпринимательства отсутствовал.
Заработанных франков едва хватало на питание, но все-таки ему удалось взять напрокат аккордеон, и он играл во дворах, а потом шел в эмигрантскую столовую, занимал место за столом, покрытым белой скатертью, получал обед из четырех блюд, стакан вина, и ему казалось, будто вернулась прежняя жизнь.
Затем была работа пианистом в еврейском театре и руководство небольшим ансамблем: аккордеон, контрабас, он сам — за роялем, гитаристом же был легендарный цыган Джанго Рейнхард, автор «Минорного свинга». Они регулярно играли в танцевальных залах и кафе, и именно тогда Гланцберг впитал стиль французской легкой музыки.
*
В это время Эдит Пиаф тоже должна была доказывать самой себе и окружающим, на что способна она, подобранная на улице папашей Лепле, владельцем кабаре на Елисейских Полях. Лепле научил ее репетировать с концертмейстером, выбирать репертуар и вести себя на сцене. Именно он нашел для Эдит псевдоним — Пиаф, «воробышек». Первые выступления были успешными, но вскоре Луи Лепле был убит выстрелом в голову, и Эдит Пиаф оказалась в числе подозреваемых, так как в завещании он оставил ей небольшую сумму. Газеты раздули эту историю, и посетители кабаре, где выступала Эдит, вели себя враждебно, считая, что они вправе «наказать преступницу». Все отвернулись от нее, друзей можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Однажды ансамблю Гланцберга довелось аккомпанировать маленькой певице. На ней болталась бесформенная одежда, на ногах были массивные ботинки, говорила она так, что Гланцберг не разобрал ни слова, а петь не умела вовсе. Голос звучал одновременно и скрипуче, и пронзительно, и к тому же почти не был поставлен. Но какая-то глубокая меланхолия в сочетании с драматизмом исполнения увлекли слушателей. Закончив петь, она спустилась с балкона в зал, к публике, чтобы по обыкновению уличной певицы с жестяной тарелкой в руках собрать чаевые. Тогда никто не предвидел, что через несколько лет Эдит Пиаф станет всемирно известной звездой шансона. И Гланцберг никак не мог предположить той ночью, что однажды от этой малышки будет зависеть его жизнь.
Когда Гланцберг прибыл в 1933 году в Париж, его зарегистрировали не как немца, а как поляка, ведь он родился в Польше. Поэтому уже 6 сентября 1939 года, через 5 дней после нападения Гитлера на Францию, Норберта призвали в пехотные части польской Армии в изгнании под командованием маршала Сикорского, входившей в состав французской армии. Внезапно Норберт Гланцберг, музыкант, антимилитарист, поляк против своей воли, оказался среди решительных и не слишком дружелюбных польских солдат, под бомбежкой немецкой авиации. И Гланцберг бежал; он прошел 200 км до Марселя, где нашел убежище в центре для беженцев под многообещающим названием «Добро пожаловать».
3.

В марсельских кафе, служивших, как и в Париже, местом встречи эмигрантов, Гланцберг сразу же встретил своих прежних коллег и познакомился со многими знаменитостями: Фернанделем, Тино Росси, Морисом Шевалье. И вот, в начале октября 1941 года, в том кафе, где частенько сиживал Норберт, появилась Она, та малышка, которая несколько лет назад в Париже собирала чаевые в жестяную тарелку. Теперь все переменилось. Двадцатипятилетняя Эдит Пиаф была звездой, каждый во Франции знал ее имя. Певице предстояли новые гастроли — «воробей из Парижа собирался облететь Южную Францию». Гланцберг вспоминал: «Она искала пианиста и решила взять меня». В то время немецкие войска заняли Париж, был образован новый правительственный кабинет маршала Петена, чья политика по отношению к евреям отвечала нацистским требованиям.
"Когда я сидел за пианино, внутренний голос часто зло нашептывал мне на ухо: «Все бессмысленно, клавиши пианино поют о будущем, которого не существует. Все равно немцы тебя настигнут. И неважно, когда и где это будет, ты — живой мертвец»."
Как раз когда турне закончилось, положение драматизировалось. Немцы потребовали выдачи евреев и с французскими паспортами, и иностранцев. Проводились облавы, все пойманные были безжалостно депортированы. Эдит Пиаф прятала Гланцберга у бабушки своего секретаря под Марселем. Это стало первым убежищем Гланцберга, за которым последовало много других. Некоторые принадлежали марсельской сети нелегального сопротивления, там не только скрывались люди, но и хранились продукты и одежда. Гланцберг больше не мог выступать, даже выходить на улицу было рискованно. Эдит видела, что петля вокруг шеи «ее Норберта» затягивается, и искала выход. Ее известность помогла найти путь к спасению.
4.

Эдит попросила графиню Лили Пастре предоставить убежище Гланцбергу в своем роскошном замке неподалеку от Марселя. Замок в необарочном стиле был окружен огромным парком с прудами и каналами, засаженным магнолиями и платанами. Бесчисленные маленькие гроты, укрытые кустами, в случае облавы могли стать убежищами, и затворники даже засекали время, которое требовалось, чтобы добежать до них при малейшей угрозе. Помимо Гланцберга, чье пребывание в замке оплачивала Эдит, графиня приютила Клару Хаскил, одну из лучших пианисток мира. Та страдала от рака мозга и ожидала операции, которая впоследствии была успешно проведена прямо в подвале замка. Кроме того, в замке жили хореограф и секретарь Дягилева Борис Кохно, известный сценограф Кристиан Берар и дирижер Мануэль Розенталь, ученик Равеля. Эти деятели искусства создавали для графини своего рода салон, в котором она царила. Лили Пастре многие описывали как эксцентричную особу, гонявшую в спортивном авто и больше всего на свете любившую искусство.
Гланцберга укрывал и композитор Жорж Орик, ставший после войны директором Гранд-Опера. У него был дом в Антибах, где нередко вечерами музицировали гости и сам хозяин. Они забывали об осторожности. Однажды, когда Гланцберг играл на рояле произведения Бетховена, в дверь постучали. Это были немцы, пришедшие напомнить о затемнении. Один из них спросил: «Кто здесь играет музыку моей родины?» Норберт окаменел за инструментом. Солдат смерил его долгим взглядом, повернулся, и незваные гости ушли. Гланцберг был уверен, что это провал, и через много лет еще помнил ужас тех секунд, когда находился между жизнью и смертью.
5.
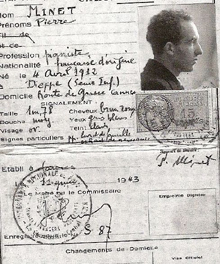
В тот раз обошлось, но 2 мая 1943 года в Ницце в отеле, где он жил по фальшивому паспорту, Гланцберг был схвачен. Ему было разрешено отправить письмо графине Пастре, которая вместе с Эдит и Тино Росси стала добиваться его освобождения. В конце концов известная актриса «Комеди Франсез» и звезда киноэкрана Мари Белл сумела убедить префекта полиции Дурафу принять участие в судьбе талантливого музыканта. Последовало счастливое спасение в машине префекта, который через десятилетия, в 90-х годах, увидев передачу о Гланцберге по французскому телевидению, позвонил ему и напомнил давние события.
6 июня 1944 года состоялась высадка союзников в Нормандии, вскоре Пиаф впервые выступила в дневных спектаклях «Мулен Руж» вместе с молодым Ивом Монтаном, а 24 августа танки французского генерала Леклерка въехали в столицу.
Все деятели искусства, которые выступали во время оккупации, должны были предстать перед «Комитетом по чистке». Среди них и Эдит Пиаф. Норберт Гланцберг неоднократно выступал в этих процессах как свидетель, подтверждая честное имя многих коллег. В пользу Эдит кроме Гланцберга свидетельствовали спасенные ею евреи — композитор Михаэль Эмер и режиссер Марсель Блистен.
Весной 1947 года Гланцберг, сопровождая Тино Росси в гастрольной поездке по Америке, впервые за долгие годы разлуки встретился со своими родителями и сестрой, успевшими эмигрировать буквально в последние мгновенья.
В 1949 году появилась песня, которая стала визитной карточкой Ива Монтана и Гланцбергу принесла большой успех: Les grands boulevards, «Большие бульвары».
А вскоре Пиаф вспомнила о мелодии с пульсирующим мотивом, которую Гланцберг наиграл ей еще в 1942 году. Она позвонила поэту Анри Конте: «Анри, вот мелодия, сочиненная Норбертом, которая преследует меня повсюду. Моя голова просто гудит от нее. Мне быстро нужен чудесный текст». И стала по телефону напевать: «Tada-tada-tada!».
Конте озарило: «Вот оно! Нет более прекрасной истории для шансона! Слова Эдит просто нужно обратить в поэзию! Padam, рadam — как биение сердца. Padam, этот мотив преследует меня день и ночь, он приходит издалека и сводит меня с ума!»
15 октября 1951 года песня «Padam, рadam» была записана на пластинку. Этот шансон обрел бессмертие, воплотившись в бесчисленных версиях и став легендой двадцатого столетия, а с ним и они — Эдит Пиаф и Норберт Гланцберг. Песня перешагнула океан, и мать Норберта с гордостью написала сыну, что много раз слышала его песню по американскому радио.
6.

В 1950-х Гланцберг познакомился с Марией Мазурек, двадцатилетней полькой, выросшей во Франции. Так встретились два человека родом из Польши, католичка и еврей, знающие Восточную Европу лишь по рассказам родителей. Гланцберг, по его словам, был сыт богемными бестиями. Маришка была иной. С ней он чувствовал себя спокойно, именно это и было ему необходимо после всего пережитого. Они поженились 15 января 1952 года, а в ноябре 1959-го родился долгожданный сын Серж. Его фотографии напоминали маме Гланцберг самого Норберта, и она была полна гордости, несмотря на то, что внук не был евреем.
В конце пятидесятых Гланцберг интенсивно сочинял музыку к французским кинофильмам: «Мой дядюшка» с Брижит Бардо, «Михаил Строгов — курьер царя» с Курдом Юргенсом, и любимая многими поколениями «Колдунья» с юной Мариной Влади.
Гланцбергу не удалось получить французское гражданство, а принимать польское или немецкое у него не было желания: «Я решил остаться без гражданства. Ведь принять одно, значит, сделать шаг против другого».
В 1976-м Маришка, которая, казалось бы, всегда зависела от Норберта и была привязана к нему, ушла от мужа. Сын Серж, до того живший то у отца, то у матери, в двадцать лет уехал в Англию — семейная история Гланцбергов повторилась. Молодой человек, пресытившись классической музыкой, постоянно звучавшей дома, обожал рок, Rolling Stones, Джимми Хендрикса и не расставался с электрогитарой, которую отец и за музыкальный инструмент-то не считал. В Англию Серж отправился учиться звукозаписи, так как считал, что в Париже этому научиться нельзя.
7.

Все покинули Гланцберга. Он жил в Нёйи-сюр-Сен, западном пригороде Парижа, столь любимом творческими людьми, где на кладбище покоятся Василий Кандинский, Анатоль Франс, Андре Моруа, Рене Клер и Франсуа Трюффо. Вечера коротал на концертах и в опере, одиночество переносил болезненно. Открыв для себя библиотеку Института Гете, он начал опять читать по-немецки и однажды увидел сборник Der Tod ist ein Meister aus Deutschland («Смерть — мастер из Германии»), составленный из стихов, написанных заключенными в концлагерях, евреями и борцами Сопротивления, большинство из которых погибли. Впечатление было так велико, что Гланцберг, выбрав двенадцать стихотворений, создал вокальный цикл «Песни Холокоста». Гланцберг говорил, что самый веселый мотив звучит у восточноевропейских евреев в миноре. Музыкальное подтверждение этому — «Еврейская сюита» для двух фортепьяно, которую композитор создал, читая книги Исаака Башевиса Зингера и вспоминая рассказы матери.
Имя Гланцберга было популярно во Франции, фильмы с его музыкой демонстрировались во многих странах, но в Вюрцбурге, где он вырос, никому ничего не было известно о его судьбе. Все изменилось в 1997 году — когда в городе была организована выставка, посвященная немецким эмигрантам во Франции.
Вюрцбургская журналистка Астрид Фрайайзен натолкнулась на упоминание о Норберте Гланцберге и, полная любопытства, разыскала его во Франции. Она сама рассказывает об этом так:
"Это было 3 апреля 1997 года. В биографическом справочнике вюрцбургских евреев значилось, что он родился в 1910 году, местожительство в 1982 году — Нёйи-сюр-Сен. Но ведь уже прошло 15 лет..."
Я позвонила в международную справочную и попросила найти парижский номер Норберта Гланцберга. Оператор привычно ответил «Минуточку!», а затем быстро продиктовал цифры. Я была ошеломлена. Если это действительно он, то наверняка уже страдает амнезией, глух и не хочет больше говорить по-немецки после всего, что пережил, а то и просто не помнит немецкий. Но нужно все-таки попытаться, и я решительно набрала номер.
Женский голос ответил по-французски: «Месье Гланцберг в ванной, попробуйте через десять минут». Так просто и почти невероятно! Почему же никто не пробовал отыскать его раньше?
8.

Как только Астрид назвала себя и сообщила, что работает на баварском радио в Вюрцбурге, Гланцберг заплакал. Вспомнил город, театр и консерваторию, в которой учился. По-немецки говорил сначала с запинками, потом все свободнее, остроумно и выразительно, за двадцать минут развернув перед Астрид десятилетия своей жизни. Но не случайно он озаглавил заключительную часть «Еврейской сюиты» «И все же!». Потому что вслед за рассказом о драматических событиях своей жизни, Гланцберг сказал: «Прекрасно. Я хочу еще раз увидеть Вюрцбург и показать там мои сочинения. Нужно найти музыкантов и хорошую вокалистку, например, Ханну Шигула, известную певицу и актрису».
Закончив разговор, Астрид долго не могла прийти в себя. Ночь прошла без сна, а на следующий день в эфир вышла первая радиопередача о Норберте Гланцберге. Позже Астрид написала книгу Chanson für Edith — «Шансон для Эдит».
Композитор, который, рассказывая сыну о Германии, никогда не связывал немецкую культуру с фашизмом и «сладким Адольфом, укравшим его годы», хотел этим возвращением замкнуть круг своей жизни. Вернувшись в город детства почти через семьдесят лет, в 1998 году, Гланцберг бродил по улицам, вспоминал людей и здания и удивлялся новому Вюрцбургу. Концерт состоялся в зале Высшей школы музыки. После опустошительной бомбардировки 16 марта 1945 года от старого здания, в котором учился Гланцберг, остались только ворота, но у композитора не было времени на сентиментальность. Репетируя, он забывал обо всем, ведь им руководило одно желание: именно здесь, в Вюрцбурге, показать, к чему он пришел в конце жизни, поэтому требования к музыкантам были очень высоки.
«Еврейская сюита и «Песни Холокоста» прозвучали при переполненном зале, а когда 88-летний композитор, который от волнения не мог говорить, сел за рояль, чтобы сыграть на бис, все восемьсот зрителей начали подпевать с первых же тактов, причем многие из них только тогда узнали, кто же написал «Падам, падам» и «Большие бульвары».
В 2000 году дирижер Фред Часлин, который был очень близок с Гланцбергом в последние годы, оркестровал «Еврейскую сюиту», что придало ей еще большую выразительность и красочность. После премьеры во Франции и в Израиле произведение впервые прозвучало в Германии в исполнении филармонического оркестра Вюрцбурга, а композитор был награжден премией города в области культуры. Вскоре Даниэль Кляйнер, музыкальный директор театра и художественный руководитель Моцартовского фестиваля, сделал оркестровое переложение фортепьянной партии «Песен Холокоста». Но композитор не успел услышать цикл в таком исполнении — он скончался 25 февраля 2001 года.
В память о Гланцберге премьера «Еврейской сюиты» в Иерусалиме транслировалась по всей Европе, а в день объединения Германии она прозвучала на площади перед рейхстагом в исполнении берлинского молодежного оркестра. На доме, в котором композитор провел 20 лет своей жизни, ныне висит мемориальная доска, а перед каждым Рождеством хор мальчиков исполняет его песню Noël c'est l'amour — «Рождество это — любовь».
Норберт Гланцберг вернулся в Вюрцбург навсегда.
9.
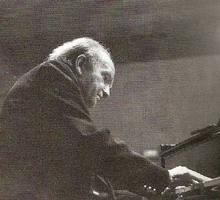
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Взгляд на стихотворение А.С. Пушкина с точки зрения христианской морали. |
26 мая 1828 года (6 июня по новому стилю), в день своего 29-летия, Пушкин пишет стихотворение, наполненное такой горечью, что его назовут «воплем отчаяния». Этот стих «Дар напрасный, дар случайный…» был вызовом поэта. Вызовом, брошенным в небо. Митрополит Московский Филарет на этот вызов ответил. И через столетия то, о чем писали эти два гения, для нас бесконечно важно.
Давно замечено, что уныние почему-то любит посещать нас именно в дни рождения. Но чувство, описанное Пушкиным в этом стихе, не просто уныние – это действительно вопль отчаяния, и пусть нас не обманет сдержанная строгость самого стиха.
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Что предшествовало этому, попробуем разобраться.
В мае 1827 года Пушкин наконец-то получает разрешение жить в Петербурге, а 24 января 1828 года признается: «Шум и суета Петербурга мне становятся совершенно чужды». Пишет он мало. Что пишет? Вот хронологически рядом стихотворное посвящение некоему поэту и беллетристу В.С. Филимонову, вот изящное обращение к английскому художнику Дж. Дау – нарисованный им портрет Пушкина, о котором говорится в стихе, неизвестен. А вот Анна Оленина обмолвилась, сказав поэту «ты», и на другое воскресенье он привозит ей летящее восьмистишье «Ты и Вы».
Все, что удостаивается внимания лиры поэта, попадает в вечность. И вот среди этих изящных безделушек гения датированное 19 маем 1828 года стихотворение «Воспоминание». И перед нами приоткрывается другой, внутренний Пушкин.
Когда …влачатся в тишине
Часы томительного бденья,
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою, Я
трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Очень тонкое и точное описание чувств, но это не все стихотворение. Понимая, что это сокровенное, Пушкин не отдает в печать вторую строфу стиха. Но именно она проливает свет на то, как воспринимал себя по отношению к Богу в этот период поэт:
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в гонении, в степях
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды…
Не просто жалоба, по-человечески такая понятная, приближающая нас к гению, не просто счет обид, предъявленных к жизни, – «неволя, бедность, гонения» и даже изгнание. Здесь жесткая, беспощадная, трезвенная оценка не других – себя. Обратите внимание на строчку «безумства гибельной свободы…» – это точность прозрения. И дальше:
И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые – два данные судьбой
Мне Ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут – и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба…
И тут нужно пояснение. Обратите внимание, любая молитва покаяния несет в себе обращение к Богу. Любая. Великая молитва покаяния, 50-й псалом царя Давида, начинается словами призыва к Богу: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое…»
В основе лежит осознание простой вещи: человек не в силах справиться со своим грехом сам. Но Пушкин бессонниц 1828 года воспринимает своих ангелов-хранителей как стражей, больше того – как мстителей. И этим отрезает себя от Бога. Его власть, власть Бога, воспринимается им как враждебная. Но человек, оставшийся наедине со своим грехом, не сумевший по каким-то причинам воззвать к Господу (помните, как у псалмопевца: «Из глубины взываю к Тебе, Господи…»?), никогда не вырвется из замкнутого круга самоанализа. Он обречен на отчаяние. И Пушкин, по словам Николая I «умнейший человек России», к этому отчаянию и приходит.
Ровно через неделю после «Воспоминания» он так оценит свою жизнь: «дар напрасный…»
И это первый бесценный урок, который мы должны извлечь, читая эти стихи. Отчаяние, сформулированное гением с такой пленительной красотой, самим фактом этой красоты и законченности формы претендовало на то, чтобы быть истиной. Оно становилось соблазном. И переставало быть личным делом поэта. Это поняла своим чутким и пылким сердцем Елизавета Михайловна Хитрово, урожденная Голенищева-Кутузова, дочка фельдмаршала, искренне любившая Пушкина и сумевшая стать ему верным другом. Элиза, так называли ее в свете, повезла стихотворение в Москву, к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). И владыка слагает Пушкину ответ:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забытый мною,
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.
Некоторые предвзятые критики святителя ставят ему в вину эту простоту – мол, незатейливо ответил. Но вчитайтесь: какое чувство такта по отношению к тому, кто власть Творца называет враждебной. Не гневная отповедь – мягкий укор. Что касается простоты, то да, она есть, но эта простота – вершина всего. Это простота молитвы. И сам стих, обратите внимание, заканчивается как молитва. К этой простоте Пушкин придет: незадолго до смерти он переложит на стихи молитву Ефрема Сирина. Он полюбит эту простоту, он ею проникнется.
И это второй урок нам, так легко пленяющимся затейливой сложностью. Пушкин оценил ответ митрополита.
19 января 1830 года он пишет «Стансы», посвящая их митрополиту Московскому Филарету. Стихи недооцененные, хотя все отмечают удивительную гармонию этого стиха. Не только – перед нами божественная красота смирения:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
И дальше первоначальный текст последней строфы:
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
А теперь, внимание, посмотрите, что делает Пушкин в последней строфе! Поэт чуть-чуть усиливает описываемое чувство, он как будто не в силах сдержать свою музу от шалости – не дерзость, но шалость: смирение не делает нас рабами! – и к нам через века летит улыбка живого Пушкина.
И это еще один урок гения.
Молитва в день рождения
Господи, Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого. От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему. Продли и еще милости Твои мне, грешному; продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и согласии со всеми ближними. Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удовлетворению нуждам моим потребно. Наипаче же очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в мире сем жизни, прейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства Твоего небесного. Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей. Аминь.
Мария Городова
Взято с сайта http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46901.htm
Давно замечено, что уныние почему-то любит посещать нас именно в дни рождения. Но чувство, описанное Пушкиным в этом стихе, не просто уныние – это действительно вопль отчаяния, и пусть нас не обманет сдержанная строгость самого стиха.
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Что предшествовало этому, попробуем разобраться.
В мае 1827 года Пушкин наконец-то получает разрешение жить в Петербурге, а 24 января 1828 года признается: «Шум и суета Петербурга мне становятся совершенно чужды». Пишет он мало. Что пишет? Вот хронологически рядом стихотворное посвящение некоему поэту и беллетристу В.С. Филимонову, вот изящное обращение к английскому художнику Дж. Дау – нарисованный им портрет Пушкина, о котором говорится в стихе, неизвестен. А вот Анна Оленина обмолвилась, сказав поэту «ты», и на другое воскресенье он привозит ей летящее восьмистишье «Ты и Вы».
Все, что удостаивается внимания лиры поэта, попадает в вечность. И вот среди этих изящных безделушек гения датированное 19 маем 1828 года стихотворение «Воспоминание». И перед нами приоткрывается другой, внутренний Пушкин.
Когда …влачатся в тишине
Часы томительного бденья,
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою, Я
трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Очень тонкое и точное описание чувств, но это не все стихотворение. Понимая, что это сокровенное, Пушкин не отдает в печать вторую строфу стиха. Но именно она проливает свет на то, как воспринимал себя по отношению к Богу в этот период поэт:
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в гонении, в степях
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды…
Не просто жалоба, по-человечески такая понятная, приближающая нас к гению, не просто счет обид, предъявленных к жизни, – «неволя, бедность, гонения» и даже изгнание. Здесь жесткая, беспощадная, трезвенная оценка не других – себя. Обратите внимание на строчку «безумства гибельной свободы…» – это точность прозрения. И дальше:
И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые – два данные судьбой
Мне Ангела во дни былые!
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут – и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба…
И тут нужно пояснение. Обратите внимание, любая молитва покаяния несет в себе обращение к Богу. Любая. Великая молитва покаяния, 50-й псалом царя Давида, начинается словами призыва к Богу: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое…»
В основе лежит осознание простой вещи: человек не в силах справиться со своим грехом сам. Но Пушкин бессонниц 1828 года воспринимает своих ангелов-хранителей как стражей, больше того – как мстителей. И этим отрезает себя от Бога. Его власть, власть Бога, воспринимается им как враждебная. Но человек, оставшийся наедине со своим грехом, не сумевший по каким-то причинам воззвать к Господу (помните, как у псалмопевца: «Из глубины взываю к Тебе, Господи…»?), никогда не вырвется из замкнутого круга самоанализа. Он обречен на отчаяние. И Пушкин, по словам Николая I «умнейший человек России», к этому отчаянию и приходит.
Ровно через неделю после «Воспоминания» он так оценит свою жизнь: «дар напрасный…»
И это первый бесценный урок, который мы должны извлечь, читая эти стихи. Отчаяние, сформулированное гением с такой пленительной красотой, самим фактом этой красоты и законченности формы претендовало на то, чтобы быть истиной. Оно становилось соблазном. И переставало быть личным делом поэта. Это поняла своим чутким и пылким сердцем Елизавета Михайловна Хитрово, урожденная Голенищева-Кутузова, дочка фельдмаршала, искренне любившая Пушкина и сумевшая стать ему верным другом. Элиза, так называли ее в свете, повезла стихотворение в Москву, к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). И владыка слагает Пушкину ответ:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забытый мною,
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.
Некоторые предвзятые критики святителя ставят ему в вину эту простоту – мол, незатейливо ответил. Но вчитайтесь: какое чувство такта по отношению к тому, кто власть Творца называет враждебной. Не гневная отповедь – мягкий укор. Что касается простоты, то да, она есть, но эта простота – вершина всего. Это простота молитвы. И сам стих, обратите внимание, заканчивается как молитва. К этой простоте Пушкин придет: незадолго до смерти он переложит на стихи молитву Ефрема Сирина. Он полюбит эту простоту, он ею проникнется.
И это второй урок нам, так легко пленяющимся затейливой сложностью. Пушкин оценил ответ митрополита.
19 января 1830 года он пишет «Стансы», посвящая их митрополиту Московскому Филарету. Стихи недооцененные, хотя все отмечают удивительную гармонию этого стиха. Не только – перед нами божественная красота смирения:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
И дальше первоначальный текст последней строфы:
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
А теперь, внимание, посмотрите, что делает Пушкин в последней строфе! Поэт чуть-чуть усиливает описываемое чувство, он как будто не в силах сдержать свою музу от шалости – не дерзость, но шалость: смирение не делает нас рабами! – и к нам через века летит улыбка живого Пушкина.
И это еще один урок гения.
Молитва в день рождения
Господи, Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого. От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему. Продли и еще милости Твои мне, грешному; продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и согласии со всеми ближними. Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удовлетворению нуждам моим потребно. Наипаче же очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в мире сем жизни, прейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства Твоего небесного. Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей. Аминь.
Мария Городова
Взято с сайта http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46901.htm
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Жизнь, зачем ты мне дана |
Грустное стихотворение А.С. Пушкина через 60 лет вдруг вызвало у меня такой отклик
Шутил и пел с утра до пОлночи,
Шагая в будничном строю.
Теперь, сменив ремень на помочи,
Мажорных песен не пою.
Казалось- силы безграничные,
Упругий мускул, мощный дух.
А на поверку-плоть обычная,
Душа, что тополиный пух.
Осталось жизни на копеечки.
И всё же, получив под дых,
Жалею, сидя на скамеечке,
Снующих мимо молодых.
Им столько лет придётся мучиться,
Любить, страдать, терпеть, не ныть,
Страшиться старости- разлучницы
И напоследок тихо сгнить.
И потечёт слеза невольная,
Из глаз, одетых пеленой.
И - мысль последняя, крамольная:
«Зачем всё было, Боже мой?»
Самодовольные, спесивые,
Качают мышцы, пьют вино.
Нужны ли им слова правдивые?
Ведь не услышат всё равно.
июнь 2014г
Шутил и пел с утра до пОлночи,
Шагая в будничном строю.
Теперь, сменив ремень на помочи,
Мажорных песен не пою.
Казалось- силы безграничные,
Упругий мускул, мощный дух.
А на поверку-плоть обычная,
Душа, что тополиный пух.
Осталось жизни на копеечки.
И всё же, получив под дых,
Жалею, сидя на скамеечке,
Снующих мимо молодых.
Им столько лет придётся мучиться,
Любить, страдать, терпеть, не ныть,
Страшиться старости- разлучницы
И напоследок тихо сгнить.
И потечёт слеза невольная,
Из глаз, одетых пеленой.
И - мысль последняя, крамольная:
«Зачем всё было, Боже мой?»
Самодовольные, спесивые,
Качают мышцы, пьют вино.
Нужны ли им слова правдивые?
Ведь не услышат всё равно.
июнь 2014г
![]() Вложение: 4117109_26_maya_1828_goda.doc
Вложение: 4117109_26_maya_1828_goda.doc
|
|
Счастливые сны |
Толкователь снов Цветкова примечателен тем, что он предлагает не только пассивно толковать сновидения «постфактум». Как считает этот оккультист, сны можно самому конструировать и посредством этого исполнять собственные желания, корректируя естественный ход событий.В своей книге «Счастливые сны» автор приводит несколько
прошений-заклинаний на вещий сон,обещающий счастье.Например:
Ударил Гром-забил Родник
Скорее в Замок,к Фее,
Где Гвоздь забит,и всякий миг
Звезда катится в мой Родник,
И кожа шелковеет.
А вот моё прошение-заклинание,в котором объединены вещие сны,предвещающие богатство,власть,радость, устройство дел,здоровье,желанного гостя,выздоровление,удачу,
счастье.
Горбатый я и молодой, с растущей чёрной бородой
Чесотка. Холод, как во льду. Гнилым болотом я бреду.
Несу с собою рыбий хвост ,давно протухший и гнилой
И зажимаю длинный нос покрытой язвами рукой.
Вот предо мной большой амбар .Вхожу, мету полы- и вдруг
Ко мне подходит мёртвый лев, держа в зубах большой сундук.
Наполнен тканями: парчой, шелками, воинским сукном.
Разгладил ткани я рукой- смотрю ,на ней парша и гной.
Красотка с длинною косой и с ней безумный дурачок.
Просил их- дали свежий хлеб и на ладошку пятачок.
Иду по снежной белизне, и птица белая кружит.
Струятся чистые ручьи, а на деревьях снег лежит.
Если читать эти стихи на сон грядущий,глядишь и приснится счастливый сон, и воплотится на-яву ,и сбудутся самые смелые желания.
прошений-заклинаний на вещий сон,обещающий счастье.Например:
Ударил Гром-забил Родник
Скорее в Замок,к Фее,
Где Гвоздь забит,и всякий миг
Звезда катится в мой Родник,
И кожа шелковеет.
А вот моё прошение-заклинание,в котором объединены вещие сны,предвещающие богатство,власть,радость, устройство дел,здоровье,желанного гостя,выздоровление,удачу,
счастье.
Горбатый я и молодой, с растущей чёрной бородой
Чесотка. Холод, как во льду. Гнилым болотом я бреду.
Несу с собою рыбий хвост ,давно протухший и гнилой
И зажимаю длинный нос покрытой язвами рукой.
Вот предо мной большой амбар .Вхожу, мету полы- и вдруг
Ко мне подходит мёртвый лев, держа в зубах большой сундук.
Наполнен тканями: парчой, шелками, воинским сукном.
Разгладил ткани я рукой- смотрю ,на ней парша и гной.
Красотка с длинною косой и с ней безумный дурачок.
Просил их- дали свежий хлеб и на ладошку пятачок.
Иду по снежной белизне, и птица белая кружит.
Струятся чистые ручьи, а на деревьях снег лежит.
Если читать эти стихи на сон грядущий,глядишь и приснится счастливый сон, и воплотится на-яву ,и сбудутся самые смелые желания.
|
|
Подробности о дуэлях А.С.Пушкина |
Оригинал взят у 19viv69 в "Звал друга Ленский на дуэль" или ... история дуэлей А.С.Пушкина ...
В начале 19 века в России, да и не только в России в моде были дуэли: мужчины вызывали друг друга практически по любому поводу, а женщины, вероятно, гордились, что за них стреляются...
Эта традиция сыграла роковую роль в жизни А.С. Пушкина - сам он учавствовал, по некоторым данным, в 35 дуэлях.
Интересную статистику по этому поводу нашёл у hojja_nusreddin
История жизни - история дуэлей великого русского поэта...
1816 год.
1. Пушкин вызвал на дуэль Павла Исааковича Ганнибала, двоюродного дядю и соседа по имению, у которого гостил.
Причина: Павел отбил на балу у 17-летнего Пушкина перезрелую девицу Лошакову (между прочим, далеко не красавицу, со вставными зубами).
Друзья и родные уговорили вспыльчивого юношу помириться. А дядя сочинил экспромт:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей Богу, Ганнибал
Не подгадит ссорой бал!
Итог: дуэль отменена, примирение, объятия и пирушка.
1817 год (выпущен из Лицея).
2. Пушкин вызвал на дуэль гусара и поэта Петра Каверина, своего друга.
Причина: сочиненные Пушкиным шутливые стихи "Молитва лейб-гусарских офицеров".
На дежурстве гусара, графа Завадовского, Пушкин написал шуточные стихи на дюжину гусарских офицеров;
оброненная бумажка с этими стихами была поднята гусаром Пашковым, который обиделся на насмешку против него и обещал «поколотить» Пушкина;
тогда Завадовский принял вину на себя, вследствие чего у него произошла ссора с Пашковым, грозившая кончиться дуэлью между ними.
Но многие гусары обиделись на Пушкина, включая Каверина, к которому относились следующие стихи из «Молитвы»:
Избави, Господи...
Любомирскаго чванства,
Каверина пьянства.
Произошла размолвка и брошен был вызов.
Но Пушкин написал извинительное к Каверину послание:
Забудь, любезный мой Каверинъ,
Минутной рѣзвости нескромные стихи...
Командир гвардейского корпуса князь И.В. Васильчиков принял меры к примиренью остальных поссорившихся.
Размолвка пріятелей продолжалась не долго, и добрыя ихъ отношенія возстановились, такъ какъ Пушкинъ упоминаетъ въ «Онѣгинѣ»
(1 гл., строфа XVI) о пирушкахъ съ Каверинымъ въ ресторанѣ Талона.
Итог: дуэль отменена.
1818 год (Ода "Вольность").
3. Пушкина вызвал на дуэль его друг и соученик по лицею, поэт Вильгельм Кюхельбекер.
Причина: Кюхельбекер был выведен из себя многолетними насмешками Пушкина.
Последней каплей явилась эпиграмма, высмеивающая фамилию Вильгельма.
Учитель и один из ближайших друзей Пушкина - Василий Жуковский принимал Кюхельбекера не очень охотно.
Однажды на вопрос Пушкина, отчего он не был на вечере, Жуковский ответил, что еще накануне расстроил себе желудок.
А потом добавил: "К тому же пришел Кюхельбекер, притом Яков (слуга Жуковского) дверь запер по оплошности и ушел".
Позже, Пушкин, встретив Кюхельбекера на балу, лукаво прочел ему свои новые стихи:
За ужином объелся я.
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
Итог: оба выстрелили, но пистолеты были заряжены (друзьями) клюквою.
По другим свидетельствам, oни явились на Волково поле и затеяли стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе.
Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя.
Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера.
Решили, что Пушкин будет стрелять после. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал: „Дельвиг! стань на мое место, здесь безопаснее".
Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, он сделал пол-оборота и пробил фуражку на голове Дельвига.
„Послушай, товарищ, — сказал Пушкин, — без лести — ты стоишь дружбы; без эпиграммы — пороху не стоишь", — и бросил пистолет».
1819 год (Завершение "Руслана и Людмилы". Ранняя Всероссийская слава. 2 дуэли).
4. Пушкин вызвал на дуэль соседа, приятеля и соученика по лицею - барона Модеста Корфа, служащего по министерству юстиции.
Причина: слуга Пушкина Козлов ворвался пьяным в прихожую Корфа и пристал к его камердинеру, за что Корф слугу Пушкина поколотил.
Корф язвительно ответил Пушкину: «Не принимаю вашего вызова из-¬за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».
Итог: дуэль отменена.
5. Пушкин вызвал на дуэль пожилого майора Денисевича.
Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре - громко зевал, шикал и кричал на артистов, разговаривал и т.д.
Денисевич, будучи соседом Пушкина по креслам, отечески пожурил его:
"Молодому человеку нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу".
Приезд Пушкина с двумя секундантами, гвардейскими офицерами (один из них, вероятно, П.А. Катенин) на квартиру Денисевича.
Вмешательство И.И. Лажечникова, уговорившего Денисевича извиниться перед Пушкиным.
Итог: дуэль отменена; извинился Денисевич.
(Впоследствии, в письме к кн. Вяземскому, Пушкин вспоминал об этой истории, как об одной из тех мальчишеских проказ, которые повторять не следует)
1820 год (замысел "Онегина". 4 дуэли).
6. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева.
Причина: в Петербурге был пущен (графом Фёдором Толстым) слух, будто Пушкина высекли в Тайной Канцелярии за оскорбление Государя в стихах, а Рылеев имел неосторожность повторить это в светской гостиной.
"Отметили дистанцию в 15 шагов, развели дуэлянтов по 10 и дали команду на сближение.
Видно было, что Рылеев нервничает. Пушкин рассчитал свои шаги так, что первым к барьеру подошел Рылеев и первым выстрелил.
Пушкин, остановившись после выстрела, поднял пистолет, спокойно прицелился в Рылеева и был уверен, что не промахнется, но злость прошла;
он поверил, что Рылеев не злословил в его адрес, а лишь констатировал слух.
Вдруг он будто услышал голос: гений и злодейство - несовместимы.
…Поднял пистолет и выстрелил в воздух.
К нему бросились секундант и дядька. Пушкин отдал пистолет секунданту, отстранил дядьку и бодрым шагом направился к почтовой станции."
24 марта 1825 г. Пушкин напишет Александру Бестужеву из Михайловского в Петербург:
«Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? …Он в душе поэт.
Я опасаюсь, его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай – да черт его знал.
Жду с нетерпением «Войнаровского» и перешлю ему свои замечания. Ради Христа! Чтоб он писал – да более, более!».
Конечно, это шутливый текст, но свидетельствующий об истинной дуэли между ними.
Итог: дуэль состоялась.
7,8. Пушкин вызвал на дуэль сразу двоих - заслуженных ветеранов-полковников Фёдора Орлова и Алексея Алексеева.
Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечания за то, что тот, пытаясь в пьяном виде играть в бильярд, мешал окружающим.
Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников поучают.
«Пушкин засмеялся над Федором Орловым, тот выкинул его из окошка;
(Пушкин был небольшого роста, Федор Орлов — великан, силач, из породы знаменитых Орловых XVIII века, одноногий после войны).
Пушкин вбежал опять в биллиард, схватил шар и пустил в Орлова, попав ему в плечо.
Орлов бросился на него с кием, но Пушкин выставил два пистолета и сказал: 'убью'. Орлов отступил».
Все необыкновенно в этой сцене, но особенно удивляют два пистолета, вдруг оказавшиеся при Пушкине.
Идя домой из биллиардной, Пушкин уже раскаивался и говорил своему секунданту: «Скверно, гадко; да как же кончить?»
Итог: секундант помирил участников, дуэль отменена.
9. Пушкин вызвал на дуэль егерского штабс-капитана Ивана Друганова, адъютанта генерала М.Ф. Орлова.
Причина: безо всяких оснований.
Из воспоминаний князя Горчакова:
"Пушкин схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника.
В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться, стал предлагать биться. Друганов отказывался.
Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребенок, стал шутя затрагивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукой.
Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить их раздор, я попросил Пушкина прочесть молдавскую песню.
Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением".
Итог: дуэль не состоялась.
1821 год ("Гаврилиада". 2 дуэли).
10. Пушкин вызвал на дуэль одного французского эмигранта, некоего барона де С... .
Причина: неизвестна.
Француз, "имея право избирать оружие, предложил ружье, ввиду устрашающего превосходства, с которым противник его владел пистолетом".
Итог: примирение было достигнуто "благодаря веселью, которое этот новейшего рода поединок вызвал у секундантов и противников, ибо Пушкин любил посмеяться".
11. Пушкин вызвал на дуэль бывш. офицера французской службы Дегильи.
Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами.
Француз избрал сабли, но струсил и расстроил дуэль, сообщив о ней властям.
Итог: дуэль не состоялась.
1822 год ("Кавказский Пленник", "Братья-разбойники". Кишинёвская тоска. 9 дуэлей).
12. Пушкина вызвал на дуэль егерский подполковник Семен Старов, который слыл заправским дуэлянтом и храбрецом (старше Пушкина на 20 лет).
Причина: Пушкин не поделил ресторанный оркестрик при казино с молодым офицером, который был под началом у Старова;
тот заказал кадриль, а Пушкин после этого заказал мазурку, что музыканты и исполнили, зная его щедрость.
Показательно, что вызов поэту был направлен не кем-либо из непосредственно участвовавших в размолвке младших офицеров,
а — от их имени — находившимся тут же командиром 33-го егерского полка Старовым, значительно превосходившим Пушкина чином.
Такой вызов противоречил требованию равенства противников и явно представлял собой попытку осадить нахального штатского мальчишку.
Предполагалось, очевидно, что Пушкин испугается дуэли и пойдет на публичное извинение. Далее события развивались в следующем порядке.
Старов «подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру:
«Вы сделали невежливость моему офицеру, — сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина, —
так не угодно ли Вам извиниться перед ним, или Вы будете иметь дело лично со мной».
— «В чем извиняться, полковник, — отвечал быстро Пушкин, — я не знаю; что же касается до Вас, то я к вашим услугам».
«Так до завтра, Александр Сергеевич». — «Очень хорошо, полковник».
Пожав друг другу руки, они расстались.
Погода была ужасная: метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета...
Первый барьер был на 16 шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже;
Старов просил снова зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: 'И гораздо лучше, а то холодно".
Предложение секундантов прекратить поединок было обоими отвергнуто... Барьер определили на 12 шагов, и опять 2 промаха.
Оба противника хотели продолжать, ещё сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились,
и так как нельзя было примирить их, то поединок отложили до прекращения метели».
Я жив,
Старов здоров,
Дуэль не кончен.
-- записка Полторацкому, январь 1822
Вскоре противников удалось помирить, и тут Старов сказал Пушкину:
«Вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете».
Итог: стрелялись дважды, но оба раза промахнулись.
(Спустя несколько дней, в ресторане Пушкин запрещает молодым людям, обсуждающим его дуэль со Старовым, дурно отзываться о последнем, грозя в противном случае вызвать на дуэль их.)
13. Пушкинa вызвал на дуэль 65 летний статский советник Иван Ланов.
Причина: ссора во время праздничного обеда у наместника Бессарабии Инзова.
Ланов утверждал, что вино лечит все болезни; Пушкин насмешливо ему возразил: "И горячку?".
Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа.
Тогда Ланов вызвал Пушкина, но тот только хохотал, видя, как Ланов настаивает, рассказывая о своих поединках при князе Таврическом, сказав ему:
«Когда то было... А теперь?»
И сочинил экспромтом эпиграмму:
«Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.»
Ланов выходил из себя, тем более, что сказанное Пушкиным вызвало более или менее сдерживаемый смех каждого из присутствовавших...
Ланов несколько успокоился тогда только, когда Пушкин принял его вызов.
Инзов, услышав смех в столовой или уведомленный о случившемся, возвратился в столовую и скоро помирил их.
Ланов, из чинопочитания к Инзову, согласился оставить все без последствий, а Пушкин был очень рад, что не сделался смешным.
Инзов устроил так, что с тех пор Пушкин с Лановым не встречались уже за столом вместе.
Итог: дуэль отменена.
14. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу, боярина Тодораки ("Тадарашку") Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии,
героя следующей пушкинской сатиры:
Вот еврейка с Тадарашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею:
Ах, еврейка, бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет!
-- "Раззевавшись от обедни", весна 1821.
Причина: Пушкину показалась недостаточно учтивой реплика супруги Балша - Марии,
в ответ на высказывание Пушкина: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя!».
Перед этим Пушкин пытался дерзко ухаживать за ней и за её 12 летней дочерью - Аникой.
Пушкин наговорил ей в ответ грубостей и, дав пощёчину "Тадарашке", вынул пистолет, вызывая его на дуэль.
Из замечаний князя В.П. Горчакова на записи «Из дневника и воспоминаний» И.П. Липранди (секунданта Пушкина):
"...Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже".
Поединок предотвратил генерал Инзов, посадив Пушкина под домашний арест на 2 недели.
Итог: дуэль отменена.
(Выйдя из-под ареста, Пушкин уже не носил пистолет, но идя на улицу, вооружался железной палкой для тренировки твёрдости руки, владея ею «с ловкостью,
достойною известного в свое время фехтовальщика Мортье».
Об этой палке много говорят в Кишиневе)
15. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика Kарла Прункулa.
Причина: оба были секундантами на дуэли, где Пушкину не понравилось выражение, сказанное Прункулом во время обсуждения условий:
"Мы съехались с Пушкиным, и трактат начался. Но как понравится вам оборот дела?
Александр Сергеевич в разговоре со мною, решительно не могу вам сказать за какие, да и были ли они, 'обидные выражения' вызвал на дуэль меня.
«Ты шутишь, Пушкин?» Я не мог не принять его слова за шутку.
«Нисколько! Драться с тобой я буду, — ну, мне этого хочется, только ты должен обождать.
Я уже дерусь с двумя господами; разделавшись с ними — к твоим услугам, Карл Иванович...»
-- из воспоминаний К.И. Прункула.
Итог: дуэль отменена.
16. Пушкин вызывает на дуэль 60-летнего сенатора, члена Гос. Совета, графа Северина Осиповича Потоцкого.
Причина: дискуссия о крепостном праве за обеденным столом наместника Бессарабии Инзова.
Потоцкий уступил. На замечание кого-то, что Пушкин чересчур жарко оспаривал сенатора, поэт отвечает по-французски:
«О, если бы Потоцкий не уступил мне, я дал бы ему пощечину».
Итог: дуэль отменена.
(После этого эпизода Потоцкий был с Пушкиным на короткой ноге, уже в ноябре 1823 г. Пушкин обращался к графу по поводу семейных преданий о похищении Марии Потоцкой крымским ханом - сюжет поэмы «Бахчисарайский фонтан»).
17. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский.
Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и осмеял отставного офицера.
"Офицер ... вышед из терпения, сказал только: 'Если вам верят, почему же вы не хотите верить другим?'. Этого было довольно.
Лишь только успели встать из-за стола и наместник вышел в гостиную, началось объяснение чести.
Пушкин назвал офицера подлецом, офицер его мальчишкой, и оба решились кончить размолвку выстрелами.
Офицер пошел с Пушкиным к нему, и что у них происходило, это им известно.
Рутковский рассказал, что на него бросились с ножом, а Смирнов, что он отвел удар Пушкина;
но всего вернее то, что Рутковский хотел вырвать пистолеты и, вероятно, собирался с помощью прибежавшего Смирнова попотчевать молодого человека кулаками,
а сей тогда уже принялся за нож.
К счастью, ни пуля, ни железо не действовали, и в ту же минуту дали знать наместнику,
который велел Пушкина отвести домой и приставить к дверям его караул".
--- П.И. Долгоруков. Из дневника 1822 г.
Поединок в очередной раз предотвратил Инзов, посадив Пушкина под домашний арест.
Итог: дуэль отменена.
18. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского олигарха Инглези.
Причина: роман Пушкина с его женой - цыганкой Людмилой Шекорой.
Генерал Инзов опять посадил Пушкина под арест на 10 дней, а Инглези был вручен билет с «разрешением выезда за границу».
Инглези правильно понял значение этого «подарка» и выехал вместе с женой из Кишинева...
Итог: дуэль отменена.
19. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов.
Причина: Пушкин публично обвинил Зубова в картёжном шулерстве, заметив, что тот играет наверное,
и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши.
Слова эти, конечно, разнеслись, вышло объяснение, и 3убов вызвал Пушкина драться.
«Понятно, — сказал Пушкин, — мы стреляемся. Я вызов ваш принимаю.
Попадете ли вы в меня или не попадете — это для меня равно ничего не значит, но для того, чтобы в вас было больше смелости,
предупреждаю: стрелять я в вас совершенно не намерен... Согласны?»
Противники отправились на так называемую малину, виноградник за Кишиневом.
На поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял.
(Этот мотив был им позднее использован в рассказе «Выстрел»).
Итог: Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам Пушкин от выстрела отказался,
спрoсив Зубова: «Довольны вы?» Зубов бросился с объятиями. «Это лишнее», — сказал Пушкин,
сунул незаряженный пистолет себе под мышку и отвернулся...
20. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского грека-фанариота (Скину?).
Причина: грек удивился, как мог Пушкин не знать какую-¬то книгу, о которой случайно зашла речь: «Как! Вы поэт и не знаете об этой книге?!»
Итог: дуэль отменена.
1823 год (Начало "Онегина").
21. Пушкин вызвал на дуэль бессарабского помещика, писателя-дилетанта Ивана (Янко) Яковлевича Руссо.
Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне.
"Янко провел 15 лет за границей, преимущественно в Париже, бессарабцы смотрели на него как на чудо, по степени образованности, и гордились им.
Он был лет 30, тучен, с широким лицом, изображавшим тупость и самодовольство; всегда с тростью,
под предлогом раны в ноге, будто бы полученной им на поединке во Франции.
Он вытвердил несколько имен французских авторов и ими бросал пыль в глаза соотечественников своих, не понимающих по-французски.
Любезничал с женщинами и искал всегда серьезных разговоров: не был застольным товарищем; в карты не играл и, кроме воды, ничего не пил.
Пушкин чувствовал к нему антипатию, которую скрывать не мог, и полагаю, что к этой ненависти много содействовало и то,
что Руссо не был обычного направления тогдашней кишиневской молодежи, увивавшейся за Пушкиным. Самодовольствие Руссо вызывало Пушкина из себя.
Однажды за столом начали расточать похвалы Янке Руссо, что очень нравилось его двум-трем тут бывшим соотечественникам,
но чего не выносил Пушкин, вертевшийся от нетерпения на стуле; видно было, что накипь у него усиливалась.
Когда было сказано «C'est notre Jean-Jacques Rousseau», Пушкин не в силах был более удерживать себя;
вскочил со стула и отвечал уже по-русски: «Это правда, что он Иван, что он Яковлевич, что он Руссо, но не Жан-Жак, а просто рыжий дурак!» (roux sot):
он действительно несколько рыжеват. Эта выходка заставила всех смеяться."
Итог: дуэль отменена.
1824 год («Бахчисарайский фонтан» 1 дуэль).
22. Несостоявшаяся дуэль Пушкина с неизвестным.
Итог: противник отказывается стрелять, и Пушкин «отпускает его с миром».
-- письмо А.И. Тургенева к кн. Вяземскому; Даль, 1907, с. 65.
1826 год (конец ссылки в Михайловском. 2 дуэли).
23. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества.
Причина: Тургенев обругал эпиграммы Пушкина против правительства.
"Тургенев был суровым моралистом, занимал ответственные должности в Гос. совете, и Министерстве финансов, относясь ко службе весьма серьезно.
«Он не раз давал чувствовать Пушкину, что нельзя брать ни за что жалование и ругать того, кто дает его».
Пушкин, вызвав Тургенева, тут же одумался и с извинением взял вызов обратно".
Итог: дуэль отменена.
24. Пушкин вызвал на дуэль известного бретёра, отставного гвардейского офицера, ветерана войны 1812 г., графа Ф.И. Толстого ("Американца").
Причина: оскорбительный слух о том, что Пушкина высекли в Тайной Канцелярии, пущенный Толстым в столице гораздо ранее этой дуэли - в 1820 г. (см. выше).
Со стороны Толстого это было ответом на едкую эпиграмму самого Пушкина:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор.
Кроме того, Пушкин заклеймил Толстого в послании «Чаадаеву»:
«Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор».
Толстой был азартным картёжником, послужившим прототипом героям Пушкина (Зарецкий), Грибоедова (Репетилов) и Л. Толстого (Долохов), давшим Пушкину следующий повод для этой эпиграммы.
Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул.
Пушкин заметил ему это. «Да я и сам это знаю, — отвечал ему Толстой, — но не люблю, чтобы это мне замечали».
К моменту вызова Пушкиным, Толстой считался опасным дуэлистом, убив на дуэлях уже 11 человек. Общим друзьям, однако, удалось их тогда помирить.
Итог: дуэль отменена.
Свое первоначальное суждение о Толстом Пушкин впоследствии, в письме к брату Льву, назвал «резким и необдуманным».
3 года спустя Пушкин избрал Толстого посредником при сватовстве к Наталье Гончаровой. Именно ему удалось довести это сватовство до успеха.
Надо отметить все же, что это стало очередным роковым достижением Федора Толстого...
1827 год.
25. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский.
Причина: княжна Софья Урусова, в которую Соломирский был влюблён, предпочитавшая Пушкина.
Повод: некорректное высказывание Пушкина о графине A.В. Бобринской.
Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа счел нужным обидеться:
"Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе?" - задорно обратился он к Пушкину.
"Я хорошо знаю графиню, это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов".
"Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ? - отвечал Пушкин.
"Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ,
и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию".
Гости разошлись, но наутро Соломирский послал Пушкину вызов. Однако секунданты, решив, что убийство Пушкина их обесчестит, свели дело к миру.
Итог: дуэль отменена.
1828 год (Знакомство с Натальей Гончаровой. 2 дуэли).
26. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения, князя Александра Голицына.
Причина: министр по поручению царя допрашивал Пушкина по поводу гнусной поэмы "Гаврилиада".
Допрос вёлся с пристрастием, ибо ещё в 1823 г. Пушкин написал на министра-гомосексуалиста злую эпиграмму:
Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
От дуэли противников удержал поэт и публицист Федор Глинка.
Итог: дуэль отменена.
27. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене.
Причина: когда Пушкин подошел к одной даме (графине Закревской?), которая разговаривала с Лагрене на балу;
Пушкину послышалось будто Лагрене сказал ей: «Пошлите его прочь».
Но Лагрене заявил, что не произносил ничего подобного и глубоко уважает Пушкина как поэта.
Итог: дуэль отменена.
1829 год.
28. Пушкин вызвал на дуэль чиновникa Министерства Иностранных Дел, камер-юнкера, графa Хвостовa.
Причина: Хвостов выразил недовольство эпиграммой Пушкина:
"В гостиной свиньи, тараканы и камер¬юнкер, граф Хвостов".
"Пушкин нашел на станции по дороге во Псков камер-юнкера, графа Хвостова, читающего книгу,
по стенам ползало множество тараканов, вдобавок в дверь влезла свинья.
Пушкин описал, как оно было в натуре, но это не понравилось Хвостову в стихе.
Не помню, как их помирили".
-- Н. А. Маркевич, "Из воспоминаний"
Итог: дуэль отменена.
1836 год (Смерть матери. 4 дуэли).
Милюков так комментирует дуэльные истории последнего пушкинского года:
«Тут проявляется уже ясно особый мотив дуэлянта — Пушкин искал смерти.
29. Пушкин вызвал на дуэль чиновника, графа Владимира Соллогуба.
Причина: Наталья Пушкина, сама шутившая с Соллогубом на балу по поводу его расстроившейся недавно помолвки,
почему-¬то сочла непристойным вопрос, заданный ей в ответ Соллогубом: «Давно ли вы замужем?».
Пушкин, требуя объяснений, послал Соллогубу письмо, не дошедшее до него, ибо он уехал в служебную командировку.
Итог: Дело на время заглохло.
30. Пушкин вызвал на дуэль чиновника Министерства Иностранных Дел, богача Семёна Хлюстина, участника Турецкой войны 1828 — 1829 гг.
(племянникa известного графа Ф.И. Толстого-'американца')
Причина: в разговоре с Пушкиным тот процитировал обидную для Пушкина фразу из статьи Сенковского.
Итог: дуэль отменена.
31. На следующий день после вызова Хлюстина, Пушкин письменно затребовал объяснений от генерала от кавалерии, члена Государственного совета, князя Н.Г. Репнина.
Причина: будто бы неуважительный отзыв Репнина о Пушкине в разговоре с третьим лицом.
Пушкин опубликовал сатиру "На Выздоровление Лукулла", жестоко высмеивавшуя гомосексуалиста, министра просвещения, графа Уварова
(автора лозунга "Православие, Самодержавие, Народность"). O ней и отозвался дурно князь Репнин.
http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol03/y03-404-.htm
В письме Пушкина не было ещё прямого вызова, но были намеки на возможность дуэли в случае неудовлетворительных объяснений:
«некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные» для него отзывы, якобы исходящие от князя, и заканчивает обращением: «Прошу ваше сиятельство не отказать
сообщить мне, как я должен поступить»(ориг. по-фр.).
Репнин ответил Пушкину наставительным письмом.
Итог: дуэль предотвращена.
32. Пушкин повторно вызвал на дуэль графа Владимира Соллогуба.
Причина: он получил, наконец, письмо с объяснениями Соллогуба (см. выше), но счел их недостаточными и послал Соллогубу другой вызов через вышеупомянутого Хлюстина:
«обстоятельства не позволяют <ему>... отправиться в Тверь <на поединок> раньше конца марта месяца».
Вернувшись в Москву, Соллогуб встретился с Пушкиным в доме Пущина:
"... мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался черезвычайно весел и дружелюбен...".
Итог: дуэль предотвращена.
33. Пушкин вызвал на дуэль француза на русской службе - гвардейского офицера, барона Жоржа Дантеса-Геккерна.
Причина: анонимные пасквили на французском языке, в которых Пушкину присваивался «диплом заместителя великого магистра ордена рогоносцев»;
в «дипломе» содержался косвенный намёк на внимание к Наталье Пушкиной со стороны самого царя.
Хотя в этих анонимных пасквилях имя Дантеса и не было названо, развязные ухаживания Дантеса за Натальей Пушкиной
сами по себе давали повод Пушкину требовать удовлетворения.
Последствия: через неделю после вызова Жорж Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой —
сестре Натальи и, соответственно, свояченице Пушкина.
Царь Николай I дал Пушкину аудиенцию при посредничестве придворного поэта В.А. Жуковского.
Пушкин был вынужден отозвать свой вызов; однако, отказывался иметь какие-либо отношения с Дантесом и его приёмным отцом -
послом Нидерландов Геккерном, что задевало их обоих и приводило к дальнейшему обострению ситуации.
Итог: дуэль отменена.
1837 год.
34. Пушкина вызвал на дуэль гвардейский офицер, барон Жорж Дантес-Геккерн.
Повод: анонимное письмо, полученное Пушкиным, где утверждалось, будто жена Пушкина изменяет ему с Дантесом.
Причина: Пушкин отправил Геккерну-отцу чрезвычайно резкое письмо (сочинённое им ещё во время первого конфликта в ноябре 1936 г.),
где, оскорбляя как отца, так и приёмного сына, отказал им от дома.
Пушкин знал, что такое письмо неизбежно приведёт к новой дуэли.
В тот же день Луи Геккерн (через секретаря французского посольства виконта д’Аршиака) объявил Пушкину письмом,
что от его имени Дантес делает ему вызов; Дантес приписал, что это письмо писано с его согласия.
Пушкин без обсуждения принял весьма жёсткие условия дуэли, составленные виконтом д’Аршиаком.
Итог: стрелялись, оба попали, Пушкин скончался от ранения 29 января 1837 года, а Дантес дожил до глубокой старости.
Неизвестный год.
35. Имя соперника и обстоятельства дуэли неизвестны.
"Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее..."
-- Ф.Н. Глинка, "Из письма к Бартеневу".
Возможно, тут подразумевалась дуэль с Голицыным в 1828 г.
Итог: дуэль отменена.
Сальдо вызовов: Пушкин - 26; Пушкину - 7; неизвестно кто - 2.
В начале 19 века в России, да и не только в России в моде были дуэли: мужчины вызывали друг друга практически по любому поводу, а женщины, вероятно, гордились, что за них стреляются...
Эта традиция сыграла роковую роль в жизни А.С. Пушкина - сам он учавствовал, по некоторым данным, в 35 дуэлях.
Интересную статистику по этому поводу нашёл у hojja_nusreddin
История жизни - история дуэлей великого русского поэта...
1816 год.
1. Пушкин вызвал на дуэль Павла Исааковича Ганнибала, двоюродного дядю и соседа по имению, у которого гостил.
Причина: Павел отбил на балу у 17-летнего Пушкина перезрелую девицу Лошакову (между прочим, далеко не красавицу, со вставными зубами).
Друзья и родные уговорили вспыльчивого юношу помириться. А дядя сочинил экспромт:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей Богу, Ганнибал
Не подгадит ссорой бал!
Итог: дуэль отменена, примирение, объятия и пирушка.
1817 год (выпущен из Лицея).
2. Пушкин вызвал на дуэль гусара и поэта Петра Каверина, своего друга.
Причина: сочиненные Пушкиным шутливые стихи "Молитва лейб-гусарских офицеров".
На дежурстве гусара, графа Завадовского, Пушкин написал шуточные стихи на дюжину гусарских офицеров;
оброненная бумажка с этими стихами была поднята гусаром Пашковым, который обиделся на насмешку против него и обещал «поколотить» Пушкина;
тогда Завадовский принял вину на себя, вследствие чего у него произошла ссора с Пашковым, грозившая кончиться дуэлью между ними.
Но многие гусары обиделись на Пушкина, включая Каверина, к которому относились следующие стихи из «Молитвы»:
Избави, Господи...
Любомирскаго чванства,
Каверина пьянства.
Произошла размолвка и брошен был вызов.
Но Пушкин написал извинительное к Каверину послание:
Забудь, любезный мой Каверинъ,
Минутной рѣзвости нескромные стихи...
Командир гвардейского корпуса князь И.В. Васильчиков принял меры к примиренью остальных поссорившихся.
Размолвка пріятелей продолжалась не долго, и добрыя ихъ отношенія возстановились, такъ какъ Пушкинъ упоминаетъ въ «Онѣгинѣ»
(1 гл., строфа XVI) о пирушкахъ съ Каверинымъ въ ресторанѣ Талона.
Итог: дуэль отменена.
1818 год (Ода "Вольность").
3. Пушкина вызвал на дуэль его друг и соученик по лицею, поэт Вильгельм Кюхельбекер.
Причина: Кюхельбекер был выведен из себя многолетними насмешками Пушкина.
Последней каплей явилась эпиграмма, высмеивающая фамилию Вильгельма.
Учитель и один из ближайших друзей Пушкина - Василий Жуковский принимал Кюхельбекера не очень охотно.
Однажды на вопрос Пушкина, отчего он не был на вечере, Жуковский ответил, что еще накануне расстроил себе желудок.
А потом добавил: "К тому же пришел Кюхельбекер, притом Яков (слуга Жуковского) дверь запер по оплошности и ушел".
Позже, Пушкин, встретив Кюхельбекера на балу, лукаво прочел ему свои новые стихи:
За ужином объелся я.
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
Итог: оба выстрелили, но пистолеты были заряжены (друзьями) клюквою.
По другим свидетельствам, oни явились на Волково поле и затеяли стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе.
Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя.
Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера.
Решили, что Пушкин будет стрелять после. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал: „Дельвиг! стань на мое место, здесь безопаснее".
Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, он сделал пол-оборота и пробил фуражку на голове Дельвига.
„Послушай, товарищ, — сказал Пушкин, — без лести — ты стоишь дружбы; без эпиграммы — пороху не стоишь", — и бросил пистолет».
1819 год (Завершение "Руслана и Людмилы". Ранняя Всероссийская слава. 2 дуэли).
4. Пушкин вызвал на дуэль соседа, приятеля и соученика по лицею - барона Модеста Корфа, служащего по министерству юстиции.
Причина: слуга Пушкина Козлов ворвался пьяным в прихожую Корфа и пристал к его камердинеру, за что Корф слугу Пушкина поколотил.
Корф язвительно ответил Пушкину: «Не принимаю вашего вызова из-¬за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».
Итог: дуэль отменена.
5. Пушкин вызвал на дуэль пожилого майора Денисевича.
Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре - громко зевал, шикал и кричал на артистов, разговаривал и т.д.
Денисевич, будучи соседом Пушкина по креслам, отечески пожурил его:
"Молодому человеку нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу".
Приезд Пушкина с двумя секундантами, гвардейскими офицерами (один из них, вероятно, П.А. Катенин) на квартиру Денисевича.
Вмешательство И.И. Лажечникова, уговорившего Денисевича извиниться перед Пушкиным.
Итог: дуэль отменена; извинился Денисевич.
(Впоследствии, в письме к кн. Вяземскому, Пушкин вспоминал об этой истории, как об одной из тех мальчишеских проказ, которые повторять не следует)
1820 год (замысел "Онегина". 4 дуэли).
6. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева.
Причина: в Петербурге был пущен (графом Фёдором Толстым) слух, будто Пушкина высекли в Тайной Канцелярии за оскорбление Государя в стихах, а Рылеев имел неосторожность повторить это в светской гостиной.
"Отметили дистанцию в 15 шагов, развели дуэлянтов по 10 и дали команду на сближение.
Видно было, что Рылеев нервничает. Пушкин рассчитал свои шаги так, что первым к барьеру подошел Рылеев и первым выстрелил.
Пушкин, остановившись после выстрела, поднял пистолет, спокойно прицелился в Рылеева и был уверен, что не промахнется, но злость прошла;
он поверил, что Рылеев не злословил в его адрес, а лишь констатировал слух.
Вдруг он будто услышал голос: гений и злодейство - несовместимы.
…Поднял пистолет и выстрелил в воздух.
К нему бросились секундант и дядька. Пушкин отдал пистолет секунданту, отстранил дядьку и бодрым шагом направился к почтовой станции."
24 марта 1825 г. Пушкин напишет Александру Бестужеву из Михайловского в Петербург:
«Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? …Он в душе поэт.
Я опасаюсь, его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай – да черт его знал.
Жду с нетерпением «Войнаровского» и перешлю ему свои замечания. Ради Христа! Чтоб он писал – да более, более!».
Конечно, это шутливый текст, но свидетельствующий об истинной дуэли между ними.
Итог: дуэль состоялась.
7,8. Пушкин вызвал на дуэль сразу двоих - заслуженных ветеранов-полковников Фёдора Орлова и Алексея Алексеева.
Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечания за то, что тот, пытаясь в пьяном виде играть в бильярд, мешал окружающим.
Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников поучают.
«Пушкин засмеялся над Федором Орловым, тот выкинул его из окошка;
(Пушкин был небольшого роста, Федор Орлов — великан, силач, из породы знаменитых Орловых XVIII века, одноногий после войны).
Пушкин вбежал опять в биллиард, схватил шар и пустил в Орлова, попав ему в плечо.
Орлов бросился на него с кием, но Пушкин выставил два пистолета и сказал: 'убью'. Орлов отступил».
Все необыкновенно в этой сцене, но особенно удивляют два пистолета, вдруг оказавшиеся при Пушкине.
Идя домой из биллиардной, Пушкин уже раскаивался и говорил своему секунданту: «Скверно, гадко; да как же кончить?»
Итог: секундант помирил участников, дуэль отменена.
9. Пушкин вызвал на дуэль егерского штабс-капитана Ивана Друганова, адъютанта генерала М.Ф. Орлова.
Причина: безо всяких оснований.
Из воспоминаний князя Горчакова:
"Пушкин схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника.
В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться, стал предлагать биться. Друганов отказывался.
Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребенок, стал шутя затрагивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукой.
Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить их раздор, я попросил Пушкина прочесть молдавскую песню.
Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением".
Итог: дуэль не состоялась.
1821 год ("Гаврилиада". 2 дуэли).
10. Пушкин вызвал на дуэль одного французского эмигранта, некоего барона де С... .
Причина: неизвестна.
Француз, "имея право избирать оружие, предложил ружье, ввиду устрашающего превосходства, с которым противник его владел пистолетом".
Итог: примирение было достигнуто "благодаря веселью, которое этот новейшего рода поединок вызвал у секундантов и противников, ибо Пушкин любил посмеяться".
11. Пушкин вызвал на дуэль бывш. офицера французской службы Дегильи.
Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами.
Француз избрал сабли, но струсил и расстроил дуэль, сообщив о ней властям.
Итог: дуэль не состоялась.
1822 год ("Кавказский Пленник", "Братья-разбойники". Кишинёвская тоска. 9 дуэлей).
12. Пушкина вызвал на дуэль егерский подполковник Семен Старов, который слыл заправским дуэлянтом и храбрецом (старше Пушкина на 20 лет).
Причина: Пушкин не поделил ресторанный оркестрик при казино с молодым офицером, который был под началом у Старова;
тот заказал кадриль, а Пушкин после этого заказал мазурку, что музыканты и исполнили, зная его щедрость.
Показательно, что вызов поэту был направлен не кем-либо из непосредственно участвовавших в размолвке младших офицеров,
а — от их имени — находившимся тут же командиром 33-го егерского полка Старовым, значительно превосходившим Пушкина чином.
Такой вызов противоречил требованию равенства противников и явно представлял собой попытку осадить нахального штатского мальчишку.
Предполагалось, очевидно, что Пушкин испугается дуэли и пойдет на публичное извинение. Далее события развивались в следующем порядке.
Старов «подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру:
«Вы сделали невежливость моему офицеру, — сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина, —
так не угодно ли Вам извиниться перед ним, или Вы будете иметь дело лично со мной».
— «В чем извиняться, полковник, — отвечал быстро Пушкин, — я не знаю; что же касается до Вас, то я к вашим услугам».
«Так до завтра, Александр Сергеевич». — «Очень хорошо, полковник».
Пожав друг другу руки, они расстались.
Погода была ужасная: метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета...
Первый барьер был на 16 шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже;
Старов просил снова зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: 'И гораздо лучше, а то холодно".
Предложение секундантов прекратить поединок было обоими отвергнуто... Барьер определили на 12 шагов, и опять 2 промаха.
Оба противника хотели продолжать, ещё сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились,
и так как нельзя было примирить их, то поединок отложили до прекращения метели».
Я жив,
Старов здоров,
Дуэль не кончен.
-- записка Полторацкому, январь 1822
Вскоре противников удалось помирить, и тут Старов сказал Пушкину:
«Вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете».
Итог: стрелялись дважды, но оба раза промахнулись.
(Спустя несколько дней, в ресторане Пушкин запрещает молодым людям, обсуждающим его дуэль со Старовым, дурно отзываться о последнем, грозя в противном случае вызвать на дуэль их.)
13. Пушкинa вызвал на дуэль 65 летний статский советник Иван Ланов.
Причина: ссора во время праздничного обеда у наместника Бессарабии Инзова.
Ланов утверждал, что вино лечит все болезни; Пушкин насмешливо ему возразил: "И горячку?".
Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа.
Тогда Ланов вызвал Пушкина, но тот только хохотал, видя, как Ланов настаивает, рассказывая о своих поединках при князе Таврическом, сказав ему:
«Когда то было... А теперь?»
И сочинил экспромтом эпиграмму:
«Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.»
Ланов выходил из себя, тем более, что сказанное Пушкиным вызвало более или менее сдерживаемый смех каждого из присутствовавших...
Ланов несколько успокоился тогда только, когда Пушкин принял его вызов.
Инзов, услышав смех в столовой или уведомленный о случившемся, возвратился в столовую и скоро помирил их.
Ланов, из чинопочитания к Инзову, согласился оставить все без последствий, а Пушкин был очень рад, что не сделался смешным.
Инзов устроил так, что с тех пор Пушкин с Лановым не встречались уже за столом вместе.
Итог: дуэль отменена.
14. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу, боярина Тодораки ("Тадарашку") Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии,
героя следующей пушкинской сатиры:
Вот еврейка с Тадарашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею:
Ах, еврейка, бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет!
-- "Раззевавшись от обедни", весна 1821.
Причина: Пушкину показалась недостаточно учтивой реплика супруги Балша - Марии,
в ответ на высказывание Пушкина: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя!».
Перед этим Пушкин пытался дерзко ухаживать за ней и за её 12 летней дочерью - Аникой.
Пушкин наговорил ей в ответ грубостей и, дав пощёчину "Тадарашке", вынул пистолет, вызывая его на дуэль.
Из замечаний князя В.П. Горчакова на записи «Из дневника и воспоминаний» И.П. Липранди (секунданта Пушкина):
"...Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже".
Поединок предотвратил генерал Инзов, посадив Пушкина под домашний арест на 2 недели.
Итог: дуэль отменена.
(Выйдя из-под ареста, Пушкин уже не носил пистолет, но идя на улицу, вооружался железной палкой для тренировки твёрдости руки, владея ею «с ловкостью,
достойною известного в свое время фехтовальщика Мортье».
Об этой палке много говорят в Кишиневе)
15. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика Kарла Прункулa.
Причина: оба были секундантами на дуэли, где Пушкину не понравилось выражение, сказанное Прункулом во время обсуждения условий:
"Мы съехались с Пушкиным, и трактат начался. Но как понравится вам оборот дела?
Александр Сергеевич в разговоре со мною, решительно не могу вам сказать за какие, да и были ли они, 'обидные выражения' вызвал на дуэль меня.
«Ты шутишь, Пушкин?» Я не мог не принять его слова за шутку.
«Нисколько! Драться с тобой я буду, — ну, мне этого хочется, только ты должен обождать.
Я уже дерусь с двумя господами; разделавшись с ними — к твоим услугам, Карл Иванович...»
-- из воспоминаний К.И. Прункула.
Итог: дуэль отменена.
16. Пушкин вызывает на дуэль 60-летнего сенатора, члена Гос. Совета, графа Северина Осиповича Потоцкого.
Причина: дискуссия о крепостном праве за обеденным столом наместника Бессарабии Инзова.
Потоцкий уступил. На замечание кого-то, что Пушкин чересчур жарко оспаривал сенатора, поэт отвечает по-французски:
«О, если бы Потоцкий не уступил мне, я дал бы ему пощечину».
Итог: дуэль отменена.
(После этого эпизода Потоцкий был с Пушкиным на короткой ноге, уже в ноябре 1823 г. Пушкин обращался к графу по поводу семейных преданий о похищении Марии Потоцкой крымским ханом - сюжет поэмы «Бахчисарайский фонтан»).
17. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский.
Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и осмеял отставного офицера.
"Офицер ... вышед из терпения, сказал только: 'Если вам верят, почему же вы не хотите верить другим?'. Этого было довольно.
Лишь только успели встать из-за стола и наместник вышел в гостиную, началось объяснение чести.
Пушкин назвал офицера подлецом, офицер его мальчишкой, и оба решились кончить размолвку выстрелами.
Офицер пошел с Пушкиным к нему, и что у них происходило, это им известно.
Рутковский рассказал, что на него бросились с ножом, а Смирнов, что он отвел удар Пушкина;
но всего вернее то, что Рутковский хотел вырвать пистолеты и, вероятно, собирался с помощью прибежавшего Смирнова попотчевать молодого человека кулаками,
а сей тогда уже принялся за нож.
К счастью, ни пуля, ни железо не действовали, и в ту же минуту дали знать наместнику,
который велел Пушкина отвести домой и приставить к дверям его караул".
--- П.И. Долгоруков. Из дневника 1822 г.
Поединок в очередной раз предотвратил Инзов, посадив Пушкина под домашний арест.
Итог: дуэль отменена.
18. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского олигарха Инглези.
Причина: роман Пушкина с его женой - цыганкой Людмилой Шекорой.
Генерал Инзов опять посадил Пушкина под арест на 10 дней, а Инглези был вручен билет с «разрешением выезда за границу».
Инглези правильно понял значение этого «подарка» и выехал вместе с женой из Кишинева...
Итог: дуэль отменена.
19. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов.
Причина: Пушкин публично обвинил Зубова в картёжном шулерстве, заметив, что тот играет наверное,
и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши.
Слова эти, конечно, разнеслись, вышло объяснение, и 3убов вызвал Пушкина драться.
«Понятно, — сказал Пушкин, — мы стреляемся. Я вызов ваш принимаю.
Попадете ли вы в меня или не попадете — это для меня равно ничего не значит, но для того, чтобы в вас было больше смелости,
предупреждаю: стрелять я в вас совершенно не намерен... Согласны?»
Противники отправились на так называемую малину, виноградник за Кишиневом.
На поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял.
(Этот мотив был им позднее использован в рассказе «Выстрел»).
Итог: Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам Пушкин от выстрела отказался,
спрoсив Зубова: «Довольны вы?» Зубов бросился с объятиями. «Это лишнее», — сказал Пушкин,
сунул незаряженный пистолет себе под мышку и отвернулся...
20. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского грека-фанариота (Скину?).
Причина: грек удивился, как мог Пушкин не знать какую-¬то книгу, о которой случайно зашла речь: «Как! Вы поэт и не знаете об этой книге?!»
Итог: дуэль отменена.
1823 год (Начало "Онегина").
21. Пушкин вызвал на дуэль бессарабского помещика, писателя-дилетанта Ивана (Янко) Яковлевича Руссо.
Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне.
"Янко провел 15 лет за границей, преимущественно в Париже, бессарабцы смотрели на него как на чудо, по степени образованности, и гордились им.
Он был лет 30, тучен, с широким лицом, изображавшим тупость и самодовольство; всегда с тростью,
под предлогом раны в ноге, будто бы полученной им на поединке во Франции.
Он вытвердил несколько имен французских авторов и ими бросал пыль в глаза соотечественников своих, не понимающих по-французски.
Любезничал с женщинами и искал всегда серьезных разговоров: не был застольным товарищем; в карты не играл и, кроме воды, ничего не пил.
Пушкин чувствовал к нему антипатию, которую скрывать не мог, и полагаю, что к этой ненависти много содействовало и то,
что Руссо не был обычного направления тогдашней кишиневской молодежи, увивавшейся за Пушкиным. Самодовольствие Руссо вызывало Пушкина из себя.
Однажды за столом начали расточать похвалы Янке Руссо, что очень нравилось его двум-трем тут бывшим соотечественникам,
но чего не выносил Пушкин, вертевшийся от нетерпения на стуле; видно было, что накипь у него усиливалась.
Когда было сказано «C'est notre Jean-Jacques Rousseau», Пушкин не в силах был более удерживать себя;
вскочил со стула и отвечал уже по-русски: «Это правда, что он Иван, что он Яковлевич, что он Руссо, но не Жан-Жак, а просто рыжий дурак!» (roux sot):
он действительно несколько рыжеват. Эта выходка заставила всех смеяться."
Итог: дуэль отменена.
1824 год («Бахчисарайский фонтан» 1 дуэль).
22. Несостоявшаяся дуэль Пушкина с неизвестным.
Итог: противник отказывается стрелять, и Пушкин «отпускает его с миром».
-- письмо А.И. Тургенева к кн. Вяземскому; Даль, 1907, с. 65.
1826 год (конец ссылки в Михайловском. 2 дуэли).
23. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества.
Причина: Тургенев обругал эпиграммы Пушкина против правительства.
"Тургенев был суровым моралистом, занимал ответственные должности в Гос. совете, и Министерстве финансов, относясь ко службе весьма серьезно.
«Он не раз давал чувствовать Пушкину, что нельзя брать ни за что жалование и ругать того, кто дает его».
Пушкин, вызвав Тургенева, тут же одумался и с извинением взял вызов обратно".
Итог: дуэль отменена.
24. Пушкин вызвал на дуэль известного бретёра, отставного гвардейского офицера, ветерана войны 1812 г., графа Ф.И. Толстого ("Американца").
Причина: оскорбительный слух о том, что Пушкина высекли в Тайной Канцелярии, пущенный Толстым в столице гораздо ранее этой дуэли - в 1820 г. (см. выше).
Со стороны Толстого это было ответом на едкую эпиграмму самого Пушкина:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор.
Кроме того, Пушкин заклеймил Толстого в послании «Чаадаеву»:
«Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор».
Толстой был азартным картёжником, послужившим прототипом героям Пушкина (Зарецкий), Грибоедова (Репетилов) и Л. Толстого (Долохов), давшим Пушкину следующий повод для этой эпиграммы.
Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул.
Пушкин заметил ему это. «Да я и сам это знаю, — отвечал ему Толстой, — но не люблю, чтобы это мне замечали».
К моменту вызова Пушкиным, Толстой считался опасным дуэлистом, убив на дуэлях уже 11 человек. Общим друзьям, однако, удалось их тогда помирить.
Итог: дуэль отменена.
Свое первоначальное суждение о Толстом Пушкин впоследствии, в письме к брату Льву, назвал «резким и необдуманным».
3 года спустя Пушкин избрал Толстого посредником при сватовстве к Наталье Гончаровой. Именно ему удалось довести это сватовство до успеха.
Надо отметить все же, что это стало очередным роковым достижением Федора Толстого...
1827 год.
25. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский.
Причина: княжна Софья Урусова, в которую Соломирский был влюблён, предпочитавшая Пушкина.
Повод: некорректное высказывание Пушкина о графине A.В. Бобринской.
Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа счел нужным обидеться:
"Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе?" - задорно обратился он к Пушкину.
"Я хорошо знаю графиню, это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов".
"Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ? - отвечал Пушкин.
"Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ,
и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию".
Гости разошлись, но наутро Соломирский послал Пушкину вызов. Однако секунданты, решив, что убийство Пушкина их обесчестит, свели дело к миру.
Итог: дуэль отменена.
1828 год (Знакомство с Натальей Гончаровой. 2 дуэли).
26. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения, князя Александра Голицына.
Причина: министр по поручению царя допрашивал Пушкина по поводу гнусной поэмы "Гаврилиада".
Допрос вёлся с пристрастием, ибо ещё в 1823 г. Пушкин написал на министра-гомосексуалиста злую эпиграмму:
Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
От дуэли противников удержал поэт и публицист Федор Глинка.
Итог: дуэль отменена.
27. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене.
Причина: когда Пушкин подошел к одной даме (графине Закревской?), которая разговаривала с Лагрене на балу;
Пушкину послышалось будто Лагрене сказал ей: «Пошлите его прочь».
Но Лагрене заявил, что не произносил ничего подобного и глубоко уважает Пушкина как поэта.
Итог: дуэль отменена.
1829 год.
28. Пушкин вызвал на дуэль чиновникa Министерства Иностранных Дел, камер-юнкера, графa Хвостовa.
Причина: Хвостов выразил недовольство эпиграммой Пушкина:
"В гостиной свиньи, тараканы и камер¬юнкер, граф Хвостов".
"Пушкин нашел на станции по дороге во Псков камер-юнкера, графа Хвостова, читающего книгу,
по стенам ползало множество тараканов, вдобавок в дверь влезла свинья.
Пушкин описал, как оно было в натуре, но это не понравилось Хвостову в стихе.
Не помню, как их помирили".
-- Н. А. Маркевич, "Из воспоминаний"
Итог: дуэль отменена.
1836 год (Смерть матери. 4 дуэли).
Милюков так комментирует дуэльные истории последнего пушкинского года:
«Тут проявляется уже ясно особый мотив дуэлянта — Пушкин искал смерти.
29. Пушкин вызвал на дуэль чиновника, графа Владимира Соллогуба.
Причина: Наталья Пушкина, сама шутившая с Соллогубом на балу по поводу его расстроившейся недавно помолвки,
почему-¬то сочла непристойным вопрос, заданный ей в ответ Соллогубом: «Давно ли вы замужем?».
Пушкин, требуя объяснений, послал Соллогубу письмо, не дошедшее до него, ибо он уехал в служебную командировку.
Итог: Дело на время заглохло.
30. Пушкин вызвал на дуэль чиновника Министерства Иностранных Дел, богача Семёна Хлюстина, участника Турецкой войны 1828 — 1829 гг.
(племянникa известного графа Ф.И. Толстого-'американца')
Причина: в разговоре с Пушкиным тот процитировал обидную для Пушкина фразу из статьи Сенковского.
Итог: дуэль отменена.
31. На следующий день после вызова Хлюстина, Пушкин письменно затребовал объяснений от генерала от кавалерии, члена Государственного совета, князя Н.Г. Репнина.
Причина: будто бы неуважительный отзыв Репнина о Пушкине в разговоре с третьим лицом.
Пушкин опубликовал сатиру "На Выздоровление Лукулла", жестоко высмеивавшуя гомосексуалиста, министра просвещения, графа Уварова
(автора лозунга "Православие, Самодержавие, Народность"). O ней и отозвался дурно князь Репнин.
http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol03/y03-404-.htm
В письме Пушкина не было ещё прямого вызова, но были намеки на возможность дуэли в случае неудовлетворительных объяснений:
«некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные» для него отзывы, якобы исходящие от князя, и заканчивает обращением: «Прошу ваше сиятельство не отказать
сообщить мне, как я должен поступить»(ориг. по-фр.).
Репнин ответил Пушкину наставительным письмом.
Итог: дуэль предотвращена.
32. Пушкин повторно вызвал на дуэль графа Владимира Соллогуба.
Причина: он получил, наконец, письмо с объяснениями Соллогуба (см. выше), но счел их недостаточными и послал Соллогубу другой вызов через вышеупомянутого Хлюстина:
«обстоятельства не позволяют <ему>... отправиться в Тверь <на поединок> раньше конца марта месяца».
Вернувшись в Москву, Соллогуб встретился с Пушкиным в доме Пущина:
"... мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался черезвычайно весел и дружелюбен...".
Итог: дуэль предотвращена.
33. Пушкин вызвал на дуэль француза на русской службе - гвардейского офицера, барона Жоржа Дантеса-Геккерна.
Причина: анонимные пасквили на французском языке, в которых Пушкину присваивался «диплом заместителя великого магистра ордена рогоносцев»;
в «дипломе» содержался косвенный намёк на внимание к Наталье Пушкиной со стороны самого царя.
Хотя в этих анонимных пасквилях имя Дантеса и не было названо, развязные ухаживания Дантеса за Натальей Пушкиной
сами по себе давали повод Пушкину требовать удовлетворения.
Последствия: через неделю после вызова Жорж Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой —
сестре Натальи и, соответственно, свояченице Пушкина.
Царь Николай I дал Пушкину аудиенцию при посредничестве придворного поэта В.А. Жуковского.
Пушкин был вынужден отозвать свой вызов; однако, отказывался иметь какие-либо отношения с Дантесом и его приёмным отцом -
послом Нидерландов Геккерном, что задевало их обоих и приводило к дальнейшему обострению ситуации.
Итог: дуэль отменена.
1837 год.
34. Пушкина вызвал на дуэль гвардейский офицер, барон Жорж Дантес-Геккерн.
Повод: анонимное письмо, полученное Пушкиным, где утверждалось, будто жена Пушкина изменяет ему с Дантесом.
Причина: Пушкин отправил Геккерну-отцу чрезвычайно резкое письмо (сочинённое им ещё во время первого конфликта в ноябре 1936 г.),
где, оскорбляя как отца, так и приёмного сына, отказал им от дома.
Пушкин знал, что такое письмо неизбежно приведёт к новой дуэли.
В тот же день Луи Геккерн (через секретаря французского посольства виконта д’Аршиака) объявил Пушкину письмом,
что от его имени Дантес делает ему вызов; Дантес приписал, что это письмо писано с его согласия.
Пушкин без обсуждения принял весьма жёсткие условия дуэли, составленные виконтом д’Аршиаком.
Итог: стрелялись, оба попали, Пушкин скончался от ранения 29 января 1837 года, а Дантес дожил до глубокой старости.
Неизвестный год.
35. Имя соперника и обстоятельства дуэли неизвестны.
"Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее..."
-- Ф.Н. Глинка, "Из письма к Бартеневу".
Возможно, тут подразумевалась дуэль с Голицыным в 1828 г.
Итог: дуэль отменена.
Сальдо вызовов: Пушкин - 26; Пушкину - 7; неизвестно кто - 2.
|
|
Понравилось: 1 пользователю






