Художник Ефим Гамбург и писатель Овидий Горчаков |
Когда я размышляю о стилистически виртуозных и непостижимо смелых для своего времени сатирических зарисовках классика «Союзмультфильма» Ефима ГАМБУРГА, невольно вспоминается книга, которая когда-то, едва выйдя в свет, стала вожделенным раритетом библиофилов.
Заполучить её считалось немыслимой удачей.
Речь идет об ироническом романе-пародии Гривадия ГОРПОЖАКСА «ДЖИН ГРИН НЕПРИКАСАЕМЫЙ».
Не стоит искать имя автора в литературных энциклопедиях и словарях. «Гривадий ГОРПОЖАКС» скрывает имена Григория ПОЖЕНЯНА, Василия АКСЕНОВА и Овидия ГОРЧАКОВА.
ПОЖЕНЯН и ГОРЧАКОВ – писатели-фронтовики, а Василий АКСЕНОВ – дитя времен небезызвестной оттепели.
Удивительно, но одним из авторов уморительно смешной пародии на шпионский жанр, стал именно Овидий ГОРЧАКОВ, который, кстати, был профессиональным разведчиком, блестяще говорящим по-английски, и умевшим многое из того, что и не снилось простым смертным.
Например, он был Вице-президентом Всемирной ассоциации стрелков из лука, традиционно возглавляемой, как известно, представителями королевских династий.
Бережно храню письмо Овидия ГОРЧАКОВА, написанное на редкостной бумаге с водяными знаками, обозначающими Всемирную ассоциацию стрелков из лука.
Вот и пересматривая сегодня иронические ленты Ефима ГАМБУРГА, лишний раз убеждаешься, что веселое искусство пародии несовместимо с глумливостью. Оно нуждается в той свободе воображения, которой отмечены истинные художники.
Только им дана чудесная способность увидеть и назвать то, что лежит на поверхности, но осталось незамеченным в сутолоке будней.


|
|
Понравилось: 1 пользователю
Мирсаид Сапаров - Функциональный анализ искусства. Актуальные заметки о проблеме понимания искусства и книге Л.Переверзева "Искусство и кибернетика" |

Ниже воспроизводится полный текст статьи М.А Сапарова, впервые опубликованной в журнале «Искусство», 1968, № 6, с.66-69.
Публикация, послесловие и комментарии Т.В.Алексеевой
М.А.Сапаров
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВА.
Актуальные заметки о проблеме понимания искусства и книге Леонида Переверзева «Искусство и кибернетика» (М. Изд-во Искусство, 1966)
По распространенному в обыденном обиходе представлению, все многообразие теоретических проблем кибернетики так или иначе сопряжено с созданием «мыслящих» машин, с возможностями современной электронной техники. Однако, тот кто полагает что в счетно-аналитических устройствах и заключена вся «кибернетическая премудрость», жестоко ошибается. Нельзя отождествлять науку с одной из частных, хотя бы и очень важных областей ее приложения. Напрасно поэтому иные литераторы бездумно проецируют свое раздраженно-негативное отношение к «машинерии» и «роботам» на весь комплекс научных дисциплин, объединяемых понятием кибернетики.
Далеко не «бескорыстная» заинтересованность в кибернетических идеях, проявляемая ныне, казалось бы, традиционно «нематематическими» науками – биологией и психологией, социологией и эстетикой, - вызвана прежде всего собственными теоретическими потребностями этих наук. Огромное философское, в частности гносеологическое, значение кибернетики обусловлено тем, что ей удалось создать ряд общенаучных методов и понятий, предназначенных для постижения процессов управления и связи в самоорганизующихся системах разной природы.
Издавна человечество стремилось понять «секрет» той волнующей воображение целесообразности, которая открывается нам в органическом мире. Но поскольку наука не умела объяснить природную «гармонию», несомненность существования которой подтверждалась всем чувственным опытом человека, - телеология и вера неизменно оказывались в выигрыше.
Считается что первые бреши в сугубо идеалистическом истолковании «разумности», пронизывающей строение живых существ, были пробиты эволюционной теорией Дарвина и павловским учением о высшей нервной деятельности. Вобрав в себя предшествующие ей достижения естественных наук, кибернетика нанесла новый и на сей раз весьма серьёзный удар по телеологическим догмам.
Появилась надежда на то, что целенаправленный организующий жизненный принцип, который виталисты прошлого именовали «энтелехией», не только познаваем, но и может быть теоретически воспроизведен.
В частности - стало ясно, что процессы передачи и хранения информации, где бы они не осуществлялись - в организме , или социальной системе, или искусственно созданном автомате, - имеют некоторые общие закономерности и могут исследоваться точными методами; наконец, стала очевидной роль информации в становлении и взаимосвязи самых различных процессов.
Но какое это имеет отношение к искусству и теории искусства? Самое непосредственное.
И суть дела вовсе не в той мифической «кибернетизации» художественного творчества, которой вздумал пугать своих читателей один не в меру расфантазировавшийся критик. Дело в том, что кибернетика позволяет с новых позиций подойти к некоторым проблемам, исстари ( по крайней мере – со времен Аристотеля), стоявшим перед эстетической теорией, но до сих пор не нашедшим однозначного решения.
. Например, каковы внутренние закономерности, обусловливающие органическую целостность художественного произведения? Каким образом незначительное по объему стихотворение доносит до читателя поистине неисчерпаемое поэтическое содержание? Чем отличается искусство от других систем социальной связи?
Разумеется, далеко не все стороны и особенности искусства находятся в пределах досягаемости кибернетических методов.
К тому же использование кибернетики никоим образом не освобождает исследователя-искусствоведа от традиционного эстетического анализа, от необходимости высокой профессиональной культуры, наконец, просто обладания художественным вкусом. Речь здесь идет не о подмене одних методов другими, а об их практическом взаимодействии и взаимообогащении.
Иногда опасаются, как бы содружество эстетики с естественнонаучными и точными дисциплинами не привело к смазыванию специфики исследуемого предмета. Однако в действительности происходит как раз обратное: постигая то общее, что сближает предметы различных наук, мы отчетливее обнаруживаем их специфические различия. Об этом можно, в частности, судить по опыту современной психологии, давно уже и весьма плодотворно использующей кибернетические идеи. Достаточно назвать фундаментальные исследования Л.М.Веккера, В.С.Тюхтина, И.Т.Бжалавы. Оказалось, что обращение психологов к кибернетике не только не угрожает «психологической специфике», но и позволяет уточнить содержание кардинальных психологических категорий, например, понятия образа.
Правда, взаимоотношения эстетики и искусствознания с кибернетикой складываются особенно трудно. Дает о себе знать профессиональная разъединенность «физиков» и «лириков», несходство их представлений о «возможном» и «невозможном» в науке, о мере «научности», необходимой в исследовании искусства. Вряд ли следует замалчивать это исторически сложившееся различие в истолковании мира, в самом стиле мышления. Оно пока еще объективно существует, И его не устраняют те поверхностные терминологические заимствования, к которым прибегают иные искусствоведы и эстетики, дабы «осовременить» свои воззрения. К сожалению, словесные «обогащения» такого рода сопровождаются обычно непониманием кибернетики как целостной научной системы, а кибернетические термины при этом лишаются своего специального содержания и становятся синонимами обыденных понятий. Столь же бесплодны, по-видимому, попытки некоторых инженеров и математиков создать ультрасовременную теорию искусства, не утруждая себя изучением многовекового опыта эстетики и искусствознания.
Автор книги, о которой пойдет здесь пойдет речь[1], равным образом принадлежит и к «физикам», и к «лирикам». Будучи человеком, профессионально владеющим естественнонаучными представлениями, легшими в основание кибернетики, Леонид Переверзев много и успешно работает в области искусствознания. Радиослушателям он известен как историк и серьёзный теоретик джаза. Специалистам же в области художественного конструирования знакомы исследования Переверзева, посвященные дизайну.
Разносторонняя эрудиция молодого ученого не нарушает цельности его теоретических устремлений. Так, естественное для кибернетика желание дать функциональный анализ искусства как специфической формы социального поведения, удачно сочетается с интересом, который питает Переверзев к художественному творчеству первобытных и «примитивных» народов, к фольклорным истокам искусства. Первобытное искусство служит теоретику как бы простейшей «естественной» моделью тех основополагающих эстетических закономерностей, которые в гораздо более развитой и усложненной форме присутствуют в художественной практике более поздних периодов. Думается, что этот прием методологически оправдан и соответствует давней традиции, сложившейся в марксистской эстетике (прежде всего в работах Г.В.Плеханова).
Продуманность методики – вообще одна из отличительных особенностей рассматриваемого сочинения. Для Переверзева совершенно неприемлем поверхностный, потребительский подход к кибернетике, при котором какой-нибудь отдельный принцип искусственно и вопреки всякой логике отрывается от других. (Нам памятны работы, противопоставлявшие, например, принцип «обратной связи» статистическим принципам теории информации).
Переверзеву удается показать, что в системности и «тотальной» логической взаимосвязанности заключается достоинство кибернетических методов и понятий.
Как известно, искусствознание до сих пор не выработало единой системы терминов с их взаимной соотнесенностью и соподчинением. Подобная «неформализованность» искусствоведческого языка придает ему естественную живость и гибкость. Но она вместе с тем затрудняет научную систематизацию и изучение многообразного материала, накопленного искусствоведением, препятствует плодотворному сближению теории искусства с другими гуманитарными дисциплинами, не говоря уж о взаимодействии с естественнонаучным знанием. Поэтому даже простой «перевод» существующих ныне представлений об искусстве на логически точный язык кибернетики ( что, разумеется, предполагает совершенное владение этим языком) оказывается далеко не бесполезным. Как справедливо заметил Переверзев, «кибернетическая интерпретация известных фактов сравнительного искусствознания уже сейчас открывает путь к созданию единой системы основных понятий и категорий, общих для всех видов искусства».
Дать на немногих страницах ясное и общедоступное описание центральных понятий и принципов кибернетики – задача не из легких. Л.Переверзев справился с ней успешно. И, возможно, ознакомившись с талантливой книгой молодого исследователя , многие наши искусствоведы перестанут наконец, отождествлять кибернетические понятия «информация» и «управление» с соответствующими житейскими представлениями. А ведь предубеждения по отношению к кибернетике во многом объясняются именно терминологическими недоразумениями. Например, одному критику попалось на глаза высказывание известного академика о том, что отличительным признаком живого следует считать самоуправление. Этой фразы критик не понял, однако посмеялся над ученым: мол-де, поезд, управляемый автоматически никто не назовет живым. Между тем, чтобы усвоить специальное значение термина «управление» - в этом убеждает читателя Переверзев, - необходимо обратиться к научному представлению о том «вероятностном мире», в котором мы живем. Согласно второму закону термодинамики все процессы в изолированной системе сопровождаются увеличением ее неупорядоченности. Система стремится к наиболее вероятному состоянию - хаосу, при этом мера дезорганизации системы, именуемая энтропией, увеличивается до тех пор, пока не достигнет максимума. Всякая материальная структура, дабы сохранить себя в неизменном виде или же развиваться, должна противостоять этой всеобщей тенденции, что возможно лишь при наличии процесса, получившего название – управление. Естественно поэтому, что идея управления лежит в основе всякой жизнедеятельности, независимо от конкретного вида последней. Но как же осуществляется управление?
Кибернетика использует понятия, которые зачастую получают весьма и весьма превратное истолкование со стороны иных представителей гуманитарных наук, - понятия «сигнал» и «информация». Обычно упускают из вида то обстоятельство, что «информация» в данном случае выступает прежде всего как определенная характеристика состояния системы, обратная по значению понятию энтропии. В этом смысле процесс информации можно рассматривать как сообщение новой информации, придание большей упорядоченности материальной системе, находившейся ранее в менее упорядоченном состоянии. Передача информации по естественному или искусственному каналу связи невозможна без какого-либо материального «носителя» – сигнала.
Если сигнал поставлен в соответствие с каким-либо другим объектом ли явлением, если он понимается как обозначение объекта или явления, то сигнал выступает в качествезнака.
Здесь важно отметить, что семиотический термин «знак» гораздо шире по объему, нежели соответствующее обыденное понятие. Так и в повседневном обиходе под «знаком» разумеют некий условный, абстрактный по форме сигнал, и обычно никому не придет в голову именовать «знаком», скажем, фотографию или телевизионное изображение.
Семиотическая же классификация знаков включает и знаки – копии, структура которых с известной точностью воспроизводит структуру обозначаемого (денотата), и знаки-индексы, то есть знаки, построенные по принципу метонимии («часть вместо целого»), и, наконец, чисто условные знаки-символы.
Основным понятиям семиотики присуща такая степень всеобщности, что «вряд ли можно оспаривать правомерность семиотического анализа искусства» [2]. Хотя, разумеется, подобному анализу доступны лишь отдельные стороны художественного творчества (и прежде всего – коммуникативная функция искусства).
Чем обусловлено значение знака? Как возникает это значение и изменяется? Значение знака имеет как бы три «составляющих»: первая определена отношением знака к знаку и изучается синтактикой, вторая – отношением знака к обозначаемому объекту, это областьсемантики; третья же отражает отношение знака к интерпретатору и составляет предмет прагматики. Чтобы постичь роль знаковых систем в становлении и функционировании социальных коммуникаций, необходимо исследовать знак в единстве трех его «измерений».
Именно с этих позиций Л.Переверзев приступает к анализу суверенной и, пожалуй, одной из самых сложных форм социальной связи – искусству.
Уже исходные методологические установки автора предполагают принципиальное отрицание эстетического изоляционизма, который зиждется на убеждении, что именно в формальной структуре произведения заключена сущность художественной ценности. Эстетический изоляционизм – при очевидной неизбежности его возникновения и распространении в буржуазной культуре конца XIX-начала ХХ века (вспомним Клайва Белла и Роджера Фрая[3]) - теоретически бесплоден. Поскольку он не способен учитывать зависимости конкретных явлений искусства от развития общественной практики.
Обозревая современные работы по применению методов кибернетики и семиотики в изучении различных аспектов искусства, автор убедительно критикует ряд упрощенческих тенденций, наметившихся в этой области.
Так, некоторые исследования, посвященные теоретико-информационному анализу эстетического восприятия (прежде всего монография А.Моля[4]), приравнивают произведение искусства к некоему «внешнему раздражителю, обладающему заданными формальными признаками». При этом полностью игнорируется характер взаимосвязи, существующей между сферой художественного творчества и человеческой практикой в целом. Подобный подход, по мнению Л.Переверзева, крайне обедняет истолкование искусства, упуская специфику его познавательных психологических и социальных связей.
Жизнедеятельность общества была бы невозможной без устойчивых систем социальной связи, без тех неявных закономерностей, которые сопрягают психический мир личности с потребностями общественного целого. Ведь оперируя знаками, человек упорядочивает свою собственную активность [5] и одновременно общается, взаимодействует с другими людьми. Знаковая система выступает здесь как своего рода «усилитель», который во много раз умножает мыслительную и духовную способность индивидуума, «подключая» его к аккумуляторам социального опыта.
Однако упоминавшаяся нами энтропическая тенденция является всеобщей и поэтому коммуникативные системы также подвержены ее воздействию. Следовательно, борьба с энтропией сообщений является непременным условием социальной упорядоченности. Необходимо понять, в чем состоит специфика искусства как антиэнтропического процесса.
Стремясь отыскать специфическую функцию искусства в контексте социального целого, Л.Переверзев пытается проследить, как возникла потребность в художественном творчестве.
Даже самое беглое рассмотрение первобытного искусства обнаруживает его прямую связь с трудовой практикой первобытных людей. Однако очевидность этой истины еще не объясняет динамической взаимообусловленности художественной деятельности и труда в условиях общинно-родового строя. Анализируя так называемое «искусство охотников», Переверзев ясно и убедительно показывает, что оно не было ни пассивным отражением трудового процесса, ни, тем более, его бессодержательным аккомпанементом». Первичные виды художественного творчества служили своего рода стимулятором и организующим началом форм поведения, которые обеспечивали бы первобытному коллективу успех в борьбе за существование. Уже на этой начальной стадии художественного освоения мира человеком отчетливо проявляется познавательная природа искусства.
Причем художественный образ имеет известное прагматическое преимущество над логическим описанием, ибо он способен необычайно быстро обобщать массу разрозненных, случайных фактов и, предваряя ситуацию, возможную в будущем, давать человеку надежные ориентиры в изменчивом и преисполненном неожиданностями мире. Соотнося общее определение первобытного искусства как особого рода «художественного моделирования» форм поведения сложных живых систем с конкретным анализом различных ситуаций, из которых складывалась жизнь первобытного человека, Переверзев постепенно находит (вернее было бы сказать – выводит) ряд конституциональных признаков художественного образа. Так оказывается, что в отличие от дискурсивного описания, образная модель действительности являет нерасторжимое единство субъективного и объективного; сочетает изображение материальных объектов с выражением эмоций и волевых побуждений – художественное отражение опосредовано личным опытом субъекта.
Важно подчеркнуть: именно благодаря тому, что искусство отражает объективные ситуации, значимые для всех представителей общества, художественное творчество «социализирует» (выражение Л.С.Выгодского) человеческие переживания, подчиняет импульсы и влечения отдельного индивида определенной упорядоченности и ограничению.
Чтобы объяснить внутреннюю структуру художественного произведения, необходимо представить себе во всей полноте его социальную функцию. Эффективность этого центрального принципа функционального анализа искусства Переверзев проверяет на одной из самых сложных проблем искусствознания – проблеме стиля.
Дошедшие до нас памятники первобытного творчества свидетельствуют о том, что уже на заре человеческой культуры зарождаются и развиваются две основные стилистические тенденции, два диаметрально противоположных подхода к отображению мира. С одной стороны – отчетливое стремление передать чувственно ощутимый облик вещей и явлений, индивидуальное разнообразие и динамику действительности, с другой – утверждение обобщенного схематизма, условной символики. Иные теоретики, ничтоже сумняшеся, усматривают в стилевой двойственности «первобытного искусства» «извечное противостояние» враждебных друг другу начал: реализма и «антиреализма». Так в силу внешней аналогии представления, сформировавшиеся на материале художественной культуры нового времени, механически проецируются в далекое прошлое. При этом, естественно, совершенно игнорируется действенное значение отвлеченных пластических символов в практической жизни первобытного общества. Проясняя функциональный смысл художественно-магических церемоний, Переверзев доказывает, что нет ни малейших оснований усматривать в условности и геометризме форм первобытного искусства прообраз современного абстракционизма. А как известно, идеологи модернизма любят ссылаться на то, что «беспредметное искусство существует более пяти тысяч лет».
Когда первобытный художник отвлекался от чувственной конкретности и неповторимости изображаемого им явления и фиксировал с помощью абстрагированных знаков наиболее устойчивые и существенные, с его точки зрения, черты явления,
этот процесс - если воспользоваться выражением В.И. Ленина- «отлета фантазии от жизни» - выступал как факт диалектически противоречивой познавательной деятельности, осуществляемой, правда, еще в крайне наивной, первобытно-мифологической форме. При этом даже самые абстрактные пластические символы были одинаково содержательны для всех членов общества, поскольку используемые искусством знаки возникали не вследствие индивидуалистического произвола, а как итог длительного отбора и шлифовки в русле определенной культурной традиции. Духовно-практическое освоение мира являлось объективной основой эстетической коммуникации.
Нетрудно убедиться, что современное «нефигуративное» искусство порождено принципиально иной социальной ситуацией.
Хотя, казалось бы, «строгий абстракционизм» (типа «неопластицизма» Мондриана) возник из стремления, предельно обобщив формы видимого мира, создать универсальную знаковую систему для передачи каких-то идей, эмоций, ощущений, «язык абстрактного искусства» неспособен что-либо сообщить или обозначить кроме – в конечном итоге- отчужденности его создателей от жизни.
Оно и понятно: художественная система, выработанная в намеренном отвлечении от внешнего мира (синтактика, отъединенная от семантики и прагматики), - форма без субстанции , обречена в конечном итоге на социальную изоляцию и, следовательно, -строго говоря не может- в точном значении слова называться художественной.
Абстракционизм лишает творческий акт осмысленности и коммуникативной целенаправленности.
Декларативное «восстание» беспредметничества против регламентаций буржуазного общества оказывается на деле вызывающим, хотя зачастую и впечатляющим эскапизмом замкнувшегося в своем мире индивидуалиста. Художник, окончательно переставший чувствовать себя членом общенародного коллектива, обретает «абсолютную свободу» от какой-либо социальной ответственности, а вместе с тем и свободу от художественного содержания. Поэтому – по самой своей природе – притязания абстракционизма не устремлены ни к познанию, ни к продуктивной коммуникации.
Рассмотрение художественной деятельности как своеобразной формы социальной адаптации позволяет Переверзеву выявить общественную необходимость тех «загадочных», казалось бы, метаморфоз, которые претерпело в своем развитии первобытное искусство. Однако, высказываясь о перспективах применения этого метода к более сложным художественным явлениям (в частности, к искусству Возрождения), автор, как нам кажется, неправомерно абсолютизирует возможности функционального анализа. Дело в том, что всякий искусствовед непременно оперирует такими категориями, которые не могут быть сведены ни к какой совокупности функций – категориями художественной ценности и художественной индивидуальности. Предпринимавшиеся в прошлом попытки «упростить» эти понятия, включив их в жесткую функциональную схему, обычно приводили либо к натурализму бихевиористского толка, либо к вульгарному социологизму.
Нам представляется, что функциональный анализ, тем более на нынешней стадии его разработки, не может и не должен подменять собой суждение об искусстве как специфической художественной ценности. В противном случае применение кибернетики в искусствознании окажется теоретически несостоятельным.
В заключительном разделе книги автор касается проблемы «машинного творчества», в свое время оживленно дискутировавшейся в советской и мировой печати. Как наглядно демонстрирует Л.Переверзев, теоретики, убежденные в том, что с помощью машин рано или поздно будут созданы подлинные художественные ценности, опираются обычно на упрощенную концепцию искусства, свойственную формально- структуралистскому направлению. Разумеется, если признать, что художественное произведение характеризуется лишь набором предустановленных формальных черт, то ничто не может помешать машине соперничать с художником – сочинять, например, музыку, упорядочивая случайные звуки согласно правилам, извлеченным из анализа структуры произведений предшествующих эпох. Более того, машина могла бы, в соответствии с прогнозом математика Р.Зарипова , «создавать новый стиль, отличный от уже известных и изученных». Однако, невозможно допустить, что развитие искусства никак не зависит от остальных сфер человеческой деятельности, от всей совокупности общественной практики.
Машина, по-видимому, обещает стать исключительно плодовитым эпигоном. Высказывалось мнение, что результаты «машинного творчества» были бы небесполезны, поскольку-де по контрасту с псевдохудожественными поделками станут отчетливее видны достоинства истинного искусства. Переверзев придерживается противоположного взгляда. По убеждению исследователя «суррогат искусства, кто бы его ни выпускал, представляет собой фактическое разрушение формы, наполненной содержанием. Потребление большого количества художественных суррогатов дезориентирует нас относительно подлинных художественных ценностей, создает своеобразный «шумовой фон», мешающий нам воспринимать красоту искусства и всего мира».
Реальная ценность опытов по машинному моделированию произведений искусства не имеет ничего общего с сомнительной перспективой «машинного творчества». Их ценность в другом – они заставляют уточнить реальный смысл таких категорий структурного описания «художественных сообщений», как «норма» и «отклонение», «банальность» и«оригинальность».
Нередко приходится слышать, что понятия «норма» и «стандарт» заведомо неприложимы к искусству, что попытки обнаружить устойчивые ограничения, свойственные различным видам художественной деятельности, нельзя расценивать иначе, как покушение на творческуюсвободу и поощрение эпигонства. Но так ли это?
Искусство, не признающее никаких «правил», никаких «норм», не является, вообще говоря, искусством, ибо создание и восприятие художественных произведений возможно лишь в рамках определенных культурно-исторических предпосылок, в русле живой и плодоносной традиции. Творчество, которое не стремится к упорядоченности, не сообразуется с органически возобновляющимися и развивающимися «правилами» определенного жанра или вида искусства, есть величайшая бессмыслица.
По самой своей сути свобода творческого созидания противостоит хаосу и беспорядку. Не удивительно поэтому, что история искусства знает периоды, когда известная «стереотипизация» выразительных возможностей того или иного вида художественной деятельности способствовала возникновению и наиболее полному самораскрытию ярких творческих индивидуальностей. Короче говоря, если понимать «художественную норму» диалектически, а не догматически, она не только не противна природе искусства, но представляет собой основу художественной преемственности, без которой само существование искусства немыслимо.
Современная буржуазная эстетика нередко извращает понятие художественной индивидуальности, истолковав его как анормальность и атипичность творческой личности. «Оригинальность» во что бы то ни стало, «оригинальность», достигаемая путем бесцельного и бессмысленного растворения художественной информации в сплошном потоке нарочитых и шокирующих искусственных шумов, - таков, по существу, единственный «ценностный критерий», выдвигаемый иными идеологами авангардизма. При этом художник менее всего озабочен совершенствованием своего мастерства, поисками органичности и содержательности формы, он стремится любой ценой «обойти» своих собратьев, создав нечто «непохожее» на уже существующие произведения искусства, и… оказывается в тисках модернистских канонов. Так превратно понятая «оригинальность» убивает действительную неповторимость таланта художника.
Пытаясь теоретически оправдать наиболее абсурдные проявления субъективизма в искусстве, эстетики иррационалисты настаивают обычно на принципиальном алогизме художественного творчества. Искусство, рассуждают они, недоступно научному анализу, поскольку художник, полагаясь на свою интуицию, пренебрегает логической связностью, преодолевает объективные
причинно-следственные отношения. По убеждению этих теоретиков, единственная внутренняя закономерность, присущая творчеству, заключена в потребности освобождаться из-под власти законов, и поэтому всякая форма логичности противна природе искусства.
Разумеется, художественное творчество не исчерпывается логикой и несводимо к логике, отсюда, однако, не следует, что интуиция и логика – некие взаимоисключающие друг друга сущности. Ссылаясь на ряд исторических фактов, Переверзев убеждает читателя в том, что «антагонизм» логики и интуиции отнюдь не «извечен», он возник в XIXвеке и связан с резким размежеванием науки и искусства в условиях безраздельного господства буржуазного утилитаризма. Кстати сказать, наиболее проницательные эстетики Запада приходят к такому же выводу. Например, видный американский ученый Мелвин Рейдер в статье «Художник как аутсайдер» пишет, что в возникновении «Великого Раскола» между Наукой и Искусством повинны те же самые социальные процессы, которые привели к отчуждению художественной деятельности от потребностей общества[6].
Вполне естественно, что марксистская эстетика не только не абсолютизирует противоречия между наукой и искусством, она действенно способствует диалектическому «снятию» этих противоречий в процессе развития социалистической культуры.
Работа Переверзева - хороший тому пример.
При всех своих достоинствах рассматриваемая книга не лишена и некоторых спорных положений. Так, нельзя согласиться с автором, когда он, делая уступку формальному структурализму, утверждает взаимозаменямость понятий «форма» и «структура». По отношению к художественному произведению это принципиально неверно, ибо в структуре явлений искусства запечатлена диалектика формы и содержания. Односторонне, на наш взгляд, определение, данное Переверзевым эстетическому восприятию. Но если оценивать всю работу в целом нельзя не отметить стройности и легкости изложения, глубокой обоснованности суждений, наконец, профессионального владения материалом. Эти качества выгодно отличают книгу Переверзева от иных популяризаторских опусов, взошедших на «кибернетической ниве».
Современное сближение искусствознания с естественными и точными науками - процесс многосложный и противоречивый. Было бы наивным усматривать в нем лишь дань преходящей моде, ряд бессодержательных терминологических метаморфоз, ибо стремление отыскать общие принципы самых различных систем соответствует кардинальной тенденции – утверждению органического единства всех сфер человеческой практики. И какие бы трудности не ждали исследователей на этом пути, крепнущему содружеству гуманитарных и точных наук принадлежит будущее.
Примечания:
[1].Переверзев Л.Б. Искусство и кибернетика. – М.:Искусство, 1966.
[2].Митин М.Б. Марксистско-ленинская гносеология и проблема знака и значения //Вопросы философии – 1963. - №6. – С.13-21.
[3]Bell, Clive. Art.- London. – Chatto and Windus -191; .Fry,Roger Eliot.Vision and Desigh – 1920.
[4].Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.:Мир, 1966.
Аналогичную позицию занимают Марк Бензе и Джило Дорфлес(см.: М.Сапаров. Теория информации и эстетика //Вопросы лтиературы. – 1967. - №8.)
[5]. Впервые исследовал это явление выдающийся советский ученый Л.С.Выготский.
[6].См.:Melvin Rader .The artist as outsider //Journal of Aesthetics and Art criticism. – 1958,Vol.XVI. – March. – P.310-311.


Список иллюстраций:
1.Фернан ЛЕЖЕ. Три музыканта. 1930. Музей современного искусства. Нью-Йорк.
2. Музей Фернана ЛЕЖЕ. г. Биот. Лазурный берег. Франция
3.Фернан ЛЕЖЕ. Большой парад. 1954. Музей Гугенхайма, Нью-Йорк
|
Метки: Переверзев Леонид понимание художественного произведеничя |
Мирсаид САПАРОВ - Понимание художественного произведения и терминология искусствознания и литературоведения |
Ниже воспроизводится полный первоначальный текст статьи .А.Сапарова «ПОНИМАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ», впервые опубликованной в коллективном труде "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ" (Л.: Наука, 1981)
Издание было подготовлено в отделе теоретических исследований литературы ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), возглавляемом академиком А.С.Бушминым. Помимо академиков Д.С.Лихачева, А.С.Бушмина, Г.М.Фридлендера в сборнике приняли участие психолог , академик П.В.Симонов, лингвист, член- корреспондент АН СССР Р.А.Будагов, славист, профессор Л.С.Кишкин и др.
В основу статьи М.А.Сапарова легли идеи его доклада "Современная эстетическая мысль и литературоведение", прочитанного им на Всесоюзной конференции "Взаимодействие наук при изучении литературы", проведенной ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом) 15-16 ноября 1976 года.
Послесловие, приложение и комментарии Т.В.Алексеевой
ПОНИМАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
«Нам остается движение, отделяющее движителя от движимого».
Леонардо да Винчи [1]
1
Вопросы терминологии в литературоведении носят отнюдь не частный прикладной характер. Обратившись к ним, мы невольно вторгаемся в круг острейших методологических проблем и вынуждены затронуть философские и эстетические основы литературоведческой науки.
Примечательно, что литературоведческие словари, как правило, затрудняются однозначно и недвусмысленно определить наиболее употребимые термины, обладающие категориальным значением, такие как «художественный образ», «художественная правда». Характерны при этом и ссылки на то, что содержание этих категорий является сложным, многогранным и многомерным[2].
В своей эволюции терминологический арсенал литературоведения постоянно корректируется той сложной системой междисциплинарных взаимодействий, в которую включена наука о литературе.
Термины, в которых осмысляется литературное произведение, его строение и бытование в обществе, свидетельствую среди прочего, об изначальной родовой связи с искусствознанием и (более широко) с эстетикой, познающей всю систему художественного творчества в ее совокупности.
Литературоведение, несмотря на все попытки - давние и новейшие - склонить его к сепаратизму, противопоставлению себя философии искусства в той мере, в какой оно обращается к искусству слова именно как искусству, оказывается в неизбежной соподчиненной связи с другими искусствоведческими дисциплинами. Это, кстати, со всей очевидностью подтверждается языком литературоведения.
Анализируя роман или стихотворение в их внутренних связях и частностях, исследователь, если только он не пренебрегает специфической природой своего предмета, удерживает и возобновляет в своем сознании представление о содержательной целостности художественного произведения. Представление это не тождественно впечатлению, ощущению, или же переживанию, оно есть, безусловно, и мысленная конструкция, плод целеустремленного понятийного развертывания произведения в сознании. Иначе говоря, целостность художественного явления не только непосредственно воспринимается, но и мыслится.
Разумеется, мышление при этом далеко не всегда достигает уровня теоретической концептуализации. Даже в профессиональном литературоведческом анализе зачастую дело ограничивается аналогиями типа образных уподоблений. И все же для истолкования и восприятия художественного явления оказывается небезразличным, как именно трактуется и представляется принцип его целостности, какой образ сыграет при этом роль метафорического ключа.
Представление об устройстве и причинно-следственных связях объективного мира, т.е. необходимое мысленное обоснование реальности, выступает непременным опосредующим звеном в истолковании художественного образа. Конечно, представление это «снято» и не присутствует в литературоведческом анализе в явном виде, и тем не менее оно обнаруживает себя прежде всего в терминологии и типе образных аналогий.
Образные опосредствования, к которым неминуемо прибегает исследователь, пытаясь выразить свое представление об эстетическом своеобразии художественного произведения, характеризуют способ его миропонимания куда более адекватно, чем несоотнесенные с предметом и результатом исследования методологические декларации. Например, приходится сталкиваться с тем, что автор, горячо ратующий за применении в литературоведении категориального аппарата теории информации или же кибернетики и до предела насыщающий свою речь словечками из лексикона этих дисциплин, в образной структуре своих рассуждений обнаруживает такие представления, которые совершенно несовместимы с реальным научным содержанием этих областей знания.
Возьмем, к примеру, широко распространившееся определение художественного произведения, художественного образа или даже искусства в целом как модели. Термин этот широко внедрился не только в труды по эстетике и философии творчества, но и в обиход практической литературной критики. «Через понятие модели, - отмечает, например, Х.Редекер, - можно, по всей вероятности…точно определить отношение литературы к действительности»[3].
Прежде всего, выясним, как понимается термин «модель» в тех сферах знания, в которых он возник и сформировался.
При всем многообразии истолкований категории модели в современной науке[4] наиболее общее ее определение таково: модель – система мыслепроизводимая или материальная, которая посредством замещения объекта дает некоторую информацию об объекте. Знание, достигаемое таким образом, как правило, превосходит ту сумму знаний, которая потребовалась для построения модели. Отражая структуру предметов и явлений объективного мира, модель в то же время не тождественна им. «По самому определению модели она должна в чем-то непременно отличаться от объекта, иначе она не будет моделью, а просто совпадет с самим объектом...»[5]. В познании несходства, несовпадения оригинала и его воспроизведения становятся более наглядными и значимыми те существенные черты и отношения, которые оказались повторенными и претворенными в модели. Когда модель слишком точна, она теряет познавательный смысл, перестает быть моделью, если же подобие ее несовершенно – она становится источником заблуждений. Модель,- что чрезвычайно важно, - способна служить объяснению явлений лишь в сочетании с другими формами и методами познания - теорией и экспериментом.
Метод моделирования особенно эффективен, когда по тем или иным причинам непосредственное изучение объекта затруднено или невозможно. На эту особенность модели обратил внимание замечательный русский ученый Н.А.Умов, считавший, что построение модели – мощное средство познания тех явлений, которые не даны нам, не ощущаются нами, для ощущения которых у нас не имеется специального органа[6].
Что же дает эстетической мысли рассмотрение аналогии между художественным творчеством и моделированием?
Прежде всего аналогия художественного произведения с моделью позволяет ярче обозначить активный деятельный характер познания в искусстве. Художник не только концентрирует и выражает в произведении некое наличное знание жизни, сам процесс творчества и «воплощения образа в материале» есть процесс познания, обобщения и осмысления действительности. Причем, будучи завершено и «выйдя а жизнь», художественное произведение продолжает служить познанию, ибо оно не только результат, продукт познания, но и орудие познания.
Как и модель, художественное произведение осуществляет подобие воспроизводимому явлению в инородном материале, в иной пространственно-временной размерности, сообразуясь с условностями, диктуемыми специфическим способом бытия объектов этого класса.
И в том и в другом случае оригинал и воспроизведение предполагают друг друга – отсюда диалектическая взаимообусловленность сходства и различия: одно проявляется через другое.
Подобно модели художественное произведение не способно отразить и претворить реальность во всей ее полноте, оно соответствует конкретно-историческому уровню постижения и освоения мира человеком. Эту мысль отчетливо выразил Альберт Эйнштейн, хотя сам при этом и не прибегнул к понятию «модель». «Человек стремится создать для себя, наиболее приемлемым для него способом упрощенный образ мира, он пытается, далее, отчасти заменить этим собственным миром мир реальный и таким образом овладеть им. Именно так поступает художник, поэт и философ-мыслитель и ученый-естественник, каждый по-своему»[7].
На этом, однако, сходство художественного произведения с моделью кончается и начинаются различия. Существенные, многообразные, непреодолимые. Ибо искусство не подражает и не дублирует научно-познавательной деятельности, способ его организации и существования в обществе совсем иной. [8]
Поэтому уподобление художественного образа модели наделено и преимуществами и изъянами метафоры.
Конечно, пытаться избавить литературоведческую науку от метафор – затея пустая. Метафора служит литературоведу не только средством выражения, но и бесконечно гибким и чутким инструментом познания.
Вопреки мнению Араго, способность сознания соотносить и сопоставлять различные пласты человеческого опыта – свидетельство силы, а не слабости интеллекта.[9]
Известный американский математик Д.Пойа свидетельствует, что даже в математическом творчестве удачно найденное слово-метафора помогает «схватить» проблему и найти ее единственно верное решение. Говоря о роли аналогий, Пойа справедливо отмечает, что аналогия часто является смутной, хотя сущность аналогии не уменьшает ее интереса и полезности. Однако в научном познании особую ценность представляют выясненные аналогии, т.е. такие, в которых условия сходства и различия ясно сформулированы и точно определены.[10]
Вряд ли можно согласиться с Н.К.Геем, когда он утверждает, что «художественное творение… художественная система, не уподобимая образованиям другого рода»[11]. Тем более, что в цитируемой работе строкой ниже следует целая цепь уподоблений: « В результате самодвижения образа в поле объектно-субъектных отношений происходит оформление в материале содержания и кристаллизация содержания в материале, при этом предполагается создание оптимального варианта эстетических отношений внутри произведения».
Что же такое «движение в поле», «оформление в материале» и, наконец, «оптимальный вариант отношений», как не образы, позаимствованные из физики, химии, строительного дела? Следовательно, вопроса «уподоблять или не уподоблять» - нет. Дело в другом – в качестве самих уподоблений.
Образ электромагнитного поля применен Геем не вполне удачно [12]. Во-первых, движение заряженной частицы в электромагнитном поле вполне принудительно, о самодвижении здесь говорить не приходится. Поскольку самодвижение образа суть саморазвитие, более уместной была бы метафора органического порядка. Во вторых, в художественном творении субъект и объект вовсе не полярны, отношения их нельзя уподобить противоположению и отстоянию друг от друга электромагнитных полюсов.
Правда, в целом оригинальное и содержательное исследование Н.К.Гея «Художественность литературы» свидетельствует о том, что последовательная система уподоблений способна приблизить нас к пониманию внутреннего строения художественного образа, хотя каждое отдельное уподобление само по себе не может претендовать на полноту истинности.
Итак, нет ничего предосудительного в том, что термин «модель» или любой другой термин, позаимствованный из сферы естественных и точных наук, используется в качестве метафоры, т.е. в качестве некоего условного контура, охватывающего предмет, но отнюдь не следующего его внутреннему строению. Характерно, что в этом случае одно слово без особого ущерба может быть заменено другим синонимичным словом, один образ – другим. Например, Г.А.Белая пишет: «Своеобразная позиция Леонова по отношению к миру может быть смоделирована при помощи одной из столь ценимых самим же Леоновым «формул бытия»: «Сверху птице показалось бы, - писал Леонов о развернувшемся строительстве на Соти, -что бредовым безумьем охвачен край; птица не знала, что и сумасшествию людскому заранее начертан план».[13]
Очевидно, что здесь слово «смоделировать» безо всякого ущерба для смысла можно заменить словами «выразить», «метафорически передать».
«Осовременивание» языка литературоведения за счет слов, пришедших из мира естествознания и техники, есть во многом стилистическая конвенция , попытка заменить «стершиеся» метафоры более свежими: беда только в том, что естественнонаучные термины в качестве метафор в силу своего противостояния естественному языку изнашиваются гораздо быстрее, превращаясь в инертные и аморфные образования.
И совсем плохо, если метафора выдается за научную дефиницию. При этом она мгновенно теряет свои достоинства – прежде всего свою пластичность и обратимость – и превращается в бесформенный понятийный сор.
Когда метафорическое описание явления, возможное наравне с другими описаниями, наделяется полномочиями объяснения, адекватно соответствующего сущности явления, это приводит к тому, что частное и в известной мере случайное приобретает вид общего и логически необходимого.
Наука, перестающая сознавать инструментальный характер выбранных ею средств, а отсюда – неизбежную ограниченность и частность этих средств по отношению к самой исследуемой реальности, невольно грешит опасным гипостазированием терминов и категорий. При этом они не только парализуют живое движение мысли, но и вытесняют самый предмет постижения, подменяя его наукоподобным муляжом.
И подобно тому, как художественный образ теряет свою специфическую ценность, как только нарушается его диалектическая соотнесенность с отражаемым явлением, исключающая слияние, так и понятийное воспроизведение объекта исследования в контексте науки утрачивает познавательную ценность, как только поступается пониманием принципиального несовпадения воспроизведенного и воспроизводимого, а само это несовпадение перестает переживаться как продуктивная сила, побуждающая к научному творчеству.
На гипертрофированное и расплывчатое понятие модели возлагается подчас функция тотального объяснения всех форм художественной деятельности. Так, М.С.Каган, возведший на понятиях «модель», «информация» и «знаковая система» разветвленную теоретическую постройку, доказывает, что «созидание моделей имеет в науке подсобный характер и там, где можно без них обойтись, ученые так и поступают. В искусстве же образы-модели – это сама его художественная плоть, вне которой оно вообще не существует как искусство»[14]. Более того, «художественное моделирование» - это и есть, по мнению М.С.Кагана, «то, что отличает художественное отражение жизни от ее научного познания»[15].
Искусство предстает последовательно и моделью человека[16], и моделью реального мира [17], и моделью пространства, и моделью времени, и моделью «общественных идеалов»[18], и моделью «прямых и обратных связей между личностью и социальной средой»[19], и даже моделью «зрительного восприятия мира»[20].
В свою очередь отдельные «компоненты» художественного произведения тоже оказываются какими-либо моделями: «характер – это модель человека, сюжет – модель действия и взаимодействия людей» [21] и т.д.
«Модель» используется в качестве безотказной отмычки сразу ко всем проблемам теоретического искусствознания – и образа, и стиля, и метода, и художественного восприятия.
Такая универсальность модели поневоле настораживает. Употребление всякого термина, если только он и на самом деле термин, а не притворяется таковым, требует известных регламентаций. Модель, которая «моделирует» разом все, что ни есть на свете - уже не термин.
Если уж мы провозгласили то или иное явление моделью suigeneris, то совершенно необходимо определить, моделью какого объекта оно служит. Ведь понятие модели соотносительно. Иначе оно теряет всякий смысл. «Охаратеризовать моделирование – это прежде всего выяснить отношение между исследователем, моделью и оригиналом»[22].
К сожалению, сделать это без неуклюжей словесной эквилибристики оказывается совершенно невозможным.
Наиболее настойчивые попытки определить специфику «художественного моделирования» через выявление его художественного объекта были предприняты главным образом в двух направлениях:
1. Стало типичным утверждение, что в отличие от научной модели «художественная модель» воспроизводит не объект, а субъект или же так называемые «объектно-субъектные отношения». Но категории объекта и субъекта рефлективны, поэтому не будем зачаровываться игрой слов: ежели субъект стал предметом отображения и воспроизведения в модели, то он выступает в качестве объекта, объекта познания.
«Модель в науке – модель определенного, реально существующего объекта. Модель в искусстве – модель человеческих мыслей, чувств, настроений, отношения человека к миру», считает Л.Коган [23].
«Искусство, - по мнению Е.Ковтуна, - моделирует внутренний мир человека, опредмечивая его. Оно не повторяет, не дублирует, а создает «вторую реальность», вещи, которые принадлежат (в своей сущности) миру духовному»[24].
«Семиотическая модель внешнего мира, образующаяся в мозге художника во время творческого акта, - поясняют Б.В.Бирюков и Е.С.Геллер, - должна отражать не только этот мир, но и внутренний духовный мир самого художника, точнее, взаимоотражение этих двух миров. Поэтому скорее всего это должна быть система функционально связанных знаковых моделей. Некоторые подходы к воплощению такой модели в машине мы находим в упомянутых работах Д.А.Поспелова (1969. 1970, 1971) опять- таки в эскизном плане – в виде «бумажных» блок-схемных построений»[25].
Допустим, что духовная деятельность как таковая действительно является специфическим объектом «художественного моделирования».
Увы, это определение равным образом мистифицирует и искусство, и духовную деятельность человека. Ведь последняя значима и существенна для искусства лишь постольку, поскольку она отражает и преломляет в себе объективный порядок вещей.
Даже самое интимное стихотворение подлинного поэта, подымаясь над единичной человеческой судьбой, служит выражением того, что является достоянием народа и человечества, того, что объективно присуще миру.
Ведь человеческие чувства, ощущения, переживания, эмоции не беспредметны. Они не только соотносительны с миром, они им обусловлены. Поэтому искусство способно проникать в мир человеческих переживаний лишь в той мере, в какой оно отражает и познает объективную действительность.
Когда-то итальянские футуристы сетовали на то, что художник, вознамерившийся передать движение прекрасной женщины, вынужден изображать и саму эту женщину, и мостовую, по которой она идет, и многое из того, что никак не характеризует «чистое» движение. Ныне беспредметные романтические «модели», созданные Умберто Боччони[26] и его сподвижниками, украшают музеи «современного искусства» и как бы к ним не относиться, нельзя не признать, что они менее всего нацелены на отображение реальности и ровным счетом ничего конкретного не воспроизводят, хотя подчас наделены эффектными названиями отсылающими к реальным явлениям.
Точно так же «моделирование» духовной деятельности утопично как раз потому, что предполагает превращение деятельности в некий «самодостаточный» «предмет».
2. Часто утверждают, что в отличие от науки искусство «моделирует несуществующее, говорит о возможном»[27]. «Великий герой художник, - полагает Л.Переверзев, - создавая свои образы на основе настоящего и прошедшего, всегда моделирует в них какую-то часть будущего мира»[28].
В.Турбин более радикален: «В структуре произведения искусства мы имеем дело с моделью идеального мироустройства. А подчас и с моделью идеальных общественных отношений» [29].
«Искусство – это не только призыв к социальной революции, оно одновременно есть модель того общества, во имя которого звучит революционный призыв», - пишет Ю.Давыдов[30[.
Если лишить эти и подобные высказывания элемента гиперболизации[31], то мысль о том, что искусство моделирует будущее, может быть истолкована двояким образом.
Во-первых, художественное произведение отражает не только сущее, но и идеальное, возможное и должное.
Как писала А.С.Молчанова, «рассматривая искусство в системе связей «опережающее отражение – целеполагание – идеал», правомерно сделать вывод о наличии у искусства прогностической функции, считать его специфической формой прогностического социального моделирования»[32].
Во-вторых, всякое художественное произведение означает проекцию в будущее, предназначено для будущего, предощущаемого, но непредсказуемого во всех своих деталях.
По словам Риты Шобер, «как научная модель соответствует основной структуре различных явлений действительности, так и модель литературная применима не только к одной-единственной конкретной ситуации. Концепция литературного произведения как модели предполагает в то же время активный характер восприятия произведения. Это активное восприятие можно было бы сравнить с экспериментированием с различными его возможностями»[33].
Кстати, сравнение искусства с определенным типом моделей - с так называемыми гипотетическими моделями – наиболее обосновано, в особенности, если сравнение это не претендует на полноту.
И все же названные особенности искусства – собственно содержательная и функциональная – не могут быть вполне адекватно обозначены понятием модели.
Во-первых, абстрагирование и идеализация, непременно предшествующие модели, принципиально отличны от художественного обобщения. Модель есть «абстрактный объект» или, как верно замечает Н.К.Гей, результат «упрощения», «схематизации» реальной сложности и многозначности природных объектов и отношений.[34]. Художественное слово в своем идеальном бытии открыто реальному богатству действительности, представительствует от него.
Во-вторых, жизнеспособность художественного произведения, его устремленность к порождению смысла, как бы отразившего и преломившего в себе движение истории, нельзя свести к семантической проблеме поливариантности интепретаций гипотетической модели. Как говорил по этому поводу М.Дюфренн, критикуя структуралистскую концепцию «механического воссоздания смысла», система художественного произведения будет значащей только постольку, поскольку черпает смысл в объективном мире [35].
К тому же сугубо семантическое истолкование множественности интерпретаций, предполагаемых самой природой «художественной модели», неубедительно: «Поскольку модели в искусстве не предшествует полный анализ природы элементов и их структуры, замененный аналогией по сходству, модель в искусстве, с одной стороны, не поддается однозначному логическому толкованию, допуская гораздо большую диффузность различительных признаков. С другой стороны, модель в искусстве, именно в силу этой диффузности, позволяет производить гораздо более возможности непредвиденных открытий, чем научная модель»[36].
Спрашивается, в разве «полный анализ природы элементов и их структуры» возможен? И разве предшествует он хотя бы какому-нибудь реально существующему виду моделирования?
Понятие «модели», как явственно следует из его определения, требует известного отграничения рассматриваемого предмета, усечения поля зрения, выделения и «прочерчивания» каких-то аспектов отображаемой реальности в ущерб другим. Иначе говоря, модель не может быть всеобщей. М.Гиршман, находивший «уместным» понятие модели в литературоведческом анализе [37], тем не менее не согласился с формулой Ю.Лотмана «стихотворение - модель определенной действительности»[38], поскольку она якобы не делает «поправку на специфику художественной модели». В результате формула была откорректирована М.Гиршманом так: «стихотворение – это модель бесконечного мира, сосредоточенного в лирическом «миге». Это дало повод М.Соколянскому «заступиться» за Ю.М.Лотмана и обвинить М.Гиршмана в непонимании метода моделирования.
Курьезнее же всего то, что «поправка» была принята самим Ю.Лотманом: «Произведение искусства представляет собой конечную модель бесконечного мира»[39].
Но ведь «модель бесконечного мира» - чистейший оксюморон, лишающий слово «модель» научно-терминологического значения [40].
Многочисленные обоснования художественной модели не могут выйти за пределы одной и той же алогичной схемы: искусство есть модель, специфика которой заключается в том, что она не является моделью.
Ведь когда мы говорим, что художественный образ неисчерпаем, это отнюдь не гипербола, это – определение, относящееся к самой сути художественного образа. Модель же в гносеологической своей сути конечна.[41].
Примечательно, что все попытки определить специфику «художественного моделирования» либо никак не связаны с собственно терминологическим содержанием понятия «модель» и сводятся к простому перечислению таких свойств искусства, как образность, эмоциональность и т.п., либо имеют априорный и при всей категоричности – непоследовательный характер.
«В художественной модели, - утверждает, например, Л.А.Лебедева, - в любом случае воссоздается целостность оригинала, хотя в модели могут не воспроизводится все его стороны, черты, функции, взаимосвязи и т.п.»[42].
В этом Лебедева усматривает принципиальное отличие художественной модели от научной, которая, по ее мнению, воссоздает лишь «сущностные, очищенные от конкретности и индивидуальности элементы и структурные связи оригинала».
Если учесть, что Лебедева разумеет под «оригиналом» тот или иной художественно запечатлеваемый объект, ее рассуждения звучат довольно загадочно. Неужели же художник, изображающий, скажем, лунную ночь, или же яблоко (примеры Ю.М.Лотмана), непременно воссоздает объективную целостность того и другого. Очевидно, что речь идет все-таки не о целостности, а о конкретности, однако при этом смешиваются чувственная конкретность художественного изображения и конкретность самого изображаемого объекта. А это не одно и то же.
Подчас забывают, что научно-терминологическое значение категории «модель» актуализируется лишь в определенной системе взаимосвязанных понятий, определяющих познавательные процессы.
Как известно, понятийное содержание термина не исчерпывается дефиницией и не сводится к ней, сколь бы исчерпывающей эта дефиниция не казалась. В конечном счете, содержательность термина, обладающего категориальной значимостью, обеспечивается той научной системой, в которой сформировался термин, став ее необходимым элементом.
Нельзя, по-видимому, извлекать понятие модели из той системы понятий, с которыми оно сопряжено, т.е. изоморфизм, информация, структура, система, наглядность и т.д.
Мы вовсе не хотим утверждать, что сфера применения термина может быть раз и навсегда установлена. Будучи применен в новых обстоятельствах и к иному роду явлений, термин может эволюционировать, менять свой объем и содержание, обрастать семантическими модуляциями. Однако, если термин остается термином, изменения эти должны быть в полной мере осознаваемы и контролируемы. В противном случае происходит вырождение слова-термина, неявная контаминация его различных смыслов. Уродливо срастаются «научное» и обыденное значения, и возникает то «зловонное» слово, о котором когда-то верно сказал Андрей Белый: «…полуобраз-полутермин, ни то, ни се – гниющая падаль, прикидывающаяся живой, оно как оборотень вкрадывается в обиход нашей жизни, чтобы ослаблять силу нашего творчества, будто это творчество есть пустое сочетание слов, чтобы ослаблять силу нашего познания, клеветой, будто это познание есть пустая номенклатура терминов»[42]
В естественной речи оторванное от своей логической среды понятие утрачивает былую однозначность и начинает жить, сообразуясь с контекстом. Метафорическое использование термина «модель» приводит к чередованию различных значений слова. И до тех пор, пока метафора, довольствуясь подобием, не тщится выдать себя за нечто другое, за некую самостоятельную и неизменную субстанцию, в таком словоупотреблении нет ничего дурного. Так, автор послесловия к «Тристану и Изольде» А.Д.Михайлов, употребив слово «модель» в значении «образ», несколькими строками ниже прибегает к той же «модели» как «образчику», «варианту»[44].
Как известно, до недавнего времени понятие «модель» употреблялось в значении «образец», «тип», «вариант». Это значение и до сих пор бытует в повседневной речи, когда мы говорим, например, о моделировании одежды, о новой «модели» автомобиля или пылесоса или же о модельной обуви[45].
Ясно, что в этом смысле слово «модель» лишено гносеологического содержания и вопрос о соответствии модельного образа отраженному в нем реальному объекту никак не подразумевается.
Но вот происходит искусственное сращение научно-понятийного и обыденного значений слова «модель», и этот мысленный гибрид перекочевывает в эстетическую теорию, давая повод для громоздких, хотя и весьма произвольных построений, затемняющих понимание искусства.
Пагубность этого заключена не только в том, что говоря словами Б.М.Рунина, «строгость модели грозит вытеснить из нашего…мышления радость метафоры»[46]. Противоестественное «склеивание» метафоры и термина порождает нечто невообразимое и немыслимое. Ни строгости, ни радости…
Так, М.С.Каган в статье «Метод как эстетическая категория» неожиданно «разводит» и разграничивает «гносеологические» и «моделирующие» компоненты метода [47]. Понятие модели должно, по его мнению, помочь понять искусство как созидание, как функцию труда, как вещеделание. «Художественное моделирование» трактуется как вид материального производства: функция «моделирующей или проектирующей деятельности» - в том, чтобы «обеспечивать реальную, материально-практическую деятельность опережающими и направляющими программами»[48].
Итак, «модель-подобие» до неразличимости слилась с «моделью-проектом», образуя словесно-бутафорский реквизит научности, позволяющий безбоязненно соединять контрадикторные суждения и выдавать их за различные стороны одного и того же явления.
Подчеркивая, что «внешняя форма» художественного произведения создается «в процессе материального конструирования образных моделей»[49], М.С.Каган хочет избавить понятие модели от одностороннего «гносеологизма» и вслед за Лотманом создать такую «модель моделей», которая позволила бы по мере надобности снять фундаментальный вопрос о соответствии модельного образа действительности [50].
«Сверхзадача» М.С.Кагана понятна. Его теоретические намерения очевидны. Но оправдывают ли они неразборчивое, потребительское отношение к терминологии, созданной усилиями естественных и точных наук?[51]
Неоправданные надежды на понятие «художественного моделирования» нередко сопряжены с нигилизмом по отношению к «традиционной» эстетической науке. Показательна в этом смысле книга Б.В.Бирюкова и Е.С.Геллера «Кибернетика в гуманитарных науках», канонизирующая построения М.С.Кагана как образчик « системно-кибернетического подхода к искусству» [52]. Так, в крайне сумбурной главе «Моделирование художественного – Трудности и проблемы» Б.В.Бирюков и Е.С.Геллер сводят и практически отождествляют два разных вопроса: рассмотрение художественного произведения как модели и моделирование процесса художественного творчества с целью его воспроизведения [53]. Причем уровень понимания ими художественной деятельности хорошо демонстрирует такой пассаж: «…несомненную трудность представляет собой моделирование психофизиологической и социальной сторон художественного творчества. Если кибернетическое моделирование эмоциональной деятельности – проблема разрешимая, то учет в модели творческих процессов их социальных аспектов – задача, к которой пока неясно, как подойти. Единственное, что остается делать сегодня при изучении этих аспектов, - это пользоваться традиционными методами искусствознания, такими как изучение авторских черновиков, писем, различного рода записей, мемуаров и т.п., или взять на вооружение методы социологические – анкетирование, метод тестов, взятие интервью и др. с последующим количественным анализом»[54].
Не говоря уже о сомнительной идее, согласно которой психологические и социальные аспекты творчества могут исследоваться порознь, поражает уверенность авторов в том, что изучение дневников и анкетирование гарантируют объективность знания, в то время как философия искусства и содержательный анализ самих произведений даже не упоминаются.
Может возникнуть вопрос: почему же понимание художественного произведения как модели получило такое быстрое распространение в современных литературоведении и эстетике? Явление это симптоматично. Дело в том, что проблемой, наименее разработанной в нашей эстетической теории, является проблема онтологического статуса художественного произведения. Природа, однако, не терпит пустоты. Как говорил Гете, когда нет понятия, подворачивается слово. Отвечая на фундаментальный вопрос, что же такое художественное произведение, каков способ его бытования, иные авторы довольствуются расхожими, обыденными представлениями, облаченными в псевдотерминологические одежды («художественная модель», «художественная информация» и т.д.). При этом характер бытия художественного произведения представляется чем-то самим собой разумеющимся. Однако, увы, то понимание проблемы, которое содержится в подтексте литературоведческих изысканий, зачастую грешит философским натурализмом и упрощенчеством.
ЖИВОПИСЬ:
1. Леонардо да ВИНЧИ. ДАМА С ГОРНОСТАЕМ. 1489-1490. Музей Чарторыйских. Краков
2. Умберто БОЧЧОНИ. СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ - 3. Те, кто остается... 1911. Музей современого искусства. Нью-Йорк.
3. Умберто БОЧЧОНИ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 1912. Частное собрание.
См. продолжение в нижеследующем посте
|
|
Мирсаид САПАРОВ - Понимание художественного произведения и терминология искусствознания и литературоведения (продолжение) |
2
Проникновение в литературоведение терминов смежных, а зачастую весьма отдаленных наук обычно определяют и оправдывают успехами соответствующих отраслей знания, их якобы лидирующим положением в системе научного познания.
Такие объяснения, однако, не вполне убедительны.
Действительно, история изобилует примерами неожиданного вовлечения в сферу литературоведения понятий, сформировавшихся в различных науках, биологии, физике. Вспомним «эволюцию жанров» Ф.Брютеньера, теорию «момента, расы и среды» Ипполита Тэна, эстопсихологию Э.Генникена и «физиологию вкуса» Вл.Велямовича. Когда Ипполит Тэн детерминировал специфику художественного явления через понятие среды, когда, скажем, Брютеньер пытался построить эволюцию литературных жанров по прямой аналогии с эволюцией видов в биологии, эти новации казались прямым вторжением «позитивных» наук в сферу истории литературы [55].
Не следует, однако, представлять дело таким образом, что всякое крупное методолого-теоретическое завоевание в области естественнонаучного знания неминуемо отражается и на понятийном аппарате наук о литературе и искусстве. Это совсем не так. Скажем, во второй половине ХIХ века открытия Д.Максвелла и Л.Больцмана, Д.И.Менделеева и А.М.Бутлерова ничуть не уступали по значению тогдашним достижениям в области физиологии и психологии. Тем не менее, не физика или химия, а именно физиология и психология давали образцы научной методологии для литературоведения.
В 50 - 60-е годы нашего века были осуществлены радикальные, поистине исторические, открытия в сфере биологии. Однако, не генетика, как, впрочем, и не физика и химия, а теория информации и структурная лингвистика были объявлены методологическими наставниками литературной науки.
Здесь-то и обнаруживается, что воздействие естественнонаучного знания на литературоведение никогда не бывает прямым и непосредственным. Оно опосредуется конкретными философскими и социально-психологическими установками, хотя это, понятно, не означает, что сами естественнонаучные принципы фатально сопряжены с определенными идеологическими тенденциями.
Вообще, всякий раз, когда в истории науки частный метод неожиданно наделяется универсальными полномочиями, это связано с неявными идеологическими притязаниями. Хрестоматийный пример: перенесение методологии дарвинизма на общественные явления. Социал-дарвинизм, разумеется, вовсе не бессмыслица. Он имеет определенный коррелят в реальной действительности, а именно: буржуазный утилитаризм, ситуацию капиталистической конкуренции. Реакционность же социал-дарвинизма в том, что реальность буржуазного мира абсолютизируется и «онтологизируется», становится мерой и определением человека.
Точно так же структуралистское сведение духовной деятельности к «вещи», к структуре «обозначающих», поскольку оно выступает не как этапный методический прием, а как философская программа [56], «онтологизирует» и невольно «узаконивает» конкретно-историческую ситуацию – ситуацию, наблюдаемую ныне на буржуазном Западе, отчуждения культурных институтов: искусство перестает быть творчеством по преимуществу и превращается в «вещь», потребляемую в ряду других вещей.
Терминология, отсылающая к естественнонаучным аналогиям, невольно изображает то или иное понимание вопроса как бы следствием научно-технического прогресса, хотя на самом деле, быть может, подобное понимание имеет собственную традицию.
Когда, например, Роже Гароди [57] и Эрнст Фишер [58] начали эксплуатировать термин «модель» для обозначения сущности искусства, то он потребовался им как замена понятия «миф», окончательно скомпрометированного и явно непригодного для истолкования художественного реализма. Однако смысл эстетических концепций Гароди и Фишера, якобы опирающихся на генерализированную категорию «модели», вполне определенен: оказывается, превратное, ущербное отображение действительности может войти в сознание человека как бы наряду с самой действительностью, став якобы выражением активного отношения индивида к жизни. Вряд ли нужно доказывать, что такое понимание искусства вовсе не обосновано научно-техническим прогрессом, его истоки иные: субъективизм в философии, псевдореволюционность в политике.
То, что объективно обусловленный процесс взаимодействия и интеграции различных, порой весьма далеких областей знания может стать и нередко становится поводом для идеалистических и ревизионистских спекуляций, лишний раз доказывает необходимость подлинно диалектического анализа поступательного развития литературоведческой методологии в ее взаимосвязях со всей совокупной системой научного знания и прежде всего – гуманитарными науками[59].
При этом масштабы и эффективность применения частных и общих методов, генерализованных категорий и специальных терминов определяются не степенью их «новизны» или же «традиционности», а их реальным содержанием и возможностями.
За воинственным противопоставлением традиционных и новых, «своих» и «чужих» понятий угадывается конфликт методологий, каждая из которых устами своих приверженцев оспаривает у другой преимущества точности и эффективности.
Это вредное противопоставление прежде всего сказывается в том, что «традиционным» методам оказывается полное доверие, хотя само по себе их употребление еще не свидетельствует о достоинствах исследования, тогда как новорожденные термины на первых порах особенно нуждающиеся в прояснении и развитии, встречают предвзятое недоверие - в лучшем случае их терпят.
Это, разумеется, не уменьшает, а скорее усиливает тягу неофитов кибернетики, теории информации и структурной лингвистики испробовать приобретенный инструментарий – в противовес и вопреки литературоведческим традициям.
В результате рождаются штудии, демонстрирующие своего рода научный провинциализм - недостаточную осведомленность за пределами своей дисциплины, кустарность «глобальных» покушений, неумение пользоваться данными других дисциплин.
Нередко в таких случаях литература оказывается не самостоятельным объектом изучения, а всего лишь «испытательным полигоном», на котором «обкатываются» терминологические изобретения других наук. Так, вместо интеграции чрезмерно специализированного знания, понятия, призванные образовать язык общий для различных областей науки, на практике порождают путаницу и междоусобицу даже в тех сферах, которые до последнего времени не страдали от излишней специализации.
Иногда за свидетельство возросшего уровня наук об искусстве пытаются выдать методологический плюрализм и понятийную эклектику [60]. Логика добрейшей Агафьи Тихоновны, мечтавшей губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича да присовокупить развязности, какая у Балтазар Балтазарыча, унаследована некоторыми системосозидателями от литературоведения.
Сама множественность различных «подходов» к произведению искусства оценивается как несомненное достоинство и связывается с упрощенно толкуемыми понятиями «система» и «системность». При этом подчас насильственно соединяются подходы, основывающиеся на различных, если не взаимоисключающих мировоззренческих посылках.
Говорить о внутреннем единстве такого исследования, о его устремленности к целостному постижению художественного произведения не приходится. И неудивительно, что подобная методологическая программа выражается в произвольном сопряжении понятий, извлеченных из самых различных научных областей, понятий, вульгаризированных и по существу освобожденных от сконцентрированного в них специального знания.
В результате возникает не более широкая понятийная система, в которой якобы предмет литературоведения отчетливее обнаруживает свою многосторонность, а крайне агрессивный и прилипчивый жаргон, дразнящий своей легкостью, наукообразностью и бесконтрольностью. Лжетермины, суля некоторые гносеологические преимущества, на деле обессиливают исследователя, ослабляя его связи с живым языком, расшатывая ту меру взыскательности к слову, вне которой немыслимо литературоведческое творчество.
Беда, разумеется, отнюдь не в самом расширении терминологического арсенала литературоведения, она – в нежелании понять терминологию литературной науки как целостное самостоятельное, исторически развивающееся образование, соотнесенное с литературным процессом.
Крайне наивно определять новизну тех или иных терминологических приобретений в литературоведении через их противоположность традиционным понятиям и категориям. Ведь в литературоведении, как и в других областях человеческой деятельности, традиция не означает неподвижности, наоборот, она предполагает плодотворное развитие, которое не может соблазниться зряшным отрицанием и сохраняет в себе свою историю как выживший и жизнеспособный смысл. Уже только по этой причине ни одно понятие литературной науки не остается тождественным самому себе, не покидая практического арсенала литературоведения, оно продолжает эволюционировать.
Кстати, совокупность терминов, употребляемых литературоведением, сама по себе не характеризует реального понятийного содержания его трудов, ибо слово, однажды приняв на себя роль термина, способно постоянно варьировать свое значение, то обедняясь и превращаясь в некую мнимость, некую условную, ничему в реальности не соответствующую величину, либо вновь обретая смысловую наполненность.
Однако ныне наиболее эффективным (или эффектным?) и быстрым способом терминологического «оживления» литературоведения зачастую представляется не разработка и конкретизация «традиционных понятий», а внедрение сугубо специальных терминов, противостоящих в своей совокупности (т.е. как единая терминосистема) общеупотребимому языку.
Стремление во что бы то ни стало изолировать терминосистему литературоведения от естественного языка так, чтобы значение отдельного термина определялось исключительно функционально, безусловно, имеет своим идеалом превращение термина в формализованный знак, своего рода иероглиф, оборвавший семантические связи с обыденной речью, когда существеннейшие связи и опосредствования в изучаемом явлении выражаются как отношения знаков, т.е. в виде формул [61].
Знаменательно, что математическая формализация всегда была недостижимым образцом для ревнителей «специализированного литературоведения»
Так, А.А.Реформатский еще в 1922 году утверждал: «Как и всякое построение, сюжетная композиция поддается моделированию, выражающемуся в установлении схемы структуры, изложенной в виде формулы.
Чередование: 1)описания (статика) (D) и 2) повествования (динамика) (N).
Например, «Выстрел» Пушкина.
D + N + D + N || D + N +
d1 d2 n1 d2d1 n1- n2-n1 || d3d4 n3n4n2 +(dn)
(Анализ Н.А.Петровского)» [62].
Увлеченность литературоведения формулами, периодически возникающая, носит вполне платонический характер. Она опасна лишь постольку, поскольку существует убеждение, будто условной символической форме выражения соответствует специфическое содержание, абсолютно невыразимое «обычным» человеческим языком.
Супертерминологическая каббалистика постоянно возобновляет в посвященных чувство собственного избранничества, требует от них известного единомыслия, солидарности и поэтому способна служить достижению определенных жизненных целей. Однако приближает ли она к сути постигаемых явлений?
Впрочем, идея о разноположенности терминосистемы и языка получила сегодня широкое распространение и литературоведение лишь одна из областей, на которую пытается распространить свои принципы терминологическая робинзонада, декларировавшая, что «термин находится за пределами языковой системы, он абсолютно недоступен никаким семантическим законам»[63].
Однако даже в самых эзотерических областях знания мы постоянно сталкиваемся с явлением языковой непрерывности, т.е. невозможностью абсолютно изолировать номинативные средства той или иной научной дисциплины от речевой практики общества.
Как справедливо утверждал А.И.Моисеев, «языковая непрерывность имеет глубокую социальную основу: все сферы общения, обслуживаемые специальными терминами и языком в целом… являются сферами жизни и деятельности отдельных коллективов единого в языковом отношении общества, народа, и языковое общение в каждой из этих общих специальных сфер социальной деятельности людей есть составная частица и непосредственное продолжение общенародного языкового общения. Народ при этом полностью сохраняет свое единство, в частности, языковое, и не распадается на отдельные, так сказать, профессионально-терминологические ячейки»[64].
Бросается в глаза, что употребление терминов в литературоведении весьма отлично от того, что стало нормой для многих специальных дисциплин, в которых термин не только отвлекается от внутренней формы слова, но и нейтрализует ее. Его значение определяется строго функционально. Всякого же рода побочные семантические ассоциации оказываются помехой, «шумами» или же попросту бессмыслицей. Даже такие экзотические для непосвященного уха термины, как «роза ветров» и «шепот звезд» - у метеорологов, «усталостная прочность» и «юбка поршня» - у машиностроителей, «привратник желудка» - у медиков, функционируя в соответствующих отраслях знания, не вызывают метафорических образных представлений.
Между тем, любое словосочетание, попавшее в литературоведческий обиход, неминуемо обрастает ассоциативными наслоениями. Недаром наиболее радикальные приверженцы терминологических новаций предпочитают использовать семантически нейтральные иностранные слова. Термины типа кибернетического «черного ящика» или «генератора информации» оказываются в литературоведении абсолютно нежизненноспособными.
Ведь, как писал Г.О.Винокур: «Почему данный предмет назван так, а не иначе, для номенклатурных обозначений более или менее безразлично, в то время как для термина, стремящегося обладать осмысленной внутренней формой, это очень важный вопрос»[65].
Часто приходится слышать, что речь литературоведа по сравнению со строго терминологическим языком «позитивных» наук, в котором значение отдельных слов регламентируется логически выверенными дефинициями, заведомо избыточна, суесловна, а посему и не содержит однозначного, строго аутентичного исследуемому явлению толкования. Отсюда иногда делают вывод, что литературоведение и не обладает собственно и чисто научным статутом, поскольку оно не способно оставаться в границах, определенных предметом исследования, вольно или невольно взывая к опыту донаучного или преднаучного сознания.
Вопрос этот, однако, не так прост. Неслучайно все попытки вычленить некий чистый предмет литературоведения, будь то эстетический объект в его противоположности практическому ряду или же языковая конструкция, идеализированная «нулевой степенью письма»[66], кончались крахом.
По-видимому, сам предмет литературоведения - художественное произведение, - вопреки древней традиции изоляционистской эстетики, весьма не похож на замкнутое и самодостаточное единство. Оборвать связи, соединяющие художественный образ с изменяющейся действительностью, значило бы умертвить его. Собственно, в этих связях, многообразных и варьирующихся, и осуществляется социальное бытование произведения искусства, если только оно сохраняет свою эстетическую действенность.
Если иметь в виду специфику предмета литературоведения, то так называемая избыточность «естественной» речи окажется вовсе не бессмысленной расточительностью.
Как не раз уже отмечалось, истолкование литературы само по необходимости есть род литературы. Мысленная рефлексия по поводу художественного образа, отражая, преломляя и разлагая этот образ, все же невольно заимствует свойственный ему принцип соответствия. И подобно тому, как движение может быть воссоздано только с помощью движения, живая многосмысленность образа не может быть интепретирована с помощью простого механического перебора зафиксированных и окостенелых значений[67].
Конечно, в необходимости уловить и определить индивидуально неповторимое посредством понятий, которые возможны только благодаря многократно повторяющимся, инвариантным свойствам действительности, заключено известное противоречие, и, как отмечал еще Г.Лансон, с этим связана одна из фундаментальных методологических трудностей, которую преодолевает литературоведение[68]. Подвижность, изменчивость терминологии литературоведения имеет своим коррелятом среди прочего и развитие самой художественной практики.
Однако, безусловно, ошибаются те теоретики, которые подобно английскому эстетику М.Бердсли[69], полагают, что анализ каждого конкретного произведения требует особых индивидуализированных категорий. Рассуждая таким образом, мы впали бы в полнейший релятивизм. Ведь применение понятий и категорий, соответствующих высокому уровню обобщений действительности, к эмпирическим, индивидуально неповторимым художественным явлениям обнаруживает сокрытую в этих явлениях диалектику общего и особенного.
Итак, литературовед, подвергший аналитическому рассмотрению собственную терминологию, обнаруживает цепь диалектических противоречий. С одной стороны, он испытывает потребность в ясном понимании и, следовательно, в четких понятиях, а с другой стороны, сталкивается с невозможностью сколько-нибудь исчерпывающего и однозначного определения даже наиболее употребимых терминов. С одной стороны, он стремится к универсальной и устойчивой терминосистеме, а с другой – приступая к анализу неповторимого художественного явления, обречен, на тщетные, казалось бы, усилия передать такие свойства постигаемого явления, своеобразие которых недоступно научным категориям.
Можно ли, однако, надеяться, что внутренние противоречия литературоведческой терминологии преходящи и преодоление их есть частная лингвистическая или же теоретико-литературная задача? Подобные надежды, кстати, весьма распространенные, неосновательны. Ибо порождены эти противоречия специфической познавательной ситуацией и могут продуктивно разрешиться лишь в процессе литературоведческого творчества, ориентированного на целостное миропонимание, на постижение литературы в ее единстве с движением жизни.
Недаром, как мы уже отмечали, ни один из традиционных терминов литературоведения не является принадлежностью одной лишь литературной науки, не будучи в то же время употребляем в иных, порою весьма далеких областях знания. Такая многофункциональность терминов свидетельствует о содержательном единстве человеческого знания. Литература же как способ постижения действительности, который изначально ориентирован на живую целостность мира, на всеобщую связь явлений, их взаимодействие и взаимоотражение, сама воплощает в себе единство знания. Оттого-то термины, прикладываемые к ней, как бы мы не стремились их унифицировать, обнаруживают способность к многосмысленности, отсылают нас к чему-то, что лежит за пределами их непосредственного, отчетливо локализуемого значения, уходят корнями в самую толщу языка, из отдаленнейших его исторических пластов извлекая не только образы, но и удостоверенный опытом народа строй мыслей.
Литературоведение, до тех пор, пока истолкование художественного произведения составляет его несомненную прерогативу, именно в силу этой несомненности не может быть частной наукой, поскольку ни одна частная наука не способна присвоить себе исключительное право на толкование того, что обладает всеобщим смыслом. Обобщение, а следовательно, и понятийность литературоведения обладают качественным своеобразием по отношению к обобщению и понятийности в частных науках, ибо «общее частной науки не характеризуется такими существенными качественными определенностями наиболее общего, какими являются всеобщая значимость и безусловная необходимость, так как оно является частным и условно необходимым»[70].
Вопреки устремлениям иных энтузиастов, литературоведение не может утвердить свою научность в качестве частной узко-специальной дисциплины, порывающей с обыденным разумением [71]. Подобно своему предмету, литературоведение неминуемо вбирает в себя и так или иначе воспроизводит в себе понятия и представления о мире, вовсе не являющиеся его монопольным достоянием или же имманентным содержанием.
Существеннее, однако, вопрос, какова достоверность и ценность этих понятий и представлений, будут ли это неправомерно гипертрофированные и догматически распространенные на всю область гуманитарного знания расхожие, а подчас и оглупленные формулы физиологии, кибернетики, теории информации, лингвистики и т.д., или же это будет единое миропонимание, не пренебрегающее ни одной частной наукой, но и не пытающееся переложить целостное постижение мира на ту или иную особо преуспевающую дисциплину.
Требование Ю.М.Лотмана, полемически направленное им против «традиционалистов», - «литературоведение должно быть наукой!» - в русле его рассуждений оборачивается требованием дальнейшей специализации («эзотеризации») литературоведения [72].
Между тем, возможности такой специализации, безусловно, ограничены особенностями предмета литературы, отражающей жизнь в ее всеобщности и общечеловечности.
Специальное, став предметом литературного отражения, испытывается на возможность общезначимого смысла, и, поскольку литературоведение не способно постигать художественный образ иначе, как рефлективно воспроизводя его, следуя его собственной логике, постоянно нацеленной на всеобщность, оно не может оперировать специальными понятиями как застылыми клише, замкнувшими свой смысл в пределах жестко формализованной теории. Отсюда то неизбежное расплавление терминов точных и естественных наук, как только их прикладывают к развивающемуся, никогда не становящемуся тождественным самому себе содержанию литературных произведений.
Художественное произведение и его мысленная реконструкция в восприятии или же в литературоведческом анализе ( собственно: восприятие, понимание, истолкование, интерпретация) не существуют порознь, как два отдельных предмета: они не только соотносительны и взаимно обязательны, но образуют некое нерасторжимое целое, совокупный эффект которого не может быть присвоен ни одной из сторон. Поэтому истолкование искусства, оставаясь наиглавнейшей задачей литературной критики и литературной науки, является в то же время необходимым и определяющим компонентом художественной жизни в целом. В конце концов очевидно, что сколь бы эзотерическими и специальными ни оказались приемы и методы истолкования и анализа художественных произведений, сами эти приемы оказываются отражением и выражением вполне конкретных тенденций художественной практики. Опыт ОПОЯЗа, как, впрочем, и современной «структуральной поэтики», - наилучшее тому свидетельство.
Живопись:
4. Исаак ЛЕВИТАН. Над вечным покоем. 1894 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва. 5. Макс ЭРНСТ. Радость жизни. 1936 г. Галерея Эдинбурга. Шотландия.
См. окончание статьи и примечания в нижеследующем посте.
|
|
Мирсаид САПАРОВ - Понимание художественного произведения и терминология искусствознания и литературоведения (окончание) |
3
Итак, литературоведение не может быть искусственно изолировано от широкого контекста жизни, не может быть противопоставлено сфере общедоступного, тому богатству человеческого опыта, который интересен и ценен для всех членов культурной общности, несмотря на их профессиональные, сословные, возрастные и прочие различия. Таково уж «врожденное свойство» литературоведения, обусловленное его предметом.
Отсюда, однако, вовсе не следует, что это свойство является непременным достоинством. Скорее, напротив, оно таит в себе опасные соблазны и труднопреодолимые ловушки.
Пожалуй, ни в одной другой науке имитация мысли не оказывается столь достижимой. Содержательность и многосмысленность живого слова, его удивительная подвижность и приспособляемость способны придать некую глубину даже весьма скороспелым и приблизительным конструкциям. Словесная инерция, сомнительное удобство создания подобий самостоятельной мысли за счет многообразной и мощной содержательности, обогатившей в ходе речевой практики наиболее устоявшиеся слова-понятия и словесные обороты, подчас избавляют литературоведа от «мук познания», делая его ремесло чем-то вторичным, лишенным собственного исследовательского пафоса.
Достаточно иным авторам обозначить то или иное явление знакомым понятием, чтобы само это явление поставить в ряд и сделать как бы несуществующими вопросы, в нем заключенные. Термин при этом сглаживает и затушевывает неповторимый и действенный смысл исследуемого литературного феномена. Простота и «демократичность» выражения мысли, достигаемые путем неявного сведения категориальных понятий к их двойникам в обыденной речи, не содержат в себе ничего, кроме трюизмов, которые могут быть истолкованы кому как вздумается.
Общезначимость художественного смысла и площадная затертость трюизма - явления не только различные, но и противоположные. Поэтому-то легкоречие в литературоведении, фамильярничание с научными категориями никогда не достигают сути исследуемых литературных явлений, обволакивая их плотной пеленой бесконтрольных слов.
Всегда существует опасность принять устойчивость и локализуемость слова-понятия за непревращаемость обозначенного им явления. «Заключенное» в слове содержание отнюдь не «покоится» и не «пребывает», оно обладает имманентным бытием, самодвижением на правах самой действительности, нисколько не сообразуясь при этом с внешней для него языковой логикой.
Как только термин, употребляемый литературоведением, утрачивает свою семантическую напряженность, как только он начинает употребляться по инерции, как некое клише, ничего, в сущности определенного не выражающее, реальная содержательность литературоведческого труда становится весьма сомнительной.
Свобода научного изъяснения весьма отлична от безответственной легкости в обращении со словом. Во всяком случае, без осознанного и волевого сопротивление инерции, заключенной в часто употребимом, расхожем слове-понятии, невозможно подлинно творческое разрешение возникающих перед литературоведением проблем.
Прав был, разумеется, Д.Н.Овсянико-Куликовский, утверждавший, что история теоретической мысли являет нам зрелище «упорной» борьбы со словом и сопряженных с нею «лингвистических мук»[73].
Когда литературовед не подвергает употребляемые им понятия испытанию на смысл и не реализует в своем труде то мысленное усилие, которое сконцентрировано и выражено в понятии, однако при этом полагается на некую традиционно подозреваемую в понятии содержательность и значительность, - наружная упорядоченность его речи уводит от действительного постижения особенностей и закономерностей исследуемого литературного явления.
Вот, скажем, в книге Л.Левицкого, недавно вышедшей вторым изданием, «Константин Паустовский» автор сопоставляет описание природы К.Паустовского и Л.Толстого. По его мнению, качественное различие обнаруживается здесь в том, что в отличие от Л.Толстого, который изображает лес «объективировано», в прозе К.Паустовского картина природы «настолько тесно слита с человеческим восприятием, что одно не отличишь от другого»[74].
Анализируя «Повесть о лесах», Л.Левицкий, в частности, пишет: «У Паустовского гибель дерева дана не объективировано, а «пропущена» через восприятие Чайковского, мучительно страдающего от этого зрелища»[75].
Задавшись целью доказать новаторство К.Паустовского по отношению к Л.Толстому, автор сближает К.Паустовского с И.Буниным и М.Пришвиным, полагая, что пейзажные описания этих авторов в разной мере отмечены «субъективностью».
«К слову «субъективно», - иронически замечает он, - у нас, как это ни удивительно, относятся не без подозрительности. В нем усматривают чуть ли не отрыв от действительности. Но субъективность бунинского изображения природы проявляется не в авторском произволе, не в нарушении объективных законов жизни природы. Совсем нет! Субъективность выражается в том, что картины природы почти всегда даны глазами воспринимающего ее человека, или, говоря языком философским, субъекта»[76].
Однако, возникает вопрос: а может ли вообще природа, «не пропущенная через человеческое восприятие», выражаясь словами Л.Левицкого, стать предметом какого бы то ни было художественного изображения?
Недаром же К.Маркс писал: «Ни природа в объективном смысле, ни природа в субъективном смысле непосредственно не дана человеческому существу адекватным образом»[77]. Речь, по-видимому, должна идти о другом - о глубине и значимости самого восприятия, о его внутреннем целеполагании, о том, утверждает ли оно объективную ценность природного мира, органической частью которого является человек, или же стремится растворить реальность в переменчивых ощущениях индивида.
Ссылкой на «авторитет» и значимость категорий «субъект» и «субъективность», кстати, вульгарно им истолкованных, Л.Левицкий избавляет себя от решения собственно литературоведческой задачи - содержательного анализа творческого метода весьма несхожих художников.[78].
Что же философского в таком понимании категории «субъекта», при котором субъектом оказывается попросту воспринимающий человек? Быть может, если бы Л.Левицкий не оперировал понятием субъекта как чем-то само собой разумеющимся, он не прошел бы мимо того, что в применении к литературному творчеству эта категория обнаруживает внутреннюю подвижность, необычайную сложность в своих внутренних связях и опосредствованиях.
Субъект, в частности, не есть нечто заданное и равное самому себе, он осознает и осуществляет себя лишь в деятельности по объективации, по опредмечиванию и идеальному воссозданию объективного мира. Поэтому и говорить о мере «субъективности « прозы того или иного писателя лишь как о «манере», оставляя в стороне его жизненную позицию, глубинный пафос его творчества совершенно неплодотворно.
Как это ни парадоксально, содержательность терминов, которыми оперирует литературоведение, определяется не только ими самими, не только их этимологией и лингвистически фиксируемым смыслом, но многообразием и качеством связей, в которых литературоведение рассматривает свой предмет. Иными словами, плодотворность употребления литературоведением того или иного термина всегда зависима от характера целостного миропонимания, так или иначе реализуемого и актуализируемого в литературоведческом анализе.
Примечания:
1.Леонардо да Винчи. Избранная проза. В 2-х Т. Т.2. – М.- Л., 1935. – С.401.
2. См., например: Словарь литературоведческих терминов. – М., 1974.
3.Redeker H .Abbildung und Aktion. – Halle, 1967, S.19.
4. Не имея возможности рассмотреть сколько-нибудь подробно применение категории «модели» в различных естественных, технических и общественных науках, сошлюсь на некоторую литературу: Штоф В.А. О роли моделей в познании. – Л., 1963; Штоф В.А. Моделирование и философия. – М. .1966; Веников В. Некоторые методологические вопросы моделирования // Вопросы философии. -1964. - №11; Новик И.Б. О философских вопросах кибернетического моделирования. – М., 1964; Глинский Б.А., Грязнов Б.С., Дынин Б.С.; Никитин Е.П. Моделирование как метод научного исследования. М.. 1965; Славин А. Образная модель как метод научно-исследовательского мышления // Вопросы философии. – 1968. - №3; Кочергин А.Н. Моделирование мышления. – М.,1969; Братко А. Моделирование психики. – М., 1969; Проблема модели в философии и естествознании.- Фрунзе, 1969; Моделирование социальных процессов. – М., 1970.
5. Глушков В.М. Гносеологическая природа информационного моделирования // Вопросы философии. – 1963. - №10. – С.16.
6. Умов Н.А. Собр. соч. Т.3. – М.,1951. –С.354.
7. Цит. по: Д’Арси Эйман. Роль искусства в наши дни // Курьер Юнеско. – 1961. -№7-8. – С.6.
8.Примечательно, что автор специального исследования, посвященному философскому рассмотрению метода моделирования, утверждает принципиальное различие «художественного образа» и «модели». См.: Штоф В.А. О роли моделей в познании, с.111; Сравни: Штоф В.А. Моделирование и философия.
9. «Слабость нашего ума должна беспрестанно прибегать к сравнениям для объяснения наших идей и наших чувствований». (Араго Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. – Спб, 1859. Т.1)
10. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М., 1957. – С.75.
11. Гей Н.К. Художественность литературы. – М., 1975. – С.227.
12. Например: «Попав между полюсами жизнь и писатель, субъект и объект, констатация факта и его интерпретация, возбуждаясь и нейтрализуясь в этом мощном силовом эстетическом поле, словесный материал образует сложную структуру, втягивается в целостную концепцию» (там же, с. 222).
13. Белая Г.Закономерности стилевого развития советской прозы 20-х годов. – М.. 1977. – С.185.
14. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Ч.2. – Л.. 1964. – С.100.
15. Там же, с.99.
16. «…устойчиво было стремление классицизма к созданию модели человека…» (Каган М. Метод как эстетическая категория // Вопросы литературы. – 1967. - №3. – С.122).
17. «Вспомним, наконец, что отражение искусством действительности не сводится к ее познанию, оценке и знаковому закреплению добываемого художественного содержания, но выливается в специфическую духовно-практическую деятельность, созидающую особого рода образные модели реального мира». ( Каган М. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л. – 1966. Ч.3. – С.172).
18. «Общественные идеалы, которые моделировались архитектурой рабовладельческой и феодальной эпох, в корне отличны от коммунистического идеала», - Там же, с.190.
19. «Великим открытием критического реализма было моделирование прямых и обратных связей между личностью и социальной средой». – Там же, с.135.
20. «Стоило классицизму пасть под натиском непреодолимых сил социального развития, и живопись вернулась к искусственно прерванным поискам максимально точного моделирования зрительного восприятия мира, придя на этом пути к изобразительной системе импрессионизма», - Там же, с.138.
21.Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Изд. 2-е. – Л., 1971. – С.487.
22. Грязнов Б.С., Дынин Б.С., Никитин Е.П. Гносеологические проблемы моделирования // Вопросы философии, 1967, №2. – С.66.
23. Коган Л. Сохнет ли сокол без змеи? // Вопросы литературы, 1967, №1. – с.121; - Та же мысль на ином «уровне обобщения» трансформируется так: «Создавая произведения, художник конструирует свою модель общественной психологии» (Букин В. Искусство и формирование общественной психологии // Искусство, 1968,№4. – С.149).
24. Ковтун Е. Плоскость и пространство // Творчество, 1967, №7. – С.20.
25.Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. – М., 1973. – С.295.
26.Боччони Умберто. BoсcioniUmberto(1882-1916)
Прославленный итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма.
По словам Грейс Глюк, недолгая жизнь Умберто Боччони напоминала сверкающую комету. Он был пламенным теоретиком художественного направления, провозгласившего силу и энергию доминантой современной жизни. В составленных им двух манифестах футуризма ( Manifesto tecnico della pittura futurista, 1910), Manifesto tecnico della scultura futurista, 1912) Боччони адаптировал применительно к изобразительному искусству идеи поэта и писателя Филиппо Томмазо Маринетти. Динамичный «дивизионизм» Умберто Боччони носил характер яркой эстетической манифестации, в то время как культ силы, исповедуемый Маринетти, имел политическую окраску и в конечном итоге привел его к фашизму.
Знаменательно, что во время визита Маринетти в Россию в начале 1914 года, где на его лекциях присутствовал Велемир Хлебников с соратниками, произошел скандал. «Будетляне» осудили преклонение перед Маринетти, утверждая самобытность и приоритет русского футуризма.
27. Гей Н.К. Искусство слова. – М., 1967. – С.220.
28. Переверзев Л.Б. Искусство и кибернетика. – М., 1966. – С.120.
См. обстоятельный анализ проблем, поставленных в книге Леонида Переверзева в статье: Сапаров М.А. Функциональный анализ искусства // Искусство. – 1968. - №6. – С.66-69.
29. Турбин В. Пора объединяться // Молодая гвардия, 1964, №9. – С.308.
30. Давыдов Ю.Н. Искусство и элита. – М., 1966. – С.127.
31. Строго говоря, даже сочинения Кампанеллы и Томаса Мора, Этьена Каабе и Вильгельма Вейтлинга являются все же не «моделями», а «проектами» будущего.
32.Молчанова А.С. Методологические замечания к исследованию эстетического идеала, его связей с действительностью и искусством //Вопросы эстетики. Вып.3. – Саратов, 1969. – С.11.
33. Schober R. Daz litererisch Kunstwerk. – Symbol oder Modell? // Weimarer Beitrage, Berlin, Weimar. – 1971. - №11. – S.155.
34.Гей Н.К. Художественность литературы, с. 97-98.
35.Dufrenne M. Structure et sens. La Critique litteraire // Revue d’esthetique. – 1967. - №1, janvier-mars.
См. анализ эстетической концепции Микеля Дюфренна в статье: Сапаров М.А.(опубликовано под литерами «Н.П.») Французский философ о структурализме в литературоведении. Размышления о концепции Микеля Дюфренна // Вопросы философии. – 1968. – №11.
36. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Введение. Теория стиха. – Тарту, 1964. – С.33.
37.Гиршман М.М. Литературоведческий анализ // Вопросы философии. – 1968. - №10. – С.112-113.
38.Лотман Ю.М. Лекции по поэтике, с.137.
39. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. – С.256.
40.Вообще говоря, модное выражение «модель мира» - сугубо фигурально, появление же его в наукообразном, с оттенком техницизма контексте, трудно воспринимать всерьез. Сравни: «Вполне очевидно, что стихотворения Пушкина «Няне» и «Памятник» представляют собой системы разной степени сложности и смоделированные в них миры разнятся и количественно и качественно структуральной» (Соколянский М.Г. О структурализме в литературоведении // Вопросы философии. – 1969. - №7. – С.114.
41.Об этом справедливо писал П.В.Палиевский: «Ложно понятую «научность» следует все-таки отличать от науки. Совершенно незачем, например, с ученым видом называть что ни попало «моделями»: модель языка, модель культуры, модель поведения»(Палиевский П. Мера научности // Знамя. – 1966. - №12. – С.189-198).
«Особенно печально, что художественный образ теперь стали называть художественной моделью, а это принципиально разные вещи», - утверждал Б.М.Рунин, хотя аргументировал свою точку зрения иначе, нежели П.Палиевский (Рунин Б.Сквозь магический кристалл…// Литературная газета, - 1973 г., 15 августа ). (См. также: Рунин Б.М. Вечный поиск. – М., 1965).
42.Лебедева Л.А. Обусловленность художественной модели социальным назначением искусства // Вопросы эстетики. Вып.3. – 1969. – С.31. – Эта весьма приблизительная идея позаимствована Лебедевой у Ю.М.Лотмана. См.: Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике, с.32-33; Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Ученые записки Тартуского университета. Вып.198. – Тарту, 1967. - .13-145.
Знаменательно, что все попытки Лотмана уточнить и конкретизировать понимание «художественной модели» следуют принципу метонимии – parsprototo: берется какое-нибудь частное проявление или сторона художественной деятельности (например, «искусство как игра»), которым придается глобальное концептуальное значение.
43. Белый А. Символизм. – М., 1910. – с.436-437.
44. Михайлов А.Д. История «Легенды о Тристане и Изольде» // Легенды о Тристане и Изольде. – М., 1976. – С.624, 697.
45. Это значение соответствует английскому слову design. Любопытно, что модель в этом смысловом ключе может означать и тип вещи, конкретный вариант типа вещей.
46. Рунин Б. Строгость модели, радость метафоры. – Литературная газета. – 1972. – 1 янв.
47. См.: Каган М. Метод как эстетическая категория /Вопросы литературы. – 1967 - №3. – С.109-132.
48. Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа) – М., 1974. – С.57.
49. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Ч.2, С.487.
50. «Для оценки всякой модели решающее значение имеет критерий относительно верного отражения реальных процессов», - справедливо отмечал М.Б.Храпченко, указывая на то, что согласно воззрениям Ю.М.Лотмана и его последователей, «художественную модель» «никак нельзя оценивать с позиций отражения в ней реальной действительности» (Храпченко М.Б. Семиотика и художественное творчество // Вопросы литературы. – 1971. - №9. – С.78.
Нельзя не согласиться и с тем, что «теория художественного моделирования, развиваемая М.С.Каганом, находится в явном противоречии и с разнообразными явлениями, фактами исторического развития литературы…» (Храпченко М.Б. Литература и моделирование действительности // Знамя. -1973. - №2. – С.195).
Как бы не размывалось содержание, вкладываемое в категорию «художественной модели», она никоим образом не покрывает смысла фундирующего понятия художественного отражения действительности.
51. Эклектика, к которой вынуждены прибегать иные из приверженцев концепции «художественного моделирования», оборачивается затейливой, но малосодержательной словесной вязью: «Искусство, являясь способом общения, моделирует человеческую деятельность, отражает мир и оценивает все элементы моделирования и отражения».
52.Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. – М.. 1973. – С.271-274, 284-288, 296, 300.
53. Кстати, модели искусства, творческой деятельности, культуры возникают как грибы после дождя. Так, Н.Крюковский, набрав определенное количество рефлективных категорий, организовал их в «модель» посредством прямой, линейной по преимуществу взаимосвязи. Достаточно привести в движение одно из звеньев этого жестко связанного механизма, как начинают двигаться остальные. Это совокупное движение, по убеждению Н.Крюковского, воспроизводит динамику эстетического отношения. (См.: Крюковский Н. Логика красоты. – Минск, 1965 и рец. на нее: Маца И. Нерешенная задача // Вопросы философии. – 1966. - №6. – С.164-169).
Любопытно, что такая система субординированных категорий легко воплощается в механическом устройстве, для чего совсем не нужны современные кибернетические машины, достаточно системы рычагов. «Диалектико-механическая» «модель» подобного типа была реализована в плексигласе К.Ивановым (См.: Иванов К. О природе и сущности дизайна // Техническая эстетика. – 1965. - №3, 5) Намерение математизировать диалектическую логику – чистейшее лапутянство. (Если вспомнить о проницательном гении Джонатана Свифта, поведавшего миру о небесном замке Лапута с его незабываемо смехотворной Академией Прожектеров ).
54. Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках, с. 296-297.
55. «Возвращаясь теперь к Тэну, мы должны признать, - писал А.М.Евлахов, - что его аналогия между человеком и его творчеством, с одной стороны, и растительно-животным миром, с другой стороны, не выдерживает никакой критики. Она построена на теории Дарвина о естественном подборе и пассивном приспособлении организма к среде, но эта теория неприложима к человеку, тем более – к стоящему на высшей ступени психической жизни, каковым является художник. Остается только удивляться, что еще так недавно историки литературы, вслед за Тэном ( у нас Веселовский, Сиповский и др.), гордились этим новым «приобретением», ставившим, по их мнению, историю литературы на степень « науки» ( Евлахов А.М. Введение в философию художественного творчества. – Ростов-на-Дону, 1917. – С.219).
56. Фуко Мишель. Археология гуманитарных наук. – М., 1977.
57. «…искусство - не просто отражение действительности – ни ее внешних появлений, ни ее внутренних законов, - а реконструкция этой действительности по созданному человеком плану, в том смысле, в каком кибернетика учит нас конструировать «модель», которая является эквивалентом природы, но устройство и работа которой совершенно прозрачны для мысли человека и поддаются его непосредственному воздействию, ибо эта «модель» - его творение»( Гароди Р. О реализме и его берегах // Иностранная литература. – 1965. - №4. – С.204).
Сравни: «Быть реалистом – значит не имитировать образы реального мира, а имитировать его активность; это значит – не давать слепки и точные копии вещей, событий и людей, а участвовать в акте созидания мира, находящегося в становлении, находить его внутренний ритм» ( Гароди Р. О реализме без берегов. – М., 1960, с.197).
«Произведение искусства во всякую эпоху является функцией труда и мифа» (Там же, с.201).
«Миф – это конкретное и олицетворенное выражение сознания недостающего, того, что еще предстоит сделать в еще неосвоенных областях природы и общества»; «Реализм нашего времени – это творец мифов»(Там же, с.202).
58. См.: Суровцев Ю. В лабиринте ревизионизма. – М.. 1972.
59. Обстоятельны и плодотворным опытом такого анализа явялется исследование А.С.Бушмина « Методологические вопросы литературоведческих исследований» (Л., 1969).
60. Каган М.С. Искусство как информационная система // Искусство кино. – 1975. - №12.
61. «Пользование естественнонаучными формулами не только не увеличивает научной ценности наших работ, - писал Г.Лансон, - оно уменьшает ее, потому что эти формулы вводят в обман : они сообщают грубоопределенный вид знаниям, по существу неопределенным, т.е. подделывают их» (Лансон Г. Метод в истории литературы. – М., 1911, с.19).
Дело, разумеется, не в том, что литературоведение по своей природе «неопределенно» или «неточно», сама художественная литература не поддается превращению в «абстрактный объект» отвлеченного знания.
Различие смыслов, вкладываемое в понятие «точности» естественнонаучными дисциплинами и литературоведением, обстоятельно проанализировано А.С.Бушминым ( Бушмин А.С. О критериях точности в литературоведении // Русская литература. – 1969. - №1. – С.72-88.
62. Реформатский А.А. Опыт анализа новеллистической композиции. Вып.1 – М.. 1922, с.5.
63. Проблемы фразеологии. – М., Л., 1964, С.165.
64. Моисеев А.И. Терминология // Научный симпозиум «Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики». В 2-х ч. Ч.2. – М., 1971. – С.311-312.
65. Винокур Г.О. О некоторых проблемах словообразования в русской технической терминологии // Труды МИФЛИ. Т.V. – М., 1939. – С.8.
Сравни также: Винокур Г.О. Культура языка. – М.,1929.
66. Термин Р.Барта.
67. «В жизни мы не можем обойтись без многозначности, - говорил Р.Оппенгеймер, - Мы не стремимся уточнять то, что не нуждается в уточнении, и вкладываем в свои слова несколько значений, потому что их совместное присутствие в нашем сознании может доставлять нам эстетическое удовольствие» (Оппенгеймер Р. Наука и культура // Наука и человечество. – М., 1964. – С.57-58).
«Совместное присутствие в сознании нескольких значений» потому и переживается эстетически, что реальность при этом постигается как целостность» (См.: Ильенков Э. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. Вып.6. – М.. 1964. – С.46-92).
68. Лансон Г. Метод в истории литературы. – М.: Товарищество «Мир», 1911. - С.9.
69.Beardsley Monroe C. The concept of economy in art // J. Aesthetics, Art Criticism. – 1956. – Vol. 14, №3. – P.370.
70. Бачулашвили Г.З. О понятии наиболее общего // О предмете философии. – Тбилиси, 1973, с.82.
71. О диалектически противоречивых отношениях науки и обыденного сознания нам приходилось более подробно писать в статье «Между художественностью и сциентизмом» ( См.кн.: Художественное и научное творчество. – Л., 1972).
72. Лотман Ю. Литературоведение должно быть наукой! // Вопросы литературы. – 1967. - №1. – С.90-100.
73.Овсянико-Куликовский Д.Н. Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве. Собр. Соч. Т.IV. – СПб, 1914. – C.118.
Другое дело, что «муки слова» в научном творчестве не могут быть объяснены сугубо психологическими закономерностями, как предполагал Д.Н.Овсянико-Куликовский.
74. Левицкий Л. Константин Паустовский. – М., 1977. – С.233.
75. Там же, с.232.
76. Там же, с.235.
77. Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М., 1956. – С.632.
78. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что книга Л.Левицкого дает не самые яркие примеры того, как укрывшись за непроясненным, но «статусным» понятием, исследователь, по сути дела снимает проблему, которую ему предстояло решить. См.: Ачкасова Л.С. Человек как нравственная ценность в эстетике Паустовского. – Казань, 1977.
ЖИВОПИСЬ:
6. Франциско ГОЙЯ. Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде. 1814. Музей Прадо. Мадрид.
ФОТОГРАФИЯ:
1. Иозеф СУДЕК. Окно моей студии. 1969 г. Галерея Судека в Градчанах.
|
Метки: Гойя-восстание (700x535 105Kb) |
Мирсаид САПАРОВ - Словесный образ и зримое изображение (живопись - фотография - слово) |
1. Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568 г. Музей Каподимонте, Неаполь.
Ниже воспроизводится полный первоначальный текст статьи М.А.Сапарова «СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ И ЗРИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (живопись – фотография – слово», впервые опубликованной в инициированном и составленном М.А.Сапаровым коллективном труде «ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ» (Л.: Наука, 1982).
Издание было подготовлено в отделе теоретических исследований литературы ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), возглавляемом академиком А.С.Бушминым.
Послесловие, приложение и комментарии Т.В. Алексеевой.
CЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ И ЗРИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
( живопись - фотография – слово)
Иногда кажется, что поиски неких видовых различий литературы и живописи - пустое занятие, традиционная дань схоластике. Не то, чтобы этих различий не было, они очевидны обыденному сознанию и на этом уровне человеческого опыта тривиальны.
Однако обобщенные теоретические представления о Живописи как таковой и о Литературе как таковой слишком уж абстрактны и не могут быть сопоставлены с той же мерой наглядности, с какой мы можем сравнить какую-нибудь картину с родственным ей по духу литературным произведением.
Если подходить к художественным творениям преимущественно как к определенному типу вещам, а именно таков пафос позитивистски ориентированных «морфологий искусства» [1], то окажется, что между «Илиадой» и «Терапевтическим справочником», между анатомическим муляжом и скульптурой Поликлета гораздо больше общего, чем между «Илиадой» и античной пластикой.
Вопреки энергичным устремлениям иных классификаторов искусства, предметно-вещественная структура художественных произведений взятая в ее эмпирическом физическом бытии сама по себе, еще не может служить основой убедительного видового членения искусства.
Действительное различие литературы и живописи как самостоятельных видов искусства может быть выявлено лишь на фоне их глубокой общности.
Вопрос о специфике конкретного вида искусства по отношению к иным видам или же ко всей совокупной системе видов искусства сводится, конечно же, к тем специфическим, никак иначе не восполнимым художественным возможностям, которыми располагает данный вид творчества. Отсюда, кстати, следует, что намерение классифицировать виды искусства, исходя из совокупности физических свойств тех вещественных структур, в которых явлены и «зафиксированы» художественные образы ( хотя зачастую это намерение преподносится как подлинно «материалистически» подход к художественному творчеству), вульгарно и теоретически бесплодно. Ибо в самом «материальном субстрате» художественного произведения нет ровным счетом ничего специфически художественного.
Специфика отдельного вида художественного творчества заключена в специфическом отношении художественных произведений этого класса
к отражаемой и воссоздаваемой ими действительности.
Специфика эта обусловлена, если угодно, не только и не столько возможностями «преобразуемого» художниками «материала», сколько многогранностью и диалектической противоречивостью самой действительности, духовно-практическое постижение которой требует непременного участия и взаимодействия различных способностей и «умений» общественного человека.
Поэтому, сравнивая и сопоставляя художественные возможности и ограничения, характеризующие какие-либо виды искусства, необходимо сообразоваться с совокупной культурой художественного отражения мира во всех ее формах, модификациях и проявлениях.
Появление и распространение фотографии, ее необычайно глубокое проникновение в современную культуру и воздействие на различные виды художественного творчества, на всю систему искусств позволяет в новой перспективе взглянуть на традиционную проблему взаимоотношения литературы и изобразительного искусства. Вряд ли стоит доказывать близорукость тех ревнителей «чистой живописности», которые назойливо твердят о том, что-де фотография освободила живопись от необходимости «подражать природе», открыла ей собственный путь развития, избавила ее от диктата реальности. Такие рассуждения связаны, среди прочего, с непониманием природы и специфики фотографического отображения действительности, с недооценкой возможностей, открываемых безличностным оптико-химическим характером фотографической фиксации.
Весьма неплодотворное и близорукое противопоставление живописи и фотографии обычно не идет дальше тривиальных сентенций о том, что якобы фотография суть «плохая» живопись, обездушенная и уныло копиистская [2].
Между тем фотография – не живопись. Навязывание ей функций живописи, независимо от того, с какими намерениями оно предпринимается, не только противоречит ее природе, но и мешает осознать и по достоинству оценить ее собственные художественные потенции и ее собственную уникальную роль в системе культуры.
В наши дни, обращаясь к традиционному для философии искусства вопросу о соотношении словесного образа и зримого изображения, нельзя обойти вниманием специфику фотографического отображения реальности.
Во-первых, в сравнении с фотографией отчетливо выявляется типологическое подобие изобразительного искусства и художественной литературы, принципиальное родство их внутренней пространственно-временной организации. Оказалось, что те черты, которые, по убеждению иных теоретиков прошлого, отличали литературу от живописи, на самом деле в гораздо большей степени характеризуют противоположность литературы и фотографии и, как это ни парадоксально, живописи и фотографии.
Во-вторых, современная эстетика уже не может рассматривать фотографию и порожденные ею «фотографические» искусства (кино, телевидение) просто как техническую возможность некоего «разветвления» традиционной системы искусств. Первоначально фотография возникла и воспринималась как негативный фактор художественного развития, ибо открытый ею изобразительный принцип резко противостоял господствующим эстетическим представлениям о природе художественности. Тем не менее, получив широкое распространение, присущая фотографии образность оказала глубочайшее воздействие на всю систему художественного творчества, привела к рождению новых жанров и стилей искусства, способствовала современному развитию документализма.
Наконец, в-третьих, нельзя не заметить, что в современной культурной ситуации практическое взаимодействие литературы и живописи в значительной мере опосредуется фотографией, причем фотография зачастую представительствует как бы от лица самой отображаемой реальности. Между тем отношение фотографического образа к запечатленному им предмету совсем не столь однозначно и самоочевидно как это иной раз представляется.
Фотография являет собой тот тип отношения отображения и реальности, который, безусловно, противостоит принципу воспроизведения мира и живописью и литературой. Будучи «неискусством», прежде всего онтологически, фотография именно в деперсонализации и механистичности запечатлевания действительности обнаруживает свою особую природу, мощно взывающую к человеческому воображению и становящуюся в конце концов средством художественной деятельности.
1
Фотография существует более 140 лет.[3] Однако, как нетрудно убедиться, и по сей день не перевелись теоретики, отрицающие возможность приобщения художественной фотографии к сфере полноценного искусства. В разных вариациях они приводят одно и то же рассуждение: в подлинном искусстве образ действительности возникает не механически, как след автомобильной шины на асфальте, или же отпечаток пальца на дактилоскопической карточке.
Всякий истинный художник-творец находит адекватное воплощение замысла, лишь непосредственно работая в «материале», организуя, формуя его согласно собственной мере. При этом каждый штрих, каждая деталь изображаемого необходимо подчинены целому, выражающему неповторимую организацию художнической индивидуальности.
Совсем не то в фотографии. Удачный снимок может получиться сугубо случайно. Достаточно лишь владеть техникой дела и подыскать выразительную, «содержательную» натуру. Камера запечатлеет лишь то, что увидит глаз. Фотограф – утверждают эти теоретики – творит свои образы отнюдь не силой воображения, при этом результат его деятельности не может быть заранее полностью предсказуем и, следовательно, не может в точности соответствовать первоначальному представлению, сложившемуся в замысле художника. Его успех зависит от стечения многих случайных обстоятельств, а там, где случай заявляет свои права, искусство умирает[4].
В этих весьма распространенных утверждениях верная констатация некоторых особенностей фотографии сочетается со столь же неточным их истолкованием. Проблема случайности существенна и в традиционных искусствах. И все же в фотографическом процессе случайность носит иной характер и заявляет о себе иначе, нежели в живописи или в графике.
Непременным признаком художественного произведения (в ценностном значении этой категории) является целостность, по-разному себя осуществляющая и проявляющая и необходимая.
В живописи она наглядно выявлена как пластическая организация картины. При этом субъект искусства обнаруживает себя в способе организации материала. Фактура картины, ее композиция – след целенаправленных усилий художника. Поэтому технология живописи не может быть представлена как техника зеркального отображения замысла
созревшего и сформировавшегося в сознании: она – эта технология насквозь антропоморфна и в такой же степени свидетельствует о состоянии духа художника, как и о навыках его руки и зоркости его глаза. Иначе говоря, пластическое единство картины репрезентирует художественную индивидуальность.
Между тем фотографическим процессом как оптико-механическим действом устраняется субъект. Как справедливо заметил А.Базен, « личное участие фотографа в этом процессе сводится к выбору, ориентации, «педагогическому воздействию на феномен», как бы ни было оно заметно в конечном результате, оно входит в него совсем на иных правах, чем личность художника. Все искусства основываются на присутствии человека, и только в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием»[5].
Правда, еще на рубеже веков так называемая «пикториалистская» фотография, до сих пор имеющая немало сторонников, достигла значительных успехов на пути подражания живописи и гравюре. Английский фотограф Г.П.Робинсон разработал хитроумную технику снимков в ателье. Работая с профессиональными натурщицами, он создавал многофигурные композиции, напоминавшие академическую живопись[6].
Французский фотомастер Робер Демаши [7], монтируя изображение из нескольких негативов, создавал пейзажи в духе Коро или Милле.
До сих пор не утратили интереса композиции А.Горслея Гинтона[8]. Совершенную оптику заменили объективами, дававшими расплывчатые, размытые изображения ( Softfocus). Были найдены особые способы печатания, которые позволяли фотографу подправлять изображение кисточкой, переносить его на шероховатую бумагу [9]. Впоследствии техника обработки негатива становилась все более изощренной, С помощью многократного экспонирования, химической обработки негатива и позитива удалось создать особый жанр – фотогравюру.
Тем не менее успехи фотографии на пути имитации приемов других искусств лишь явственнее обнаруживали уникальную природу фотоизображения. «Как ни далеко позволяют художнику удалиться от негатива современные методы печати, - признавался В.Фаворский, - они не всесильны и часто старания художника разбиваются о каменную неизменность самого негатива…Ни красивые тона, ни шероховатая поверхность… не дают художественности, не дают возможности изменить снимок, внося в него индивидуальность автора»[10].
Существенно, однако, то, что фотографическое «устранение объекта» обусловливает принципиально иную, чем в живописи семантику изображения. Одни и те же качества образа истолковываются по-разному, в зависимости от того, воспринимаем мы живопись или фотографию.
Так, скажем, картина, дотошно передающая каждый волосок в бороде изображенного человека, вызывает представление о художнике, который с бессмысленной тщательностью вырисовывает малозначительные и совершенно случайные подробности, забыв о главном, о смысле целого
( разумеется, если пристальность разглядывания не оправдана замыслом). «Я не считаю волос в бороде проходящего мимо человека и пуговиц на его сюртуке. И моя кисть не должна видеть больше меня», - говорил Гойя[11].
Когда же фотография «педантично отмечает каждый камешек, бессмысленно пересчитывает все листья, слепо повторяет все без исключения»[12], мы видим за этим не субъективную активность, а механически точное воспроизведение, свойственное фотообъективу.
2. Альфред Горслей Гинтон. В жару и в непогоду. 1903 г.

3. Жан-Батист Камиль Коро. Долина. 1871. Частное собрание.
4. Робер Демаши. Долина. 1906 г.

5. Франсиско Гойя. Зонтик. 1777 г. Музей Прадо, Мадрид.
См. продолжение в следующем посте
|
|
Мирсаид Сапаров - cловесный образ и зримое изображение (живопись - фотография - слово) - продолжение |
6. Уильям Тернер. Пожар английского парламента. 1835 г.. Художественный музей Кливленда.
7. Луи Дагер. Бульвар дю Тампль в Париже. 1838 г.
2
Обычно проходят мимо тех свойств фотографии и ее специфического отношения к миру, которые совершенно недоступны живописи. Обилие тщательно запечатленных, случайных деталей, которые раздражают в живописи, ибо свидетельствуют лишь о копиистических усилиях художника, совсем иначе воспринимаются в фотографии.
Пресловутый «натурализм» фотографии иного рода, нежели натурализм живописца. Несообразованность, разрыхленность композиции в живописи свидетельствует о том, что художник не смог достичь единства, не поднялся на уровень пластического обобщения. То же самое качество в фотографии - знак подлинности, непреднамеренности изображения.
Дело в том, что фотографический метод не просто технически воспроизводит изобразительную деятельность человека, не просто превосходит ее по регистрирующей точности, он содержит в себе нечто принципиально новое – природный феномен, сверхличностный и объективно воспроизводимый, как химическая реакция в колбе. Поэтому соотношение изображения и изображаемого имеет в фотографии иную, чем в живописи, прагматическую ценностную наполненность.
Живопись усиливает свойства человеческого видения, а как известно, уже в самом процессе созерцания заключен момент обобщения, устранения того, что представляется незначительным и случайным. Эти свойства восприятия хорошо изучены психологами, и здесь нет нужды останавливаться на них подробно.
Уже первые комментаторы фотографии настойчиво подчеркивали, что снимок, как бы замещая собой изображаемый предмет, в то же время точно воспроизводит его природные свойства, которые могли бы быть незамечены в непосредственном общении с предметом. Один из журналистов так описывал пейзаж Дагера: «Это был вид Парижа, мельчайшие детали, расщелины тротуаров и кирпичной кладки, влажные капли от дегтя - все было изображено. При рассмотрении этого снимка через линзу надпись над дальним магазином, совсем невидимая на модели, приближалась с должной степенью совершенства»[13].
Механический документализм фотографии, исключающий пересоздание реальности творческой индивидуальностью, отстраняет и отчуждает изображаемый предмет, заставляя взглянуть на него «новыми глазами», отказаться от автоматизма обыденности.
Человек часто не воспринимает и не помнит всех деталей того дома, в котором живет долгие годы, в его сознании присутствует лишь некое суммарное представление, вполне достаточное в обыденной практике. Точно также многие реалии какого-нибудь конкретного момента его жизни не воспринимаются отчетливо, отходят на второй план, не осознаются. Фотография позволяет возвыситься над преходящей обыденностью и увидеть время, спрессованное в мгновение.
Замечателен в этом смысле мотив, бессчетное количество раз повторяющийся на разные лады в работах пионеров художественной фотографии. Возьмем в качестве примера фотографию Петра Збруева «Забвение». Перед нами старое кладбище с теснящимися нестройными рядами полуразвалившихся памятников и покосившихся крестов. Снег, припорошивший эту кладбищенскую пестроту, почти совсем скрыл неприметную могилу на первом плане. Скромный деревянный обелиск с вправленной в него пожелтевшей фотографией: юное девичье лицо, улыбающееся и лукавое. Трудно себе представить более зримый образ смерти. Попытаемся разобраться в структуре это фотографического изображения.
Секрет его в том, что одно мгновение реального времени, взятое во всей его физической ощутимости, транспортировано и включено в другое, столь же явственно запечатленное мгновение. Мгновение жизни девушки, схваченное фотообъективом, перенесено в кладбищенскую тишь, в кладбищенскую вечность, столкновение несовместимых реальностей дает почти физическое ощущение времени [14].
Эта способность фотографии мумифицировать и транспортировать реальное время позволяет создавать структуры, в которых столкновение различных временных пластов обладает огромным художественным потенциалом.
Всякое произведение изобразительного искусства, будучи организованным и сотворенным, образует некое стянутое пространственно-временное единство, воплощающее в себе диалектику единовременности и последовательности, временной протяженности и надвременной вечности. Иначе говоря, оно является результатом уплотнения и синтеза времени, которые подчас могут и не осознаваться самим творцом.
Говоря о временной природе литературы, обычно имеют в виду, что литературный текст и, следовательно, повествование последовательно развертываются во времени, что позволяет воспроизводить ход времени, изображать события реального мира в их становлении и развитии.
Рассуждая в этом направлении, зачастую не замечают более существенных смыслообразующих особенностей временной структуры литературного изображения, того, в частности, что в каждом «пространственном» срезе литературного произведения осуществляется синтез разновременных элементов опыта.
Метафора, например, сводит, сталкивает, сцепляет друг с другом впечатления, не совпадающие по времени.
В этом смысле механически репродуктивное начало фотографии, запечатлевающей момент реальной длительности во всей его непосредственности и подлинности, является прямой противоположностью «монтажному» началу традиционных искусств.
Со времен крито-микенского искусства известен изобразительный прием, передающий стремительное движение скачущей лошади, получивший название «летящего галопа». При этом передние и задние ноги лошади одновременно вытянуты и не касаются земли. А тело лошади как бы распластано в воздухе.
Последовательный ряд одномоментных снимков скачущего коня, впервые произведенных в 1878 году Эдвардом Мейбриджем в Сан-Франциско, неопровержимо доказал, что ни в одно из мгновений бега скакуна передние и задние ноги одновременно вытянуты быть не могут[15].
После опытов Мейбриджа и его многочисленных последователей стало очевидным, что привычная иллюзия «летящего галопа» обусловлена монтажем в «единовременном» изображении разномоментных элементов движения. Иначе говоря, выброшенные вперед передние ноги коня – это один миг, а вытянутые после толчка задние ноги – уже другой.
Но, как известно, в европейской традиции изображение читается слева направо – и зритель последовательно видит на плоскости различные части тела коня во временной последовательности – «кинематографически»[16].
Останавливая мгновение, фотография предоставляет возможность последовательно и постепенно рассматривать фрагменты действительности, относящиеся к одному и тому же моменту. Построение фотографического изображения не сообразовано, не соотнесено с процессностью восприятия. Это дало повод В.Фаворскому говорить о «противоестественности» и фальши фотографии, которая как бы заставляет взгляд «топтаться на месте»[17].
Можно привести немало примеров того, как фотография обнаруживает временную организацию в тех изображениях, которые казались запечатленным мгновением, но уже в силу своей «рукотворности» таковыми не были.
Какова же временная реальность, открытая искусству фотографией и в начальную пору фотографической эры казавшаяся несовместимой с самим формосозидающим принципом искусства?
Наиболее существенная черта реальной временной последовательности – необратимость времени. С этим фактом человек постоянно сталкивается и в обыденном опыте. Как говорил Н.Винер, «индивидуум – стрела, устремленная во времени в одном направлении»[18]. «Наше время направлено и наше отношение к будущему отлично от отношения к прошлому. Все вопросы, которые мы ставим, содержат эту ассиметрию, и ответы на них также ассиметричны»[19].
Крах механистического детерминизма сопровождался попытками связать течение времени с действием второго начала термодинамики, который приобретает универсальный смысл, как только речь заходит о статистических процессах и закономерностях. Почти безраздельно господствовавшая с конца XVIIв. до конца XIXв. ньютоновская физика описывала Вселенную как некий компактный, прочно устроенный механизм, где все будущее строго зависит от всего прошедшего. Эта картина мира, согласуясь во многом с обыденным опытом, представлялась универсальной и незыблемой.
Поскольку фотографический процесс мумифицирует время, механически точно фиксируя вероятностные распределения, присущие реальному миру, т.е. отражая присущую ему энтропию, проблема времени в фотографии оказывается нерасторжимо связанной с топологией фотографического пространства.
Хотя фотограф свободен в выборе своего местоположения в пространстве, ракурса съемки, в выборе оптики и т.д., фотографическое пространство строится согласно точным геометрическим законам. И если, выражаясь образно, живописец всегда помещает себя внутри воссоздаваемого пространства (независимо от того, пользуется ли он прямой или обратной перспективой), фотограф лишен этой возможности. Строго говоря, даже «субъективная камера» адептов операторского кинематографа «субъективизирует» пространство совсем не так, как это делает живописец. Операторская субъективность всегда привнесена, в то время как субъективность живописца органически неотделима от изображения [20]. Движение камеры внутри кадра есть физическое действие, осуществляемое в том же самом пространстве-времени, в котором происходит запечатлеваемая сцена.
Физика фотографического процесса объективна и не подвластна воле субъекта.
Фотографический образ изоморфен реальности, подобно тому, как изоморфно ей отображение, возникающее на сетчатке глаза в процессе зрения. Отношение к этому первичному отображению может быть различным и зависит оно от того, каким образом мы интерпретируем познание, от философских основ нашего мировоззрения. Как известно, различные гносеологические концепции характеризуются разной степенью «доверия» к первичной данности человеческих ощущений. Субъективисты, например, исходят из того, что организация, упорядоченность, обнаруживаемая в ощущениях, привносится самим субъектом. Так, по мнению гештальтпсихологов, распределение раздражителя на сетчатке является точечным, индифферентным, мозаикообразным скоплением элементов. Причем в самой топографии раздражителя нет ничего, что могло объяснить целостность зрительного образа. Организация мозаики элементов раздражителя обусловлена изнутри. Для соотношения между элементами характерна предметная отчужденность
Напротив, психологические исследования, полагающие, что ощущение есть субъективный образ объективного мира, утверждают: «Все, что становится раздражителем при данных условиях восприятия ( в повседневных, естественных, биологических условиях или как бы иначе не называли мы окружающую нас среду), исходит от предметов в широком смысле этого слова, которым присуще свойство снабжать электромагнитные волны, отраженного или люминисцирующего света признаками инвариантной зависимости от собственных геометрических, химических, физических качеств поверхностей»[21].
Субъективизму свойственно недоверие к предметности, стремление поставить на ее место сотворенный человеческим сознанием образ. И. конечно, знаменательно, что видный гештальпсихолог и теоретик искусства Р.Арнхейм признавал за фотографией возможность стать искусством лишь в той мере, в какой она способна деформировать первоначальную видимость[22].
При таких рассуждениях получается, что сама предметная данность, отображаемая в процессе съемки, не участвует в художественном впечатлении, что предметность легко выводима за скобки искусства, как нечто внехудожественное [23].
Классическая марксистская традиция в эстетике придерживается иного взгляда на вещи: эстетические качества образа генетически производны от свойств отображаемой реальности. И в этом нет небрежения
творческой субъективностью, ибо подлинный художник (художник-фотограф, в особенности) творит не вопреки природе мира и человека, а в согласии с ней[24].
Идея безграничности объективного мира и безграничности человеческого познания означает, что случайности и несообразности в топографии фотообраза кажутся таковыми лишь на определенной ступени познания, на определенном этапе приближения к реальности и не могут быть отброшены как нечто заведомо не относящееся к сущности постигаемого явления. Признавая наличие в мире непознанного, не поддающегося прямому истолкованию и объяснению вовсе не следует объявлять непознанное несуществующим и тем самым ограничивать познание в его поступательном развитии.
Прежде чем предмет или явление будут познаны, прочувствованы, практически освоены человеком, они должны быть увидены и в известном смысле локализованы, т.е. представлены как нечто, имеющее собственный смысл. Эти функции во многом и выполняет фотография, дающая возможность, как бы заново увидеть вещи в их конкретном бытовании.
Существует дзенская легенда, в которой учитель предлагал ученику смотреть на камень. И спрашивал его, что он видит. – Камень, - отвечал ученик. Но учитель заставлял его смотреть еще. – Камень, - снова отвечал ученик. И однажды ученик не смог ответить на этот же вопрос. – Теперь ты видишь камень, - сказал учитель.
Смысл притчи, по-видимому, в том, что автоматическое узнавание в вещи понятия не есть видение, утверждая ценность которого, подразумевают то, что действительность не «укладывается» в понятие, она «богаче», разнообразнее, жизненнее.
Задавшись вопросом: «…Что такое “одно и то же понятие”?», - Ф.П.Филин указывает: « нужно всегда иметь в виду, что наше мышление не отражает пассивно, как фотоаппарат фотографируемые объекты, окружающую действительность. Оно является активным, творческим, преобразует независимый от нашего сознания мир, находя в нем подлинно существующее и наделяя его мнимыми, превратно понятыми или еще не познанными свойствами. Между понятием и обозначаемым словом предметом нет тождества, так как один и тот же предмет может иметь много объективных или приписываемых ему особенностей»[25]. Наконец, соответствие понятия действительности всегда этапно, преходяще, так как жизнь наделена самодвижением и рано или поздно начинает сопротивляться и отторгать наложенную на нее понятийно-логическую сетку.
Именно фотография способна радикально удовлетворить периодически возникающую в процессе художественного развития потребность непосредственного дословесного видения реальности, во всей ее неустранимой случайности и несообразности, которые не могут быть полностью предопределены и превращены в смысл.
Проницательно писал об этом М.М.Пришвин (запись 1938 г.) : «Появляется изображение на пленке, и часто это происходит, будто глаза открываются все шире, шире… Диво! Вышло совсем не то и не так, как снимал. Откуда же взялось? Раз уж сам не заметил, когда снимал, значит, оно так само по себе и существует в «природе вещей». Вот отчего радостно заниматься фотографией и отчего расширяются глаза…»[26].
8. Теодор Жерико. Скачки в Эпсоме. 1821 г. Лувр, Париж.

9. Эдвард Мейбридж. Галопирующая лошадь.1878 г.

10. Эдвард Мейбридж. Бег иноходца. 1878 г.

11.Этьен-Жюль Марей. Полет пеликана. 1882 г.
См. продолжение в следующем посте
|
|
Мирсаид Сапаров - Словесный образ и зримое изображение (живопись - фотография - слово)--продолжение |
12 . Василий Верещагин. Побежденные. Панихида. 1878 г. Третьяковская галерея.
13. Малькольм Браун. Самосожжение буддийского монаха 11 июня 1963 года. 3
Говоря о специфике фотоизображения, о его своеобразных, никак иначе недостижимых возможностях, следует разобраться в природе его материальной фиксации и бытования. Иными словами, необходимо обратиться к онтологии фотографического образа.
Естественно напрашивается сравнение его с живописной картиной. По видимости структура их идентична и принадлежат они к одному и тому же типу художественных объектов. Как известно, структура произведения искусства при ближайшем рассмотрении оказывается многосложной иерархией структур [27]. «Многоступенчатость» эта может проявляться весьма различно в зависимости от вида, жанра и направления того или иного явления искусства. Однако во всяком произведении можно обнаружить хотя бы три основных слоя:
1) слой материального образования, служащего объектом непосредственного чувственного восприятия, т.е., наделенная физическим бытием вещь, сотворенная и сформированная художником;
2) слой предметно-представимого – слой образной реконструкции, т.е. узнаваемых и прозреваемых в картине жизненных реалий;
3) слой предметно-непредставимого – слой художественного значения [28].
Произведение искусства характерно взаимодействием и единством всех трех слоев, однако их непосредственное слияние привело бы к гибели художественного произведения как такового. Созерцая картину, мы видим одновременно плоскую поверхность с нанесенными на ней мазками и трехмерное пространство, в котором явлены изображаемые художником предметы, люди, ситуации. Очевидно, что слияние реальности изображающей с реальностью изображаемой можно достичь, лишь заменив картину проемом в стене. В этом случае исчез бы и третий слой, возникающий как результат взаимодействия первых двух; только соотнося то, «посредством чего» сказано, с тем, что сказано, мы постигаем художественный смысл произведения.
Говоря о первом слое структуры, не следует его, конечно, отождествлять с самим материальным образованием, объектом-«носителем». В структуре произведения представлен, разумеется, не сам объект, а его образ, опосредуемый историко-культурным контекстом. Говоря о взаимодействии слоев структуры, надо иметь в виду, что все три слоя есть опосредованное целостностью произведения отражение объективной реальности в сознании воспринимающего субъекта. Каждому слою соответствует свой порядок, «масштаб» явлений и, следовательно, свой «уровень» опыта.
Развитие европейской живописи во второй половине ХIXв. привело, как известно, к обособлению и отрыву первого слоя от двух последующих. Была эмансипирована чистая живописность, и красочный слой картины, его вещественная конкретность получили самодовлеющее значение. Изображаемая предметность становилась все более условной и подчас эфемерной, пока, наконец, изобразительность вообще не была отвергнута и искусство живописи было подменено «деланием вещей».
Когда-то Морис Дени призывал «Помнить, что картина прежде, чем быть боевой лошадью, обнаженной женщиной или каким-нибудь анекдотом, является по существу плоской поверхностью, покрытой красками, расположенными в определенном порядке»[29]. Внутреннее движение картины заключается в соотнесенности ее слоев. Зритель видит еепредмет (сюжет картины, пейзаж, лицо, историческое событие, живое тело, натюрморт или же просто геометрическую фигуру), но картина и сама по себе является предметом, объективно присутствующим предметом, т.е. поверхностью ( кусок холста, поверхность стены), на которой нечто изображено. Таким образом, произведение предстает как бы двумя своими сторонами, но ни одна из этих сторон, ни один из этих предметов, воспринимаемых зрителем сам по себе недостаточен. Каждый отсылает к другому.
Когда зритель созерцает живописную поверхность неизменно двухмерную, его взгляд обращен к пространственному ( трехмерному) предмету, не присутствующему, но изображенному. Взгляд задерживается на некоторое время на сцене, на фигуре, на геометрическом теле и т.д. Но это продолжается недолго. Взгляд тотчас же переходит от изображаемого к изображающему, т.е. куску холста, совокупности красок и линий на его поверхности. Как только взгляд останавливается на этой стороне произведения, он тотчас же отсылается обратно к первой. Это движение вызвано постоянно возобновляемым и разрешаемым противоречием между различными слоями живописного образа.
Различные направления современного модернистского искусства гипертрофируют ту или иную сторону диалектически подвижной структуры художественного произведения. Так, супрематизм и абстрактный экспрессионизм, отказавшись от предметной изобразительности, сделали картину «машиной для вызывания чистых эмоций формы», «машиной преодоления», что по существу означало кризис станковизма.
Теоретики поп-арта, разглагольствовавшие о «возвращении предметности», на самом деле подменили картину реальным объектом, который, будучи извлечен из своего обычного окружения и лишившись функциональной нагрузки, стал фетишем. При этом был полностью разрушен принцип смыслообразования, свойственный живописи. Подобный объект не означает ровным счетом ничего, кроме себя самого, и в то время может означать все, что угодно.
Стоит поразмыслить о том, почему и в теории искусства, и в художественно-изобразительной практике стремление избавить живопись от ига литературности было связано с фетишизацией «значимой формы» как некоего специфического предмета живописи. На рубеже XIX-ХХ вв. именно живопись и отчасти музыка стали теми полигонами, на которых испытывались наиболее агрессивные версии формалистической эстетики.
Литературный авангард, имевший, разумеется, собственные амбиции, был все же вторичен, более непоследователен [30].
Почему именно на рубеже XIX-ХХ вв. предметно-понятийное содержание изображения и повествовательное начало стали восприниматься как дань литературе, как презренная «литературщина»?
Почему при этом реальность становилась лишь внешним и необязательным поводом для живописи?
Если живопись намеренно бежит и от повествовательности, и от показа реальной предметности, то духовное содержание творимых ею видимых форм может быть воссоздано и воспринято лишь в сопоставлении с чем-то, что лежит за пределами непосредственно воспринимаемых реалий и для свой актуализации и закрепления требует словесно-понятийных подпорок, причем всякое такое словесное обоснование отвлеченно-беспредметных форм обычно не обязательно, условно и произвольно.
Естественная сообразность слова и изображения разрушается, причем словесные экзерсисы по поводу живописи, разумеется, ничем ее не обогащая, фетишизируют последнюю.
В глубокой и оригинальной по мысли статье «Слово и изображение» Н.А.Дмитриева верно пишет о том, «что ослабляя исконные связи с чувственным первоисточником, искусство переступает какую-то роковую черту, оно оказывается в настоящем плену у слов и без помощи слов уже не воспринимается» [31].
Само понятие живописи при этом размывается. «Неизобразительная» живопись и поп-арт всерьез ставят вопрос о возможности отнесения к художеству объектов, не только не похожих на предметы традиционного искусства, но и не обнаруживающих целеустремленных формообразующих устремлений художника[32].
Пластическая организация первого слоя в традиционной живописи не только индуцирует второй слой, т.е. определенные предметные и ситуационные представления, но и служит выражением субъекта, его специфического отношения к изображаемому, его художнических намерений.
Здесь важно подчеркнуть, что изображаемая предметность не транспортируется в картину, а творчески воссоздается и вне совокупной целостности не может мыслиться. Иначе говоря, изображаемое присутствует в картине не на правах самой действительности, а на правах идеального образа, художественной реальности.
Для того, чтобы художественное произведение актуализировалось сознанием воспринимающего в совокупности всех своих слоев, необходима деятельность воображения, творческой фантазии. Живопись постоянно аппелирует к воображению, используя различные варианты изобразительного эллипса, т.е. опуская многие зрительные детали, заменяя целое частью, вводя условные пластические символы. В этих случаях постижение предметности невозможно, если зритель не владеет живописным языком, своеобразным «кодом», к которому прибегнул мастер.
Высокие образцы изобразительного искусства всегда обнаруживают подчиненное служебное назначение второго слоя, который интегрируется в совокупный смысл произведения.
Хотя фотография и живописная картина в равной степени являются изображениями, структура фотографического образа принципиально отлична от структуры живописного произведения. «Искусство не требует признания его произведений за действительность». Эта формула Фейербаха, одобрительно повторенная В.И.Лениным[33], весьма точно характеризует специфическую установку зрителя при восприятии произведений
изобразительного искусства. Хотя во втором слое индуцируются предметные объекты, вернее, представления о них, зритель ни на минуту не забывает о том, что эти представления при всем своем жизнеподобии сотворены при помощи творческой фантазии и явленная в них предметная реальность сочетает подлинное, действительно имевшее или имеющее место в жизни, с идеальным. То, что случилось, или могло случиться на самом деле, трансформируется по законам художественного долженствования, выявляемым, в частности, пластической организацией картины.
Напротив, в фотографии второй слой, хотя он и реконструируется в процессе восприятия, наделен полномочиями самой действительности. Как только сознание воспринимающего отметит для себя механический способ отображения, начинает действовать специфическая установка восприятия на узнавание подлинной конкретности. По точности передачи деталей фотография может уступать – нередко так и бывает – искусству опытного рисовальщика. Тем не менее фотография расценивается как более достоверное, документальное свидетельство.
В результате второй слой – слой предметной реальности – получает первостепенное значение, пластическая же организация первого слоя (в той мере, в какой она возможна) не может ничего ни прибавить, ни убавить к самому факту документальности, устанавливаемому практически априорно.
На первый взгляд, именно фотография создает подобия, в то время как живопись прибегает к гораздо более условным способам передачи действительности. Между тем, на самом деле фотография лишь обозначает собою действительность, являясь своего рода индикатором документальности, в то время как живопись «следует природе», раскрывает собственную меру и структуру вещей.
По сравнению с живописью первый слой фотографического образа обладает минимумом эстетической содержательности, ибо он есть продукт оптико-механического процесса.
Разумеется, выбор пленки и фотобумаги, зернистость, оттенок пигмента и т.д. способны усиливать или уменьшать эстетическую эффектность произведения. Они, однако, не способны поколебать признание самого факта фотографической документальности.
Эта особенность структуры фотографического образа объясняет предметную устремленность фотографов. Фактура и пластика самого изображения целиком подчинены фактуре и пластике отображаемого явления. Поэтому-то фотограф нацелен на материальность мира, на постижение его таким, каков он есть на самом деле.
Любопытно сопоставить художественно-изобразительные композиции с очень похожими на них фотографическими кадрами. Возьмем, к примеру, известную литографию Е.Кибрика «Ласочка» - иллюстрацию к роману Р.Ролана «Кола Брюньон» и сравним ее с фотопортретом девушки, зажавшей в зубах веточку вишни. Сходство, почти тождество лиц, улыбки, настроения, но при этом разящий контраст, который лишь возрастает при увеличении внешнего подобия, ибо в одном случае перед нами идеальный образ, не отсылающий нас ни к какому реальному лицу, а в другом - протокольно точная фиксация облика реально существующего человека.
Бытийно-предметный статус второго слоя фотографического изображения, вызываемая им установка на подлинность и конкретность, приводят к радикальному изменению семантики первого слоя. Случайности и несообразности, отсутствие пластической интеграции живописного толка оказываются знаком реального даже в том случае, если эта реальность не воспринимается сколько-нибудь отчетливо. Случайность аппелирует к изображению и вызывает целый сонм представлений. Мир, отображенный фотографией, не обладает целостностью и самодостаточностью микрокосма, это необходимо разомкнутый мир, мир, границы которого подвижны и условны, каждый элемент которого связан с чем-то выходящим за пределы нашего непосредственного умозрения, мир, единство которого скорее предполагается, нежели дано в конкретной пластической целостности.
Пластическая организация картины имеет смысл лишь постольку, поскольку является воплощением духовных ценностей. Как показал в свое время Рескин, даже качество линии, ведомой рукою рисовальщика, может оказаться знаком нравственного достоинства[34].
Пластическое единство знаменует преодоление художником хаоса мира, нахождение им устойчивых ценностей, идеала. Живописная гармония не самоцельна, она служит поискам гармонии между человеком и миром. В пределах всякого искусства всегда возникает и разрешается конфликт между правдой и красотой, между диктуемым художнической этикой стремлением к истине, как бы жестока и непримирима она ни была, и стремлением очеловечить мир, привести его в согласие с человеческим чувством и человеческой мерой.
Далеко не во всякие периоды развития искусства взаимосвязь этих стремлений оказывалась органичной и не приводила к весьма драматическим ситуациям.
В частности, такая кризисная ситуация возникла в русской живописи во второй половине XIXв. и получила наиболее яркое выражение в передвижничестве. Та форма отношения к действительности, которая была продиктована передвижникам обстоятельствами общественной жизни России и наиболее соответствовала их нравственному кредо, была предвосхищением фотографизма, фотографической эстетики.
Художник, уязвленный несовершенством и бесчеловечностью жизни, не пытался воплотить в своей живописи гармонию, которой не находил в действительности. Он ставил себе целью репортерски зафиксировать и выставить на всеобщее обозрение беды и зло тогдашней России. Картины уподоблялись документам обвинения, свидетельствам очевидцев. Однако желание добиться фотографической достоверности и конкретности средствами живописи таило в себе неразрешимые противоречия – и художественные, и нравственные[35]. Внутренний драматизм передвижнического мировоззрения прекрасно выражен Всеволодом Гаршиным в известном рассказе «Художники». Конфликт двух живописцев: пейзажиста Дедова, стремящегося к искусству «положительно прекрасному» и умиротворенному, и неистового правдоискателя Рябинина, раз и навсегда потрясенного страданиями рабочего-глухаря («человека, который садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает шляпку») [36]. Близкий к помешательству Рябинин одержим одной мыслью - запечатлеть все как есть: скорчившегося в три погибели глухаря, принимающего грудью удары огромного молота. До пластики ли здесь! Всякого рода «красоты» кажутся Рябинину не только излишними, но и кощунственными. Замечательно признание Рябинина о своем детище: «Это не написанная картина, это – созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю; но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать… Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь «сферы», а из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную ненавистную толпу… Крикни им: «Я язва растущая!» Ударь их в сердце, лишая их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое…»
Как видим, установка на фотографическую достоверность имели у передвижников нравственную мотивацию. Противоречие заключалось в том, что для того, чтобы изобразить тот или иной предмет с реалистической иллюзией, художник должен отвлечься от содержания изображаемого и увидеть его как сочетание линий, красочных пятен, геометрических форм. Речь идет о хорошо известном в теории изобразительного искусства отчуждении от изображаемой предметности.
Клод Моне свидетельствовал в одном из писем о том чувстве, которое он испытал, когда изображая умершую женщину, неожиданно заметил, что совершенно забыл о недавно потрясшей его смерти, он целиком увлекся игрой пятен и бликов[37].
Изобразительная деятельность человека - и живопись, и рисунок - всегда включает в себя момент организации («формативное начало», как сказал бы Зигфрид Кракауэр)[38], и называть ее фиксацией можно лишь сугубо условно. Когда же художник пытается уподобить себя отчуждающему объективу фотоаппарата, это чревато обесчеловечиванием его искусства.
«Предварительная организация натуры» в тех случаях, когда художник-«документалист» повествует о страданиях и жестокостях мира, таит в себе неразрешимую этическую проблему. Известна история о том, как В.В.Верещагин просил генералов Скобелева и Струкова сделать так, чтобы он имел возможность как можно более реалистично изобразить «экзекуцию» на полотне. Она была сообщена самим художником в книге «На войне в Азии и Европе»[39]. Это признание Верещагина вызвало гневное осуждение со стороны ряда деятелей русской культуры, в частности, Глеба Успенского[40].
Между тем механистичность, бездушность и моментальность фотографии связаны и с особым нравственным отношением художника к изображаемому. Документальная установка согласуется здесь с онтологией изображения, с его внутренней структурой и специфической семантикой. Возьмем для примера потрясающий снимок Малькольма Брауна «Самосожжение буддийского монаха в Сайгоне»[41]. Снимок обошел все газеты мира и стал одним из самых известных документов эпохи. М.С.Каган, полагающий, что фотография может стать произведением искусства лишь благодаря «формативным» усилиям художника, писал, что недостаток пластической организации и художнической преднамеренности мешают снимку Малькольма Брауна дотянутся до уровня искусства[42]. Конечно, если не видеть отличий фотографии от традиционных видов изобразительной деятельности, подобное суждение покажется уместным и убедительным.
Однако представим себе «деятеля искусства», который, расположившись перед горящим монахом, будет отыскивать оптимальный с эстетической точки зрения ракурс, балансировать свет и тени в поле окуляра, продумывать и вымерять композицию. Пластические обретения были бы чреваты в этом случае невосполнимыми нравственными, а следовательно, и художественными потерями.
Итак, принцип «подобия натуре» в применении к живописи и к фотографии имеет различный смысл. Живопись по самой своей сути является образным воссозданием реальности, в то время как фотография – ее фиксацией. Отсюда не следует, что фотографии недоступна художественность. Художественность фотографии достижима иным образом и в иной форме.
«Бесстрастность» и «сухость» камеры, «отсутствие личного художественного исполнения»[43] придают снимку впечатляющую силу документа. «Бесстрастность» и «сухость» художника-копииста - явление совсем иного толка.
Художественность произведения искусства не есть принадлежность какого-то одного слоя его структуры. Она возникает в результате взаимодействия слоев. Это становится особенно очевидным, если сопоставить произведение большого мастера, яркой художественной индивидуальности. С работами его подражателей, которые, сохранив стилистические особенности изобразительной манеры, тем не менее оказываются неспособными создать художественное целое такой же значительности.
В художественной фотографии мы сталкиваемся с явлениями, которые, по крайней мере, внешне, лишены преднамеренной организации. Ничего подобного в области традиционных изобразительных искусств невозможно себе представить. Это, однако, не доказывает того, что подлинно документальная фотография, избегающая деформации видимого, лежит вне художественного сознания. Дело в том, что в совокупной иерархической структуре фотографического образа основную нагрузку несет на себе организация второго слоя, в то время как строение первого слоя имеет подчиненный характер, его организация в любом случае подчинена предметному содержанию изображаемого. Если же фотограф пытается превратить свою деятельность в «свободное формотворчество», он тем самым порывает с природой фотографического искусства.
Пресловутая «натуралистичность» фотографии, которую нередко в прошлом именовали ее «первородным» грехом, сама по себе не есть достоинство или недостаток. Она есть онтологическое свойство фотографического процесса, которое нельзя устранить, элиминировать, но можно «включить» в художественную структуру, сделав ее художественно значимой.
Метафора в живописи, в частности фактурное уподобление, уводит изображение от реальной вещественности предмета. Например, Коро, уподобляя поверхность озера зеркалу, создает изображение, в котором эта поверхность прочитывается как вода лишь в сопоставлении с другими элементами картины. В «Блудном сыне» Рембрандта свет превращает грязные лохмотья героя в сияющую драгоценность. Иначе говоря, в традиционной метафоре – и изобразительной, и поэтической - образ заслоняет собою предмет уподобления, его реальную структуру и «физиологию».
Есенин пишет о губах юной девушки: «Алым соком ягоды на коже» - поэтический образ, исключающий натурализм и несопоставимый с «физиологическим» представлениях о губах как продолжении слизистой рта.
Фотография - вид художественной деятельности, который не перечеркивает и не редуцирует естественное бытие вещи. Вещь, запечатленная фотографом, может выступать одновременно во множестве значений и во многих взаимосвязях, но при этом она никогда не перестает быть сама собой и не теряет своей предметной конкретности.
Необычный ракурс, неожиданное освещение, прихотливая ферментация, сильное укрупнение или уменьшение могут сделать предмет практически неузнаваемым. Это, однако, не означает, что предмет был не изображен или подменен другим. Изображение не утратит своей документальности. В таком снимке предмет обнаруживает свои реальные стороны и качества, невоспринимаемые в обыденном опыте, но структурно-вещественная конкретность предмета сохранится.
 .14. Жорж Сера. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884-1886. Институт искусств, Чикаго.
.14. Жорж Сера. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884-1886. Институт искусств, Чикаго.  15.Фэнтон Роджер (1819-1869). "Долина смертных теней". 1856 г. Крымская война(1853-1856). После трехчасовой бомбардировки пушечными ядрами. Британский исторический музей.
15.Фэнтон Роджер (1819-1869). "Долина смертных теней". 1856 г. Крымская война(1853-1856). После трехчасовой бомбардировки пушечными ядрами. Британский исторический музей.
 16.Альфред Стиглиц. Alfred Stieglitz (1864-1946). Терминал. 1892. Нью-Йоркский музей современного искусства.
16.Альфред Стиглиц. Alfred Stieglitz (1864-1946). Терминал. 1892. Нью-Йоркский музей современного искусства.
 17.Анри Картье-Брессон. Henri Cartier- Bresson (1908-2004). Дассау. 1945 г.
17.Анри Картье-Брессон. Henri Cartier- Bresson (1908-2004). Дассау. 1945 г.
 18. Эдвард Генри Уэстон. Edward Henry Weston/ (1886-1958). Грибы. 1930 г.
18. Эдвард Генри Уэстон. Edward Henry Weston/ (1886-1958). Грибы. 1930 г.


19.Эдвард Генри Уэстон. Обнаженная. 1936 г. Королевское фотографическое общество.
20.Гарольд Эджертон. Harald Edgerton (1903-1990). Бубновый король и пуля. 1964. Институт искусств Миннеаполиса. (Стробоскопическая съемка)
См. продолжение в нижеследующем посте
|
|
Мирсаид Сапаров - словесный образ и зримое изображение (живопись - фотография - слово) - окончание |
21.Доменико Гирландайо.(1449-1494). Портрет Джованны Торнабауони. 1489 г. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид. 22. Доротея Ланж (1895-1965). Безработная мать. Калифорния. 1936 г. Музей Современного Искусства,Нью-Иорк.

4
В контексте предпринятого нами поневоле беглого анализа специфических особенностей фотографического воспроизведения действительности отчетливее выступает органическое художественное родство живописи и литературы. Вместе с тем, если сущность и словесного и изобразительного искусства определять одним и тем же понятием «подражание природе», то придется, по-видимому, признать, что самый характер подражания в этих случаях различен. Грубо говоря, путь живописи – от подобий к значениям, в то время как путь литературы – от значений к подобиям.
Литературный образ актуализируется в языке, и вся совокупность человеческого опыта, аккумулированного в языке, так или иначе участвует в литературном образе. Живопись же непосредственно, казалось бы, несоотносима с повседневной речевой практикой людей, ее стихия – видимость, видимая форма реального мира. Упорядоченная и целеустремленная трансформация и отбор этих видимых форм и составляют так называемый «язык живописи». Однако сами по себе эти формы принадлежат самой действительности и являются ее физико-оптическим дериватом, ее иноматериальным подобием.
Слово не может быть уподоблено слепку с реального предмета, его изоморфному отображению, его внутренняя структура обычно не совпадает со структурой наименованного явления или процесса. Если живопись, издавна вполне осмысленно сравниваемая с зеркалом, отражая, преломляя, подчас деформируя и дробя облик видимого, все же воспроизводит его с той или иной степенью достоверности, то «словесная ткань» представляет собой структуру обозначений, разумеется, совсем непроизвольных и не случайных, обеспеченных огромным опытом духовно-практического освоения действительности, но в своем формальном выражении непохожих на обозначаемое ими.
Словесно-понятийная конструкция, сколь бы изощренной и «точной» она ни была, неспособна передать и воспроизвести вещественно-эмпирическую конкретность явления - эмпирическое бытие явления в реальном пространстве и времени словом необъемлемо.
Для читателя конкретность, которая строится во взаимосвязях и взаимоотражениях слов, обретает свою жизненную достоверность, как бы независимо от описанного оригинала, т.е. определенного единичного события материального мира, она наполняется собственным мысленным и чувственным опытом читателя, неповторимо конкретным, детерминированным реальным физическим и историческим пространством – временем.
Впрочем, в этом отношении литература близка живописи, структура которой также предполагает творческую активность субъекта.
Содержание живописного произведения обращено не только к зрению, но и ко всей совокупности человеческого существа. Поэтому, кстати, художественный образ, воссоздаваемый средствами живописи, многомерней, многосмысленней и подвижней, нежели само изображение.
В живописном впечатлении сложно взаимодействует непосредственно данное и мыслимое, физически предметное и воображаемое. Подобно слову, живописный образ взывает к продуктивной способности человеческого воображения.
Живопись следует называть пространственным искусством, и в том смысле, в каком она является выражением пространственной детерминированности человеческого существования.
Пространство бросить не дано,
В котором мы живем.
Объято вечностью оно,
Как здание огнем.[44]
Реальная проблема человеческого существования: физическая конечность бытия и актуальная бесконечность, данная человеку в его ощущениях и мышлении, - таково диалектическое противоречие, не только воспроизводимое в структуре живописи, но и составляющее его внутренний драматизм.
Ведь Реальность не просто фиксируется и «калькируется» живописью, с той мерой механической тождественности, которая присуща фотографии; изображение активно строится художником. Причем процесс строения формы так или иначе запечатлевает и субъективные намерения художника, и характер понимания им отображаемого, и присущий ему способ художественного мышления.
Вот поэтому, традиционно противополагая изобразительное и словесное искусство, не следует, конечно, возлагать чрезмерные теоретические надежды на оппозицию категорий «изображение» и « выражение». Сама эта оппозиция не абсолютна, и ее применение к анализу живописи может быть решительно оспорено. Даже при отсутствии сознательной и волевой установки на «выражение» изобразительная деятельность человека неизбежно сопряжена с выбором, и, следовательно, выявлением субьективно-экспрессивного начала. Речь идет не только о фрагментации и монтаже изображаемой реальности, но и о выборе и градации изобразительных средств.
Неустранимая условность живописного изображения так или иначе переживается и претворяется художниками, становясь знаком не только определенного стиля, вкуса, художественной традиции, но и конкретного отношения к запечатленной действительности.
Целенаправленное строение формы, т.е. запечатленный в структуре живописи процесс живописания, есть пластическая мысль. Формосозидание – сравнение, уподобление и выявление контрастов – оказывается пластическим освоением видимого, преображением его в человечески значимую форму.
Пластическая идея невыразима словом и непереводима в словесно-понятийный ряд. Она не есть, однако, некая упорядоченность, произвольно привносимая субъектом в отображаемую реальность, уже хотя бы потому, что она сообразуется с внутренней мерой отображенного.
Пластическая формосозидающая мысль и может быть названа «внутренней формой» живописного произведения.
Художественное формосозидание есть процесс, в котором «художник анализирует, расчленяет и вновь объединяет разрозненное, отыскивая общий знаменатель явлений. Его метод – анализ и синтез одновременно. Он ищет правды путем сравнений и сопоставлений»[45].
Живописным «видением» нередко именуют то, что, если быть более точным, следует назвать живописным пониманием, «умозрением в красках».
Пластическая идея есть некое идеальное сосредоточение и кристаллизация в единичном зримом образе чувственно-духовного опыта человека.
Древний китайский художник Ван Ли заметил: «Как я мог нарисовать гору Хуа, пока ее очертания были мне неизвестны? Но и после того, как я побывал там и нарисовал ее с натуры, замысел все еще не созрел. Впоследствии я вынашивал его в тишине моего дома, находясь в пути, в постели или же за едой, на концертах, в перерывах между разговорами и литературным творчеством. Однажды, отдыхая, я услыхал звуки барабанов и флейт неподалеку от своих дверей. Я вскочил как безумный и закричал : «Я нашел его! Затем я уничтожил свои прежние рисунки и набросал все снова. На этот раз моим единственным учителем была сама гора Хуа»[46].
Нетрудно понять, что пластическая мысль имеет опору в видимой и отображаемой предметности.
Думается, не вполне точна Н.Дмитриева, когда утверждает, что «способов видеть… существует множество[47]». Конечно же, процесс зрения непосредственно связан с работой мозга и зависит от опытности глаза, от предшествующих преставлений и намерений зрителя, от его субъективных предрасположений и возможностей[48].
И все же последнее не стоит истолковывать в том смысле, что мозг волен препарировать сетчаточное изображение сколь угодно произвольно.
«Диктат реальности», которому при всех возможных аномалиях и иллюзиях подчиняется человеческое зрение, непреодолим. В конечном итоге формирующие и преобразующие способности «разумного глаза» устремлены на постижение реальности как таковой. И поэтому прав М.Лифшиц, решительно возражавший против попыток мистифицировать категорию «живописного видения», постулируя некую изначальную субъективность самого зрения[49].
Во всяком случае, психофизиолгия зрения вовсе не сопротивляется и не противостоит адекватному восприятию реальности. И ежели иные художники стремятся «преодолеть» видимую реальность, растворить ее в субъективно переменчивых ощущениях, то виною тому отнюдь не особенности их зрительного анализатора. Природа и культура совершенствовали человеческий глаз как необычайно чуткий инструмент познания мира, а не как средство субъективного самовыражения. Итак, как и в живописи, мир, воссозданный словом, зрим, слышим, он открыт представлению и мысли. Однако многомерность мира, схваченная и обозначенная словом, отнюдь не явлена нашим чувствам в виде конкретного и самоочевидного наличного предмета.
Слово взывает к опыту наших чувств, ко всей совокупности нашего существа, поэтому, читая, человек невольно подвергает проверке самого себя, упорядочивая и гармонизируя свои ощущения, активизируя свою память, сопереживая, сочувствуя, соображая, сознавая. Читатель сопричастен акту творения. При этом собирание образа словом нельзя уподоблять складыванию мозаики, когда каждый элемент изображения зеркально соответствует части некоего целого, уже существующего в представлении.
Такой принцип воссоздания свойствен скорее фотографии, которой на самой деле фиксируется аналог сетчаточного изображения, а вовсе не воображенное. Между тем единичное слово претендует на универсальность. Оно способно обозначить разом множество вещей, подчас не только не схожих, но и совершенно несопоставимых в своей зримой конкретности.
Исконная содержательность слова столь приспособляема и неуничтожима, что порой даже в произвольных словесных конструкциях, например в стихах, «сочиняемых» ЭВМ, брезжит некий смысл. И все же слово, взятое само по себе, неспособно создать иллюзию действительности. «Подлинность» словесного изображения обеспечена точностью словесного построения, и поэтому повторим: словесное изображение – итог целенаправленных конструктивных усилий.
Фотография же, если так можно выразиться, обладает «презумпцией достоверности».
Слово есть различение и отграничение реальных признаков предмета.
Тождество слова обозначенному им конкретному материальному явлению заведомо условно. Имя собственное скреплено с наименованным телом узами случайными и преходящими. Ибо слово абстрактно и понятийно.
Любопытно, что при зрительной реализации словесной метафоры последняя обычно утрачивает прозрачность и определенность своего смысла. Ведь конкретное, предметно-вещественное «воплощение» понятия не только предполагает форму и протяженность, объем и вес, цвет и запах. Являясь составной частью материального мира, оно нераздельно связано с ним, разделяет его историю. Живопись изображает некую реальную физическую предметность, ее строй, цвет, фактуру. Но и само живописное изображение представляет собой реальную физическую предметность, строй, цвет и фактура которой обретают художественную ценность.
Иное дело фотография. Она не обозначает и не воспроизводит изображаемое явление, не «замещает» его некоей эстетически значимой предметностью. Она именно фиксирует его в реальном пространстве-времени, давая моментальный бесплотный слепок, некую отъединенную от конкретных вещей поверхность реального бытия.
Слово, «свободно витая» над преходящими реалиями, ищет конкретности и конкретностью питается: от бываемого и возможного к единожды случившемуся, от закономерности к факту. Фотография же устремлена к слову, как к своему собственному мыслимому, и, стало быть, выявляемому содержанию. Тенденции эти противоположно направлены, но навстречу друг другу.
Слово творит. Фотография фиксирует.
Слово пророчествует. Фотография свидетельствует.
Именно в соприкосновении с обозначенным им явлением слово претворяет мысль. Только благодаря слову сфотографированное явление вводится в мысленное русло тем или иным конкретным способом.
В начале нашего века много говорилось о том, что-де фотография и «движущаяся фотография» (кино) делают ненужными пространные словесные описания и в значительной мере обесценивают искусство обстоятельного литературного повествования. С помощью кино, телевидения, газет, иллюстрированных изданий и т.п. фотография стала неотъемлемым атрибутом культурного обихода. Поистине, мы зрим мир в фотографиях.
И что же?
Фотография сама по себе в равной мере может служить и правде и мифотворчеству.Лишь освоенная,одушевлённая и осмысленная реалистическим словом,она становится орудием постижения действительности.
Оказалось, что фотография обретает жизнь свою в слове, в слове-понятии, в слове-смысле. Собственно, уже в тот момент, когда на заурядном фотоснимке без подписи мы начинаем различать и называть предметы, ситуации, слово начинает свою работу, входит во взаимодействие с изображением, высекая из него человеческое содержание.
Как это ни парадоксально, именно фотография и фотографические искусства свидетельствуют о власти слова, возвращая нас к столько раз ниспровергавшемуся «литературоцентризму».
Живое слово не только выдержало испытание фотографической достоверностью, но во взаимодействии с фотографией обрело новые резервы смыслообразования, впечатляющую силу непосредственно явленной реальности.
Однако это уже предмет особого исследования.
Примечания:
1 .Manro T. Four hundred arts and types of art // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. – Baltimor, 1957, September. – P.351.
2. Такова логика ходовых уничижений фотографии и «фотографичности». Типичный пример: Е.Сидоров в интересной статье, посвященной документальности в литературе и искусстве, на страницах «Литературной газеты» категорически утверждает : «Достоверность (порой читай «фотографичность») и простота изложения ( иногда читай»примитивизм») еще не являются критериями художественного произведения… Если существует иерархия художественных структур, то фантазия по праву должна стоять выше документа, в ней фиксируется более высокое, очищенное от случайности по сравнению с действительно бывшим». Уже само соседство в этом высказывании «фотографичности» и «примитивизма» достаточно красноречиво. См.:Сидоров Е. Над вымыслом слезами обольюсь // Лит.газета. – 1972, 25 октября.
3. Как известно, датой, с которой фотография ведет свое летоисчисление, является 7 января 1839 года, когда изобретатель Луи.Дагер впервые публично продемонстрировал перед французскими учеными и художниками изображения, полученные на серебряных пластинках.
Дагер, Луи Жак Манде. Daguerre, Louis Jacques Mande( 1787-1851).
Французский художник, химик, изобретатель, один из создателей фотографии.
Был известен как танцор, канатоходец, театральный художник-декоратор.
В конце 1820-х годов вместе с Нисифором Ньепсом работал над созданием фотографии.
В связи с исполнившимся в 1939 г. столетием изобретения фотографии Президиум АН СССР постановил подготовить научную публикацию переписки между Дагером и Ньепсом (Ньепс, Жозеф Нисифор: 1765-1833), а также другие документы, относящиеся к изобретению фотографии.
Война задержала выпуск книги в свет. Тем не менее в период блокады Ленинграда эти важные для истории культуры материалы были тщательно сохранены и в 1949 г. при активном участии сотрудника Пушкинского Дома доктора филологических наук Л.Б.Модзалевского подготовка издания была завершена. См.: Документы по истории изобретения фотографии. Переписка Ж.Н.Ньепса. Л.Ж.М.Дагера и других лиц. Труды Архива АН СССР. Вып.7. – М. - Л., 1949.
4. Любопытны ожесточенные дискуссии, шедшие в начале ХХ века на страницах русского журнала «Вестник фотографии».
« В каждом художественном произведении автор показывает нам не только изображаемую действительность, но и открывает свою душу…
…Чем объективно точнее передает картина или скульптура действительность, тем ничтожнее она в художественном отношении, потому что действительность, как бы красива ни была, художественностью быть не может». – Петров Н. Может ли фотография служить методом искусства // Вестник фотографии. – 1912. - №7. – С.10.
В 1915 году автор, скрывший свое имя под псевдонимом HomoNovus, обсуждая вопрос о статусе художественной светописи, писал: «Мне кажется, можно остановиться на следующем решении: если работа производится механически или полумеханически, мы не относим ее к области изящного искусства…» - HomoNovus. Что такое картина? // Вопросы фотографии. – 1915. - №7. – С.15.
5. Базен А. Что такое кино? – М., 1972. – С. 44.
6. Робинсон Г.П. Художественная светопись // Вестник фотографии. – 1916. - №1. – С.6-9; №2. – С.51-59; №3. – С.113-125.
Робинсон, Генри Пич. Robinson, Henry Peach (1830-1901)
Впервые ввел словосочетание «пикториальная фотография», опубликовав в 1869 году книгу «Пикториальный эффект в фотографии». Он доказывал, что фотограф в своем творчестве должен следовать тем же законам, что и художник-живописец.
Робинсона называют первым художником-фотографом в мире. «Это были не фотографии, а художественные произведения», - писал о нем знаменитый русский фотограф Сергей Львович Левицкий в 1865 году.
7.Демаши, Робер. Demachy, Robert (1859-1936). Французский фотограф, крупнейший представитель пикториализма. Добивался близости фотографии к живописи и гравюре, первым использовал при печатании снимков гуммибихромати, а затем довел до совершенства технологию бромойля.
Активно снимая с 1880-х годов, Демаши получил мировую известность в 1890-х годах, и к началу ХХ века был, возможно, самым выдающимся фотохудожником Франции.
8. Горслей Гинтон, Альфред. HorsleyHinton, Alfred (1863-1908). Крупнейший английский фотохудожник-пикториалист, мастер фотопортрета и пейзажист-лирик. Руководитель одного из самых популярных фотографических журналов «AmateurPhotographer». Автор множества статей по проблемам фотографии, редактор известнейших учебных изданий.
А.Горслей полагал, что фотография может стать формой высокого искусства лишь используя образы конкретных вещей для воплощения обобщенных представлений.(A.HorsleyHinton. Practical Pictorial Photography .Part I. – London: Hazell, Watson and Viney, L.D., 1898).
Последовательное отстаивание художником принципов пикториализма вызвало ожесточенную полемику со стороны прежде всего представителей «американской школы», которые подобно Эдварду Стейхену считали, что достоинство фотографии заключается в способности непосредственной фиксации реальности как она есть, иными словами, как раз в том, что недоступно искусству живописца.
9. См. об этом: Newholl B. The history of photography from 1839 to the present day. – New York, 1949. Cм. Также: Андел Я. Заметки к истории фотографии // Фотография (Прага). - 1973.- №4.-С.16-17; Морозов С. Искусство видеть. – М., 1963.
10. Фаворский В. Применение изоброма к негативному процессу // Вестник фотографии. – 1909. – 33. – с.11.
11. Левина И. Гойя. – М., 1958. – С.68.
12. Казанский Б.Природа кино / Поэтика кино. - М.-Л., 1927. – С.103.
13.Строев И.Париж в 1838 1839 годах: Путевые записки и заметки. – Спб, 1842. Ч.2. – С.14.
14. См. в этой связи разбор структуры «противочувствования» в кн.: Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968. – С.187.- 209.
15. Эдвард Мейбридж MuybridgeEadweard(1830-1904). Английский и американский фотограф. Занимался изучением движения, в частности, движения животных, вопросами его фиксации и отображения. В 1878 году сделал в Калифорнии серию снимков бегущей лошади. Вдоль одной стороны беговой дорожки он установил ряд камер, напротив них поместил рефлектор. Нити, привязанные к электромагнитным створкам камер, были протянуты через дорожку. Лошадь во время бега разрывала нити и таким образом раскрывала створки. Изображения были скорее силуэтами, но они вызвали сенсацию, когда были опубликованы в научных изданиях. Никто никогда не видел ног быстро бегущей лошади «застывшими». Художники, например, Жерико в картине «Скачки в Эпсоме», изображали передние и задние ноги лошади одновременно выброшенными и вытянутыми, как у игрушечной лошадки-качалки. Мейбридж пригласил друзей и представителей прессы на уникальную демонстрацию в 1880 году. С помощью хитроумного устройства он проектировал заснятое изображение на экран в быстром темпе одно за другим. Лошадь задвигалась: родилось движущееся изображение. Детальное описание опытов Э.Мейбриджа, Э.Марея, а также «кинетических экспериментов» других пионеров фотографии можно найти в книге: DeslandesY. Histoirecompareducinema. – Casterman, 1966, t.1, ch.II-III, P.90-133.
Марей Этьен-Жюль. Marey Etienne-Jules( 1830-1904). Выдающийся французский физиолог и изобретатель. Президент французской Академии наук (с 1895). Его интересы распространялись на области кардиологии, авиации, синематографии и технической фотографии.
Один из основоположников современной физиологии кровообращения и кардиологии, фотографии; внес значительный вклад в появление кинематографа и современного воздухоплавания. Ему принадлежит изобретение хронофотографии и фоторужья. Его привлекало также точное фотографическое изображение движения. Официально считается автором первых фотографий, которые фиксируют отдельные фазы движения через очень короткие интервалы реального времени.
16. Подробнее об этом см. в статье: Сапаров М.А. Об организации пространственно-
временного континуума художественного произведения // Ритм, пространство и время в
литературе и искусстве. – Л.: Наука, 1974. – С.85-103.
См. также: http://www.liveinternet.ru/users/4997700/post266982973/
17.. См.: Фаворский В. О художнике, о творчестве, о книге. – М., 1966; Фаворский В. Размышления об искусстве. О магическом реализме // Декоративное искусство. - 1963. - №10. – С.22-24.
Аналогичную мысль высказывал О.Роден: «Фигуры, схваченные моментальной фотографией в движении, кажутся застывшими в воздухе от того, что все части их тела зафиксированы в ту же самую двадцатую, сороковую секунды, тут нет больше прогрессивного движения жеста как в искусстве.» «Художник прав, а фотография лжет, - развивает свою мысль Роден, - потому что в действительности время не останавливается, и если художнику удается передать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем научный образ, в котором время внезапно прерывает свое течение». Роден О. Искусство: ряд бесед, записанных П.Гзеель. – Спб, 1914. – С.58, 61-62 .
18. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и в машине. – М., 1968. – С.84.
19. Там же. О проблеме «течения времени» см.: Аскин Я.Ф. Проблема времени. – М., 1966; Рейхенбах Г. Направление времени. – М.. 1962; Уитроу Дж. Естественная философия времени. – М.: Прогресс, 1964.
20. Принципиальна неудача таких фильмов Сергея Урусевского, как «Прощай, Гюльсары» и «Пой песню, поэт», в которых наиболее агрессивно заявлены претензии «операторского кинематографа». Активность «субъективной камеры», ее возможности жестко детерминированы материальной средой и «сюжетом», объективно наличествующими в материале.
21. См.: Кликс Ф. Проблемы психофизики восприятия пространства. – М., 1965. – С.32
.
22. Арнхейм, Рудольф. Arnheim, Rudolf(1904-2007). Американский психолог немецкого происхождения, теоретик искусства и кинематографа. С 1940 года работал в США. Автор множества работ. Продуктивно спорил с Зигфридом Кракауэром. Наиболее известно фундаментальное исследование: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974.
23. Вспомним уже упомянутые рассуждения Н.Петрова.
24. См.: Смольянинов И.Ф. Сущность человека и гуманизм искусства. – М.: Художник РСФСР, 1982.
25. Филин Ф.П. Слово и его значение // Классическое наследие и современность. – Л.: Наука, 1981. – С.18.
26.. Цит. По: Пришвина В.Д. Круг жизни. – М.. 1981. – С.238.
См. также: Пришвин М. Источник творчества // Советское фото. – 1940. - №1. – С.7.
27. Более подробно об этом в статье: Сапаров М. Три «структурализма» и структура произведения искусства // Вопросы литературы. – 1967. -№ 1. – С.112. Сошлемся на эту статью, поскольку впоследствии высказанные в ней идеи, став расхожими, получили при этом различное истолкование. (См., например: Савранский И. О художественной функции ассоциативности // Эстетика и жизнь. – М.: 1973. Вып.2. – С.178-179. Характерно, что Е.И.Савостьянов несколько лет спустя, обстоятельно процитировав соответствующие положения упомянутой статьи, опубликованной также в сборнике «Содружество наук и тайны творчества» (М., 1968, с.152-174), расценил их как общепризнанные и общепринятые. См.: Савостьянов Е.И. Единство познания и творчества в искусстве. – М., 1977. – С.308-309.
28. Эта схема, как и всякая схема, разумеется, не полна и не исчерпывает реального строения произведения искусства. Так, в литературном произведении переход от первого слоя ко второму осуществляется посредством ряда промежуточных звеньев, да и сами слои достаточно сложны по своей структуре. Не имея возможности совершить обстоятельный экскурс в историю вопроса, заметим все же, что мысль о «слоистости» художественного произведения имеет давнее происхождение. Так, еще Данте, поясняя смысл «Божественной комедии», писал: «Чтобы ясной стала цель повествования, нужно понять, что смысл этой работы не простой, а скорее может быть назван многозначным. Первое значение выражается словами; остальные теми предметами, которые эти слова символизируют. Первое называется буквальным, а другие аллегорическим или моральным, или духовным» (цит. по: Гильберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 1960. – С.168). Таким образом, Данте по существу выделяет в литературном произведении несколько «слоев»: непосредственно словесный, предметный, или «буквальный», и «аллегорический», или «духовный».
29. Мастера искусства об искусстве. - М., 1937. Т.4. – С.358.
30. См. статью В.Альфонсова, публикуемую в настоящем сборнике.
31. Дмитриева Н.А. Слово и изображение // Взаимодействие и синтез искусств. – Л., 1978. – С.44-54.
32.Cм.: Ziff P. The task definiting a work of art // The Philosophical Review.LXII.- 1953. – P.58-78.
33. Ленин В.И. Философские тетради. Полн. собр. соч. Т.29. – С.53.
34. Рескин Дж. Лекции об искусстве, читанные в Оксфордском университете в 1870 году. Лекция 5. – М., 1900.
35. Стоит особо подчеркнуть специфическую установку некоторых передвижников не на художественную достоверность вообще, что свойственно реалистическому искусству в целом, а именно на документальную достоверность, на точность и конкретность свидетельства. Не случаен, разумеется, и пристальный интерес многих из них к фотографии ( см., например: Кристи Л.И. И.Н.Крамской и фотография // Советское фото. – 1940. - № 7. – С.14; Лелюхин П.И. И.Е.Репин о фотографии как искусстве // Советское фото. – 1938. - №14.- С.21.
Вместе с тем, И.Крамской, наиболее проницательный идеолог передвижничества, не переставал напоминать, что «если в холсте не окажется чисто живописных качеств, картина отправляется на чердак» (Мастера искусств об искусстве. Т.4. – С.277).
36. Гаршин В.М. Художники / Полн. собр. соч. – Спб, 1910. – С.160-170.
37. См.: Scharf . Art and photography. – Middlesex, 1975. – P.172.
О неоднозначной взаимосвязи импрессионизма и фотографии см.: Сапаров М.А. Импрессионизм и фотография // Краткие тезисы докладов к научной конференции, посвященной первой выставке импрессионистов. 22-23 октября 1974 г. – Л., 1974. – С.17-20; Сапаров М.А. Живопис – фотография – кинематограф // Киноизкуство.- София. – 1970. – бр.10, октомври. – С.22-31. К сожалению, эта статья, детально анализирующая, как на изломе развития изобразительного искусства возникает и стремительно завоевывает аудиторию эстетика «фотографизма», была опубликована лишь на болгарском языке.
38. Кракауэр, Зигфрид. Kracauer, Siegfried(1889-1966). Немецкий писатель и эссеист, доктор технических наук.. Крупнейший теоретик кино и философ культуры. Один из приверженцев франкфуртской школы. Во многом последователь и единомышленник Теодора Адорно, Вальтера Беньямина, Дъёрдья Лукача. Наиболее известными и плодотворными оказались знаменитые книги: . FromCaligaritoHitler. A Psychological History of the German Film. Princeton, 1947; Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. New York, 1960.
39. Верещагин В.В. На войне в Азии и Европе. – М., 1894. – С.270-273.
40. Успенский Г.И. Сочинения и письма. – М.-Л., 1929. Т.1. – С.37.
41. Если говорить точно, речь идет о нескольких фотографиях шефа Информационного бюро Ассошиэйтед пресс в Сайгоне Малькольма Брауна ( MalkolmBrowne 1931-2012), запечатлевших акт самосожжения, публично совершенный южновьетнамским буддийским монахом Тхить Куанг Дыком 11 июня 1963 года неподалеку от президентского дворца.
Монах, облитый девятнадцатью литрами бензина, сел в медитативную позу лотоса и поджег себя, оставаясь неподвижным, пока не сгорел дотла.
Свидетель этого события, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Халберстам писал: «Я хотел еще раз посмотреть на это, но и одного раза хватило. Пламя исходило из человека, его тело медленно сгорало, его голова становилась черной и обугленной. В воздухе стоял запах горящей человеческой плоти, люди сгорают удивительно быстро. Позади меня я слышал плач вьетнамцев, которые собирались вместе. Я был слишком потрясен, чтобы плакать, слишком ошарашен, чтобы писать свои заметки или задавать вопросы, слишком изумлен, чтобы вообще думать… Когда он горел, он ни разу не пошевелил ни одним мускулом, не произнес ни звука, его самообладание создавало контраст на фоне плачущих вокруг него людей».
Мощное эмоциональное воздействие фотографии Малькольма Брауна, распространенной информационными агентствами мира и только в США напечатанной в виде открытки тиражом более миллиона экземпляров, было феноменально. Как сказал по этому поводу президент Джон Кеннеди : «Никогда еще новостная фотография не возбуждала столько эмоций по всему миру».
К словам Кеннеди следовало бы добавить, что никогда еще не была столь очевидна никак иначе невосполнимая выразительная сила «прямой фотографии».
Малькольм Браун был удостоен Пулитцеровской премии, а также получил награду WorldPressFoto.
Кадры, запечатлевшие самосожжение монаха в Сайгоне, воспроизведены в великом фильме Ингмара Бергмана «Персона» (Persona, 1966), а также в фильме Клода Лелуша «Жить, чтобы жить» (Vivre poure vivre, 1967).
42. Каган М. Эстетика и художественная фотография // Советское фото. – 1968. - № 4. – С.26-28.
43. Казанский Б. Природа кино / Поэтика кино. – М.- Л., 1927. – С.87.
44. Кузнецов Ю. Стихи. – М. . 1978. – С.209.
45. Юон К. О живописи. – М.. 1937. – С.96.
46. Цит. по: Beardsley M. Aesthetics. Problems in the philosophy of Criticizm. – New York, 1958. – P.321.
47. Дмитриева Н. Изображение и слово. – М., 1962. – С.175.
48. Грегори В.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. – М., 1970; Грегори В.Л. Разумный глаз. – М., 1972.
См. также: Осгуд Ч. Значение термина восприятие / Хрестоматия по ощущению и восприятию. – М., 1975. – С.157-161; Уолд Дж. Глаз и фотоаппарат / Восприятие. Механизмы и модели. – М., 1974. – С.124-142.
49. Лифшиц М. В мире эстетики // Новый мир. – 1964. - № 2. – С. 146-247.
|
|
Мирсаид САПАРОВ - Размышления о структуре художественного произведения (окончание) |
Питер БРЕЙГЕЛЬ Старший. Перепись в Вифлееме. 1566. Королевский музей искусств, Брюссель
5
В последние годы нередко приходится слышать о том, что-де структурализм умер, и поэтому якобы критика структуралистского истолкования искусства утратила свою актуальность. Думается, что подобные утверждения далеки от действительного положения вещей.
Безусловно, ореол сенсационности и экстравагантности, которым были окружены структуралистские новинки 15 – 20 лет назад, померк. Поза ниспровергателей-бунтарей наскучила и опостылела иным структуралистским радикалам. Ныне они не прочь породнится с традиционным академическим литературоведением, ищут и находят гибридную полуструктуралистскую, полутрадиционную терминологию, гораздо охотнее пишут о так называемом « плане содержания».
Но спрашивается, делает ли все это структуралистские догмы более приемлемыми , преображает ли их по существу ?
Отчасти отказавшись от эпатирующих форм, структурализм отнюдь не отказался от своей методологической программы, философская уязвимость которой, кстати сказать, была достаточно очевидна и двадцать лет назад. В современном литературоведении мы находим немало примеров примитивно редукционистского подхода к произведениям художественной литературы. Они свидетельствуют о том, что методология структурализма отнюдь не утратила своей агрессивности.
Характерны, например, методологические принципы, отстаиваемые в недавней работе А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова «Поэтика выразительности»[40]. Любопытна преамбула исследования, дающая отчетливое представление об эволюции структурализма: « Содержательный инвариант различных уровней и компонентов литературного текста (Т) называется его темой(Q). При этом текст есть выразительное воплощение темы, и его структура имеет вид вывода Т из Q на основе типовых преобразований – приемов выразительности. Темы «невыразительны», они призваны фиксировать чистое содержание, приемы – «бессодержательны», они повышают выразительность, не меняя содержания.
Тематические инварианты, подвергаемые выразительными вариациями, могут констатироваться не только в пределах одного текста, но в целом множестве текстов (Т). Например, - в таком, как произведение одного автора, обнаруживающие, как правило, значительное тематико-выразительное единство. Самый общий тематический инвариант такого множества Т называется центральной инвариантной темой данного автора (Q), а результаты ее выразительной разработки ( на основе ПВ), также инвариантные для Т, - инвариантными мотивами автора (М = М). Вся система инвариантных тем, мотивов и дальнейших, более конкретных реализаций Q вплоть до характерных для автора предметов, деталей, и т.п.), иерархически связанных друг с другом отношениями выразительности, называется поэтическим миром (ПМ) автора. ПМ – это как бы общая инвариантная часть выводов разных текстов, принадлежащих данному автору, некая общая тематико-выразительная грамматика всего корпуса его Т»[41].
Как видим, излагаемая А.К.Жолковским и Ю.К.Щегловым концепция, выдвинутая ими под названием модели «Тема –Приемы выразительности –Текст», всего лишь модернизация давней опоязовской схемы «Материал – приемы словесной выразительности – словесная конструкция».
Во-первых, А.К.Жолковский и Ю.К.Щеглов исходят из того, что цель, преследуемая художником, безусловно известна. Это и дает им формальное право судить о мере эффективности примененных художественных средств. Между тем, как только исследователи заявляют о своем понимании намерений художника и того, как эти намерения осуществлены в художественном результате, они тем самым обнаруживают свое человеческое отношение к воссоздаваемой художественной реальности, но в то же время, в силу принятых на себя методологических ограничений, ничем это отношение не мотивируют и не обосновывают, Впрочем, обойтись вовсе без каких-либо обоснований или хотя бы лаконичных экивоков не удается даже самым последовательным приверженцам структуралистской методы : так или иначе суждения об отношении искусства и отображаемого им мира присутствуют и в структуралистских опусах, - беда, однако, в том, что на куцем техницистском жаргоне изъясниться о содержательной стороне дела просто невозможно.
Во-вторых, что не менее важно, эти аналитики полагают, что отображаемая действительность (тема) сама по себе никаким художественным содержанием не обладает («невыразительна») и, следовательно, всякое художественное впечатление должно быть отнесено за счет употребленных приемов выразительности».
Положение это недоказуемо именно потому, что оно неверно. Механическому применению его сопутствует иллюзия некоей универсальности приемов, способных, якобы, порождать художественность практически из ничего, поскольку «материал» сам по себе инертен и невыразителен. Между тем хорошо известно, что сведение искусства к некоей сумме «приемов» прежде всего выхолащивает и обесценивает сами эти приемы.
С другой стороны, при таком взгляде на вещи тема лишена жизненности и самодвижения и ее потенциал ограничен возможностями тех формально-логических преобразований, которые она может претерпеть. Тема, будучи выведена из круга постижения писателем реальной действительности, становится неким блуждающим и необъяснимым фантомом, необязательным поводом для демонстрации писательской техники. Неудивительно, что «Поэтика выразительности» чуждается историзма. Утратив жизненную конкретность анализируемого предмета, нетрудно потерять и ощущение его эстетической неповторимости, его художественной законченности и полноты.
«Важнейший аспект описания как целостных художественных структур, так и отдельных мотивов и конструкций – указание того круга текстов, которым они соответствуют. С этим связан и другой существенный вопрос, несут ли рассматриваемые единицы содержательные функции, конкретизируя те или иные тематические элементы (например, важные для автора ценностные установки), или играют сугубо выразительную роль… Однако большинство объектов, в частности инвариантные мотивы разной степени абстрактности, носят смешанный характер, представляя собой результаты обработки тематических элементов приемами выразительности; при этом он и могут быть более или менее специфичны для отдельных авторов, целых литературных школ и т.д. Да и чисто выразительные конструкции могут в рамках индивидуальных поэтических систем получать строго фиксированное место и нагружаться вполне определенными тематическими функциями, специфическим для данного ПМ.»[42].
Таким образом, в рассуждениях А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова «приемы выразительности» выступают как чисто формальные преобразования, ничему в действительности не соответствующие; это своего рода правила игры в художественность. Авторов более всего прельщает именно мнимая перспектива формализации пересчета и последующей каталогизации процедур, определенная комбинация которых якобы усиливает эстетическое воздействие, при том, потенциальная возможность оных заключена, якобы, в избранной автором теме. Тема – как мы уже отмечали, по убеждению авторов – сама по себе не только не выразительна, но и эстетически инертна, поскольку не содержит в себе ничего специфически художественного.
Представив уделом художественного творчества вариации на заданную тему, авторы, однако, обходят вопрос о том, чем и кем предопределены или не предопределены темы, которыми ограничено творчество того или иного художника. Иными словами, схему художественного процесса, предложенную А.К.Жолковским и Ю.К.Щегловым, можно представить следующим образом: писатель, заполучив некий исходный материал (Тему) и располагая неким множеством преобразований, которым он волен подвергнуть этот материал, использует такую последовательность (комбинацию) выразительных приемов, которая обусловливает художественный эффект. Совокупность излюбленных тем в соединении с приемами их аранжировки и определяет так называемый поэтический мир(ПМ) писателя.
Литературоведческий анализ при этом уподобляется анализу шахматной игры ( в том числе и в жанровом отношении): можно разбирать отдельную партию мастера, анатомируя и оценивая каждый сделанный им ход, можно анализировать весь «корпус» партий, сыгранных шахматистом, характеризуя при этом излюбленные ходы, стиль игры в целом, можно, наконец, детально рассмотреть какой-то отдельный элемент игры или же ее фразу.
Заметим, что такого рода подход, весьма многообещающий для тех, кто хотел бы усилить собственную «игру»[43], основан на ряде допущений, которые, как правило, никак не оговариваются. А между тем допущения эти совсем не бесспорны. Шахматная партия, действительно, может быть препарирована как последовательный выбор из некоего множества формальных комбинаций[44]. Постичь же имманентную художественную структуру литературного произведения, не обременяя себя пониманием выраженной в произведении реальности, принципиально невозможно.
Дело в том, что у каждого первородного художника, если не принимать в расчет его эпигонов, «приемы выразительности» сами по себе весьма философичны, они не просто способ трансформации некоего содержания, объективно существующего и помимо искусства, они само это содержание.
Книга А.К.Жолковского и Ю.К.Щеглова неопровержимо свидетельствует о том, что противопоставление «невыразительности тем», якобы призванных фиксировать «чистое содержание»(?), «бессодержательности» приемов выразительности есть вовсе не научная абстракция, допускаемая в методических целях. Она соответствует прежде всего идейно-эстетической установке авторов, развиваемой и отстаиваемой ими формалистической традиции истолкования искусства.
* * *
В этих заметках мы остановились лишь на некоторых аспектах такого понимания структуры художественного произведения, которое дает возможность изучать его как устойчивый процесс, как динамическую целостность. Дальнейшая теоретическая разработка функционального понимания структуры художественного произведения как процесса потребует, разумеется, соответственно ориентированных историко-литературных и культурологических исследований.
Но это уже другая тема…
Примечания
1.Энгельгардт В.А. Специфичность биологического обмена веществ // Специфичность биологического обмена веществ. – М., 1964. – С.47.
2. Храпченко М.Б. Внутренние свойства и функции литературных произведений // Контекст-1974. – М.:1975. – С.15.
3. Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании. – М.. 1962. – С.6 См. также: Свидерский В.И., Зобов Р.А. Новые философские аспекты элементно-структурных отношений. – Л., 1970.
4. Поэтому не правы те, кто видит в структурном анализе «формалистическое игнорирование содержания», но не точен, как мне кажется, и Ю.Лотман, отождествляющий структуру литературного произведения со структурой содержания ( см.: Лотман Ю.М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания, 1965, №3).
5. «Неовитализм, холизм, гештальтпсихология и структурализм, универсализм, некоторые разновидности универсализма, - все эти и многие подобные им течения буржуазной философии и социологии взяли своим знаменем мистически истолкованный принцип целостности»(Блауберг И.В. Проблемы целостности в марксистской философии. – М., 1963, с.4).
6. Гаман Р. Эстетика. М., 1913.
7. Bell Clive. Art. – N.Y., 1914, P.266.
8. Изоляционизм в эстетике как понятие, объединяющее в себе все разнообразие проявлений неокантианской традиции, определено Мелвином Рейдером во вступительной статье к антологии «Современная книга по эстетике», М., 1957, С.71-79.
9. Нам представляются весьма вескими аргументы В.В.Ильина и А.С.Кармина, обстоятельно обосновавших правомерность применения термина «онтология» в диалектико-материалистической философии (см.: Ильин В.В. и Кармин А.С. О предмете онтологии // Проблемы диалектики. – Л., 1974, вып.4, С.10-23).
Более того, по-видимому, именно в процессе развития нашей эстетической теории наиболее отчетливо выявились отрицательные последствия пренебрежения относительно самостоятельными онтологическим аспектами такой важнейшей категории как «художественное произведение». К примеру, рассмотрение художественного произведения исключительно в гносеологическом плане крайне затрудняло определение специфики искусства, отрывало эстетику от практики искусствоведения. С другой стороны, вульгарное отождествление бытийного статуса художественного произведения с физической реальностью артефакта, что, как не трудно догадаться, соответствует распространенным, но философски порочным намерениям подменить онтологию теоретической физикой, открывает двери позитивистской методологии, потворствует эстетически несостоятельным притязаниям искусствометрии и т.д.
10. «Для искусствоведа-метафизика, скажем, - писал И.Маца, - определенный ритм членения архитектурных м асс остается той же формой и на памятнике VII века, и на фасаде текстильной фабрики 1928 года… Для искусствоведа-марксиста и форма и содержание суть не вечные, а конкретные исторические категории» ( см.: Маца И. Очерки по теоретическому искусствознанию. М., 1930, С.44-45.)
11. См.: Самойлов Л., Зубков И. «Целостность как категория материалистической диалектики и ее место в системе категорий // Вести. МГУ, сер.8. Экономика. Философия. №2, 1965.
12. См.: Биркгоф Г. Теория структуры. М., 1952.
13. См.: Garner Y. Uncertainty and structure as psychological concepts.- N.Y., 1962; Allport F. Theories of perception and the structure. – N.Y., 1965.
14. Диапазон значений, приобретаемых термином «структура» в различных областях научного знания и практической деятельности человека, представлен в сборнике, составленном Джорджем Кепешем: Structure in art and science. – L., 1965.
15. См .: Зобов Р.А. Некоторые вопросы теории структур и понятие целого: Автореф. канд.дисс. – Л., 1965.
16. В настоящей статье развивается и уточняется концепция, основные положения которой были сформулированы автором в статьях: Saparov M. // Das Literarische Werk als Structur // Kunst und Literatur. – 1970 - №3. – S.293-308; Сапаров М.А. Между «художественностью» и сциентизмом // Художественное и научное творчество. – Ленинград, 1972. – С. 116-142; Сапаров М.А. Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л., 1974. – с.85-103.
17. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971. – С.10.
18. См., например: Barthes R. Critique et verite. – Paris, 1966. В содержательной статье «Структура и смысл», посвященной критике структурализма в литературоведении, французский философ Микель Дюфренн задавал резонный вопрос:»Можно ли воссоздать смысл, исходя из бессмыслицы, или же смысл заключается и в самих элементах, включенных в структуру?» (Dufrenne M. Structure et sens. La critique Literaire // Revue d,Esthetique. – 1967, №1). См. наше изложение статьи М.Дюфренна(опубликованное по литерами «Н.П.»): Н.П. Французский философ о структурализме в литературоведении // Вопросы философии. – 1968, №11.
19. См., например: Лотман Ю. Этот трудный текст // Литературное обозрение. – 1979. - №3. – С.47.
20. Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии. – М., 1965. – С.112.
21. Там же.
22. Там же, с. 113.
23. Там же.
24. Лотман Ю.М.Структура художественного текста. – М., 1970, с.360.
25. Гиршман М. Ритм художественной прозы. – М,, 1982. – С.67.
26. Бахтин М. Проблема текста : Опыт философского анализа // Вопросы литературы, 1976. - №10. – С.123.
27. Там же, С.127.
28. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах // Структурная типология языков. – М., 1966. – С.199.
29. Куфаев М.Н. Избранное. – М.. 1981.- С.185.
30. Эта схема (как и всякая схема), разумеется, не полна и «не исчерпывает» реального строения произведения искусства. Так. В литературном произведении переход от первого слоя ко второму осуществляется посредством ряда промежуточных звеньев, да и сами слои достаточно сложны по структуре.
Мысль о «слоистости» художественного произведения имеет давнее происхождение. Как известно, в современной западной эстетике учение о «слоистой» структуре художественного объекта разрабатывается феноменологией и некоторыми близкими к ней теоретиками. При всем неприятии нами философских позиций этих учений следует заметить следующее: беспощадная борьба феноменологии с с господством психологизма в западной эстетике конца XIX – начала XX века, представлявшая собой столкновение двух разновидностей субъективного идеализма, была весьма поучительна. Ограничиваясь анализом психологии художника и психологии «потребителя» искусства, психологическая эстетика утрачивала само художественное произведение как объективное явление. Феноменология «вернула» искусству объективность , но истолковала последнюю самым превратным образом, противопоставив ее общественной практике. Однако строение художественного произведения, во многом верно фиксируемое учеными-феноменологами , «опирается» не на «вневременные сущности», а на исторически сложившиеся и общественно закрепленные формы сознания.
См., например: Долгов А. Эстетика М.Дюфренна // Теории, школы, концепции: Художественное произведение и личность. – М., 1975. – С.53-67;
Цурганова Е. История возникновения и основные идеи «неокритической» школы в США // Теории, школы, концепции. Художественный текст и контекст реальности // М., 1977. – С.13-36.
31. История русской литературы в 4-х т. Л., 1981, Т.2. – С.450.
32. «Книга, - писал М.Н.Куфаев, - довольно растяжимое и условное понятие. Мы будем понимать ее , как вместилище всякой мысли и слова, облеченных в видимый знак, все то, что могло бы, при некотором техническом видоизменении, получить вид и характер книги в самом узком смысле этого слова. Отсюда: ассирийская клинопись, латинский свиток (volumen) и современный фолиант и брошюра - все книги». – См.: Куфаев М.Н. Избранное. – М., 1981. - С.21.
33. Воспользуемся этими терминами итальянского происхождения (сукцессивность от succtssio – cледование, преемственность; симультанность от simul- вместе,, совместно), поскольку они широко приняты в музыкознании и сразу же вводят наши рассуждения в русло устоявшихся, апробированных представлений. Как недавно заметил писатель В.Белов, «музыкальная терминология, по-видимому, самая богатая, с успехом может быть использована для разговора о любом другом виде искусства» (Белов В. Лад. – М.. 1982. – С.289.)
34. Тынянов Ю. Проблемы стихотворного языка. – Л.: «Academia», 1924. – С.10.
35. Шеллинг Ф.-В. Система трансдендентального идеализма. – Л., ГИЗ-Соцекгиз, 1936. – С.388. См.: Schelling F.W.T. System des transzendentalen Idealismus. – Gamburg, 1957. – S.293.
36. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20. – С. 566.
37. На недопустимость отождествления социального и биологического в объяснении специфики художественной деятельности справедливо указывал академик М.Б.Храпченко ( см.: Храпченко М.Б. Размышления о системном анализе литературы // Вопросы литературы, 1975. - №3).
38. См.:Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии. – М., 1962; Югай Г.А. Проблема целостности организма. – М., 1962.
39. См.: Bеrtalanffly L. Theoretische Biologie, Bd 2. – Berlin, 1942; См. также: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем. – М., 1969.
40. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Поэтика выразительности // Wiener
Slawistischer Almanach. Sonderbamd 2. – Wien, 1980.
41. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Поэтика выразительности, с.7
42. Там же, с.122.
43. Знаменательно, что одна из ранних статей А.К.Жолковского так и называлась: «Об усилении». См. сб.: Структурно-типологические исследования. – М., 1962. – С.167-171.
44. См.: Линдер И. Эстетика шахмат. – М., 1981; Крогиус Н.В. Психология шахматного творчества. – М., 1981
Диего ВЕЛАСКЕС. Венера с зеркалом. 1647-1651. Лондонская национальная галерея.
|
|
Мирсаид САПАРОВ - Размышления о структуре художественного произведения |
Эдуард МАНЕ. Бар в "Фоли-Бержер". 1882. Художественная галерея Института Варбурга и Курто , Лондон
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ниже публикуется полный и откомментированный текст статьи М.А.Сапарова"Размышления о структуре художественного произведения", впервые напечатанный в книге: . Структура литературного произведения. – Л.:Наука1984. (Под ред. А.Ф.Бритикова и В.А.Ковалева). Послесловие, комментарий и бибилиографические дополнения Т.В.Алексеевой
Академик В.А.Энгельгардт однажды не без иронии признался : «Опыт учит, что термин «структура» обычно бывает ширмой, за которой скрывается наше незнание. Это очень удобная ширма, за ней можно спрятать любую степень нашего незнания» [1].
Хотя скепсис ученого относился к употреблению термина «структура» в специфической области биохимии, результаты иных литературоведческих штудий последних двадцати лет давали известные основания отнести суждение В.А.Энгельгардта и к филологии.
В самом деле, на нашей памяти достаточно литературоведческих изысканий, в которых термин «структура» не только не был нагружен каким-либо концептуальным содержанием, но и поминался всуе, становился данью моде.
Зачастую случалось и так, что вместе со словесной обновой, вместе с сомнительным удобством ее приблизительного и необязательного употребления исследователь незаметно для себя усваивал такие методологические стереотипы , истинное происхождение и значение которых было не столь уж очевидным, но приобщение к которым по существу предполагало отказ от кардинальных научных принципов понимания литературного процесса.
Реальный эффект использования категорий «структура» и «элементы» в литературоведении зависит от того, как именно, с каких мировоззренческих, философских позиций истолковываются эти категории, компонентами какой теоретической системы они выступают.
Характеризуя ущербные, методологически несостоятельные литературоведческие построения, спекулировавшие на понятии структуры, академик М.Б.Храпченко, в частности, отметил: «Соотношение структуры и функции литературных явлений привлекло внимание сторонников формально-структурного метода. Однако, ни их общий подход к решению проблемы, ни результаты исследований не могут нас удовлетворить. Прежде всего, само понимание ими структуры не раскрывает реального строения литературных произведений, независимо от того, рассматривается ли художественная структура как определенная система грамматических категорий или же как единство других компонентов формы, характеризуется ли она как словесное выражение сообщения, цель которого заключена в нем самом, или же в качестве реализованного поэтического кода. Любое из этих истолкований структуры литературных произведений не дает «выхода» к многообразному историческому бытию. И их функция соответственно освещается весьма односторонне и тем самым неверно»[2].
Ясно, что в наши дни, определяя позитивный научный смысл понятия «структура художественного произведения», необходимо в полной мере учесть предшествующий опыт употребления терминов «структура» и «элементы» как в самом литературоведении, так и в сопредельных с ним научных дисциплинах. По опыту некоторых наук известно, что «категория элементов и структуры и их диалектика в ряде случаев значительно шире, глубже и точнее отражают объективные связи и отношения, чем категория содержания и формы»[3]. Понятие структуры уже понятия формы, ибо выражает только один аспект последней – внутреннюю организацию предмета, закономерность взаимосвязи его компонентов, причем далеко не любого предмета, а только целостной системы. С другой стороны, понятие cтруктуры не представляет собой лишь конкретизации, уточнения понятия формы, поскольку в структуре предмета запечатлена диалектика формы и содержания [4].
Однако емкость и универсальность философской категории структуры сами по себе еще не доказывают необходимости и правомерности структурного подхода к эстетическим проблемам, к анализу произведения искусства. Метод не может быть навязан априори, извне, о его действенности нельзя судить в отрыве от тех специфических задач, которые эта наука решает.
1
Проблема, которая побуждает современную эстетику обратиться к категории «структура», существует не одну тысячу лет. Ведь уподобление художественного произведения живому организму возникло еще в античности. Интуиция подсказала древним мыслителям, что органическая целостность произведений искусства, их завершенность и поразительная жизнеспособность есть, по сути дела, обнаружение некоей всеобщей и основополагающей эстетической закономерности. Достаточно вспомнить учение пифагорейцев о гармонии космоса как воплощении и источнике красоты или же аристотелевское «единство в многообразии». И знаменательно: в каких бы ипостасях на протяжении веков не являлось понятие целостности художественного произведения, без него не обходилось ни одно сколько-нибудь значительное эстетическое учение.
В конце Х1Х – первой половине ХХ века, когда наука (и физика, и математика, и биология) cбесспорной очевидностью обнаружила органическую целостность объектов, возникло и распространилось небывалое множество идеалистических толкований проблемы целого[5]. Не остались в стороне и буржуазная эстетика, обогатившаяся концепциями, трактовавшими целостность художественного произведения как замкнутость,отчужденность от непосредственной жизненной реальности. Искусство, как «мир в себе», как «микрокосм» было противопоставлено той социальной среде, в которой оно функционирует. Например, Рихард Гаман усматривал единственную особенность эстетического переживания в его «изоляции»[6], а Клайв Белл решительно утверждал независимость художественной формы от каких бы то ни было «сырых» конкретных человеческих эмоций[7].
Марксистская критика изоляционизма [8] - ученого оправдания формалистического искусства - остается весьма актуальной, и она не может ограничиваться одним указанием на познавательную природу художественного творчества : изоляционизм ставит вопрос не столько о характере возникновения произведения искусства ( то есть вопрос гносеологический), сколько о способе его бытия ( то есть вопрос онтологический) [9]. В этой связи сохраняет свою ценность опыт советской эстетики 30-х годов, убедительно показавший, что если подходить к произведению искусства диалектически, оно не может мыслиться иначе, как процесс, обусловленный социально, культурно-исторически, причем соотносительность произведения с общественным сознанием, общественной практикой складывается в массе индивидуальных актов восприятия и эстетического переживания[10]. Иначе говоря, художественное произведение отнюдь не вещественная данность, «вещь», внеположная сознанию воспринимающего субъекта, а подвижный культурно-исторический конструкт, хотя и «закрепленный» с помощью материальных средств, но вне восприятия существующий только как возможность, а не как действительность. При этом, естественно, возникает вопрос, как же тогда объяснить объективность произведения искусства? Противоречие налицо : всякое восприятие субъективно, и было бы наивно думать, что субъект, «потребляющий» искусство - своего рода tabularasa, или же зеркало, которое бесстрастно отражает все, что только перед ним явится. Хранимые нашей памятью ощущения, впечатления, переживания, многообразная личностная информация, неминуемо вторгаются в воспринимаемую нами целостность и оказываются ей сопричастны. При этом нельзя усомниться в объективном, вполне суверенном существовании произведения искусства как художественной ценности.
Возникает любопытная антиномия : художественное произведение представляет собой многосложный процесс, актуализируемый благодаря активности воспринимающего субъекта, благодаря личностному опыту, но ни эта активность, ни этот опыт ( в своей конкретности) не являются атрибутами художественного произведения. Ведь многообразие человеческого опыта неисчерпаемо: различны судьбы, склонности, существенны расхождения в степени одаренности, возрасте и т.п. Тем не менее произведение искусства, созданное большим мастером, приобретает в обществе черты константности и общезначимости. Эта ни с чем не сравнимая жизнеспособность достойна удивления, нередко кажется, что шедевры искусства вообще не подвластны ни времени, ни изменчивости вкусов и социального опыта. Больше того, - что, может быть, всего поразительнее, их целостность сохраняется даже при частичном повреждении самих памятников. Известны же античные статуи, которые, утратив отдельные детали, сохранили свою пластическую завершенность, гармоничность. Целое разбито, а целостность не нарушилась. И обломок статуи сохраняет внутренний ритм, внутреннее движение, на которых, как в каркасе зиждется цельный образ.
Если взглянуть на произведение искусства с коммуникативной точки зрения, как на знаковую систему, то выясняется, что из общезначимых, «стереотипизированных» знаков, возможных в принципе и за пределами искусства, художественное произведение творит неповторимое, глубоко индивидуальное целое.
Если же рассматривать произведение искусства как процесс отражения – синтез, осуществляемый сознанием, - то произведение искусства оказывается сложным творческим актом, в результате которого из элементов неповторимого и конкретного опыта воспринимающего воссоздается общезначимое обобщенное целое.
Чтобы преодолеть антиномию художественного произведения и приходится вводить понятие, характеризующее его особую организацию – специфику его целостности – понятие структуры художественного произведения.
Однако прежде выясним, в чем состоит разница между целым и целостным (выше мы не различали этих понятий) и каково их приложение к анализу произведения искусства.
«Целой» обычно называют систему, обладавшую «жестким» и наиболее полным взаимосоответствием качественных и количественных отношений, категория целого может в отдельных случаях совпадать с качественной определенностью предмета.
Иначе конституируется категория целостного [11]. Целостность определяется наличием закономерного, устойчивого и повторяющегося типа взаимодействия со средой; целостное образование нераздельно связано со своим прошлым и содержит в себе самом предпосылки своего существования и развития. Замечательное свойство целостных систем проявляется в относительной устойчивости их структур.
Применяя приведенное различение «целого» и «целостного» к анализу искусства, мы убеждаемся, что если материальный объект (или процесс) - «носитель» художественного произведения может быть охарактеризован как цельный, то само произведение необходимо обладает целостностью, а структура его есть структура целостности.
Известно, что специфическое содержание, которым наделяют понятие структуры различные науки и которое для представителей этих дисциплин является узаконенным, как бы само собой разумеющимся, оказывается далеко не бесспорным и нуждается в существенной корректировке, как только мы обращаемся к другой области знания. Нельзя, например, не учитывать, что значение термина «структура», принятое в обиходе математической теории структур, имеет мало общего со смыслом того слова в контексте, скажем, гештальтпсихолгии[13].
Существует, например, традиция, кстати, вполне обоснованная опытом некоторых естественнонаучных и технических дисциплин, в соответствии с которой под структурой подразумевается статистический аспект системы, при этом понятия структуры и развития оказываются в известном смысле полярны [14].
Однако природе искусства наиболее соответствует понимание структуры как неразрывной взаимосвязи определяющих закономерностей целостного образования и реального бытия и развития этого единства. Такого рода структура, получившая в литературе название «результатирующей»)[15], предполагает наличие некоего механизма, с помощью которого составляющие его элементы выявляют бесконечное богатство свойственных им возможностей, выявляют, однако, не самопроизвольно, а в меру необходимости, обусловленной совокупной целостностью.
Попробуем несколько конкретизировать и развить представление о структуре художественного произведения как о структуре «результатирующей», в обозначенном уточненном значении этого термина[16], тем более, что предпосылки такой конкретизации сложились в самом литературоведении.
Пониманию художественного произведения как процесса в значительной степени способствовали идеи А.А.Потебни. В.В.Виноградов в этой связи писал: «Только … в динамическом плане могут быть объяснены все необыкновенно противоречивые свойства художественного произведения : его относительная вечность и абсолютная мгновенность : единичность данных в нем образов при их безграничной потенциальной универсальности, его конкретность - при отвлеченности, его субъективная авторская замкнутость при огромной социальной общезначимости[17].
Структура художественного произведения не равнозначна структуре объекта непосредственного чувственного восприятия или же знаковой структуре – «тексту». Отождествление произведения искусства с его конкретной репрезентацией ведет к утрате содержания, к «высвобождению» неизменной и самодовлеющей «формы», которая в конечном итоге оказывается фикцией, пустым и лживым фетишем. Поучительна в этом плане практика структурализма, стремящегося отыскать в искусстве некую уникальную конструкцию художественности (структуру), пренебрегая ее конкретным наполнением (смыслом и содержанием элементов)[18]
2
Вполне объяснима и оправдана нацеленность литературоведческого профессионализма на точное следование тексту, на скрупулезный анализ непосредственной словесной данности литературного произведения. Понятно недоверие ко всякого рода рассуждениям по поводу текста, идущим мимо него, не основывающемся на пристальном и добросовестном прочтении. Это, однако, не может служить достаточным основанием для того, чтобы отождествить понятия «текст» и «художественное произведение», безоговорочно использовать их как синонимы. Между тем, именно текст объявляется главным и безусловным предметом литературоведения как науки, причем категория текста наделяется исключительными полномочиями [19].
Однако осознанное различие категорий «текст» и «художественное произведение» является существенным условием точности и глубины литературоведческого анализа. Ни «словесная ткань», ни «словесная конструкция» сами по себе не самодостаточны. Художественное произведение, являющее диалектику субъекта и объекта, не есть вещественная данность, знаковая структура, оно именно произведение, т.е сложно детерминированная духовно-практическая деятельность. Хотя и неотрывно сопряженная с материальной данностью артефакта, но никоим образом к нему не сводимая.
Стремление отождествить художественное произведение с текстом вызвано прежде всего затруднениями, которые вызывает понимание того, каким образом художественное произведение, будучи процессом, требующим для своей актуализации определенной и чрезвычайно сложной субъективной активности, при этом наделено вполне объективным внеличностным бытием, поскольку субъект искусства имперсонален.
Не входя в подробное обсуждение принципиальной несводимости субъекта искусства ни к эмпирической личности автора, ни, тем более, к личности воспринимающего, попробуем прояснить проблему известной аналогией между субъектом искусства и так называемым гносеологическим субъектом.
Здесь уместно вспомнить, что «гносеологический субъект в понимании марксизма не похож на трансцендентальный Субъект Канта, существующий где-то по ту сторону отдельных индивидов и представляющий собой некую идеальную сущность»[20]. Однако гносеологический субъект никоим образом не тождествен конкретной личности. Более того, он «не сводится к сумме индивидов, составляющих общество, - к сумме знаний и способов познавательной деятельности, которыми владеют эти индивиды, так как общественный субъект может обладать и такими выработанными на протяжении истории знаниями и способами деятельности, которые составляющие его на данном этапе индивиды по той или иной причине смогли… сделать своим достоянием»[21].
Подобно тому как «нет двух отдельно существующих субъектов : гносеологического и индивидуального, индивидуальный субъект - это способ существования гносеологического, общественного субъекта»[22], субъект искусства выявляется и обнаруживает себя лишь благодаря индивидуальному субъекту восприятия, т.е., иными словами, конкретным личностям, воспринимающим, переживающим и оценивающим художественное произведение.
Субъект искусства «существует не рядом с индивидуальными субъектами и помимо них, а через них, обладая реальностью лишь через действительную и возможную … деятельность индивидов, составляющих общество»[23].
Если приравнять художественное произведение репрезентирующему его предмету, артефакту, то становится невозможным осмыслить реальность субъекта искусства, неотождествимого с сознанием конкретной эмпирической личности и то же время являющего складывающееся в обществе и обусловленное всей совокупностью культурно-исторической практики «закономерное» единство предметности и деятельности.
Знаменательно, что с метафизических позиций рассмотрение художественного произведения (тем более «статических» видов искусства) как процесса кажется недопустимой уступкой субъективизму, подменой объективного содержания образа психологией воспринимающего субъекта.
Испытав на себе магию текста, трудно отделаться от мысли, что секрет ее именно в особом соединении слов, предложений, мотивов. Возникает желание разгадать «алхимию» слова, найти те наиболее действенные, художественно оптимальные структуры, с помощью которых обычные слова, не обладающие самостоятельной художественной ценностью, обращаются в чистое золото искусства.
Довольно распространенное в обиходе литературоведения высказывание: «смысл произведения заключен в его тексте», строго говоря, ошибочно, поскольку единственной, первой и последней объективной данностью, с какой наука о литературе имеет дело, провозглашается текст. Как утверждал, например Ю.Лотман, «художественный текст можно рассматривать в качестве особым образом устроенного механизма, обладающего способностью заключить в себе исключительно высоко сконцентрированную информацию».[24]
Теоретики, противопоставляющие текст реальной полноте бытия художественного произведения, как правило, не замечают, что под их пером фатально мистифицируется само понятие «текст», поскольку тексту присваивается роль субъекта художественной деятельности. Так, М.Гиршман, уверенно заменяющий понятие «художественного произведения» понятием «художественного текста», отличаемого им от текста словесно-буквенного, полагает, что «художественный текст» это и есть эстетическая реальность произведения.
На используемом М.Гиршманом языке «образных» абстракций специфика и статус «художественного текста» определяются примерно так: в художественном тексте «нет ничего, кроме внутреннего, ибо в каждом его моменте вовлекается и осваивается художественная реальность, сокровенная суть которой, в свою очередь, проявляется во вновь созданной эстетически значимой внешности. Постигая ее, мы вместе с тем открываем внутренне присущую тексту содержательную глубину, материально в нем воплотившуюся. И чем более конкретизирована художественная реальность в своей материальной – в том числе и ритмической – определенности ( в пределах, определяемых спецификой и материалом данного искусства), тем ближе мы к ее идеальной духовной сути».[25]
Даже если принять используемый М.Гиршманом способ изъяснения, позволяющий беспрепятственно сводить «идеальную духовную суть» к «материальной определенности», возникает опасение: а не теряется ли при этом предмет литературоведческого анализа. Манипулируя категориями внутреннего и внешнего, М.Гиршман нимало не озабочен тем, что в одном случае внешним оказывается воссоздаваемая в художественном произведении объективная реальность, а внутренним - собственные закономерности произведения искусства, в другом – внешним оказываются материальные средства «плана выражения», а внутренним - художественный смысл. Но так или иначе, решительно нельзя согласиться с повторяемым на разные лады как якобы само собой разумеющимся тезисом о тождестве «внутреннего и внешнего», будто бы характеризующем эстетическую реальность.
Ведь как это хорошо известно со времен Гегеля, соответствие внутреннего и внешнего в художественном произведении предполагает не их тождество и «взаимоисчерпание», а существенную противоположность и противоречие.
Поскольку М.Гиршман понимает художественный текст как «материальное воплощение» художественного содержания, то ему представляется, что внешняя организация, непосредственно воспринимаемая упорядоченность этого самого «материального воплощения», не может быть ничем иным, как адекватным выражением «духовной сути». И, следовательно, анализируя собственные закономерности «материального воплощения», мы тем самым постигаем своеобразие художественного содержания произведения.
Это теоретическое заблуждение легло в основу предпринятого М.Гиршманом исследования «Ритм художественной прозы». Несмотря на обилие и разнообразие привлеченного автором материала, который зачастую сам по себе интересен, понятие «ритм художественной прозы» не становится более определенным. Более того, возникает сомнение в необходимости возводить это понятие в ранг самостоятельной литературоведческой категории.
Правда, может возникнуть вопрос, почему не кто иной, как М.Бахтин, давший в свое время детальную критику так называемой материальной эстетики, решительно боровшийся против отождествления «художественного произведения» с вещью, в одной из поздних своих работ по сути дела приравнивает значение понятий «художественное произведение» и «художественный текст».
«Если понимать текст широко – как всякий связный знаковый комплекс, - то и искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет дело с текстами(произведениями искусства).Мысли о мыслях, переживания переживаний, слово о словах, тексты о текстах».[26]
Дело, однако, в том, что М.Бахтин, увлекшись идеей диалога как адекватной формы бытия культуры, рассматривал произведение исключительно как звено коммуникативной цепи: автор – произведение = читатель.
При таком подходе действительно трудно, да и вряд ли необходимо, фиксировать различие понятий «художественное произведение» и «художественный текст». «Событие жизни текста, то есть, его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов», [27] – пишет М.Бахтин. Дело, однако в том, что художественное произведение обладает надличностным бытием. Интерсубъективное содержание произведения определяется в конечном счете его соотношениями с объективной реальностью. Хотя при этом акт коммуникации является единственно возможной формой обнаружения и выявления этого надличностного содержания художественного произведения, тем не менее общественная сущность произведения отнюдь не сводится к взаимодействию лишь двух сознаний, оно вбирает в себя все богатство культурно-исторической практики.
Представление о художественном произведении («художественном тексте») как о своего рода машине смыслообразования, преднамеренно рассчитанной, скомпонованной и собранной, функционирование которой предопределено ее внутренним устройством, порождает, по крайней мере, две методологические установки.
Во-первых, появляется стремление выяснить, как «сделано» литературное произведение, логически определить правила («грамматику») его компоновки, классифицировать способы, коими оно воздействует на читателя.
Во-вторых, поскольку в акте художественного творчества единственно полномочным субъектом, личностной волей которого предопределено конкретное претворение закономерностей художественного синтеза, с очевидностью оказывается автор, возникает понятное намерение проникнуть в психологию творца, именно в ней отыскать объяснение художественному своеобразию того или иного произведения.
Пожалуй, обе эти установки в той или иной форме, с той или иной степенью осознанности всегда присутствуют и в обыденном отношении публики к искусству, и в научном его постижении. Они «законны» лишь в той мере, в какой художественное произведение сопоставимо с иными продуктами человеческого труда и иными выражениями человеческой индивидуальности.
Однако обе эти установки, как только они доктринерски провозглашаются научной программой познания искусства в его художественной сущности, тотчас же утрачивают свою рациональную основу и совлекают исследователя на путь фетишизации закономерностей и фактов, которые хотя и имеют отношение к исследуемому феномену, при фетишистской их абсолютизации «мертвеют», обессмысливаются, превращаются в бессодержательные клише.
Так, технологически конструктивный взгляд на художественное произведение упускает из вида органичность всякого подлинного искусства. Как всякое живое образование произведение искусства остается самим собой, сохраняет и воспроизводит свою форму лишь в устойчивой нерасторжимой связи с реальной действительностью; оно живо благодаря той действительности, которую вбирает в себя и которая находит в нем свое претворение, свой человеческий смысл. Поэтому-то искусство зачастую существует и воспринимается не как сотворенная человеком и четко детерминированная им «вещь», а на правах самой действительности.
Поскольку художественное произведение, взятое invivo, в его непосредственной целостности, сопротивляется замыканию на внешне объективированную, доступную исчислению форму, современные ревнители искусствометрии стремятся любыми допустимыми средствами извлечь произведение из той стихии, в которой оно только и обнаруживает свою внутреннюю многосложную динамику, - из стихии его «естественного» восприятия.
Знаменательно, например, что одна из давних структуралистских штудий предварялась такими рассуждениями: «1. В настоящей работе делается попытка объективного изучения плана содержания поэтического текста. Традиционное литературоведение прибегает при изучении плана содержания к анализу целых высказываний поэта, явно выражающих его мировосприятие, таких, например, как
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье - лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
При таком анализе неизбежен субъективный подход к тексту, появляющийся в наложении модели мира исследователя на модель мира поэта. Преодолеть в какой-то мере этот субъективизм можно, в частности анализируя текст на низших уровнях – слов и синтагм, например. При этом искажения оказываются меньшими, так как на авторскую модель мира накладывается лишь языковая модель исследователя, а эту модель можно считать узуальной».[28]
Поскольку связи литературного произведения с действительностью непрерывны и простираются в бесконечность, поскольку они не могут быть исчерпаны каким-то ограниченным набором дефиниций, литературовед испытывает понятный соблазн в той или иной форме воспроизвести эту непрерывность, бесконечно дробя единый и многосложный процесс на
малые, но измеримые и поддающиеся однозначному определению отрезки.
Зачастую такой метод не только не дает полноты и объемности знания, но и, по сути дела, упускает исследуемый предмет. Ведь, как это хорошо известно, сколь угодно обстоятельная, но механическая совокупность сведений о компонентах связного единства не дает знания целого. Иными словами, актуализация художественного произведения требует от читателя вполне определенной «эстетической дистанции» (если позволить себе несколько переиначить смысл термина, введенного Э.Баллоу), такой дистанции, при которой всякая частность могла бы быть воспринята и оценена в масштабе целого.
Безусловно, «медленное чтение», если разуметь под этим термином чтение внимательное, вдумчивое, предельно активизирующее филологическую чуткость к слову, внимание к деталям – чрезвычайно обогащает литературоведа. Но еще М.Н.Куфаев, одним из первых приступивший к разработке философских и социологических проблем чтения, справедливо указывал, что лишь «то медленное чтение полезно, где медленность объясняется работою нашего внимания, где наблюдаем мы за развитием мысли автора…, там же, где медленность вызывается вялостью нашего воспринимающего аппарата и проч., пользы от медленного чтения не много».[29]
Очевидно, что «медленности чтения» должны быть положены пределы. В противном случае текст будет настолько «растянут» и «атомизирован», что динамические смыслообразующие связи между его элементами разрушатся, станет совершенно невозможным переживание и осмысление произведения как целого.
Поучительная аналогия : мы рассматриваем фотографию, запечатлевшую жизнь врасплох, во все ее непроизвольности и многообразии деталей, каждая из которых таит свой собственный сюжет и уводит наше воображение далеко за рамки изображенного. Но вот мы берем лупу, для того, чтобы подробно разглядеть эти интригующие, живо схваченные детали, и что же? Фотографы хорошо знают, что если какую-нибудь деталь фотоизображения взять сверхкрупным увеличением, то на снимке, сделавшимся расплывчатым и неудобочитаемым, проступит так называемое зерно. Подобное фрагментирование структуры, сдвиг ее в иной масштаб не дает нового, более точного представления об изображаемом предмете, изображение размывается и обессмысливается. Оно дробится абстрактными точками и пустотами. Разумеется, мы в силах наделить каждое такое пятно-точку каким-то символическим значением. Однако это значение будет обусловлено лишь нашим произволом, и ничем иным.
3
Структура художественного произведения при ближайшем рассмотрении оказывается многосложной иерархией структур. И хотя в отдельных видах искусств эта многоступенчатость проявляется по-разному, можно выделить три основных слоя, наличествующих во всяком произведении.
1. Слой материального образования – объекта непосредственного чувственного восприятия.
2. Слой предметно-представимого – слой образной реконструкции.
3. Слой предметно- непредставимого – слой художественного значения[30].
Произведение искусства характерно взаимодействием и единством всех
трех слоев, однако их непосредственное слияние привело бы к гибели художественного произведения как такового. Созерцая картину, мы видим одновременно и плоскую поверхность с нанесенными на нее мазками, и трехмерное пространство, в котором явлены изображаемые художником предметы, люди, ситуации; при слушании музыки в нас запечатлевается и последовательность звучаний и человечески осмысленное интонирование.
Нетрудно убедиться, что подобные слои присутствуют и в других искусствах. Теперь представим себе слияние реальности изображающей с реальностью изображаемой. ( По отношению к литературе это вообще «непредставимо»). Вместо скульптуры нам пришлось бы лицезреть человека из плоти и крови, картина оказалась бы проемом в стене, а музыка – немощным звукоподражанием. Исчез бы в этом случае и третий слой, возникающий как результат взаимодействия первых двух; только соотнося то, «посредством чего» сказано, с тем, что сказано, мы постигаем художественный смысл произведения.
Не следует думать, что первый слой структуры равнозначен материальному образованию, являющемуся объектом – «носителем» художественного произведения. В сознании, разумеется, представлен не сам объект, а его образ. Говоря о взаимодействии слоев структуры, мы имеем в виду, что все три слоя есть опосредованное целостностью произведения отражение объективной реальности в сознании воспринимающего субъекта. Правда, каждому слою соответствует свой порядок, «масштаб» явлений и, следовательно, свой «уровень» опыта.
Целостность произведения, обнимающая и схватывающая его элементы, по-разному выявляется вовне: например, как звукоритмическая мелодическая организация, как сопряженность стилистической окраски эпитетов и метафор, как сюжетное единство, или же единство изобразительно воспроизводимой «картины». Целостность, таким образом, строится на разных уровнях иерархической структуры совокупного произведения.
Невозможно сказать наперед, на каком из уровней произведения энергия его художественного единства выявит себя более определенно, станет доминантной.
В подлинном искусстве иллюзия относительной независимости уровней снимается в актуальном бытии произведения, т.е. в его восприятии и переживании.
По-видимому, всякому читателю приходилось сталкиваться с такими литературными произведениями, поэтическое содержание которых складывается как бы помимо текста, вопреки непосредственному значению слов, его составивших. Для понимания этого феномена не годятся термины «подтекст» или «затекст», поскольку речь идет о своеобразном «освобождении» смысла от текста. Поистине:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Возьмем для примера удивительное стихотворение Лермонтова «Завещание», в котором, казалось бы, отсутствуют внешние атрибуты поэтичности, специфическая «художественная речь» - ни одного тропа! – но которое, вместе с тем, является бесспорным свидетельством поэтического гения М.Ю.Лермонтова.
Наедине с тобою, брат, Отца и мать мою едва ль
Хотел бы я побыть! Застанешь ты в живых…
На свете мало, говорят, Признаться, право, было б жаль
Мне остается жить! Мне опечалить их;
Поедешь скоро ты домой: Но если кто из них и жив,
Смотри ж… Да что? Моей судьбой Скажи, что я писать ленив,
Сказать по правде, очень Что полк в поход послали
Никто не озабочен. И чтоб меня не ждали.
А если спросит кто-нибудь… Соседка есть у них одна…
Ну, кто бы ни спросил, Как вспомнишь, как давно
Скажи им, что навылет в грудь Расстались!...Обо мне она
Я пулей ранен был; Не спросит…все равно,
Что умер честно за царя, Ты расскажи всю правду ей,
Что плохи наши лекаря, Пустого сердца не жалей;
И что родному краю Пускай она поплачет…
Поклон я посылаю. Ей ничего не значит!
Стихотворение ошеломляет несоответствием между крайней простотой, будничностью, даже некоторой элементарностью речи и огромностью поэтического содержания. Не в силах объяснить магию стихотворения, столь несомненно ощущаемую, иные комментаторы начинают приписывать этим стихам фактически отсутствующие в них качества.
Например, один известный писатель, справедливо говоря о поэтической мощи этого стихотворения, относит ее за счет «богатства» языка. Между тем подчеркнуто невыстроенная прямая речь героя состоит по существу из самых заурядных штампов : «умер честно за царя», «плохи наши лекаря», «поклон родному краю», «писать ленив» и т.п. И никаких внешних признаков волнения! Искать разгадку поэтичности стихотворения в его синтаксисе, особой организации словесного материала – занятие явно неблагодарное. Ни о какой « повышенной энергии фраз умирающего», «ощущении интенсивности жизни ввиду приближающегося конца», «частом дыхании» [31] говорить не приходится.
Это трудно признать, еще труднее объяснить, но высший и конечный синтез поэтического качества - в данном случае - происходит не на уровне слов. Более того, их непосредственное значение вроде бы и не имеет отношения к поэтическому смыслу целого.
Центр силового поля, в котором выстраиваются и группируются слова, вынесен за пределы образуемой ими словесной структуры. Более того, энергия этого центра столь велика, что поэт обнаруживает равнодушие к слову как таковому - некое видимое пренебрежение к форме.
Личность, неповторимым движением души которой создается единство стихотворения, никак в нем не обрисована, она, собственно, не дана, а задана.
Лишь достигнув последних, заключающих фраз:
Пустого сердца не жалей,
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
в которых столь неожиданно явлены и трагическая глубина отчаяния, и неистребимая жажда любви и веры, читатель угадывает тайну героя. Это последнее, внезапное, как бы мельком сказанное «Ей ничего не значит», замыкает вольтову дугу поэтического смысла. В его ослепительном огне сгорают, уничтожаются словесные штампы, хотя только теперь мы можем оценить в полной мере мощь напряжения, вынесенного и переданного непритязательной, казалось бы, словесной конструкцией.
Только теперь поэтический смысл целого, предвосхищаемый и как бы изначально скрытый в стихотворении, вполне высвобождается и обретает самостоятельное движение в сознании читателя.
На этом примере, кстати, видно, что понимание и оценка не просто завершают, а подытоживают восприятие художественного произведения, они, если угодно, обуславливают восприятие, входят в него на правах
движущей, направляющей силы.
Структура художественного произведения двумерна, она развивается во времени и вместе с тем – в каждом моменте ( в каждом «сечении») - предстает как нечто синтетически сложное, как результат взаимопроникновения и интеграции элементов предшествующего процесса.
4
Достойно удивления, что теоретики, упорно настаивающие на понимании художественного произведения, в том числе и литературного, как некоей опредмеченной структуры, непременно мыслимой по образу и подобию механически неизменного твердого тела, никогда не останавливаются на сопоставительном анализе понятий «книга» и «литературное произведение».
А между тем очевидно, что исключительно важная категория книги, внутренний абрис которой не столь уж самоочевиден, заслуживала бы специального внимания со стороны эстетиков, исследующих вопрос об онтологическом статусе литературного произведения [32].
Действительно, одно и то же литературное произведение, тождественное самому себе, может быть явлено человеческому восприятию существенно различными способами : в виде единичной рукописи, в виде прекрасно иллюстрированного типографского издания, тиражированного в миллионах экземпляров, в виде текста, образуемого конфигурациями света и тени на экране с помощью эпидиаскопа, в виде живой речи актера, читающего произведение по радио, и т.д.
Позволительно спросить, какова же все-таки та материально-вещественная данность, которая является единственно соответствующей «онтологическому статусу» художественного произведения? Стоит только задуматься о том, сколь различны могут быть способы фиксации текста : и листы книги, и целлулоидная лента негатива, и магнитная видеозапись, и запись в актерском исполнении на граммофонном диске. Наконец, и об этом тоже не стоило бы забывать, литературное произведение может быть вполне адекватно сохранено памятью человека. Не стоит же думать, что пушкинские или лермонтовские стихи, воспроизводимые нами мысленно, при этом уже утрачивают объективный статус литературного произведения.
Каков бы ни был, однако, способ «материальной фиксации» литературного произведения, как, впрочем, и всякого произведения искусства, художественное содержание не может быть непосредственно извлечено из самой структуры материализованных знаков, хотя только благодаря этой структуре художественный образ воспроизводится вновь и вновь в читательском восприятии.
Текст есть по существу программа той сложной субъективной деятельности, в результате которой актуализируется художественное произведение, становится художественной реальностью. Собственно буквенная запись не является аналогом произведения, или, как иногда полагают, его «материальным» инобытием.
Для пояснения этой мысли обратимся к устаревшему и по большей части забытому музыкальному аппарату – шарманке. Мелодия, извлекаемая шарманкой, понятно, не возникает сама собой. Она «записана» с помощью особого механического устройства, определенного расположения штифтиков на валу или отверстий в специальном круге (именуемом нотным листом) , которые в определенной последовательности открывают вентили к трубкам, вызывают звучание. Разумеется, расположение и взаимная координация штифтов на валу шарманки есть своего рода запись мелодий, исторгаемых этим инструментом.
Однако структура, образованная штифтами вала, не может служить объяснением созидаемого мелодией художественного образа. Даже механическое исполнение произведений нуждается в некоей питающей его энергии, некоей привносимой извне активности. И дело не только в том, что для извлечения мелодии необходимо, чтобы кто-то стал вращать вал, а штифтики при вращении стали бы открывать и закрывать вентили, ведущие к трубам органчика. Гораздо важнее другое - последовательность разрозненных звуков слагается в гармоническое единство лишь благодаря способности «музыкального» слуха соотнести и интерпретировать звучания.
Структурное время произведения искусства не есть время его механической развертки, простой смены одних «кадров» другими. Это время связано с накоплением и превращением качества. Его следовало бы сравнить не со временем разматывания клубка или механического движения по прямой линии, а со временем роста и становления организма, развития связного целого.
Неизбежная неодновременность, сукцессивность восприятия произведения искусства преодолевается целостным, симультанным [33] образом, который запечатлевается как результат последовательной развертки в воспринимающем сознании.
Если произвести усекновение структуры романа в процессе чтения, , т.е., попросту говоря , приостановить чтение на каком-либо эпизоде , а затем попросить читающего воспроизвести прочитанное, он, по-видимому, не сможет повторить освоенные главы слово в слово. Тем не менее, в его сознании присутствует целостное представление о прочитанном, которое, кстати, определяет ожидание читателя, связанное с будущими главами.
Все ранее воспринятые детали объединяются, интегрируются памятью и соединяются с тем, что зритель, читатель, слушатель имеет объектом непосредственной перцепции. Деталь, сменившаяся последующей, не исчезает, она преобразуется и закрепляется единством художественного произведения. Структура всякого художественного произведения представляет собой процесс, в котором элементы целого не просто выстраиваются один подле другого, а взаимопроникают друг в друга. Но это не статическое состояние слитности, а постоянное срастание.
Так, мелодия в восприятии вовсе не предстает протяженной линией, какой она является при эмпирическом рассмотрении временной последовательности. Мелодия для того, кто ее воспринимает, есть живое образование, постоянно изменяющееся и растущее, в котором прежнее сохраняется, влияя на ожидание будущего.
Иначе говоря, каждый временной срез произведения как процесса самовоспроизводящегося в диалектическом единстве объекта и субъекта неминуемо объединяет:
1) уже осуществившееся, выкристаллизовавшееся и «затвердевшее» прошлое;
2) непосредственно переживаемое настоящее;
3) еще не осуществившееся, но уже предвосхищаемое будущее;
В первом приближении может показаться, что специфическая позиция воспринимающего по отношению к литературному произведению может быть уподоблена его позиции по отношению к любому внешнему предмету.
Однако если принять во внимание, что читателю приходится удерживать в восприятии и соотносить с непосредственно воспринимаемым отрезком текста сложный комплекс сосуществующих и взаимодействующих элементов, одни из которых предстают как непосредственная данность, другие возникают на периферии поля зрения, третьи оказываются «позади», то резонно предположить, что читатель постигает литературное произведение не столько извне, сколько изнутри. И все же даже если уподобить восприятие литературного произведения тому, как происходит ознакомление со сложным архитектурным комплексом, а такое ознакомление, как известно, предполагает не только движение зрителя внутри здания, но и определенную последовательность точек зрения, иными словами, определенную упорядоченную работу зрительного внимания и интеллекта – даже такое сравнение будет упрощенным. Ибо восприятие литературного произведения не может быть уподоблено приему и переработке информации, некоей расшифровке текста.
Допустим, сложные образные структуры, возникающие при освоении читателем начальных «кусков» цельного текста, есть нечто ненаделенное той же мерой объективности и безусловности, какой обладает сам текст. Не следует ли отсюда, что эти образные структуры есть нечто возможное, но совсем не обязательное и не характеризующее в полной мере со всей определенностью литературное произведение как таковое. Между тем даже самый поверхностный анализ литературного произведения как развернутого во времени единства, убеждает нас в том, что упомянутые образные структуры не только не могут быть отброшены, но, наоборот, именно они служат ключом адекватного художественного прочтения всего последующего.
Итак, аутентичная, т.е. собственно художественная структура произведения искусства обнаруживается лишь в процессе его актуализации (филогенетически – в индивидуальном восприятии, онтогенетически – в историко-культурном процессе). Эта структура, повторяем, не может быть представлена как статическая, пространственная, преимущественно экстенсивная, ибо ее развертывание, говоря словами Ю.Тынянова, протекает под знаком «соотносительности и интеграции»[34]. Она не может быть представлена и как сугубо временная.
|
Метки: структура художественного произведения михаил лермонтов стуктурализм а.жолковский поэтический текст структурализм; |
Мирсаид САПАРОВ. - Иосиф БРОДСКИЙ каким его помню и люблю |

Полный текст – откомментированный и исправленный – интервью, опубликованного в газете «Вечерний Петербург» 24 мая 2010 года под названием «Как я завидовал Осе из-за его длинных брюк» к 70-летию Иосифа Бродского.
Анна Ахматова, встретив в 1961 году в Комарово парочку приятелей Иосифа Бродского и Мирсаида Сапарова в одинаковых новеньких болгарских пальто, иронически заметила: "Да вы прямо близнецы!" Сама того не ведая, Анна Андреевна угадала. Они оба родились в 1940 году под одним знаком зодиака - близнецов.
. В детстве и в ранней юности они и впрямь были неразлучны,живя общими увлечениями, вкусами и пристрастиями. Потом уже Ося стал Иосифом Бродским, а Мирса – философом, теоретиком искусства и киноведом Мирсаидом Сапаровым.
- Вы были только знакомыми с Иосифом или все-таки друзьями?
- Встретились мы с ним, поскольку роковым образом не могли не встретиться: жили в соседних домах [1] на одной улице, играли в одном дворе, одновременно пошли в одну школу № 203 им. Грибоедова.
Вообще-то наши с Иосифом детские годы были фатально связаны с Преображенской площадью, и садиком, окружавшим Спасо-Преображенский собор. Здесь мы неизменно встречались, разбивали коленки о булыжники, которыми в ту пору была вымощена площадь, обменивались «трофеями» вроде самодельных перочинных ножей, в изобилии изготовлявшихся после войны, слегка заржавевшими патронами, которых в пригородах тогда раскапывали сколько угодно.
А гуляли мы в Летнем саду, где, между прочим, слушали военный оркестр, по выходным игравший популярную классику. Любили, стоя у знаменитого памятника «дедушке Крылову» работы барона фон Клодта, важно «рассусоливать» о бронзовом зверинце, воссозданном на постаменте замечательного памятника, где, как известно, кого только нет: и слон, и лев, и волк, и козел, мартышка, медведь с медвежатами, журавль, овца, лягушки и др. Короче говоря, в нежном дошкольном возрасте мы привычно фланировали по улице Пестеля : от Преображенской площади до Летнего сада и обратно.
Точности ради надо сказать, что вернувшиеся из эвакуации Ося с матерью Марией Моисеевной [2] жили в довольно просторной светлой комнате коммунальной квартиры №10 дома №12 по улице Рылеева, прямо за Преображенской площадью.
А у отца Оси, Александра Ивановича была небольшая комната поблизости, на улице Короленко, которую он использовал как кабинет и фотолабораторию.
Таким образом, Иосиф ходил в первый класс 203-й школы на улице Салтыкова-Щедрина, в отличие от меня, не пересекая Литейный проспект, кратчайшим путем, по Преображенской площади и переулку Радищева.
Ну, а в 1949 году семья Бродских «воссоединилась», получив вместо двух комнат в двух разных квартирах – одну – огромную, c объемным эркером - в знаменитом доме Мурузи, в квартире 28. Дом Мурузи находился с другой стороны Преображенской площади – на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта ( дом №27 по улице Пестеля и №24 по Литейному). Переезд в квартиру в доме Мурузи Александр Иванович и Мария Моисеевна считали большой удачей[3].
Эркер с его высокими окнами и великолепным обзором улицы Пестеля и Преображенской площади с детских лет был облюбован Иосифом. Со временем детская превратилась в кабинет со старинным письменным столом и книжными полками.
Дружба наша не прекратилась, когда моя семья уехала с улицы Пестеля на Петроградскую сторону. Я почти каждый день гостил у Бродских в их полутора комнатах в коммуналке дома Мурузи, очень любил сидеть в эркере у Оси. А он приходил к нам.
- Как вы познакомились?
- Любимым развлечением у мальчишек на улице Пестеля были цепи на ограде Спасо-Преображенского собора [4], на которых мы с удовольствием раскачивались. Там и сдружились. Мы качались на цепях, потом шли к моему дому на угол Литейного и Пестеля, где в рыбном магазине глазели на живых карпов, плававших там в аквариуме.
В 1946-1949 годах гуляли мы с Иосифом главным образом в садике Спасо-Преображенского собора, а по выходным – в Летнем саду. А вот местом игр, принимавших зачастую ожесточенный характер – поскольку играли-то мы в войну – был задний двор дома №27 по улице Пестеля.
Послевоенные обитатели дома отапливали свои жилища дровами и середину двора занимали довольно высокие поленницы, хитроумно выложенные в виде лабиринта. Каждый собственник хотел обозначить свое добро таким образом, чтобы его не спутали с чужими дровами. Вот в этом невероятном дровяном бедламе, напоминавшем руины воюющего города, и «строчили» наши «шмайссеры» и «стечкины», наспех сколоченные из деревяшек, разворачивались уличные «битвы».
Мы почти не расставались. И не только из-за близкого соседства.
Отцы и дети
Наши отцы работали в одной системе. Отец Оси, Александр Иванович был фотожурналистом. Много снимал блокадный Ленинград. Кстати, до сих пор не понимаю, почему никому в голову еще не пришло сделать выставку его фотографий, поскольку многие известные блокадные снимки - его работа. После войны он сначала работал зав. фотолабораторией в Центральном военно-морском музее. А потом фотокорреспондентом в газете "Советская Балтика".
А мой отец, Ариф Сапаров, после войны в 1947 году написал знаменитую документальную повесть «Дорога жизни» [5], которую он проиллюстрировал фотографиями Александра Бродского.
Но у этой популярной книги была очень несчастливая судьба. Дело в том, что в 1948 году второе издание повести было снято с продажи и запрещено в связи с тем, что в книге говорилось об участии в обороне города П.С.Попкова, А.А.Кузнецова и Я.Ф.Капустина, ставших фигурантами так называемого «ленинградского дела». Подвергшись гонениям, отец долго не мог найти работу, пока, наконец, не стал корреспондентом газеты «Морской флот», переименованной впоследствии в «Водный транспорт».
В результате, наши отцы трудились на одной ниве в одной системе морского флота СССР. Поэтому мы с Осей не только ходили в одни и те же поликлиники, в одну школу, но и каникулы проводили в одних и тех же пионерских лагерях Порткоммора (Портового комитета моряков).
- О чем вы разговаривали? О чем мечтал маленький Бродский?
- Александр Иванович служил на флоте и очень любил флот. Он даже на гражданке ходил в кителе и фуражке. Я другим его даже представить себе не могу. Когда я приходил к Осе в гости, его мама Мария Моисеевна могла быть в платье, в халате, а Александра Ивановича помню только в кителе. И эта любовь к флоту от отца перешла и к сыну. Помните, Бродский писал в очерке "Полторы комнаты": "По глубокому моему убеждению, за вычетом литературы двух последних столетий и, возможно, архитектуры своей бывшей столицы, единственное, чем может гордиться Россия, это историей собственного флота. Не из-за эффектных его побед, коих было не так уж много, но ввиду благородства духа, оживлявшего сие предприятие".
Он мечтал стать капитаном дальнего плаванья. А я его разубеждал. Я через своего отца имел довольно прозаическое представление о буднях моряков и говорил Осе, что работа капитана тяжела и однообразна, что она скучна, и что надо выбирать творческие профессии. - Какие это, - угрюмо спрашивал Ося. Можно, например, стать писателем, - отвечал я ему...
- То есть предпосылок не было.
- В раннем детстве не было. Единственное, чем он отличался от нашей мальчишеской компании - он был рыжий. Более очаровательного рыжего я в жизни не видел. Рыжий и очень правильный, воспитанный. И единственное, в чем я мог ему завидовать в детстве - это брюки.
- Брюки?
- Мы вместе пошли в 203-ю школу [6] рядом с кинотеатром "Спартак". И он пошел в первый класс в длинных брюках. Это была заслуга его матери. Мария Моисеевна была бухгалтером, но подрабатывала шитьем. Я часто видел ее за швейной машинкой, когда приходил к Бродским. И она сшила ему пару длинных черных брюк, в которых он и ходил. А мне отец привез тогда из Германии короткие « тирольские» штаны, которые зимой надо было носить с чулками. Как я ненавидел эти штаны, эти чулки, и как я завидовал Осе!
Сначала было кино
- Какое любимое занятие было у Оси и Мирсы?
- Мы шатались по городу. Я уже переехал на Петроградскую сторону, на улицу Мичуринскую, а все равно встречались. Могли просто встать посреди двора и разговаривать. Иногда ходили в Дом офицеров [ 7], в школьный зал публичной библиотеки. Там тоже разговаривали. Часто бывали в кино.
Тогда в "Спартаке"[8] показывали трофейные фильмы. Одни названия чего стоят - "В сетях шпионажа", "Девушка моей мечты"... Я не ходил на фильмы "про любовь". Смотрел только про войну. А Ося смотрел и «про любовь». Ему, например, понравился фильм "Дорога на эшафот" (о Марии Стюарт) [9]. Его взволновала там тема любви и преданности. Потом он даже написал цикл «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», посвященный этой картине [10]. Кстати, я составил список фильмов, которые мы смотрели с Бродским в разные годы: с 1947 года по 1970-й. И в честь юбилея поэта начинаю знакомить с ними завсегдатаев своего киноклуба. Среди этих картин столько бесспорных шедевров…[11]
- А литература? Как она пришла в его жизнь?
- В определенный момент он стал поглощать фантастическое количество книг, зачастую очень серьезных. Помню, например, «Античную цивилизацию» Андрэ Боннара, книгу Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики», с поражающей воображение «дополнительной» главой о бессмертии души, «Иезуитов» Алигьери Тонди, сенсационную тогда книгу Сомерсета Моэма "Подводя итоги"[12].
- А когда появилась поэзия?
- Он начал ходить в лито с седьмого класса. Он пришел в группу позже всех. Но опередил многих «старожилов» за счет феноменальной творческой энергии, исключительной восприимчивости и памяти. Интеллектуальное напряжение было привычным его состоянием.
Герои шестидесятых
Глеб Горбовский в 1963 году сказал мне: "Как я завидую Бродскому. Он с молоком матери впитывал мировую культуру". Не впитывал он ее с молоком. Он постигал ее всем своим существом, органически переживая и осмысляя.
Очень легко называл увлекших его авторов гениальными. Прихожу к нему в эркер и слышу: "Мирса, появился гениальный поэт. Глеб Горбовский! Читай «Поиски тепла»! [13] Затем он увлекся Рейном, затем Сапгиром и так далее…
Однажды, когда на Мичуринской в компании Лены Король мы отмечали мое двадцатилетие, Иосиф неожиданно сказал: «Я хочу вас удивить». И, засмеявшись, начал читать неизвестные нам стихи:
Молодой неизвестный человек,
Он отпраздновал сегодня двадцать лет.
Он просто очень тихий человек.
Он не маклер, не убийца, не поэт.
Он готов любой подвиг совершить,
Он готов любую подлость показать,
Чтобы только грош счастья получить,
Чтобы ужин с бургундским заказать.
Слышишь - чей там голос песню гомонит?
Всюду ливень, всюду сон и легкий плеск.
Я не буду ни богат, ни знаменит,
Если не столкну вас с ваших мест.
Это счастье я с кровью захвачу.
Это счастье я вырву из земли,
Я хочу быть великим... Я хочу
Быть великим... Я хочу... Быть... Вели...
Осе особенно нравилась концовка. Подписанные вымышленным именем Пат Виллоугби, это были стихи из прозаической книги Бориса Лапина "Подвиг" [14]. Борис Лапин погиб на войне в 1941 году, спасая друга.
Бродский необычайно высоко ценил людей героического склада. Может для кого-то это прозвучит неожиданно, но он был патриотом в самом высоком смысле этого слова.
Cовершенно очевидно, что Иосиф Бродский был в полной мере сыном своего отца, которого – как бы там ни было – нежно любил.
Это сказывалось во многом. И, в частности, в напряженном внимании Иосифа к талантливейшим поэтам-фронтовикам, изведавшим смертельные испытания, принявшим на себя все ужасы военного лихолетья, но не ловчивших и не сдавшихся.
Многие – может быть, лучшие из них – погибли.
Помню, как многократно повторял Бродский стихи Б.Слуцкого памяти Михаила Кульчицкого:
Писатели вышли в писатели
А ты никуда не вышел,
Хотя на земле, в печати ли
Ты всех нас лучше и выше
Ты просто пророс травою
И я как собака вою
Над бедной твоей головою.
Ему казались пророческими стихи самого Кульчицкого о Велемире Хлебникове [15]. Как-то в одном из разговоров с Анной Ахматовой зашла речь о Борисе Слуцком : я вспомнил его строки, которые тогда были в ходу:
Что-то лирики в загоне
Что-то физики в почете
Дело не в сухом расчете
Дело в мировом законе
Ахматова удивилась, - Послушайте, неужели Вам интересен Слуцкий? И что же Вас привлекает?
Я прочитал навскидку три или четыре стихотворения, которые помнил наизусть: «Память», «Блудный сын», «В районном городке Солнечногорске».
Ахматова приуныла, - И что же здесь может нравиться? По-моему это такая проза…
Не став спорить я сказал только, - Но Иосиф, между прочим, очень любит Слуцкого. – Ну, что же , - вздохнула Ахматова, - я с ним поговорю…
Я умолчал при этом, что Бродский ездил к Слуцкому, который очень тепло его принял, рассказал много удивительного и даже помог деньгами.
Кстати, как выяснилось в дальнейших разговорах главная причина отвержения Слуцкого Ахматовой была скрыта в другом : ей казалось неприемлемым якобы «верноподданническое» стихотворений Бориса Абрамовича о Сталине «Бог».
Но это особая тема
- А его первые стихи Вы помните?
- Это была проба пера. Он их никогда не вспоминал - "Шагать до седьмого пота. Такая у нас работа". Конечно, он понимал, что это ужасно. И искал. Что он обрёл, вы знаете – в частности, редкую способность запечатлеть стихами сокровенную суть события или человека.
Достаточно назвать лишь два стихотворения, разделенные четвертью века.
Одно посвящено Анне Ахматовой, ей самой очень нравившееся и неоднократно ею цитировавшееся:
Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.
Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.
Вы поднимете прекрасное лицо --
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту --
на мгновенье взбудоражит пустоту.
Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству без памятника Вам.
В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишите о нас наискосок.
Вы промолвите тогда: "О, мой Господь!
этот воздух запустевший - только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!"
1962 г.
И уникальные по точности стихи «Памяти Геннадия Шмакова»
….Коли так,гедонист,латинист
В дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, - будь беспределен,
повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать "херувим, серафим",
но - трехмерных пространств нарушитель.
Знать теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.
Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденький ельник,
это - ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, подельник.
Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.
Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскриптум махровей стократ,
чем цветы театральных училищ.
Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.
Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.
Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!
Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажившихся рощ кипарис,
пьяный пеньем великой гречанки,
- окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере,
ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.
Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек - вопреки
песне хора - во всем остается.
Ты теперь на все руки мастак -
бунта листьев, падения хунты -
часть всего, заурядный тик-так;
проще - топливо каждой секунды.
Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы эта мебель.
Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою "вольному - воля"
до разреженной внешней среды,
максимально - магнитного поля!
Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.
1989 г.
Впрочем, - я-то знаю, как искренне Иосиф любил и Анну Андреевну, и нашего сверстника и однокашника – Геннадия Шмакова [16].
- Известно, что у него был конфликт с отцом.
- Нет. Я бы так не сказал. Помню, мы сидим в эркере и рассматриваем репродукцию Модильяни, которую подарила Осе Оля Бродович. Рядом нервно ходит Александр Иванович и ворчит, мол, сидят два идиота... И передавал слова якобы сказанные ему Малевичем (а Александр Иванович был близко знаком с этим и другими художниками): "Я дурачу идиотов, поскольку это им жизненно необходимо". Разумеется, Бродский-старший сам так не считал. Он так говорил, потому что беспокоился за судьбу Иосифа. Все эти увлечения были небезопасны.
- Мирсаид Арифович, вы видели фильм "Полторы комнаты"? Как он Вам?
- Прежде всего, он грубо тенденциозен и очень далек от правды. Похоже, создатели фильма сами об этом знают. Недаром в конце появляется странная надпись: "Авторы заверяют, что фильм является вымышленным произведением. Любые совпадения и аналогии с реальными лицами и событиями – абсолютно случайны». Любимый мною Юрский здесь не похож на Александра Ивановича. Он изображает его простачком, а тот был, между прочим, университетским эрудитом с двумя высшими образованиями. Великая Фрейндлих не похожа на Марию Моисеевну. Вообще все исполнители, изображающие в фильме Бродского, типологически очень далеки от его индивидуальности, и притом, они характерные брюнеты. А Ося, как я говорил, был ослепительно рыжим. И это была не только внешность, это был существенный атрибут его обаяния.
Бродский перемежал свою речь словом "да". Но это было как бы акцентом энергичного монолога. Дитятковский же сугубо внешне имитирует манеру Бродского. Подобно Ахматовой и Цветаевой, Бродский был противником так называемого актерского чтения его стихов. Оно, как правило, лишено литургической энергии, гортанности и упрощает поэтический текст, привнося в него чужеродную субъективность.
Дело, в конце концов, не в том, рыжий на экране Бродский или не рыжий. В фильме нет художественного мира Бродского. Шестидесятые - были годами напряженной интеллектуальной работы [17]. А этого в фильме нет.
Безобразно искажена среда обитания - очередь в туалет, тараканы в раковине... Я очень любил ходить к Бродским в дом Мурузи [18]. 40-метровая комната! Там было очень светло и тихо. На всю огромную квартиру, напоминавшую мне в детстве замок - всего одиннадцать человек, которые, кстати, редко встречались. Не помню ни очередей в клозет, ни тараканов. Было очень интеллигентно и чисто.
Говоря сегодня о Бродском, которого я помню и люблю, хочу напомнить его слова о том, что он не хотел бы стать фишкой в чужой игре, пусть даже игре либеральной.
Беседовал Михаил ТЕЛЕХОВ
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Cемья Сапаровых с 1944 года жила в знаменитой комнате с балконом (единственным на весь фасад) и камином в угловом доме №14 по улице Пестеля (по Литейному проспекту - №19).
А Бродские – начиная с 1949 года – на противоположной стороне улицы Пестеля в доме № 27 (№24 по Литейному проспекту) – в легендарном доме Мурузи.
Дом №14, известный как доходный дом А.М.Тупикова, был построен в духе классицизма архитектором Юлием Дюльтеем в 1876-1877 годах.
В 1927-1938 г.г. здесь жил выдающийся советский поэт Самуил Маршак,(1887 – 1964) о чем свидетельствует мемориальная доска. В его квартире часто встречались и работали поэты – «обэриуты»(ОБЭРИУ – Обьединение реального искусства): Д.И.Хармс, А.И.Введенский, Н.М.Олейников, Н.А.Заболоцкий, детские писатели Б.С.Житков, В.Бианки.
В 1938 году, после разгрома руководимого им детского издательства С.Я.Маршак переезжает в Москву, где в 1939 г. избирается в Московский городской совет народных депутатов, становится впоследствии лауреатом четырех сталинских премий.
Н.М.Олейников был арестован в июле 1937 года и осенью того же года расстрелян по 58-й статье.
Д.И.Хармс и А.И.Ввденский арестованы осенью 1941 года и оба умерли в заключении: .Хармс в феврале 1942 года, а Введенский – в декабре 1941.
Н.А.Заболоцкий арестован в марте 1938 года и осужден по делу об антисоветской пропаганде на пять лет.
« 18 ноября 1970 года, - пишет Мирсаид Сапаров , - мы с Иосифом Бродским стали свидетелями водружения на доме №14/21 по улице Пестеля, над нашим любимым гастрономом, памятной доски С.Я.Маршаку.
На казенной церемонии присутствовала племянница поэта Евгения Моисеевна Маршак.
Помню, какое недоумение и брезгливость вызвало у Иосифа выступление председателя секции детской литературы ЛО СП РСФСР и редактора издательства «Детская литература» Нисона Ходзы. Этот литфункционер, выступая от имени писательской организации, в своей витиеватой речи умудрился даже не вспомнить о замечательных поэтах: А.Введенском, Д.Хармсе, Н.Олейникове и других, работавших в этом здании вместе с С.Я.Маршаком и загубленных «за понюшку табаку».
Впрочем, мемориальные доски, - сказал Бродский, - для того и устанавливаются, чтобы скрыть неудобные обстоятельства.»
.
С 1917 года в доме несколько лет квартировало издательство «Былое», известное своим умением актуализировать исторические публикации (См., например:Тарле, Е.В. Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции. Петроград, 1920).
В этом же доме с 1918г. по 1930 г. проживал композитор и профессор Ленинградской консерватории Вадим Салманов (1912 – 1978), автор популярной оратории «Двенадцать» на слова А.Блока.
[2] Мария Моисеевна Вольперт(1905 -1983)
Александр Иванович Бродский(1903 -1984
[3] Доходный дом князя А.Д.Мурузи. Сооружен в 1874-1876 г.г. архитектором А.К.Серебряковым в мавританском стиле.
Дом, в котором Н.С.Лесков начал писать «Левшу», а А.Куприн услышал в одной из квартир историю о влюбленном телеграфисте, положенную в основу рассказа «Гранатовый браслет».
В 1889 году в доме поселяется молодая чета Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского в квартире, преподнесенной матерью Мережковского в качестве свадебного подарка. Литературный салон Гиппиус и Мережковского почти на двадцать лет становится центром литературно-художественной жизни российской столицы. Здесь встречаются Александр Блок и Андрей Белый, Василий Розанов и Валерий Брюсов, Николай Бердяев и Федор Степун. Николай Клюев впервые представляет литературному бомонду Сергея Есенина.
Завсегдатаями квартиры поэта Владимира Пяста , в которой в 1911 году проходили собрания «Цеха поэтов», были, в частности, Аким Волынский, Лев Шестов. Александр Бенуа, Лев Бакст.
В 1921 году по инициативе Николая Гумилева здесь был учрежден «Дом поэта», который запечатлен в воспоминаниях Нины Берберовой и Ирины Одоевцовой.
Иосиф Бродский, по словам М.Сапарова, с 15-летнего возраста, зная со слов отца о легендарном прошлом дома, мечтал о создании музея в той квартире, в которой побывал практически весь литературный Петербург «серебряного» века. «Впрочем, другая идея, - добавляет М.Сапаров, постоянно нами обсуждавшаяся – воссоздание «Башни» Вячеслава Иванова в Песках(Таврическая улица, д.35)»
[4] Спасо-Преображенский собор – памятник архитектуры классицизма. Первоначально возведен по повелению императрицы Елизаветы Петровны в 1743-1745 г.г. Восстановлен после пожара 1825 года выдающимся русским архитектором Василием Стасовым (1769-1848)
Собор издавна был памятником воинской славы, здесь хранились знамена, орудия и военные трофеи. В1832-1833 г.г. по проекту В.Стасова в память о победе в русско-турецкой войне 1828-1829 г.г. вокруг собора сооружена ограда, основа которой - стволы трофейных пушек, взятых со стен турецких крепостей Измаила, Варны и других - всего 102 бронзовых ствола, установленных на 34-х гранитных основаниях. Все группы орудий соединены массивными декоративными цепями.
«Любопытно, - рассказывает М.Сапаров. – что как раз в эти послевоенные годы в Спасо-Преображенгский собор захаживала молиться – по ее словам – Анна Андреевна Ахматова. Но мы, естественно, об этом не знали, да и знать не могли.»
[5] Сапаров Ариф Васильевич (1912-1973) – советский писатель и журналист.
См.: Летописец Дороги жизни // Красная звезда. – 2011.- 30 ноября.
Сапаров А.В. Дорога жизни. – Л.:Ленинградское книжно-журнальное издательство, 1947.
Книга только в России переиздавалась более десяти раз, была переведена на все основные европейские языки, издавалась в Китае и Японии. Использовалась и востребована до сих пор, как уникальное документальное свидетельство, наиболее авторитетными зарубежными исследователями Второй мировой войны и героической обороны Ленинграда.
Достаточно назвать известного писателя и журналиста Гаррисона Солсбери(«900 дней»), американских историков Леона Гура и Дэвида Гланца, профессора Кембриджского университета Лайзу А.Киршенбаум.
[6] Школа №203, гуманитарная им. А.С.Грибоедова ( в прошлом Анненшуле - немецкое училище при лютеранской церкви Святой Анны). В одном из своих произведений Бродский ошибочно именует ее Петершуле. Современное здание построено в 1905- -1906 г.г. в стиле модерн; архитекторы А.Ф.Бубырь, Л.А.Ильин.
В школе в разные годы учились : Н.Н.Миклухо-Маклай, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Фаберже, В.В.Струве, В.Я.Пропп, А.Ф.Кони, Б.А.Фрейндлих, Е.М.Грановская, С.А.Мартинсон
[7] Дом офицеров (Литейный пр., д.20) - был построен как здание Офицерского собрания Армии и Флота по распоряжению Александра III. Эскизный проект архитектора фон Гогена относится к 1893 году. А 22 марта 1898 года в присутствии императора, великих князей, высшего духовенства, градоначальников состоялось торжественное открытие Дома Армии и Флота.
Здание представляет собой яркий пример русского академического стиля со множеством архитектурных деталей:эркеров, балконов, чугунных рельефов, гармонично вписанных в целостный архитектурный облик. Особый характер величия и благородства придают ему использованные ценные материалы : гранитная арка, обрамляющая вход, парадная лестница из белого эстляндского мрамора, облицовка фигурным кирпичом.
В начале ХХ века Дом Армии и Флота становится культовым местом для собраний литературно-художественной элиты Петербурга. Один из подобных вечеров запечатлен писательницей Ниной Берберовой (1901-1993) в ее автобиографической книге «Курсив мой»: «Ранней весной 1915 года в зале Армии и Флота на Литейном состоялся вечер «Поэты – воинам». Это был вечер благотворительный, один из многих других ( как например, «Артист – солдату»), на которые интеллигенция ходила с увлечением... Пошли мы пешком с улицы Жуковского, где тогда жили, вверх по Литейному… Ярко освещенная зала была переполнена…
В первом отделении пела Андреева-Дельмас, а потом шло какое-то «действо» Мейерхольда… У актеров были огромные приклеенные носы и они кувыркались на сцене, давая друг другу звонкие оплеухи, перегородки шатались. Олечка Судейкина и Габриэль Иванова были едва прикрыты легкими газовыми одеждами. Публика шикала и аплодировала. Свет сиял. После перерыва на эстраду вышел Сологуб, за ним Блок, Ахматова, Кузьмин, Городецкий.» ( Цит. по: Вопросы литературы, 1988, №9, с.190-191.)
[8] Кинотеатр «Спартак»( Кирочная ул., д.8) был одним из самых любимых кинотеатров Ленинграда. Причиной тому, среди прочего, было то, что сразу после войны огромное фойе украсила роскошная стенная роспись, изображавшая салют Победы над Невой. Неизвестно, кто был автором этого удивительного проекта, почему-то мгновенно исчезнувшего после «воцарения» Хрущева. Возможно, что где-то среди деталей великолепного панно был портрет Сталина. Этого было достаточно, чтобы закрасить стены довольно ядовитой зеленой краской.
Другая особенность послевоенного «Спартака» - богатые по тем временам плюшевые кресла, о которых довольно точно пишет в своем стихотворении Иосиф Бродский. Но, увы, во времена «оттепели» умудрились демонтировать и их, заменив на стандартные деревянные откидывающиеся сиденья.
Репертуар кинотеатра «Спартак», как тогда говорили, был «первоэкранным». Некоторые важнейшие фильмы начинали демонстрироваться именно здесь. В1945-1948 г.г. «Спартак» показывал так называемые «трофейные» фильмы.
Кроме того, он был расположен по соседству с 203-й школой, где учились Бродский и Сапаров.
Кинотеатр занимал здание бывшей лютеранской церкви Святой Анны, первая постройка которой была осуществлена еще в годы правления императрицы Анны Иоанновны(1735-1740 г.г.) Новое каменное здание церкви возведено в 1775-1779 г.г. архитектором Ю.М.Фельтеном.
В 1935 году храм был закрыт, а в 1939 архитекторы А.Гегелло и Л.Косвенный перестроили церковь под кинотеатр.
Знаменательно, что славная история кинотеатра завершилась так называемым пожаром, а точнее, его ритуальным сожжением. Кинотеатр был подожжен в 5 часов утра 6 декабря 2002 года.
[9] Оригинальное название «Сердце королевы». Германия, 1940 г.Режиссер Карл Фройлих. В главных ролях Цара Леандр, Вилли Биргер . Перемонтированный, дублированный и сокращенный на пол-часа, фильм вышел на советские экраны в 1948 году под новым названием «Дорога на эшафот».
[10]……………………………………………….
В конце большой войны не на живот,
Когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала
Приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
Но что-то нас в час сумерек зовет
Назад, в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
Приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная – брюнет,
Там две картины, очередь на обе
И лишнего билета нет.
1974 г.
[11] М.А.Сапаровым составлен аннотированный перечень 120 фильмов, из которых удалось показать и прокомментировать только одну картину «Чайки умирают в гавани» в зале Театрального музея.
[12] Боннар, Андрэ – Греческая цивилизация. – В 3-х Т. – М.:Иностранная литература, 1958.
Шредингер Эрвин. - Что такое жизнь с точки зрения физики. – М.:Иностранная литература, 1947.
Тонди, Алигьери. – Иезуиты. – М.:Иностранная литература, 1955. – 332 С.
Моэм, Сомерсет. – Подводя итоги. – М.:Иностранная литература, 1957.
[13] Горбовский Г. Поиски тепла. – 1960.
[14] Лапин Б.М. Подвиг:повести, рассказы/ Предисл.:И.Эренбурга. – М.:Советский писатель, 1985. Первое издание – 1933 года.
Борис Лапин был штурманом дальнего плавания, географом, ботаником, журналистом. Кем он только не был! Но главное – он был поэтом-романтиком. А чтобы публиковать свои стихи, он иногда подписывал их именами вымышленных авторов и перемежал ими свои прозаические очерки.
Лапин Борис Матвеевич(17.05.1905 – 19.09.1941). В 1932 году подружился с писателем и журналистом Захаром Хацревиным(05.09.1903 – 19.09.1941)и в соавторстве с ним написана значительная часть произведений Б.Лапина. Вместе с ним участвовал в боях за Халкин-Гол. Б.Лапин погиб при отступлении от Киева осенью 1941 года, сопровождая тяжелораненого Хацревина.
[15] ХЛЕБНИКОВ В 1921 ГОДУ
В глубине Украины,
На заброшенной станции,
Потерявшей название от немецкого снаряда,
Возле умершей матери - черной и длинной -
Окоченевала девочка
У колючей ограды.
В привокзальном сквере лежали трупы;
Она ела веточки и цветы,
И в глазах ее, тоненьких и глупых,
Возник бродяга из темноты.
В золу от костра,
Розовую, даже голубую,
Где сдваивались красные червячки,
Из серой тюремной наволочки
Он вытряхнул бумаг охапку тугую.
А когда девочка прижалась
К овалу
Теплого света
И начала спать,
Человек ушел - привычно устало,
А огонь стихи начинал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом,
Сжигал
Свои
Марсианские
Очи,
Как сжег для ребенка свой лучший том.
Зрачки запавшие.
Так медведи
В берлогу вжимаются до поры,
Чтобы затравленными
Напоследок
Пойти на рогатины и топоры.
Как своего достоинства версию,
Смешок мещанский
Он взглядом ловил,
Одетый в мешок
С тремя отверстиями:
Для прозрачных рук и для головы.
Его лицо, как бы кубистом высеченное:
Углы косые скул,
Глаза насквозь,
Темь
Наполняла въямины,
Под крышею волос
Излучалась мысль в года двухтысячные.
Бездомная,
бесхлебная,
бесплодная
Судьба
(Поскольку рецензентам верить) -
Вот
Эти строчки,
Что обменяны на голод,
Бессонницу рассветов - и
На смерть:
(Следует любое стихотворение Хлебникова)
Апрель 1940
[16] Шмаков Геннадий Григорьевич (27.03.1940 – 21.08.1988)
Русский поэт, блистательный переводчик, балетовед и кинокритик, автор биографий Жерара Филиппа, Михаила Барышникова, Марии Каллас, Марселя Пруста, Мариуса Петипа. Подготовил и издал 3-хтомное собрание сочинений Михаила Кузьмина. Шмакову принадлежат образцовые переводы прозы Натаниеля Готорна , поэзии Жана Кокто и Константинаса Кавафиса и мн. др. Геннадий Шмаков - автор изящной и остроумной пародии на ахматовскую "Поэму без героя", подаренной им М.А.Сапарову.
Будучи аспирантом сектора кино Научно-исследовательского отдела Ленинградског института театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский институт истории искусств) Шмаков не только написал оригинальную и содержательную диссертационную работу "О романтизме во французском кино", но и принял самое активное участие в капитальных коллективных трудах сектора.
Наиболее плодотворный период развития сектора кино под руководством Янины Казимировны Маркулан (1920 - 1978) был отмечен созданием фундаментальных монографий, обобщавших достижения мировой киноведческой мысли : "Анатомия фильма", "Теория фильма 20-х - 30-х годов". В связи с внезапной болезнью и смертью Я.К.Маркулан эти основательные коллективные труды, подготовка которых потребовала нескольких лет, так и не вышли в свет. Они были депонированы в библиотеке института, где благополучно и безвозвратно исчезли. К слову сказать, такая же участь постигла и объемистую теоретическую монографию М.А.Сапарова "Видимая реальность. Синергетический параллакс : живопись - фотография - кино - литература" (1975).
[17] К сожалению, в современном обыденном сознании интеллектуальная жизнь шестидесятников представляется крайне вульгарно и обедненно. Собственно единственной контрольной доминантой этой жизни оказывается пресловутое скрытое(а зачастую, явное), противостояние власти. Иначе говоря, политизированная «фронда».
На самом деле все было гораздо сложнее. Шестидесятые годы были прежде всего посвящены творческому позитивному освоению и осмыслению мощных пластов мировой культуры в самых разных ее проявлениях.
«Кстати, - рассказывал М.Сапаров в передаче на «Радио Мария» 15 марта 2006 года, - довольно часто мы встречались с Иосифом Бродским в замечательном букинистическом магазине на улице Некрасова. Старые продавцы могли рассказать о книгах и их авторах гораздо интереснее и больше, нежели библиографы Публичной библиотеки.
Между прочим, директор этого магазина в «хрущевские» времена был расстрелян(!?) якобы за недопустимые по закону операции с валютой.
А рядом, на Литейном, в доме, где размещалась торговля подписными изданиями, находился не менее замечательный отдел букинистической торговли «Академкниги». Здесь можно было недорого приобрести подборку сочинений неокантианцев: Вильгельма Виндельбанда, Генриха Риккерта и многих других классиков европейской мысли.
Поэтому в наших разговорах с Иосифом, а впоследствии, с Геннадием Шмаковым, совершенно естественно возникали имена Освальда Шпенглера, Бродера Христиансена, Бернарда Кроче и многих других.»
На «посиделках» в Ленинградском Доме ученых (Дворцовая наб., д.26 )можно было услышать и обсудить невероятно информативные и поражающие воображение сообщения Вячеслава Всеволодовича Иванова, академика Иосифа Абгаровича Орбели, Юрия Валентиновича Кнорозова, впоследствии ставшего ученым с мировым именем и других.
Становились событиями духовной жизни появлявшиеся тогда оригинальные и дерзкие философские сочинения, решительно раздвигавшие интеллектуальные горизонты:
А.А Зиновьев. Философские проблемы многозначной логики -1960; Э.В.Ильенков. Идеальное –1962.; Ю.Н.Давыдов. Труд и свобода – 1962; А.А Зиновьев. Логика высказывания и теория вывода – 1962; П.П.Гайденко. Экзистенциализм и проблема культуры- 1963; Ю.М.Бородай. Воображение и теория познания(К критике кантовского учения о продуктивной способности воображения) – 1966; Ю.Н.Давыдов. Искусство и элита – 1966; К.М.Кантор. Красота и польза. Социологические проблемы материально-художественной культуры – 1967; Зиновьев А.А. Основы логической теории научных знаний – 1967.
Между прочим, серьезным поводом для продуктивных размышлений и споров оказывались – как это ни парадоксально – программные сочинения, рожденные в разных, казалось бы, несопоставимых, сферах жизни и творчества: Генрих Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. –М.:Государственное музыкальное издательство, 1958; Махатма Ганди. Моя жизнь. – М.:Издательство восточной литературы, 1959; Алексей Буров. Об архтектуре. – М.:Стройиздат, 1960; Фрэнк Ллойд Райт. Будущее архитектуры. – М.:Стройиздат, 1960; Лосев А.Ф. Гомер. М.:Государственное учбно-педагогическое издательство, 1960; М.Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. – М.:Художественная литература, 1963; Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.:Художественная литература,1965; А.Лосев. История античной эстетики. Ранняя классика.- М.:Искусство, 1963; В.Лазарев. Андрей Рублев и его школа. –М.:Искусство, 1966; М.Лифшиц. Кризис безобразия. – М.: Советский художник,1968.
Кстати, скандальное обсуждение книги Лифшица было организовано М.Сапаровым в зеленом зале Зубовского института(ныне Российский институт истории искусств)при участии Н.Изергиной, М.Эткинда, Е.Эткинда, Л.Копелева, М.Кагана, Ю.Кремлева, Г.Фридлендера, М.Коралова, Н.Козюры, Г.Пузиса, А.Кушнера и многих других. На дискуссию приглашался и сам М.Лифшиц, но его приезд не состоялся.
"Незабываемое впечатление произвела на нас встреча с великим американским поэтом Робертом Фростом.
Утром 4 сентября 1962 года Фрост посетил дачу академика М.П.Алексеева в Комарово( причем на встрече присутствовала А.Ахматова), а вечером того же дня он выступил в Пушкинском Доме. И уж не помню, каким образом, но мы с Иосифом оказались там в конференц-зале во втором ряду."
"Не следует забывать и то, что нам были доступны и тексты многих литературных произведений, официально не признанных и даже запрещенных. В частности: «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Собачье сердце» Михаила Булгакова; зарубежные издания: нью-йоркский трехтомник Осипа Мандельштама, книги Федора Степуна, Бориса Вышеславцева, Льва Карсавина, Николая Бердяева…"(См.М.А.Сапаров Прогулки с Бродским. с91-92)
[18] К сожалению, мемориальная доска, установленная на доме Мурузи, «увековечивает» заведомо ложную дату, утверждая, что в этом доме Иосиф Бродский жил с 1955 года, а не с 1949, как это было на самом деле.
Выбитое на камне быстро перекочевало в многочисленные издания. Например, даже биограф поэта, Лев Лосев(Лифшиц) в монографии, выпущенной издательством «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», механически повторяет эту ошибку.(См.: Лосев, Л.- Иосиф Бродский. – М.: Молодая гвардия, 2008)
К тому же, эта памятная доска расположена не со стороны улицы Пестеля,где реально находилась квартира Бродских,а со стороны Литейного проспекта. Как справедливо писал Юрий Пирютко :"На доме Мурузи был установлен кусок гранита с портретом Иосифа Бродского. Но гораздо раньше кто-то прямо на стене написал углем "Здесь жил Бродский" И в этом простодушном свидетельстве наличествовало обаяние подлинности. Тем более, что надпись, действительно, - у парадной на Пестеля, через которую поэт подымался в свою коммуналку, - тогда как мемдоска из соображений престижности отнесена на фасад с Литейного"( Навеки в истории.Мемориальная доска - своеобразный жанр петербургской лирики // Puls. - 1999. - июнь).
Дело в том, что доска проектировалась, изготовлялась и устанавливалась в рекордно короткие сроки (менее, чем за четыре месяца со дня смерти поэта 28 января 1996 г.). Не думаю, – утверждал М.Сапаров в интервью газете “Sankt-Peterburg times”, - что эта мемориальная доска хоть в какой-то степени соответствует стилю и масштабу поэзии И.Бродского, а главное – его жизненным принципам.
Во-первых, барельеф изображает человека, даже отдаленно на Иосифа не похожего. И ему придана та показная «поэзообразность», которая была глубоко чужда Бродскому и над которой он обычно издевался.
Во-вторых, Иосиф счёл бы неприличным, что на знаменитом «писательском» доме, где в разное время жили и работали два десятка поэтов и прозаиков, составляющих славу русской литературы, запечатлено лишь одно его имя."
Громким событием избирательной кампании Анатолия Александровича Собчака должно было стать открытие памятной доски в день рождения поэта – 24 мая 1996 года, как раз за месяц до перевыборов губернатора (которые А.Собчак все-таки проиграл).
Стремление А.Собчака заручиться поддержкой нобелевского лауреата, сделать его своим политическим козырем стало очевидным для Бродского еще в марте 1995 года. Тогда по настоятельным просьбам мэра ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов Александр Запесоцкий организовал встречу Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой с Иосифом Бродским в нью-йоркском отеле «Уолдорф Астория». (Запесоцкий А. Анатолий Собчак:жизнь по ошибке//Нева. – 2004. - №3)
Настойчивые приглашения со стороны Собчака сопровождались поистине королевскими посулами.
- А где же я буду жить? – спросил Иосиф.
- Мы поселим Вас в одном из лучших особняков, - отвечал А.Собчак.
- Хотелось бы только знать, у кого этот особняк экспроприирован, - иронически усмехнулся Бродский.
На подобного рода настойчивые «соблазнительные» приглашения – а они в разной форме продолжались вплоть до самой смерти поэта – Бродский неизменно отвечал отказом.
Впрочем, посягательства четы « Людмила Нарусова – Анатолий Собчак» на приватизацию брэнда БРОДСКИЙ на этом не завершились. 24 июня 2006 года на площади А.Собчака ( на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 26-27 линий, перед ДК им. С.М.Кирова )состоялось открытие бронзового монумента А.А.Собчаку, изваянного в мантии почетного доктора.
На правой стороне гранитного постамента, по настойчивому требованию Людмилы Нарусовой был выбит текст : Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать.
Без подписи и без кавычек.
Какая претенциозная нелепость и безвкусица!
Во-первых, приличия ради, принято ссылаться на автора копируемого стиха. А тут известные строки Иосифа Бродского вырваны из контекста стихотворения 1962 года «Стансы» с полным пренебрежением к их поэтическому смыслу. В оригинале, между прочим: «…на Васильевский остров я ВЕРНУСЬ умирать…»
Во-вторых, А.А. Собчак умер вовсе не на Васильевском острове, а вдали от Санкт-Петербурга, в Калининграде.
На задней стороне постамента закреплена полированная бронзовая доска вполне соответствующая стилистике этого рода « монументальной пропаганды»: «Фонд Анатолия Собчака», Скульптор И.Корнеев. Архитектор В.Бухаев. Гранит – ЗАО «СЗДК», Бронза – «ДЕНИС». Памятник 2006 года».
Авторские права ЗАО соблюдены – авторскими правами поэта никто не обеспокоился…
Публикация и комментарии Татьяны Алексеевой
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Ося Бродский и Мирса Сапаров - первоклассники 203-й школы. 1947 г. Ленинград.
2. Ося Бродский.1946 г.
3. Мирса Сапаров с тетей на балконе своей комнаты на фоне дома Мурузи. июнь 1946 г.
4.Ося и Александр Иванович Бродские. 1951 г.
5.На балконе дома Мурузи. 1958 г.
6. С отцом на балконе дома Мурузи. 1959 г.
7. Портрет Цары Леандр на афише фильма "Сердце королевы".
8. Мирсаид Сапаров с сыном. 1982. Ленинград.
9. Иосиф Бродский и Геннадий Шмаков. 1985 г. Париж.
10. Улица Пестеля. Справа - дом № 14. 1962 г.







|
|
Мирсаид САПАРОВ----Об организации---------------------- пространственно-временного континуума------------------------- художественного произведения. |


Академия наук СССР
Научный Совет по истории мировой культуры
Комиссия комплексного изучения художественного творчества
РИТМ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
в литературе и искусстве
Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Ленинград ,1974
Редакционная коллегия: Б.Ф.Егоров.( отв.редактор), М.А.Сапаров(составитель ),Б.С.Мейлах
Ниже помещен полный текст статьи "Об организации пространственно - временного континуума художественного произведения", опубликованной в инициированном и составленном М.А.Сапаровым сборнике "Ритм, пространство, время в литературе и искусстве". - Л.:Наука, 1974.
Мирсаид Сапаров
Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения
- 1 -
Можно ли считать категорию ритма столь же универсальной категорией художественного произведения, как категории времени и пространства? Может показаться, что категория ритма гораздо более частная, более формальная, более условная категория. Существует негласная традиция, согласно которой ритм рассматривается в числе «формальных принципов композиции». Спрашивается – насколько она справедлива?
Если действительно признать художественный ритм чем-то вроде орнаментального украшения, которого может и не быть, то вызывают удивление бесконечные свидетельства многих художников отнюдь не формалистического лагеря, провозглашавших ритм едва ли не центральной категорией искусства, чуть ли не синонимом красоты.
Английский писатель Дж. Голсуорси в одном из своих эссе пытался найти название тому уникальному свойству подлинного искусства, которое побуждает нас выйти из круга личностных переживаний и проникнуться жизнью представшего перед нами произведения. Пробовал наименовать это свойство красотой, не решился: такое уж «затасканное», неуловимое в свое многозначности слово. Тогда вспомнилось писателю, что «важнейшее свойство искусства называют также и более удачно, ритмом. А что такое ритм, как не таинственная гармония между частями и целым, создающая то, что называется жизнью; точное соотношение, тайну которого легче всего уловить, наблюдая, как жизнь покидает одушевленное создание, когда необходимое соотношение частей в достаточной мере нарушено. И я согласен с тем, что это ритмическое соотношение частей между собой частей и целого - иными словами, жизненность – и есть единственное свойство, неотделимое от произведения искусства». 1)
Такое толкование значимости художественного ритма может вызвать, да и не однажды вызывало в прошлом, немало возражений. Противники генерализации термина заметят прежде всего, что значение, связываемое с ним, не только трудно определимо, но подчас и откровенно метафорично.
Так, М.Верли в книге, посвященной обстоятельному обзору современного западного литературоведения, пишет: «Термин «ритм» в своем применении является в той мере неопределенным и непостоянным, в какой нерешенной и загадочной представляется данная проблема в целом. В то время, как ритм в общем смысле слова представляет собой «общее жизненное явление», наблюдающееся также в органической и космической жизни(Клагес, например, определяет его как «поляризованное движение» и первозданный «плеск волн» природной и душевной жизни), в литературоведении это понятие часто сильно ограничивается, превращаясь в термин определенного структурного характера, особенно в стихосложении… Кайзер предпочитает вообще ограничить понятие ритма областью стихотворного языка, не выработав, однако, особого термина для прозы. Однако термин «ритм» употребляется и более общем своем значении и в этом употреблении становится в художественном произведении равноправным стилю, выступая в качестве « осмысленного слияния воедино покоя и движения»(Теофиль Шперри), «первичного движения существования»(Эмиль Штайгер), в качестве единства изменчивости и постоянства». 2)
Исследователи, стремившиеся подвергнуть семантической критике традиционную искусствоведческую терминологию (Г.Вельфлин, 3)Д.С. Недович, 4) М.И.Фабрикант, 5) неизменно задавались вопросом, насколько правомерно применение временных категорий (например, ритма) к искусствам пространственным, а категорий пространственных (например, архитектоники) к искусствам временным. В обыденной речи, говоря о ритме, обычно связывают это понятие с танцем, движением, музыкой. Перенос этой категории в область пространственных искусств может показаться скрытым уподоблением одного вида искусства другому. Еще М.Шаслер свидетельствовал : «Многие, говоря о ритме в архитектуре, живописи, скульптуре, разумеют под этим лишь то, так сказать, общее расплавление
неподвижных форм, которое находит свое объяснение в процессе внутреннего подражания» 6)
Типичным проявлением скептицизма по отношению к привычному искусствоведческому метафоризму может служить заявление М.Бердсли: «Когда понятие «ритм» применяют к живописи, «равновесие» - к музыке, а «контрапункт» - к литературе, это чаще всего ведет к экивокам и не дает ровным счетом ничего.» 7)
Действительно, если между искусствами пространственными и временными существует некая непроходимая грань, с Бердсли придется согласиться. Более того, придется поставить под сомнение само понятие искусства как чего-то такого, что обладает некоей совокупностью инвариантных признаков. Остается лишь вслед за Б.Хейлом воскликнуть»: Что может быть общего между различными видами объектов искусства? Если сказать целостность, то это фактически ни о чем не свидетельствует, так как существует столько видов целостности, сколько существует типов художественных объектов.» 8) И в самом деле: можно ли применять категорию целостности по отношению к пространственным искусствам, зная, что целостность по самой своей сущности есть процесс? 9)
Анализ структуры художественного произведения приводит к существенному уточнению и прояснению широко распространенного деления искусств на пространственные и временные. Самая необходимость подобного деления зачастую обосновывается тем, что «пространство и время - это две основные формы существования материи, а всякое художественное творение обладает материальным бытием.» 10)
М.С.Каган, наиболее последовательно и обстоятельно отстаивающий необходимость и неустранимость пространственно-временной классификации искусств, утверждает, что « как бы ни отличались друг от друга материалы живописи, скульптуры и графики, всем им присуще пространственное бытие, тогда как бытие слова и звука чисто временное, а жест и мимика живут одновременно и в пространстве и во времени.» 11)
Не говоря уж о том, что вряд ли возможно на равных правах выстраивать в ряду "материалов» искусства такие разнопорядковые и «разнокалиберные» элементы, как слово, звук, движение, камень, жест и т.п., приходится опровергнуть представление о чисто временных и чисто пространственных элементах реальности. Ведь признавая время и пространство основными формами существования материи, марксистская философия доказывает их принципиальную неотделимость друг от друга. Это положение с предельной ясностью сформулировано Ф.Энгельсом: «…бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства» ..12) Да и как можно сомневаться в пространственности звука или же во вполне временном существовании камня? (Строго говоря, пространственность звука далеко не безразлична музыке. Стереофоничность звучания - проблема не только акустическая, но и художественная, она сознательно ставится и разрабатывается симфонизмом. А «временная протяженность» камня и краски, как будет показано ниже, делает возможным существование произведения живописи и скульптуры как эстетически целостных феноменов.)
Вот проницательное указание В.И.Вернадского, который, как известно, полагал, что следует пользоваться единым понятием пространства-времени: «Бесспорно, что и время, и пространство отдельно в природе не встречаются, они неразделимы. Мы не знаем ни одного явления в природе, которое не занимало бы части пространства и части времени. Только для логического удобства представляем мы отдельно пространство и отдельно время, только так, как наш ум вообще привык поступать при разделении какого-либо вопроса».13)
Почувствовав, по-видимому, уязвимость тезиса о «чисто пространственном» и «чисто временном» бытии различных материалов искусства, М.С.Каган в работе «Морфология искусства» подкрепляет свою теоретическую концепцию следующим рассуждением: «Искусство является не самой материальной реальностью, а ее отражением, ее образной моделью. В интересующем нас отношении это выражается в том, что оно оказывается способным, когда ему это нужно, разрывать реальное, физическое единство пространственно-временного континуума и моделировать временные отношения, абстрагированные от пространственных, или пространственные отношения, абстрагированные от временных. Или же воссоздавать их реальное единство».14)
Между тем, обратившись к контексту, в котором возникает это рассуждение, нетрудно убедиться, что речь идет не пространственно-временном континууме изображаемого явления, как логично было бы предположить, а о пространстве-времени самого произведения как физического объекта. Эта неожиданность легко объяснима : обильное использование Каганом понятий «модель», «моделирование», не является, строго говоря, терминологическим, поскольку связано с непрерывной изменяемостью вкладываемых в него значений. Если по смыслу в первой из приведенных фраз «моделировать» означает «отразить», «запечатлеть», то во второй фразе «моделировать» означает «сотворить», произвести», «материализовать». Так, настоятельно предупредив о необходимости различать онтологический и гносеологический аспекты проблемы, Каган смешивает их сразу же, как только обнаруживается невозможность утвердить онтологию «чистого пространства» и «чистого времени». Остается лишь добавить, что даже такой не слишком корректный ход не меняет сути дела, ибо искусство, как и всякая иная деятельность, не способно «расчленить» реальный пространственно-временной континуум и создавать либо «чисто пространственные», либо «чисто временные» материальные структуры.
Прежде чем спорить о правомерности «основополагающего» деления искусства на пространственные и временные, следует выяснить, какое представление о пространстве и времени лежит в его основе. Каган нигде не сообщает, какое содержание он вкладывает в термин «пространственно-временной континуум», видимо предполагая это понятие самоочевидным. Тем не менее, в образной структуре его рассуждений четко вырисовывается вполне определенный концепт: «…каждое произведение искусства, будучи материализацией некоего духовного содержания, тем самым попадает в пространственно-временной континуум, в котором реально существует все материальное»;15) «…пространственно-временной континуум есть явление чисто и только физическое, а значит, не имеющее прямого касательства к эстетической сфере».16)
В этих определениях пространственно-временной континуум оказывается своего рода вместилищем, куда материальные объекты искусства погружаются, как в пустую оболочку, причем связанные с этими объектами духовные представления с реальным пространственно-временным континуумом не соотносятся. Не трудно разглядеть в таком понимании пространства-времени категории ньютоновской физики, которые, как известно, были восприняты и преобразованы Кантом. Многократно указывалось историками эстетики,17) что долгая традиция подразделения искусств на пространственные и временные ( к которой присоединяется и Каган), восходит именно к ньютоновско-кантианскому истолкованию пространства-времени, к тому истолкованию, которое уже давно стало догмой обыденного сознания, но научная несостоятельность которого со всей очевидностью доказана с появлением неэвклидовых геометрий и эйнштейновским переворотом в физике.18)
Говоря о ньютоновской схеме, в которой пространство мыслилось как трехмерная система координат, а время как чистая длительность, чистое движение, выдающийся русский ученый С.И.Вавилов еще в 1938 году писал: «Такая схема, разумеется, неприемлема для диалектического материализма и с ним не совместима…. Фактически метафизическое учениие Ньютона о пространстве и времени с его закулисной, малоизвестной мистикой дожило до нашего времени и историческая заслуга Эйнштейна состоит в критике старых, метафизических представлений о времени и пространстве». 19)
На протяжении статьи, публикуемой в настоящем сборнике, М.С.Каган несколько раз упоминает «реальный пространственно-временной континуум» как некую среду, в которой разворачиваются реальные процессы, т.е., пространство-время оказывается у него чем-то первичным по отношению к различным явлениям, в том числе и к искусству. Между тем, говоря о времени художественного произведения, мы имеем в виду не «внешнее» по отношению к произведению метрическое время( минуты, часы, годы), которое, как справедливо замечает Каган, «затрагивает бытие статуи или здания только как физических объектов, способных разрушаться», а собственное, имманентное время произведения как эстетического феномена, не идентичное ни изображенному (смоделированному) в нем времени, ни времени восприятия.
Если говорить о произведении искусства как о вещи, то, конечно же, оно имеет свою историю, свою продолжительность существования во времени, однако эта длительность равно относима ко всем элементам физического объекта, в том числе и к таким, которые не имеют ни какого отношения к художественному образу, например, к металлическому каркасу гипсовой скульптуры или к клеевому слою, которым предварительно покрывают холст. Эта длительность, собственно говоря, не подвластна человеческой воле, кроме, может быть, воли того лица, которое решится уничтожить или повредить памятник. Иначе говоря, время, в котором находится произведение как вещь, непосредственно не соотносится со временем в произведении, которое определяется его внутренней расчлененностью и организацией. Отдельные элементы изображения сосуществуют как физические факты (красочные пятна, карандашные штрихи, заливки тушью и т.д.), однако они подчиняются внутреннему порядку, определенной последовательности, в которой выступают перед воспринимающим отдельные части и компоненты целого. Это дало основание П.А. Флоренскому ,исследовавшему вопросы об организации времени в пространственных искусствах, утверждать, что «произведение эстетически принудительно развертывается перед зрителем в определенной последовательности, т.е. по определенным линиям, образующим некоторую схему произведения и при созерцании дающим некоторый определенный ритм».20)
Ньютоновское время экстенсивно, линейно и симметрично; время же художественного произведения интенсивно, не линейно, не симметрично.21)
Обоснование онтологического различения пространственных и временных искусств в той форме, в какой проводит его Каган, содержит в себе собственно эстетический изъян, ибо конституирует, узаконивает онтологический статус произведения искусства как некоей материальной данности безотносительно к эстетическому восприятию и переживанию. Тем самым объективность художественного произведения по сути дела приравнивается к объективности любой вещи. 22)
Между тем логично и естественно рассматривать художественное произведение лишь так, как оно обнаруживает себя в человеческом восприятии. Ведь произведение искусства предназначено для людей, а не для автоматов-перцептронов, способных безлично, объективно «созерцать», запечатлевать и «перерабатывать» представшее перед ними. Вне человеческого восприятия художественное произведение существует лишь как объективная возможность, эстетическая же реальность произведения, объективность которой обусловлена всей совокупностью культурно-исторического бытия, а не только вещественной неизменностью артефакта, актуализируется лишь в восприятии, «подключенном» к соответствующей культурно-исторической общности.
И здесь нет смешения онтологического и гносеологического аспектов искусства, как это зачастую представляется. Бытие художественного произведения, в отличие от бытия физического объекта ( а с тем, что они не тождественны, трудно не согласиться) предполагает его слитность с субъектом искусства, который выступает как принцип организации, оформления материала в соотнесенности с человеческим восприятием и человеческой способностью к эстетическому переживанию.
«При определении предметов искусства оказывается бессмысленным проводить традиционное различение объекта и субъекта, реального и воображаемого, т.е. формы искусства являются одновременно и внешним предметом, вещностью, и тождественно равным ему внутренним идеальным квазипредметом, фигурой сознания. Соответственно достаточным обеспечением художественных форм не может быть только «бытие» или только «сознание», а является именно взятое в единстве моментов непосредственно, в «объективной форме вещей» (Маркс) себя «самосознающее бытие», иначе говоря, общественно объективный феномен культуры, выступающий на стороне объекта в виде форм предметов очеловеченной природы, на стороне субъекта - в виде определенной способности, субъективной человеческой ( «теоретизированной», по выражению Маркса) чувственности», - справедливо пишет А.А.Пэк 23)
В живом человеческом восприятии всякое произведение искусства предстает как некая организованная последовательность сменяющих друг друга элементов, некоторая, выражаясь техническим языком, развертка. Музыкальное произведение воспринимается как последовательность звуков, а фильм - как последовательность кадров. Достаточно очевидна и временная структура стихотворения, повести, пьесы. Но можно ли сказать то же самое о живописи, скульптуре и архитектуре, структура которых зачастую определяется как статичная, чисто пространственная, одномоментная?24)
Как нам уже приходилось писать 25), в человеческом восприятии статический объект - произведение живописи, скульптуры, зодчества - неминуемо развертывается во времени как последовательность образов. По своей временной структуре произведение живописи разворачивается в зрительном восприятии аналогично тому, как при чтении разворачивается литературный текст, материальная фиксация которого, кстати, столь же статична и пространственна, как живописное полотно или скульптура.
Авторы, сопоставлявшие чтение с восприятием произведений изобразительного искусства, отмечали роль времени в формировании эстетического результата обоих процессов. 26) Английский писатель Дж. Кэри, в частности, отмечает: «Что происходит в процессе чтения? Поначалу читатель воспринимает текст чисто физиологически. Фактически перед читателем предстают лишь сочетания знаков, нанесенных на бумагу. Они инертны и бессодержательны сами по себе. Они не способны передать ему что-либо «своими собственными силами».чтение есть творческий процесс, подчиняющийся тем же самым правилам, тем же самым ограничениям, что и духовная деятельность, посредством которой человек, созерцающий произведение искусства, обращает глыбу камня, краски, нанесенные на полотно, т.е., вещи сами по себе ничего не значащие, в осмысленное впечатление»27)
См. продолжение
|
|
Мирсаид САПАРОВ----Об организации---------------------- пространственно-временного континуума------------------------- художественного произведения. |

Мирсаид Сапаров
Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения
- 2 -
Содержательная монография А.Л.Ярбуса "Роль движений глаз в процессе зрения"28) развенчивает старый миф о единовременности восприятия пластических искусств. Глаз видит только в тот момент, когда он фиксирован на определенной точке. Но неподвижность его приводит к быстрой утрате чувствительности, и поэтому взгляд совершат непроизвольный скачок. Таким образом, любое изображение складывается в восприятии как своеобразная сетка фиксаций взгляда.
Многочисленные записи движений глаз при рассматривании различных произведений изобразительного искусства, осуществленные Ярбусом и приводимые им в вышеупомянутой книге, дают обильный материал для размышления. В частности, обнаруживается, что скольжение взгляда по картине определяется не только физиологическими закономерностями, но прежде всего строго детерминировано самим произведением и соответствующими навыками художественного восприятия.29)
Еще О.Роден, разбирая композицию «Паломничество на остров Киферу» А.Ватто, показал, что соединение в изображении последовательности разновременных событий раскрывает свой художественный смысл лишь в том случае, если иметь в виду, что в восприятии оно предстанет в соответствующей последовательности.30) Говоря о передаче движения в известной скульптуре Рюда «Марсельеза», Роден отметил, что в ней соединились положения различных частей тела, соответствующие последовательным моментам движения. Аналогичные наблюдения высказывались впоследствии А.Матиссом.
Итак, только благодаря тому, что изображение разворачивается в последовательности разновременных кадров, разновременно воспринимаемых, оказывается возможной передача движения в пластике и живописи.31)
Советский график и теоретик искусства В.А.Фаворский, неоднократно обращавшийся в своих статьях к проблеме времени, полагал, что «композиция – это и есть соединение разновременного в изображении.»32) Бинокулярность человеческого зрения, по мнению В.Фаворского, предопределяет последовательное разложение элементов статичной композиции в художественном восприятии. «Если художник передает пространство, - пишет Фаворский, - то в силу того, что он изображает обычно больше того, что он может одновременно увидеть, передавая в изображении точку зрения, а точки зрения важно передать правдиво, он невольно встретится с боковыми областями и принужден соединить разновременное… но если мы остановим модели и сами остановимся, то все равно будет время в нашем восприятии, так как мы обладаем двумя глазами – бинокулярностью.» 33)
Действительно, если представить, что перед нами глубина, которая делится на планы, то там, где глаза конвергируют, возникает одно изображение, там, где не конвергируют, - два. Так, если мы имеем перед собой четырехплановое пространство, то, глядя на первый план, мы видим, что двоится второй, третий и четвертый. Если смотрим на второй план, то двоится первый, третий и четвертый. Иначе говоря, бинокулярность предполагает последовательность взглядов. Это и позволяет сказать, что «в бинокулярности заключено время в очень сжатом виде»34) (Повседневный пример – окно, переплет окна. Если видишь раму – пейзаж расплывается, смотришь на пейзаж - рама двоится).
По наблюдению Фаворского, и рублевская «Троица», и греческий рельеф построены таким образом, что в восприятии само изображение приобретает движение.
Имманентная произведению искусства развертка еще легче выявляема в скульптуре. Так, статуя как бы слагается из нескольких ракурсов, которые сильно отличны друг от друга и зависят от положения наблюдателя. Ваятель, предполагая определенную последовательность точек зрения, соединяет их в определенном отношении, причем обработанный массив мрамора или бронзы «закрепляет» это соотношение. При осмотре круглой скульптуры зрителю последовательно в пластическом соподчинении открываются различные профили и проекции, сочетания тени и света. Иначе говоря, движение зрителя лишь воспроизводит последовательное раскрытие эстетического комплекса произведения.
Это же соображение справедливо для собора или архитектурного комплекса. Когда собор воспринимается эстетически, его рассматривают последовательно и он понемногу возникает как целое, слагаясь из различных видов, которые никак не могут быть наблюдаемы одновременно. Э.Сурио, специально проанализировавший этот процесс в статье «Время в пластических искусствах», пишет «Шартрский собор…рассматриваемый издалека, или вблизи, со двора собора, наконец, изнутри (если войти в западную дверь или через ряд имеющихся перспектив медленно приближаться к хорам), раскрывает в каждом аспекте абсолютно разные художественные стороны, которые невозможно видеть одновременно. Разумеется, физическая структура, включающая эту последовательность сторон, остается материально неизменной. Но это не существенно. Диск, на который записывается музыкальное произведение, также остается материально неизменным. Но диск, однако, это только средство для упорядоченного воспроизведения произведения, сам по себе являющийся формой последнего, которая регулирует исполнение».35)
Таким образом, произведение изобразительного искусства или архитектуры становится объектом эстетической оценки, если оно «исполнено», развернуто в восприятии. И в этом оно вполне сходно с симфонией или поэмой.
Реальное различие между искусствами, традиционно именуемыми пространственными, и искусствами временными выражается прежде всего в различии способа детерминации исполнения. 36) Действительно, в музыкальном, театральном или хореографическом произведении порядок следования образов заранее предопределен, постоянен, точно выверен и окончательно зафиксирован. В живописи, скульптуре или архитектуре жесткая фиксация отсутствует. Предполагается, что зритель волен стоять там, где ему заблагорассудится, передвигаться по желанию в любом направлении или же оставаться долгое время на одном и том же месте, меняя лишь направление взгляда. Порядок, которому он следует при рассмотрении предмета, в огромной степени зависит от него самого, а скорость перехода от одной точки к другой и, следовательно, общая продолжительность восприятия остаются «абсолютно неопределенными и неопределимыми.» 37)
Отсюда, однако, вовсе не вытекает, что последовательность развертывания пространственных искусств лишена детерминации и абсолютно произвольна. Само понятие художественного произведения в отличие от артефакта, физического объекта – носителя произведения искусства, предусматривает целенаправленную управляемость восприятия.
П.Флоренский писал об этом в своем главном искусствоведческом труде «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях» : «Ничто не мешает мне разрывать клубок ниток где попало или где попало раскрывать книгу, но если я хочу иметь цельную нитку, я ищу конец клубка и от него уже иду по всем оборотам нити. Точно так же, если я хочу воспринять книгу как логическое или художественное целое, я открываю ее на первой станице и иду согласно нумерации страниц последовательно. Изобразительное произведение, конечно, доступно моему осмотру с любого места начиная и в любом порядке. Но если я подхожу к нему как к художественному, то непроизвольным чутьем отыскиваю первое, с чего надо начать, второе, за ним последующее, и. бессознательно следуя руководящей схеме его, расправляю его внутренним ритмом. Произведение так построено, что это преобразование схемы в ритм делается само собой. Если же не делается, или пока не делается, по трудности ли такого превращения, или по неподготовленности зрителя, то произведение остается непонятым. Тут нет непроходимой границы между искусствами изобразительными, вполне ошибочно слывущими за искусства пространства, и музыкой в ее разных видах, слывущею за искусство чистого времени. Ведь произведения изобразительных искусств, пока они не прочитаны и не осуществлены во времени, вообще для нас не стали художеством». 38)
Известно, что человек, читающий роман, волен замедлять или ускорять чтение, перемежать его размышлениями и возвращаться по нескольку раз к любимым отрывкам. Так что реальная продолжительность чтения одного и того же сочинения различными читателями может колебаться в весьма широких пределах. И тем не менее усвоение романа как целого предполагает строгую закономерность его становления во времени восприятия.
Точно так же любитель созерцать соборы придерживается строго установленного порядка, который обязывает рассматривать его разные стороны в определенной и иногда даже необратимой последовательности, после чего возникает целостное представление о соборе.
Э.Сурио, сопоставивший созерцании е собора с исполнением музыкального произведения, пишет о том, что квалифицированный зритель «перейдет к рассмотрению перспективы нефа только после того, как осмотрит главный портал, воспринятый как вводный аккорд. Окна трансепта покажутся ему неожиданной модуляцией (переходом из одной тональности в другую) после исполненных строгой гармонии перспектив нефа, изменяющихся с каждым шагом во всю его длину. И кто осмелится сказать, что эта упорядоченная последовательность несущественна или что ее не предвидел художественный гений архитектора?» 39)
Структурное время произведения искусства не есть, однако, время его механической развертки, простой смены одних «кадров» другими. Это время связано с накоплением и превращением качества. Его следовало бы сравнить не с временем разматывания клубка, или механического движения по прямой линии, а со временем роста и становления организма, развития когерентного целого.
Неизбежная неодновременность, сукцессивность восприятия произведения пространственного искусства преодолевается целостным, симультанным образом, который запечатлевается как результат последовательной разверстки в художественном сознании.
Если произвести усекновение структуры романа в процессе чтения, т.е., попросту говоря, приостановить чтение на каком-либо эпизоде, а затем попросить читающего воспроизвести прочитанное, он, по-видимому не сможет этого сделать, повторив освоенные главы слово в слово. Тем не менее в его сознании присутствует целостное представление о прочитанном, которое, кстати, определяет ожидание читателя, связанное с будущими главами.
Все ранее воспринятые детали объединяются, интегрируются памятью и соединяются с тем, что зритель, читатель, слушатель имеет объектом непосредственной перцепции. Деталь, сменившаяся последующей не исчезает, она преобразуется и закрепляется единством художественного произведения. Структура всякого художественного произведения представляет собой процесс, в котором элементы целого не просто выстраиваются один подле другого, а взаимопроникают друг в друга. Но это не статическое состояние слитности, а постоянное срастание. Если воспользоваться математической аналогией, можно сказать, что в каждом моменте художественной структуры присутствуют два слагаемых: интеграл развернутых уже элементов, которые сливаются в некоторое единство, растворяясь в нем, и вновь возникающий дифференциал, который тотчас сливается с интегралом, развивая его. Так, мелодия в восприятии вовсе не предстает протяженной линией, какой она является при эмпирическом рассмотрении временной последовательности. Мелодия для того, кто ее воспринимает, есть живое образование, постоянно изменяющееся и растущее, в котором прежнее сохраняется, влияя на ожидание будущего.
Иначе говоря, каждый временной срез произведения как процесса самовоспроизводящегося и синтезируемого в актуальном тождестве объекта и субъекта неминуемо объединяет:
1) уже осуществившееся, «выкристаллизовавшееся» и «затвердевшее» прошлое,
2) непосредственно переживаемое настоящее
3) еще не осуществившееся, но уже антиципируемое будущее.
Итак, аутентичная, т.е., собственно художественная структура произведения искусства обнаруживается лишь в процессе его актуализации(филогенетически – в индивидуальном восприятии, онтогенетически – в историко-культурном процессе). Эта структура, повторяем, не может быть представлена как статическая, преимущественно экстенсивная. Ибо развертывание ее, говоря словами Ю.Н.Тынянова, протекает под знаком «соотносительности и интеграции».40) Она не может быть представлена и как сугубо временная.
В каждом «сечении» произведения наличествует диалектика единовременности и последовательности, которую обозначил еще Ф.-В.Шеллинг: «Идея целого может быть показана лишь путем своего раскрытия в частях, а, с другой стороны, отдельные части возможны лишь благодаря идее целого…» 41)
В органически целостном произведении искусства элементы, питающие произведение в целом, проникают в каждую деталь, входящую в это произведение. Единая закономерность пронизывает не только каждую его частность, но и каждую область, призванную соучаствовать в создании целого. Одни и те же базисные принципы питают любую область, проступая в каждой из них своими собственными качественными отличиями.
И только в том случае можно говорить об органичности произведения, если организм мыслить так, как его определяет Ф.Энгельс в «Диалектике природы: «…организм есть, несомненно, высшее единство…» 42)
Сопоставление художественного произведения с живым организмом - одна из самых древних и неувядаемых идей. Аристотель и Платон, Юм и Берк, Гумбольд и Гете, Кольридж и Шеллинг, Гюйо и Гербарт – не говоря уже о многих современных мыслителях - по-разному. Но с одинаковой настойчивостью утверждали органичность внутреннего строения произведений искусства. В частности, Аристотель, говоря, что искусство подражает природе, имел в виду не копирование внешнего облика вещей, в воспроизведение в творческой деятельности процесса органического созидания и формирования природных предметов.
В наши дни это уподобление подразумевает, что целостное и самобытное художественное явление наделено чертами, свойственными органическому процессу: пребывает в постоянном самовосстановлении и характеризуется высочайшим уровнем саморегулирования. Об этих особенностях живого стоит сказать особо, понимая, конечно, ограниченность такого уподобления.
Каждая клетка и каждая часть организма непрерывно разрушаются, но эти разрушения постоянно восполняются восстановительными реакциями. Фактически в каждую последующую секунду живое существо не тождественно самому себе по своему «материалу». Если обмен веществ остановится хотя бы на минуту, произойдет катастрофа. Известно, что ежегодно заменяется 90 процентов атомов человеческого тела. Хотя в течение года лишь незначительная часть телесного вещества не подвергается замене, форма и функции тела сохраняются или же изменяются постепенно. Объясняется это тем, что тело поддерживает свою форму в текучем равновесии. Последнее является состоянием постоянной относительной неизменности во времени и пространстве, в материальном и энергетическом отношении.
Явление «метаболического вихря» позволяет уяснить существенную закономерность, скрытую от обыденного взгляда: бытие организма, который кажется нам наиболее индивидуализированным образцом конкретной предметности, оказывается сложной структурой процессов. Его целостность – сугубо функциональная целостность.43)
Организм представляет собой иерархически организованную структуру организованных процессов, координация и согласованность которых между собой позволяют ему достичь высокой степени адаптации. Испытывая самые различные воздействия, подвергаясь множеству случайностей, живая целостность сохраняет себя и, вовлекая извне чужеродный «вещественный материал», разрушает его и преобразует в живую материю.
Л.Берталанфи пишет: «Многие особенности органических систем, которые часто считались виталистическими или мистическими, являются ничем иным, как следствие характера их систем, находящихся в текучем равновесии. Если организм является открытой системой, то для него должны сохранять свою силу принципы, которые вообще действительны для системы этого рода, такие, как сохранение стационарности в перемене, динамический баланс процессов, эквифинальность и т.д. – совершенно независимо от того, какого рода бывают необычайно сложные взаимосвязи и процессы, которые, как правило, господствуют между его системами».44)
Художественное произведение в восприятии, т.е. в своем актуальном бытии, оказывается информационным процессом, который по сплособу организации приближается к органическому процессу. Будучи открытой системой, произведение-процесс вовлекает в себя глубочайшие пласты субъективного опыта. Каждая «клетка» художественной ткани проникается субъективностью воспринимающего, несет в себе нечто неповторимо личностное. Однако, попадая в художественный организм, элементы субъективного опыта преобразуются художественной целостностью, претерпевают глубокие изменения и обретают имперсональность. Вариабельность и случайность индивидуального опыта «поглощаются» инвариантностью и универсальностью художественного единства.
Произведение искусства тождественно самому себе и в историко-культурном процессе, и во множестве индивидуальных восприятий благодаря особенностям своей внутренней организации, а не только в силу материальной неизменности артефакта.
Основной формой пространственно-временной организации художественного единства является ритм. Говоря здесь о художественном ритме, мы, разумеется, имеем в виду ритм живого, а не простую механическую повторность, которая в обиходе зачастую именуется ритмом. Теория, связывающая ритм с буквальной повторяемостью и регулярным возвращением одних и тех же элементов, была остроумно названа Д.Дьюи «тик-так» теорией. 45) Монотонное, автоматизированное повторение дробит внимание и разрушает цельность впечатления. Художественный ритм создается не буквальным повторением какого-либо выразительного элемента, а его претворением в новой, постоянно возобновляющейся художественной целостности, его интонированием и акцентированием.
В этом плане ритм оказывается категорией художественного смыслообразования.
Поскольку художественное произведение в отличие от развертки артефакта в восприятии нелинейно, а художественное время отнюдь не идентично физическому, (например, времени физических экспериментов), субъективно и антропологично, необратимо и неделимо на части – отсюда следует, что ритм отнюдь не сводится к чередованию некоторых элементов, к закономерности чередования. Повтор в структуре художественного произведения связан с накоплением качества, трансформацией смысла, а посему он не тавтологичен; более того – он неповторим.
Категория ритма может быть правильно понята и истолкована лишь посредством категорий развития и становления. Прекрасно об этом сказал С.Михоэлс: «Ритм начинается именно там, где есть процесс развития. Ритм имеет определенную целеустремленность. И говорить о ритме можно тогда, когда есть процесс, когда мы наблюдаем развитие явления…Ритм предполагает непрерывное развитие через противоположности, через препятствия: ритм есть выражение борьбы, чувство диалектического. Следовательно, думать о том, что может быть ритмичным в отрыве от идеи, в отрыве от идейного замысла, в отрыве от того, что тебя окрылило, в отрыве от того, заставляло твой голос произносить текст Шекспира, Островского, Шолом Алейхема, - думать, что можно вдруг освободиться от всего этого и отдаться ритму, невозможно».46)
Произведение искусства являет собой диалектику объективного и субъективного. Единство и противоборство этих двух начал составляет и существо ритма. При этом художественный ритм неизбежно предполагает определенную субъективную активность и вне ее мыслиться не может.
Актуализация структуры художественного произведения связана в автокорреляцией между прошлым и будущим. То, что уже воспринято к определенному «сечению», «моменту» произведения, создает установку на последующее восприятие, предваряет его: «Понятие ритма связано с понятием ожидания: после какого-то события ожидают следующего, и это является критерием ритма… ожидание не является уверенностью, ожидание – это надежда, точнее, своеобразное пари, основанное на предшествующем: в каждый момент индивидуум, находящийся под воздействием ритма, «бьется об заклад», что в конце примерно того же временного интервала явление повторится…»47)
Попытка определить ритм через несовпадение каузального и казуального, диалектику ожидаемого и неожиданного была предпринята А.Белым в талантливой книге «Ритм как диалектика», математическая сторона которой оставляла, однако, желать лучшего.48) Белый показал, что ритм есть взаимодействие между смысловым повтором – интонацией, и повтором бессмысленным, механическим отсчетом метра. Таким образом, по Белому , ритм – элемент стиха, противосопряженный метру, уклоняющаяся от метра совокупность замедлений и ускорений стиха.
Мысль Белого о диалектической природе художественного ритма не может быть ограничена областью стиховедения. В 1930-е годы понимание ритма как диалектики было развито в применении к различным искусствам (Б.Асафьевым – к музыке; Н.Тарабукиным – к живописи ; Д.Недовичем – к скульптуре).
При этом ритм как интегральная категория художественного произведения не может быть, естественно связан исключительно ни с временным, ни с пространственным началом. А.Э.Бринкман справедливо указывал: «Схватывание ритмической связи может протекать во временной последовательности, но высшее осмысление, осознание ритмической группы основывается на одновременном представлении целого, даже когда аналитическая функция рассудка скрыта и последние выводы делает эстетическое восприятие».49)
Таким образом, ритм выступает как специфический способ организации пространственно-временного континуума художественного произведения, по разному обнаруживающий себя в различных видах искусства, но при этом оказывающийся непременным условием всякой художественной целостности.
Примечания:
1)Голсуорси Дж. Туманные мысли об искусстве // Собр.соч. в 16-ти томах. -
Т.ХVI. - М.: Изд-во «Правда».1962, С.331.
2)Верли М. Общее литературоведение. – М.: ИЛ, 1957. - С.133, 134.
3)Вельфлин Г. Истолкование искусства. – М.: Изд-во «Дельфин», 1922.
4)Недович Д.С. Задачи искусствоведения. - М.: Гос. Академия художественных наук, 1927.
5)Фабрикант М.И. Вопросы научно-художественной лексикографии // «Искусство», 1928, т.IV, кн. 1 – 2. - С.77-82.
6)Цит. по: Гросс К. Введение в эстетику. - Киев-Харьков, Южно-русское книгоиздательство Ф.А.Иогансона, 1899. - С.168.
7)Beardsiey М. Aesthetics. - New York, 1962. - P.78.
8)Heyl В. New Bearings in Aesthetics and Art Criticism. - New Haven, 1952. - Р.16.
9)Самойлов Л.Н., Зубков И.Ф. «Целостность» как категория материалистической диалектики и ее место в системе категорий // Вестник Московского государственного университета. - 1965, №2 (Серия VIII, Экономика, философия). См. также: K.-E.Tranoy. Wholes and Structures (An Attempt at a Philosophical Analysis).- Copenhagen, 1959. -Р.221 и др.
10) Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике, ч.II. – Л.:Изд-во Ленинградского университета, 1964. – С.55.
11)Там же.
12) Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.20. Изд. 2-е. – М.: Госполитиздат, 1961.- С.51.
13) Cм: дневниковую запись В.И.Вернадского от 11 января 1885 г.(Вопросы философии, 1966, №12).
См. также: Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Известия АН СССР, VII серия, Отделение математических и естественных наук, 1932. - №4. Ср.: Аронов Р.А. Взаимоотношение пространства и времени и пространства-времени //Научные доклады высшей школы, Философские науки. - 1972. - №4. - С.35-43.
14) Каган М.С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1972. - С.276.
15) См. статью М.С.Кагана в настоящем сборнике (с.27).
16) Каган М.С. Морфология искусства, с.275. – Кстати, все свойства пространства и времени нельзя свести к физическим. Многообразие форм движения материи предполагает, что при общих физических основах существуют качественно различные пространственно-временные формы, соответствующие различным видам движущейся материи. Отличительные свойства биологических объектов, психических феноменов, различных социальных образований и, в частности, художественных явлений связаны с особенностями их пространственно-временной структуры.
17) Souriau E. Time in the Plastic Arts // Reflactions on Art. – New York, 1961.
18) Hauser A. The conception of Time in Modern Art and Science // Partisan Review - 1956. - №3, p.333.
19) Вавилов С.И. Новая физика и диалектический материализм // Под знаменем марксизма. - 1938. - №12. - С.29-30.
20) Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях ( цитируется по рукописи. хранящейся в архиве К.П.Флоренского).
21) Не имея возможности в пределах данной статьи остановиться на подробной характеристике этих свойств времени, укажу следующую литературу.:Уитроу Дж. Естественная философия времени. - М.: Прогресс, 1964; Аскин Я.Ф. Проблема времени. Ее философское истолкование. - М.: Мысль, 1966; Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. - М.: Прогресс, 1969; см. также: Урманцев Ю.А., Ю.П.Трусов. О свойствах времени // Вопросы философии. - 1961. - №5.
22) Доказывая, что художественная форма материальна и отождествляя ее с физической формой артефакта, Каган приводит высказывание К.Маркса о том, что «…физические свойства красок и мрамора не лежат вне области живописи и скульптуры»(см.: К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.46, ч.1. Изд. 2-е. М.,Госполитиздат, 1968, с.118). Однако, отсюда не следует, что все физические свойства объекта, репрезентирующего произведение, суть художественные свойства искусства, в равной мере участвующие в создании художественного образа. Так, весовые и прочностные характеристики красочной поверхности, не воспринимаемые визуально, представляют интерес для специалиста по сопротивлению материалов, но безразличны и не проявляемы в процессе эстетического созерцания, а различные по физическим свойствам материалы, в обычных условиях зрительного восприятия принимаемые за тождественные, не обнаруживают своего несходства при тиражировании произведения искусства: например, поливинил-ацетатная
темпера на глаз неотличима от обычной темперы, хотя и неадекватна последней по своим физическим и химическим качествам. В теории искусства категория материала имеет иное наполнение, чем в физике. «Материал искусства, - писал И.И.Иоффе, - семантичен и сюжетен», т.е. опосредуется системой культуры. ( см.: .Иоффе И.И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. – Л., 1937, с.121).Так, цемент был известен строителям и в начале ХIХ века, но только после опытов Корбюзье стало возможным использование его в архитектуре как эстетически значимого материала.
23) Пэк А.А. К проблеме бытия произведений искусства // Вопросы философии. - 1971. - №7. - С.86.
24) Каган М.С. Морфология искусства, с.277.
25) Сапаров М.А. Художественное произведение как структура // Содружество наук и тайны творчества. - М.: Искусство. - 1968. - С.165-168..
26) Асмус А.С. Чтение как труд и творчество // Вопросы литературы. - 1961. - №2.
27)Cary J. Art and Reality. (WaysofCreativeProcess). - New York, - 1959. - Р.119- 120.
28)Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения. - М.:Наука. 1965.
См. также: В.П.Зинченко. Движение глаз и формирование образа // Вопросы психологии, 1958, №5; А.В.Запорожец. О действительном характере зрительного восприятия // Доклады АПН СССР, 1962, №1.
29) M.Segall, D.Campbell, M.Nerskovits. The influence of Culture on Visual Perception. - New York. - 1966.
30) О.Роден. Искусство. Ряд бесед, записанных П.Гзель. - Спб.: Огни, 1914. - С.72.
См. также: П.Гзель. Искусство Родена // Роден.- М.:ИЛ. - С.47-48.
31) C.Gottlieb. Movement of Painting // Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1958,September,t. XVII, №1; E.Gombrich. Moment and Movement in Art // Journal of Warburg and Courtauld Institutes, 1964, v.27, p.293-366.
32) В.Фаворский. Время в искусстве // Декоративное искусство. - 1965. - №2. - С.10.
См. также: В.Фаворский. 1)Размышления об искусстве. О «магическом реализме» //Там же, 1963, №10; 2) Содержание формы // Там же, 1965, №1; 3) О художнике, о творчестве, о книге. – М: Молодая гвардия, 1966.
33) Фаворский В. Время в искусстве, с.10.
34)Там же; См. также: Ogle K. Reseaches in Binocular Vision. – London, 1950; Gowbrich E. Art and Illusion. – London, 1960.
35) Souriau Е.Op. Cit., p.132.
36) Анализ этих различий содержится в книге: R.Arnheim. Art and Visual Perception. – Berkeley, 1953, p.307. Ср.: M.Klivar. K predmetu srovnavaci estetiky/Estetika, 1966, N3, s.284-285.
37) См. статью М.С.Кагана в настоящем сборнике (с.36).
38) Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях.
39) Souriau Е. Op. cit., p.132.
40) Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. – Л.: Academia, 1924, с.10.
41) Шеллинг Ф.- В. Система трансцендентального идеализма. – Л.: ОГИЗ – Соцекгиз, 1936, с.566.
42) Маркс К и Энгельс Ф.- Соч., т.20, с.566.
43) Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии. – М.: Мысль, 1962; Югай Г.А. Проблема целостности организма. – М.: Высшая школа, 1962.
44) Bertalanffy L. Theoretiche Biologie, Bd.2. – Berlin, 1942. – S.25 (эквифинальность - достижение одинакового конечного состояния различными путями при варьирующих начальных условиях ).
См. также: Берталанфи Л. Общая теория систем : критический обзор // Иследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969.
45) Dewey J. Art as Experience. – New York, 1934.- P.103.
46)Михоэлс С. Статьи, беседы, речи. – М.: Искусство, 1960, С. 75-76.
47) Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.: Мир, 1965. – С.121.
48) Белый А. Ритм и диалектика и «Медный всадник».Исследование. – М.:Федерация, 1931.
49) Бринкман А.Э. Пластика и пространство как основные формы художественного выражения. – М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1935.
POST SCRIPTUM
Несмотря на то. что сборник вышел в свет в усеченном виде : в частности, были удалены подготовленные М.А.Сапаровым статьи классиков общего искусствознания и эстетики (Павла Флоренского, Этьена Сурио, Джона Дьюи, Зигфрида Гидеона, Марины Скрябиной, Сюзанны Лангер и др.)появление этой книги стало событием для целого ряда гуманитарных дисциплин.
В эпоху , когда в нашем искусствознании не допускалось и мысли о герменевтике искусства (кстати, публикуемая статья М.А.Сапарова не избежала поспешных и исключительно агрессивных обвинений в отступлении от "марксистко-ленинской эстетики" и уступкам буржуазной феноменологии), автор приходит к оригинальному и продуктивному пониманию художественного произведения как процесса. При этом он осмысляет как взаимодействие различных ветвей искусствознания, так и неопровержимые доводы наук естественно-научного цикла.
В основу этой статьи лег доклад 1), прочитанный М.А.Сапаровым на открытии симпозиума "Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве" 21 декабря 1970 года в конференц-зале Президиума Академии наук СССР ( Москва, Ленинский проспект, д.14). Организаторами симпозиума были Научный совет по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР, Комиссия комплексного изучения художественного творчества ЛО СП СССР и АН СССР. На открытии присутствовали : президент АН СССР М.В.Келдыш, академики А.Б.Мигдал, Б.В. Раушенбах, Вяч.Вс.Иванов; критики и литературоведы : Д.Д.Благой, И.Л.Андроников, А.В.Михайлов, В.В.Бычков, В.Н.Турбин и другие.
Статья "Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения", впервые конкретно поставившая в нашей эстетике вопрос об онтологическом статусе и способе существования художественного произведения как объективной реальности особого рода, оказалась необычайно востребованной.
Она была переведена на многие европейские языки : немецкий , французский, польский, чешский, .венгерский 2) и др.
Видный польский философ и эстетик Стефан Моравский в статье "Три взгляда на языки искусства"3),опубликованной в международном философском журнале "Erkenntnis", писал: "Имманентные свойства художественного смыслообразования - как это оригинально и убедительно продемонстрировал М.А.Сапаров - органически обусловлены специфической организацией пространственно-временного континуума произведения искусства".
1.Сапаров М.А. Функции ритма в пространственно-временном континууме художественного произведения // Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве» :Тезисы и аннотации. 21-25 декабря 1970 г. – М.: Советский писатель, 1970. - С. 16-17.
2. См. Например : Saparow M. Die Organisation des Raum-Zeit Kontinuum und Literatur // Kunst und Literatur. – 1976 - №2. – S.195 – 207.
3. Morawski, Stefan. Three observations on languages of art // Erknenntnis, 1978, № 12– P.125.
Послесловие и комментарии Т.В.Алексеевой.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1.Эжен Делакруа (1798-1863). Нападение тигра на лошадь. 1825-1828 г.г. Лувр.
2.Теодор Жерико(1791-1824). Скачки в Ипсоме. 1821 г. Лувр.
3.Эдвард Мейбридж(1830-1904). 12 моментальных снимков, запечатлевших фазы движения галопирующей лошади. 1877. Калифорния.
4.Жан Антуан Ватто (1684-1721). Паломничество на остров Киферу. 1717. Лувр.
|
|
Мирсаид САПАРОВ : ТРИ "СТРУКТУРАЛИЗМА" И СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА |
Мирсаид Сапаров
ТРИ "СТРУКТУРАЛИЗМА" И СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
Ниже публикуется полный текст проблемной статьи М.А.Сапарова "Три "структурализма" и структура произведения искусства", впервые опубликованная на страницах журнала "Вопросы литературы" в №1 за 1967 год в ходе полемики , посвященной принципам структурной поэтики и возможностям так называемого" комплексного "изучения литературы и искусства, предполагавшего взаимодействие методов точных и естественных наук- с одной стороны. и литературоведения и искусствознания- с другой. В дискуссии приняли участие Вяч.Вс. Иванов, Ю.М.Лотман, И.И.Ревзин, А.К.Жолковский, В.В.Кожинов, Ю.К.Щеглов, П.В.Палиевский, Л.М.Коган и др.
Статья М.А.Сапарова, представившая новый для отечественной науки взгляд на способ существования произведения искусства получила множество откликов как в России, так и за рубежом. Она была переведена во многих европейских странах и в США. См.. например : Saparow M. Harom "structuralizmus" es аmüalkotas strukturäja. Helikon, Budapest, 1967, N 3-4, p. 405-41. Saparov M. Das Literarische Werk als Struktur. -Kunst und Literatur, 1970, IT 3, S. 293-308. Saparov M.Troi structuralisms et structures de’ l’oeuvre d’art // Cercle culturel de Royaumont, Paris. – Juin. – 1967. – P.97 - 103; и др..
Послесловие и комментарии Т.В.Алексеевой
1. Saparov
Во всяком научном споре немаловажно выяснить, как различные его участники определяют предмет обсуждения. Ведь тождественность используемого термина может скрадывать существенное различие связываемых с ним понятий. Именно так произошло в нынешней дискуссии о «структурной поэтике». И..Ревзин и В..Кожинов называют «структурализмом» литературоведческое направление, которое, рассматривая искусство как «особым образом организованный язык», применяет к его изучению методы структурной лингвистики. «Структурализм» же, о «безнадежной» ограниченности и косности которого настойчиво пишет П..Палиевский, нечто гораздо более широкое - общенаучный метод «ясно функционального расчленения предмета и «исчерпания» его законов и элементов так, чтобы их всегда можно было повторить и воспроизвести»[1]. Поэтому П..Палиевский отстаивает «классическое» литературоведение от «посягательств» не только структурной лингвистики, но и вообще естественных и точных наук, где упомянутый «метод», как представляется критику, получил распространение.
Даже сама мысль о методологическом сближении литературоведения с этими «системообразующими» дисциплинами, представляющаяся критику кощунственной, включена им в понятие «структурализма». Недаром Ленинградский симпозиум по комплексному изучению художественного творчества характеризуется П.Палиевским как попытка структурализма «связать выводы разных наук»[2[, хотя из множества докладов, прочитанных на симпозиуме, лишь один имел отношение к структуралистской проблематике. Не менее любопытна такая деталь. В.Кожинов, говоря о книге Ю.Лотмана «Лекции по структуральной поэтике», замечает, что в этой интересной работе «нет… никакого структурализма в собственном смысле слова» (с.106). И это вполне справедливо. Не всякое «структурное» исследование – «структурализм». Но П.Палиевский не видит особой разницы между «структурализмом» (в своем понимании) и методологическим «принципом структуры», без каких-либо оговорок и колебаний числя Ю.Лотмана в «структуралистах»[3]. Впрочем, если учесть, что «структуралисты», по мнению П.Палиевского, представляют единственное «течение, которое стремится исчерпать неисчерпаемое»[4], нетрудно представить себе границы этого «довольно размножившегося вида научных работников». Ведь «стремление исчерпать неисчерпаемое» присуще всякой подлинной науке, хотя всякий «научный работник» отлично знает об относительности достигаемого знания, которая никогда не может быть «полностью» устранена.
Итак, П.Палиевский усматривает в «структурализме» некий методологический и одновременно мировоззренческий принцип. (Не случайно же критик обвинил И.Ревзина в позитивистском редукционизме, хотя И.Ревзин защищает идею неизбежного диалектического взаимодействия редукционистских и ирредукционистских тенденций в ходе развития любой науки, а не само «сведение» как философский принцип.) Соответственно - главные аргументы П.Палиевского идут от философии, от кардинальных философских проблем.
Но правомерно ли расширительное толкование термина «структурализм»? Тут необходимо сказать еще об одном «структурализме», к сожалению, даже не упомянутого в ходе дискуссии. Быстрое распространение структурных методов исследования привело к возникновению в западной философии довольно обширного течения, пытающегося выявить онтологическое и гносеологическое содержание категории структуры. Это течение при всей несхожести охватываемых им школ и школок характеризуется рядом устойчивых черт и получило название структурализма. Острая критика, которой подвергаются структуралистские теории со стороны современной марксисткой мысли, направлена не на принцип структуры как таковой, а на односторонние извращения его сути [5]. Что же касается чрезвычайно емкой категории структуры, то она «взята на вооружение» многими нашими философами, о чем свидетельствует не только появление специальных работ, исследующих диалектику элементов и структуры [6], но и анализ этой категории в популярных курсах марксисткой философии [7], в философском словаре.
Следовательно, есть основание, говоря о структурализме, иметь в виду некую общую гносеологическую проблему, хотя и нельзя отдавать ее в ведение структурализма. Однако рассуждения П.Палиевского об ограниченности познавательных возможностей рационализма и пределах соответствия миру «законосообразных систем», бьют именно по рационализму и «законосообразным системам», никак не задевая собственно структурализма в философском смысле слова. Это происходит, в частности, потому, что принцип структурных исследований критик сводит к рассудочному расчленению явлений на «простейшие» элементы с последующим «составлением» их (слово весьма характерное) в «модель», а смысл структуры, по П.Палиевскому, именно в наборе отдельно постигаемых сторон. Подобное понятие соответствует механистическому детерминизму ХVIIIвека, давно изжитому наукой, и сохранилось ныне лишь в обыденной речи [8], откуда, по-видимому, и позаимствовано П.Палиевским.
Достаточно познакомиться с любым мало-мальски серьезным структурным исследованием [9], к какой бы отрасли знания оно не принадлежало, чтобы убедиться: пафос структурной методологии как раз в несводимости целого к сумме. Всякое целое неравнозначно конгломерату частей, целое «пересоздает» части; выявляет их скрытые свойства; части в свою очередь несут в себе предопределение целого, выражают его природу. Пониманию целостности в ее собственном принципе и служит категория структуры [10].
В этой статье, к сожалению, невозможно сколько-нибудь подробно остановиться на всех особенностях того цельного миропонимания, которое развивает в своих выступлениях П.Палиевский [11] и которое дает некоторое объяснение отдельным суждениям и взглядам критика. Остается обратить внимание лишь на одно обстоятельство: по мнению П.Палиевского, «структурализм непригоден для объяснения….литературы, потому что его метод ни в чем не совпадает с методом самой литера туры», [12] Но спрашивается : а почему, собственно, метод литературоведения (науки) должен совпадать с методом литературы (искусства)? Ведь соответствие метода исследования его предмету предусматривает не совпадение, а существенную противоположность того и другого, обусловленную диалектикой познавательного процесса. Разгадку методологической позиции П.Палиевского не трудно найти в его философской концепции, которая объявляет жизнь не только сущностью мира и литературы, но и единственным адекватным способом их постижения. Живое открывается в своей непосредственности и «безначальности» только живому умозрению, наглядному и интуитивному, а не тому «чисто доказательному» типу мысли , который «порабощает» жизнь и саморазвитие «застылыми» формами понятия и закона. Все, что ограничено «простой логической последовательностью», становится в конце концов противоположностью развертывающегося «изнутри» содержания, а вместе с тем жизни. «Высчитать», «схватить в понятиях», по убеждению П.Палиевского, можно только нечто внешнее и косное.
Обстоятельный анализ этих положений увел бы нас далеко в сторону, но, коротко говоря, мои возражения следующем. Абсолютная гибкость, абсолютная текучесть ,отстаиваемые критиком под предлогом защиты «жизненности « познания, никуда не годны в теории, точно так же, как и в живой природе. Ни растение, ни организм не могут жить и развиваться не «костенея», не опираясь на некую твердую основу, будь то ствол или скелет, - так и наука не может не опираться на логически строгую систему понятий. Научное развитие не сводится ведь к простому отрицанию, «преодолению законов», - напротив, развитие означает прояснение всё большего круга закономерностей, объективно присущих исследуемому предмету Эти устойчивые закономерности образуют «опору» для дальнейшего поиска. Естественная осторожность по отношению к слишком рано замыкающемуся ряду мыслей не имеет ничего общего с борьбой против системы как таковой.
Напрасно П.Палиевский пытается ограничить роль понятийного мышления в познании сугубо формальными функциями. В необычайной устойчивости, «застылости» логических фигур «повинны» не косность» и «верхоглядство» рассудка , а устойчивость связей и отношений, наблюдаемых нами в объективном мире.[13]
Но допустим, что действительно возникла необходимость обогатить труд литературоведа «жизненностью» и «неисчерпаемостью» непосредственного переживания художественной ценности. Возможно ли это? Ведь всякое слово уже заключает в себе акт абстракции, отвлечения, и поэтому словесное выражение переживания весьма отлично от конкретно переживаемой реальности. И если литературовед всерьез вознамерился передать своему читателю «неуловимое в понятиях» содержание образа, ему бы следовало, наверное, попросту переписать анализируемое произведение. Во всяком случае, понятийная бесформенность, или неразбериха «в терминах и категориях», которая столь мила сердцу П.Палиевского, не способна «оживить» литературоведение. Как не расплывчаты и многозначны понятия, используемые П.Палиевским, они не становятся от этого более жизненными или жизнеподобными. Как ни иронизирует критик над последовательно логическим мышлением, он строит все свои доводы с помощью все той же логики ( хотя и лишенной последовательности). «Рассудочно-расчленяющая мысль», торжественно и публично изгоняемая, возвращается тайком, утратив свои прежние достоинства. Так не лучше ли, чем скорбеть о том, чего наука не в состоянии сделать и что, кстати, не входит в ее задачи, попытаться понять, на что же она все-таки способна, хотя в своих понятиях и не охватывает действительности во всей ее непосредственности и жизненности.
Нельзя, конечно не замечать, что рассуждения Палиевского содержат и безусловную истину : любое теоретическое исследование в области литературы и искусства должно «надстраиваться» над непосредственным эстетическим переживанием художественной ценности, неповторимого и целостного феномена. И если иной аналитик не наделен способностью живо чувствовать искусство, не обладает необходимым эстетическим опытом, то никакие логические ухищрения не спасут его писаний от никчемности. Когда «научность, как методика», призвана восполнить природную невосприимчивость исследователя, она становится чрезвычайно опасным злом.
Все это верно. Но следует ли отсюда, что строгие и точные методы вообще «неприложимы» к искусству. Что закономерности, в нем обнаруживаемые, не соответствуют его существу и не могут быть полезны художнику, что « неразбериха в терминах и категориях» - неотъемлемое свойство искусствознания и т.д. и т.п.?
Более двадцати лет назад, как бы предвидя все эти вопросы, С.Эйзенштейн ( которого ведь не заподозришь в «эстетической невосприимчивости») полемически посвятил свою книгу «Неравнодушная природа» «трагической памяти искателя Сальери». Без «все уточняющихся точных данных о том, что мы делаем… - писал С.Эйзенштейн, - ни развития нашего искусства, ни воспитания молодежи быть не может». Труды режиссера дают нам прекрасный образец того, как должно, не убивая «динамику» и «моцартовскую жизнерадостность» искусства, «подслушивать и изучать не только его алгебру и геометрию, но и интегралы и дифференциалы» [14]. Тем же стремлением к точности пронизаны теоретические изыскания таких крупных художников, как Б.Асафьев и В.Фаворский, П.Хиндемит и Ле Корбюзье. Этими именами вдохновляются ныне сторонники структурного изучения искусства.
* * *
По опыту некоторых наук известно, что «категории элементов и структуры и их диалектика в ряде случаев значительно шире, глубже и точнее отражают объективные связи и отношения, чем категории содержания и формы» [15]. Понятие «структуры» уже понятия «формы», ибо выражает только один аспект последней – внутреннюю организацию предмета, закономерность взаимосвязи его компонентов, причем далеко не любого предмета, а только целостной системы. С другой стороны, понятие структуры не представляет собой лишь конкретизации, уточнения понятия формы, поскольку в структуре предмета запечатлена диалектика «формы» и «содержания» [16]. Однако емкость и универсальность философской категории структуры сами по себе еще не доказывают необходимости и правомерности структурного подхода к эстетическим проблемам, к анализу произведения искусства. Метод не может быть навязан науке априори, извне; о его действенности нельзя судить в отрыве от тех специфических задач, которые эта наука решает.
Проблема, которая побуждает современную эстетику обратиться к структурной методологии, существует не одну тысячу лет. Ведь уподобление художественного произведения живому организму возникло еще в античности. Интуиция подсказывала древним мыслителям, что органическая целостность произведений искусства, их завершенность и поразительная жизнеспособность есть, по сути дела, обнаружение некоей всеобщей и основополагающей эстетической закономерности [17]. Достаточно вспомнить учение пифагорейцев о гармонии космоса как воплощении и источнике красоты или же аристотелевское «единство в многообразии». И знаменательно: в каких бы ипостасях на протяжении веков ни являлось понятие целостности художественного произведения, без него не обходилось ни одно сколько-нибудь значительное эстетическое учение прошлого.
В конце Х1Х – первой половине ХХ века, когда наука (и физика, и математика, и биология), с бесспорной очевидностью обнаружила органическую целостность своих обьектов, возникло и распространилось небывалое множество идеалистических толкований проблемы целого [18]. Не осталась в стороне и западная эстетика, «обогатившаяся» концепциями, трактовавшими целостность художественнго произведения как замкнутость, отчужденность от непосредственной жизненной реальности. Искусство («мир в себе», «микрокосм») было противопоставлено той социальной среде, в которой оно функционирует. Например, Рихард Гаман усматривал единственную особенность эстетического переживания в его «изоляции» [19], а Клайв Белл решительно утверждал независимость художественной формы от каких бы то было «сырых» конкретных человеческих эмоций [20].
Философская критика изоляционизма – ученого оправдания формалистического искусства – весьма актуальна, и она не может ограничиться простым указанием на познавательную природу художественного творчества: изоляционизм ставит вопрос не столько о характере возникновения произведения искусства (то есть вопрос гносеологический), сколько о способе его бытия (то есть вопрос онтологический). В этой связи чрезвычайно ценен опыт отечественной эстетики 30-х годов, убедительно показавший, что если подходить к произведению искусства диалектически , оно не может мыслиться иначе, как процесс, обусловленный социально, культурно-исторически, причем соотносительность произведения с общественным сознанием, с общественной практикой складывается в массе индивидуальных актов восприятия и эстетического переживания [21]. Иначе говоря, художественное произведение отнюдь не вещественная данность («вещь»), внеположная сознанию воспринимающего субъекта, а подвижный культурно-исторический конструкт, хотя и моделируемый с помощью материальных средств, но вне восприятия существующий только как возможность, а не как действительность.
Но как же тогда объяснить объективность произведения искусства? Противоречие налицо : всякое восприятие субъективно и было бы наивно думать, что субъект, «потребляющий» искусство, - своего рода tabularasa или же зеркало, которое бесстрастно отражает все, что только перед ним явится. Хранимые нашей памятью ощущения, впечатления, переживания, многообразная личностная «информация», неминуемо вторгаются в воспринимаемую нами целостность и оказываются ей сопричастны. При этом нельзя усомниться в объективном, вполне суверенном существовании произведения искусства как художественной ценности.
Возникает любопытная антиномия : художественное произведение представляет собой многосложный процесс, актуализируемый благодаря активности воспринимающего субъекта, благодаря личностному опыту, но ни эта активность, ни этот опыт в своей конкретности не являются атрибутами художественного произведения. Ведь многообразие человеческого опыта неисчерпаемо : различны судьбы, склонности, существенные расхождения в степени одаренности, возрасте и т.п. Тем не менее произведение искусства, созданное большим мастером, приобретает в обществе черты константности и общезначимости. Эта ни с чем не сравнимая жизнеспособность достойна удивления. Нередко кажется, что шедевры искусства вообще не подвластны ни времени, ни изменчивости вкусов и социального опыта. Больше того, - что, может быть, всего поразительнее, - их целостность сохраняется даже при частичном повреждении самих памятников [22].
Если взглянуть на произведение искусства с коммуникативной точки зрения, как на знаковую систему, то выясняется, что из общезначимых, «стереотипизированных» знаков, возможных, в принципе, и за пределами искусства, художественное произведение созидает неповторимое, глубоко индивидуальное целое. Если же рассматривать произведение искусства как процесс отражения – синтез, осуществляемый сознанием, - то произведение искусства оказывается сложным творческим актом, в результате которого из элементов неповторимого и конкретного опыта воспринимающего воссоздается общезначимое, обобщенное целое. Чтобы преодолеть антиномию художественного произведения, приходится ввести понятие, характеризующее его особую организацию – специфику его целостности, - понятие структуры художественного произведения. Однако прежде выясним, в чем разница между целым и целостным [23] (до сих пор мы не различали этих понятий) и каково их приложение к анализу произведения искусства.
«Целой» обычно называют систему, обладающую «жестким» и наиболее полным взаимосоответствием качественных и количественных отношений, категория целого может в отдельных случаях совпадать с качественной определенностью предмета. Иначе конституируется категория целостного. Целостность характеризуется наличием закономерного, устойчивого и повторяющегося типа взаимодействия со средой; целостное образование нераздельно связано со своим прошлым и содержит в себе самом предпосылки своего существования и развития. Замечательное свойство целостных систем проявляется в относительной устойчивости их структур. Динамическое уравновешивание системы с изменчивой средой (саморегулирование) сопряжено с нейтрализацией дезорганизующих воздействий извне, соответствующими контрпроцессами, возможными благодаря взаимопроникающей корреляции всех элементов целостного образования Последнее обстоятельство объясняет чрезвычайную роль информации в становлении и развитии целостных систем.
Применяя приведенное различение «целого и «целостного» к анализу искусства, мы убеждаемся, что если материальный объект (или процесс) – «носитель» художественного произведения, может быть охарактеризован как цельный, то само произведение [24] необходимо обладает целостностью, в структура его есть структура целостности. Наиболее соответствует природе искусства понимание структуры как неразрывной взаимосвязи определяющих закономерностей целостного образования и реального бытия и развития этого единства. Такого рода структура ( получившая в литературе название «результирующей» [25] предполагает наличие некоего механизма, с помощью которого составляющие ее элементы выявляют бесконечное богатство свойственных им возможностей, выявляют, однако, не самопроизвольно, а в меру необходимости, обусловленной совокупной целостностью.
Самодвижение и жизненность произведения искусства нельзя понять вне диалектики объективного и субъективного. Естественно поэтому, что «элементами» художественной структуры оказываются «элементарные» взаимодействия объекта и субъекта – сигналы – знаки. Понятия знака и знаковой системы, как известно, генетически производны от понятия сигнала.Принципиальное различение сигнала и знака, на котором настаивает В.Кожинов, как и некоторые философы, занимающиеся проблемами семиотики [26], безусловно, необходимо и ценно. В противном случае мы неизбежно приходим к утверждению натуралистической концепции знака и значения. Однако уяснение знаковой природы художественного произведения отнюдь не снимает рассмотрения сигнальных свойств последнего. В том-то и дело, что одним из «моментов» процесса, именуемого произведением искусства, является взаимодействие сигнала и знака.
Проще всего показать это на примере живописи. Установлено, что отдельные цвета и цветовые отношения обладают разнообразными сигнальными свойствами, вызывая у человека довольно устойчивую психофизиологическую реакцию. В картине те же цвета «обременяются» различными знаковыми функциями, отнюдь не «поглощающими» сигнального воздействия колорита, но придающими ему конкретное художественное значение [27]. Менее явно «присутствие» сигнальных свойств речи в поэтическом произведении. Известно, что слово-понятие рассматривается физиологией высшей нервной деятельности как «сигнал сигналов». «Удачное сравнение или метафора…сближая два далеких понятия (сигналы второй системы), вызывает взаимное торможение большинства конкретных представлений ( сигналов первого порядка), входящих в каждое из них и сохраняет лишь весьма немногие, совместимые в обоих понятиях» [28]. Вот этой способностью поэзии «управлять» первыми сигналами, «подключая « их к структуре произведения и объясняется во многом необычайная чувственная конкретность поэтических образов.
Нисколько не предваряя специальных исследований, назову здесь некоторые особенности художественных структур, различимые уже в первом приближении.
I. Структура художественного произведения не равнозначна структуре объекта непосредственного чувственного восприятия или же языковой структуре. Отождествление произведения искусства с его конкретной репрезентацией ведет к утрате содержания, к «высвобождению» неизменной и самодовлеющей «формы», которая в конечном итоге оказывается фикцией, пустым и лживым фетишем. Поучительна в этом плане практика структурализма, стремящегося отыскать в искусстве некую универсальную конструкцию художественности (структуру), пренебрегая ее конкретным наполнением ( смыслом и содержанием элементов) [29].
Было бы заблуждением приравнивать «формальный метод» структурализму, однако, как правильно заметил П.Палиевский , известная идейная общность у них имеется. Так Б.Эйхенбаум в талантливой книге о мелодике стиха [30] пытался доказать, что развитие мелодического стиля определяется ритмико-синтаксическим строением стихотворной речи – стремление, естественное для «формальной школы», рассматривавшей эмоциональную тему как мотивировку приемов словесного искусства. В этом примере можно разглядеть свойственное структурализму пренебрежение содержанием «элементов» (значением слов и словосочетаний) и абсолютизацию «структуры»(ритмико-синтаксического строения стиха). В.Жирмунский, возражая Б.Эйхенбауму, писал: « Я представляю себе возможность существования двух стихотворений, совершенно одинаково построенных в ритмическом и синтаксическом отношении, с вполне тождественным расположением повторений и т.д., из которых одно будет звучать напевно, а другое ритмически или разговорно в зависимости от смысла и от общей эмоциональной окраски.[31](Курсив мой. – М.С.)
II. Структура художественного произведения при ближайшем рассмотрении оказывается многосложной иерархией структур. И хотя в отдельных видах искусства эта «многоступенчатость» проявляется по-разному, можно выделить три основных слоя, наличествующих во всяком произведении:
1. Слой материального образования – объекта непосредственного чувственного восприятия.
2 Слой предметно-представимого – слой образной реконструкции.
3 Слой предметно-непредставимого – слой художественного значения [32].
Произведение искусства характерно взаимодействием и единством всех трех слоев. Однако их непосредственное слияние привело бы к гибели художественного произведения как такового. Созерцая
картину, мы видим одновременно и плоскую поверхность с нанесенными на нее мазками и трехмерное пространство, в котором явлены изображаемые художником предметы, люди, ситуации; при слушании музыки в нас запечатлевается и последовательность звучаний, и человечески осмысленное интонирование. Нетрудно убедиться, что подобные слои присутствуют и в других искусствах. Теперь представим себе слияние реальности изображающей с реальностью изображаемой. (По отношению к литературе это вообще «непредставимо»). Вместо скульптуры нам пришлось бы лицезреть человека из плоти и крови, картина оказалась бы проемом в стене, а музыка – немощным звукоподражанием. Исчез бы в этом случае и третий слой, возникающий как результат взаимодействия первых двух; только соотнося то, «посредством чего» сказано, с тем, что сказано, мы постигаем художественный смысл произведения.
Не следует думать, что первый слой структуры равнозначен материальному образованию, являющемуся объектом – «носителем» художественного произведения. В сознании, разумеется, представлен не сам объект, а его образ. Говоря о взаимодействии слоев структуры, мы имеем в виду, что все три слоя есть опосредованное целостностью произведения отражение объективной реальности в сознании воспринимающего субъекта. Правда, каждому слою соответствует свой порядок, «масштаб» явлений и, следовательно, свой «уровень» опыта.
III. Структура художественного произведения двумерна, она развивается во времени и вместе с тем – в каждом моменте ( каждом сечении) – предстает как нечто синтетически-сложное, как результат взаимопроникновения и интеграции элементов предшествующего процесса. Целостность произведения искусства обусловлена единством отдельных фаз развивающейся целостности. Диалектическое сочетание становления и «кристаллизации», лабильности и устойчивости придает художественному произведению черты живого. Подобно любому организму произведение искусства живет лишь до тех пор, пока в него ( и «через» него) поступают все новые и новые частицы, то есть в нашем случае «кванты» субъективного опыта. Попадая в художественный организм, они претерпевают глубокие преобразования, приобретая строение, свойственное элементам художественной структуры.
Эти превращения в сою очередь определенным образом организованы во времени, согласованы между собой в целостную систему и в своей совокупности направлены на постоянное самовосстановление и самосохранение процесса, именуемого произведением искусства. Так, приводя в движение глубочайшие пласты субъективного опыта, искусство упорядочивает и преобразует этот опыт. Так гармония художественного произведения согласуется с поисками гармонии между индивидуальностью и миром.
…Структурные исследования в литературоведении ( как и в искусствознании в целом) не входят в компетенцию одной лишь структурной лингвистики. Понимание художественного произведения как структуры приводит к выявлению сложного комплекса проблем, решение которых требует содружества многих научных дисциплин.
Это единение закономерно и неизбежно. Подобно тому, как неделим человек во всех проявлениях своей личности, отдельные звенья науки не могут существовать вне живой связи друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Палиевский П. О структурализме в литературоведении // Знамя. -1963. - №12. – С.189.
2 Там же. – С.194.
3. Палиевский П. Мера научности // Знамя. – 1966. - №4. – С.234.
4 Палиевский П. О структурализме в литературоведении // Знамя. -1963. - №12. – С.191.
5. Подробная критика действительных, а не мнимых пороков философского структурализма содержится в работе В.И.Свидерского «О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании» ( М.: Соцэкгиз, 1962)
6. См.: Зелькина О.С. О понятии структуры // Некоторые философские вопросы современного естествознания. – Саратов, Изд. СГУ, 1959; Алексеев И.С. О связи категории структуры с категориями целого и части // Вестник МГУ, серия VIII, 1963. - №5; Егоров А.И. Понятия «элементы» и «структура» и их связь с категорией закона. –Автореферат диссертации. –ЛГУ, 1963; Прохоренко В.К. Противоречие структуры - противоречие дифференцированности и целостности // Вопросы философии. – 1964. - №8; Ляхов И.И. Структурность – всеобщее и существенное свойство материи // Вестник МГУ, серия VIII, 1965. - №1; Вальт Л.О. Соотношение структуры и элементов // Вопросы философии, 1963, №5; Мамзин А.Возможность, действительность, структура и проблема возникновения и сущности жизни // Проблема возможности и действительности. – М.-Л.: Наука, 1964; Проблемы структуры в научном познании. – Саратов, Изд.СГУ, 1965.
7. Спиркин А.Г. Курс марксистской философии. – М. : Соцэкгиз, 1963.
8. Механистическое истолкование категории структуры встречается в новых «научно-популярных» статьях, но ведь за эти «литературные шалости» наука не ответственна.
9. См.. например: Garner W. Uncertainty and structure as psychological concept of structure. – N.Y.,Wiley, 1962; Allport F. Theories of Perception and the concept of structure. – N.Y., Willey, 1955. Чрезвычайно показателен сборник: Structure in art and in science (edited by Gyorgy Kepes), Studio Vista, L., 1965, где о категории структуры высказываются физики Я.Броновский и Л.Уайт, поэт и семантик А.А.Ричардс, архитекторы П.Л.Нерви и М.Охтака, искусствоведы М.Билл и Г.Яффе.
10. Неловко приводить цитаты для подтверждения азбучной истины. Но раз уж необходимо… «Полное познание целого означает познание органической структуры как реализации всего богатства отношений частей целого» (Философский словарь. –М.. Госполитиздат, 1963. – С.438). «Именно в понятии структуры и осуществляется понимание мира как единого связного целого, а не как совокупности изолированных, не связанных друг с другом предметов и явлений»(Зелькина О.С. О понятии структуры, с.16).
11. Кроме упомянутых работ, имеется в виду и статья П.Палиевского «На границе науки и искусства», опубликованная в сборнике «Гуманизм и современная литература». – М.: Изд АН СССР, 1963.
12. Палиевский П. Мера научности // Знамя. - №4. – С.233.
13. Относительную ограниченность формальной логики успешно преодолевает логика диалектическая , способная воспроизводить в понятиях самодвижение явлений. А логический метод « восхождении от абстрактного к конкретному» теоретически «реконструирует» органическую целостность изучаемых объектов ( см.: Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. – М.; Изд. АН СССР, 1960).
14 См.: Эйзенштейн, Сергей. Избранные произведения в 6 томах. Т.3. – М., 1964. -С.33-34.
15. Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и познании, с.6
16. Поэтому не правы те, кто видит в структурном анализе «формалистическое игнорирование содержания», но не совсем прав, как мне кажется, и Ю.Лотман, отождествляющий структуру литературного произведения со «структурой содержания». См.: Лотман Ю.М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания. – 1963. - №3.
17. Античные представления об органической целостности как основе красоты, о структуре художественного произведения изложены в интересной книге А.Ф.Лосева «История античной эстетики»( М.:Высшая школа, 1963).
18. «Неовитализм, холизм, гештальтпсихология и структурализм, универсализм, некоторые разновидности интуитивизма – все эти и многие подобные им течения буржуазной философии и социологии взяли своим знаменем мистически истолкованный принцип целостности». (Блауберг И.В. Проблема целостности в марксистской философии. – М.: Высшая школа. 1963. – С.4).
19. Гаман Р. Эстетика. – М., 1913.
20. Bell K. Art, Grey Arrow. – L., 1961.
21. «Для искусствоведа -метафизика, - писал И.Л..Маца, - скажем, определенный ритм членения архитектурных масс остается той же формой и на памятнике VIIвека, и на фасаде текстильной фабрики 1928 года… Для искусствоведа-марксиста и форма и содержание суть не вечные, а конкретные, исторические категории» ( Маца И. Очерки по теоретическому искусствознанию. – М.: Изд .Коммунистической Академии, 1930. – С.44-45.
22. Известны же античные статуи, которые, утратив отдельные детали, сохранили свою пластическую завершенность, гармоничность. Целое разбито, а целостность не нарушилась. Обломок статуи воспроизводит внутренний ритм, внутреннее движение, на которых, как на каркасе, зиждется цельный образ.
23. Самойлов Л.Н.. Зубков И.Ф. «Целостность» как категория материалистической диалектики и ее место в системе категорий // Вестник МГУ, серия VIII/ - 1965. - №2.
24. Говоря здесь о «произведении искусства», я имею в виду безусловную художественную ценность.
25. Зобов Р.А. Некоторые вопросы теории структур и понятие целого (автореферат диссертации).Л.: Изд. ЛГУ, 1965; егоже: О понятии результирующей структуры // Вестник ЛГУ, Серия экономики, философии и права. – 1965. вып.2, №11.
26. Брудный А.А. Знак и сигнал // Вопросы философии, 1961, №4 ; Резников Л.О. Гносеологические вопросы семиотики. – Л.: Изд.ЛГУ, 1964 ; Абрамян Л.А. Гносеологические проблемы теории знаков. – Ереван: Изд. АрмССР, 1965.
Правда, В.Кожинов различает знак и сигнал несколько иначе, чем это делается в современной семиотике. Нельзя согласиться с В.Кожиновым, когда он заявляет, что «предметом семиотики являются не знаковые системы в собственном смысле, но системы сигналов»(с.101). Это сенсационное открытие «предмета семиотики» опирается на отождествление понятия и знака (с.99). Функционирование знаков сводится к процессу «понимания». А это, увы, то же самое, что отождествлять мышление и язык.
27. Интересные наблюдения о взаимодействии «сигнальных» и «символических» свойств цвета в живописи Ван-Гога высказывает К.Грэтц ( GraetzK. ThesymboliclanguageofVincentVanGogh. – N.Y.-L., McGraw, 1963)
28. Малиновский А.А. Элементы художественной образности в свете Павловского учения // Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества. – Л.. 1963. – С.19.
29.См., напр.: «Теорию литературы» Уэллека и Уоррена, в которой «установки» философского структурализма проявились чрезвычайно ярко. Авторы этого капитального труда, пытаясь определить онтологический статус литературного произведения, утверждают, что «стихотворение должно рассматриваться как структура норм, лишь частично воспроизводимая в конкретном опыте множества читателей. Каждый единичный опыт ( чтение, произнесение и т.д.) – только попытка – более или менее удачная и совершенная – постигнуть эту структуру норм или стандартов». (Wellek R., Warren A. Theory of literature. – N.Y., Harcourt, Brace, 1949. – P.151).
Реальная устойчивость произведения искусства как развивающегося культурно-исторического процесса, инвариантность структуры произведения по отношению к разнообразию субъективного (личностного опыта в рассуждениях Уэллека и Уоррена «переворачиваются» и предстают в виде вневременных, раз и навсегда заданных «норм» именно потому, что объективность художественного произведения мыслится по аналогии с объективностью вещи или физического процесса.
30.Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха. – Пб, «Опояз»,1922.
31 Жирмунский В.М. Мелодика стиха // Вопросы теории литературы. – Л.:Academia. 1928. – С.141. Ср.с категорическим выводом Т.-С.Элиота : «Музыка стиха неотделима от его значения». (Eliot T.-S. The music of Poetry // Eliot T.-S. OnPoetryandPoets.- N.-Y., Capricorn, 1961. – P.21.
32. Эта схема ( как и всякая схема), разумеется, неполна и не исчерпывает реального строения произведения искусства. Так, в литературном произведении переход от первого слоя ко второму осуществляется посредством ряда промежуточных звеньев, да и сами слои достаточно сложны по своей структуре.
Мысль о «слоистости» художественного произведения имеет давнее происхождение. В современной западной эстетике учение о «слоистой» структуре художественного объекта разрабатывается феноменологией и некоторыми близкими к ней теоретиками. При всей неприемлемости для нас некоторых философских постулатов этих ученых следует заметить следующее: беспощадная борьба феноменологии с господством психологизма в западной эстетике конца XIX- начала XX века, которую зачастую представляют как « столкновение двух разновидностей субъективного идеализма», имела и безусловное положительное значение. Это один из тех случаев, когда от « критики идеализма идеализмом» выиграла в конечном счете истина.. Ограничиваясь анализом психологии художника и психологии «потребителя» искусства, психологическая эстетика утрачивала само художественное произведение как объективное общественное и психологическое явление. Феноменология «вернула» искусству объективность. Но истолковала последнюю довольно превратным образом, противопоставив ее общественной практике. Однако строение художественного произведения , во многом верно фиксируемое учеными-феноменологами, «опирается» не на «вневременные сущности», а на исторически сложившиеся и общественно закрепленные формы сознания.
Иллюстрации:
1. Винсент Ван-Гог. ИРИСЫ. 1889. Музей Гетти. Лос-Анжелес
2.Евгений Михнов-Войтенко. КОМПОЗИЦИЯ. 1970. СПб. Частное собрание.
3. Пабло Пикассо. ГЕРНИКА. 1937. Музей королевы Софии. Мадрид.
|
|
Мирсаид САПАРОВ : ФЕНОМЕН ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ И ПРЕДЫСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА |
ФЕНОМЕН ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ И ПРЕДЫСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА
Ниже впервые публикуется статья М.А.Сапарова «Эволюция изобразительного искусства как предыстория фотографии» (1974), являющаяся главой фундаментальной монографии М.А.Сапарова «ВИДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: О ФОТОГРАФИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ КИНОИСКУССТВА. СинергетическИЙ параллакс: живопись – фотография – кинематограф – литература» (Ленинград, 1975). (Депонирована в библиотеке Российского института истории искусств).
Послесловие и комментарии Т.В.Алексеевой
Исследователь культуры, пытающийся проследить возникновение того или иного исторически конкретного явления, нередко сталкивается с феноменом трудно объяснимым и загадочным. И при поверхностном истолковании этот феномен может быть принят за свидетельство фатальной предопределенности каждого единичного события. Суть состоит в том, что к некоторым историческим явлениям ведет как бы несколько не пересекавшихся между собой и непосредственно не соотнесенных друг с другом путей детерминации. Феномен этот – эквифинальность – достижение одинакового конечного состояния различными путями при варьирующихся начальных условиях. При этом отдельные каналы детерминации как бы дублируют друг друга, сосуществуют во времени, т.е., локализовав какое-то историческое событие и разворачивая в обратном направлении причинно-следственную связь, приведшую к его возникновению, мы можем двигаться не по одному какому-то руслу, а сразу по нескольким, которые в первом приближении кажутся равнозначными.
Например, хорошо известно, что имманентное изучение художественного развития как внутренне обусловленной смены художественных форм зачастую выглядит логично и хорошо согласуется с реальной историей искусства. Недаром наследие Г.Вельфлина и его школы [1] состоит не из одних только заблуждений, но содержит в себе немало приемов анализа и наблюдений, удостоверенных искусствоведческой практикой. И вместе с тем, для всякого искусствоведа, рассматривающего развитие художественной деятельности в широком и многофакторном социальном контексте, абсолютно очевидно воздействие на искусство огромного числа внехудожественных фактов, из которых слагается жизнь общества.
Вот, скажем, эпизод полемики вокруг творчества Пабло Пикассо, развернувшийся в начале ХХ века на страницах русской прессы.
Религиозный философ-персоналист Н.А.Бердяев выступил с брошюрой «Кризис искусства», в которой утверждал, что творчество Пикассо означает «отрыв жизни от своих органических корней» и является «внешним выражением глубинного метафизического процесса», знаменующего «конец старого мира, преддверие нового мира».[2] Любопытно, что в брошюре Бердяева без всякого различия, в совокупности как выразители одной и той же тенденции фигурировали Пикассо, Чюрленис, Скрябин. Выступление философа стало предметом насмешек, часто весьма язвительных со стороны художников и искусствоведов, которые утверждали, что стиль Пикассо обусловлен кризисом импрессионизма и фовизма. Так, Алексей Грищенко в ответной статье, утверждая, что «картина есть картина, а не бич, не проповедническое слово, философский трактат и «поэзия»[3], указывал, что действительные истоки кубизма Пикассо не в интересе к машинным формам, о которых Пикассо имел самое приблизительное представление, а в его глубоком изучении негритянского примитивного искусства, в тех выводах, которые он извлек из системы Сезанна.
Автор первой в мире аналитической монографии, посвященной творчеству Пикассо, Иван Аксенов писал: « о «живописи» Пикассо говорится меньше всего – главное содержание этой монографии составлено изложением эсхатологических предчувствий автора… овладевающих им в галерее Щукина, в комнате Пикассо. Живопись обращается только к одному чувству зрения, внести в ее область элементы, поддающиеся иной формулировке, абсолютно невозможно»[4].
Описывая сегодня эту полемику, нельзя не видеть, что в равной мере не вполне правы были обе стороны, хотя и та, и другая отправлялись от реально существующих фактов, т.е. при всей уязвимости философских спекуляций Бердяева, нельзя не согласиться с М.А.Лифшицем, который считал, что Бердяев зафиксировал безусловную связь аналитического кубизма Пикассо с духовным кризисом европейского общества.[5] С другой стороны, верно и то, что Пикассо в своем творчестве не исходил из какой-либо философской концепции, а следовал внутренней логике своего искусства.
Но в том-то и состоит проявление эквифинальности, что в своем результате казалось бы непосредственно не связанные друг с другом процессы, совпадают.
Анализируя генезис кинематографа и специфических форм его образности, мы столкнемся с чем-то подобным. Вспоминается полемика между Н.П.Акимовым и Г.М Козинцевым на симпозиуме «Творчество и современный научный прогресс», состоявшемся в Ленинграде в 1966 году. Акимов доказывал, что специфические возможности фото и киноизображения вызваны к жизни прежде всего появлением специальной техники. Возражая ему, Козинцев приводил свидетельства того, что развитие «кинематографического мышления» происходило уже в недрах традиционных искусств, живших предвосхищением кинематографа.
Как это ни парадоксально, аргументы Акимова и Козинцева одинаково весомы.
Фотографизм порожден и развитием техники оптико-химического воспроизведения реальности и собственной эволюцией художественной деятельности. Вместе с тем, сопряжение обоих русел детерминации нельзя свести к непосредственному их взаимодействию. Иначе говоря, не существует аналогии или взаимозависимости в развитии оптики и химии, с одной стороны, и эволюции художественной деятельности, с другой. Как мы покажем, практически «эстетика фотографизма» появилась до создания соответствующего ей уровня развития технических средств, а те, кто впервые взялся за фотоаппарат с художественными намерениями, даже не подозревали о тех специфических выразительных возможностях, которые он предоставляет фотографу.
Истинное постижения феномена эквифинальности возможно лишь с позиций. целостного системного анализа общественной жизни, «тотальности социального бытия» (К.Маркс). Иллюзия независимых отдельных путей детерминации одного и того же явления может быть устранена, если рассматривать это явление системно, не пренебрегая его внутренней диалектикой и самодвижением. При таком подходе оказывается, что различные каналы детерминации не дублируют друг друга, хотя и не дополнительны друг другу. Причем ни один из них не обуславливает целостного явления как такового. Эти направления не суммируются в совокупной структуре результата, они присутствуют в нем, как внутреннее противоречие.
Отнеся эти рассуждения к феномену фотографичности, мы обнаружим, что предопределенность возникновения «фотографизма» развитием техники отражения и запечатления действительности, с одной стороны, и процессом художественной эволюции, с другой , делают саму категорию «фотографичности» двойственной и противоречивой. Мимо этого, кстати, прошли Андре Базен и Зигфрид Кракауэр, совместив и отождествив онтологические характеристики фотоизображения, определяемые материальной структурой фотопроцесса, а потому неподвластные воле субъекта с исторически преходящими формами художественного сознания. Абсолютизация этого тождества - причина многих изъянов концепции Базена и Кракауэра.
«Самое главное при переходе от барочной живописи к фотографии, - пишет Базен, - заключено не в простом техническом усовершенствовании ( кино еще долго будет отставать от живописи в передаче цвета), но в психологическом факте : стало возможным полностью удовлетворить нашу потребность в иллюзорном сходстве, посредством механического репродуцирования, из которого человек исключен. Решение было заключено не в результате, но в генезисе»[6]. Точно отметив, что фотография есть своего рода муляж, «снятие отпечатка с предмета посредством света», Базен считает, что «психологическая потребность» первична по отношению к этому онтологическому свойству; тем самым возникает недоразумение - бытийный статус фотографии выводится из априорно заявленной психологической тенденции.
Нам представляется методологически правильным раздельное рассмотрение художественной эволюции традиционных изобразительных искусств, создавшей необходимость «фотографичности», понимаемой как определенное психологическое соотнесение изображения и изображаемого, и собственного прогресса фотографии на ее пути к художественной автономии. Неизбежное же сопоставление этих процессов не должно отвлекаться от того, что их результаты равно именуемые «фотографичностью» - есть не одно и то же.
В советском киноведении попытка рассмотреть киноискусство как следствие внутренней необходимости, созревшей в результате развития пластических искусств, была предпринята Мананой Андрониковой [7]. Ее книга «Сколько лет кино?» - своего рода иллюстрация к известному положению С.М Эйзенштейна, считавшего, что кинематограф - это часть системы развития живописи, часть ее истории [8].
Специфику кинематографического изображения Андроникова видит прежде всего в движении камеры, в ее способности запечатлевать те движения, которые претерпевает предмет во времени, в возможностях монтажного соединения различных точек зрения на предмет. Соответственно в истории изобразительного искусства Андроникова отыскивает явления, которые обнаруживают извечно присущие изобразительной деятельности человека стремления осмыслить и передать движение.
Так единовременное соединение на холсте последовательных фаз развивающегося действия, зачастую использовавшееся живописным повествованием, Андроникова справедливо считает прообразом кинематографической раскадровки движения. Например, на картине Ватто «Рекруты, догоняющие полк» восемь фигур совершенно подобных одна другой, по воле художника воспринимаются нами как одна, и перемещение этого собирательного персонажа предстает как бы в последовательности кадров.
Так совмещение на полотне различных точек зрения и ракурсов на один и тот же предмет предвосхищает движение камеры, ее способность динамического перехода от одного плана к другому. Любопытно, что при этом для иллюстрации этого приема живописного изображения Андроникова берет лишь те картины, в которых использовано зеркало как композиционный молив : «Менины» Веласкеса, «Бар Фоли-Бержер» Эдуарда Мане, «Портрет Гиршман « Валентина Серова. Наблюдения Андрониковой сами по себе интересны и верны. И всё же ряд принципиальных вопросов исследовательница оставляет без ответа: во-первых, остается невыясненным, в чем же качественное отличие кинематографа от изобразительного искусства, неужели лишь в гипертрофии отдельных способностей живописи и в соединении их с такими компонентами фильма как монтаж и звук. Во-вторых. Андроникова ничего не говорит о том, что живописная передача движения в корне отличается от кинематографической не только по форме и исполнению, но и по художественному смыслу.
Последнее происходит оттого, что сами понятия пространства и времени берутся Андрониковой как априорные, очевидные, не нуждающиеся в пояснениях. Поэтому исследовательница так легко и незаметно для себя смешивает повествовательное время со структурным временем изображения, перспективную геометрическую пространственность с динамическим пространственно-временным континуумом фильма.
Не надо думать, что пространство и время всегда мыслились одинаково, а художники лишь по-разному запечатлевали их в своих произведениях. Система пластического изображения мира эволюционировала вместе с развитием представлений о мире. И если мы хотим понять ту объективную потребность художественного процесса, удовлетворить которую был способен лишь фотографический прорыв к реальному, а не мыслимому и изображаемому времени, нужно отказаться от выискиваний в истории искусства отдельных явлений, чем-то напоминающих фотографию или кинематограф, а обратиться к наиболее общему целостному рассмотрению художественного миросозерцания в его развитии.
Обратимся прежде всего к эволюции в пространственно-временной концепции живописи нового времени, на которую, кстати сказать, ссылается и А.Базен. Речь пойдет об антропоцентрической картине мира, утвержденной Возрождением. Эта система отбрасывала свойственное средневековому искусству чувство временной бесконечности и пространственной бездонности мира, несоизмеримого с человеком. Концепция, зародившаяся уже в XIV-XVвеках в творчестве Джотто и Учелло, Мазаччо. Пьетро дела Франческо , Антонелло да Мессино и Мантеньи и откристаллизовавшаяся в XVIвеке благодаря усилиям Леонардо, Джорджоне и Рафаэля признавала неизменное пространственно-временное единство мира, предстающего перед глазами созерцающего и постигающего его человека. Реальный мир уподоблялся сценическому пространству. Во-первых, конечному, а потому измеримому, во-вторых, отчетливо ограниченному неподвижным полем нашего зрения, пространству, стягивающемуся к одной воображаемой точке – далевому фокусу нашего взгляда и, в третьих, предстающему в виде последовательности предметов и планов, равномерно уменьшающихся в размерах и теряющих четкость очертаний по мере их удаления от наблюдателя.
Совокупность этих зрительных условностей, подчиняющая себе видимую реальность и воплотилась в системе прямой геометрической перспективы, которую А.Базен именует «первородным грехом западной живописи» ( по его мнению лишь Ньепс и Люмьер, т.е. фотография и кинематограф взяли на себя искупление этого греха).
Долгое время считалось, что перспективное изображение пространства – единственное истинное изображение и всякие неперспективные изображения, известные нам по истории искусств ( например, средневековая обратная перспектива, при которой предметы увеличиваются, а не уменьшаются по мере удаления от нас) является всего лишь свидетельством неумения наших далеких предков изображать пространство так, «как надо». Это вроде бы подтверждается и той высокой степенью научности, с какой разработан в наше время метод перспективного построения (начертательная геометрия).
Однако впоследствии выяснилось, что возрожденческая перспектива есть исторически преходящий социально-психологический стереотип представления мира, «символическая форма»[9], если употребить выражение Э.Пановского : перспектива, открытая Возрождением. выступала как стилистическая конвенция : все устремленные вдаль линии сходятся в одной точке, создавая ощущение конечного и полностью обозримого целого. Так конструкция мира приведена в соответствие с нашим зрением, подчинена ему и освоена.
В статье «Обратная перспектива», написанной в 1922 году, П.А.Флоренский убедительно доказывал, что линейная перспектива – «это только особая орфография, одна из многих конструкций, характерная для создавших ее, свойственная веку и жизнепониманию придумавших ее и выражающая собственный их стиль, а вовсе не исключающая иных орфографий, иных систем транскрипций, соответствующих жизнепониманию и стилю иных веков»[10].
Используя свою феноменальную эрудицию, Флоренский привлекает обширнейший исторический материал, свидетельствующий о том, что неперспективные построения могли сопутствовать высокому развитию геометрических представлений, как у египтян, или же попросту совмещаться с умением строить перспективу, как у греков. Флоренский формулирует шесть условий, соблюдение которых соответствует жизненной ориентировке художника-перспективиста. «Это суть : во-первых, вера в то, что пространство реального мира есть пространство эвклидовское, то есть изотропное, гомогенное, бесконечное и безграничное ( в смысле римановского различения), нулевой кривизны, трехмерное и т.д. То-есть, художник-перспективист верит в устройство мира по Эвклиду и восприятие этого мира по Канту. Во-вторых, он же вопреки логике и Эвклиду, но в духе Кантовского миропонимания… мыслит среди всех, абсолютно равноценных у Эвклида точек бесконечного пространства, одну исключи тельную, единственную, особливую по ценности, так сказать, монархическую точку, но единственным определением этой точки служит то, что она есть место пребывания самого художника, или точнее, его правого глаза - оптического центра его правого глаза и т.д. В третьих, это царь и законодатель «с своей точки зрения» природы – мыслится одноглазым как циклоп, ибо второй глаз, соперничая с первым, нарушает единственность, а следовательно, абсолютность точки зрения, и тем самым изобличает обманность перспективной картины… В четвертых, вышеозначенный законодатель мыслится навеки и неразрывно прикованным к своему престолу… В пятых, весь мир мыслится совершенно неподвижным и вполне неизменным. Ни истории, ни роста, ни изменений, ни биографии…В шестых, исключаются все психофизиологические процессы акта зрения. Глаз глядит неподвижно и бесстрастно, наподобие оптической чечевицы»[11]. Флоренский убедительно показывает, что соблюдение всех этих условий, точное и неукоснительное, превратило бы образ мира в фотографический снимок, мгновенно запечатляющий данное соотношение светочувствительной пластинки и эмпирической реальности.
Овладение предметной видимостью мира – и научное, и художественное – предполагало расчленение окружающего на объекты исследования, рассматриваемый предмет отделялся от других, вырывался из непрерывной цепи событий, из потока непрерывных изменений и принимался как данность. Это гносеологическое отношение укладывалось в некую единицу времени, т.е. в такой временной промежуток, в течение которого предмет не менялся по отношению к наблюдателю, причем конкретная протяженность единицы времени не имела значения и не запечатлевалась в структуре изображения : она могла быть равной мигу и вечности.
Так создавалась иллюзия независимости пространства от времени ( хотя на самом деле эта независимость существовала только в пределах единицы времени). Перспектива как единый и для науки, и для искусства способ передачи трехмерного предмета на двухмерной плоскости предвосхищала последующее ньютоновско-кеплеровское миропонимание, характеризующееся «спатиализацией» времени превращением его в «четвертую координату».
Диалектика бытия каждого предмета во времени заключается в том, что он остается самим собой и вместе с тем меняется. В различные эпохи могут выступать на первый план разные стороны этого диалектического соотношения и единства. Так в период Возрождения неизменность предмета оказывается существеннейшей и поэтому единица времени имеет границы сколь угодно широкие. Однако дальнейшая история живописи говорит о том, что представление о единице времени эволюционировало, т.е. стали обращать внимание и на другую сторону диалектического единства. Принцип неизменности предмета не был поколеблен, однако изображенный промежуток времени стал стягиваться – у импрессионистов он сократился до минимума.
Именно импрессионизм завершает движение европейской живописи к постижению реального времени, которое в отличие от ньютоновской абстракции «длительности без свойств», неотрывно от движущейся материи. Оно необратимо, интенсивно, несимметрично и неделимо на части.
Как известно, живописец может передать временные представления только через определенную организацию своего изображения. Так художник Возрождения наделял изображенное надвременным идеальным бытием, организуя картину как замкнутое самодостаточное единство, как особый микрокосм, в котором каждая деталь, каждая частность подчинены целому. Пространство-время такой картины формируется как единство, оно насквозь антропологично и спиритуалистично. Как точно заметил Освальд Шпенглер : «Импрессионизм вернулся на земную поверхность из сфер музыки Бетховена и звездных пространств Канта. Его пространство - факт интеллектуальный, а не духовный: оно узнано, исчислено, но не пережито… Мощные ландшафты Рембрандта лежат вообще где-то в мировом пространстве, а ландшафты Мане - поблизости железнодорожной станции…» [12]. Погоня за фиксацией мгновения, стремление передать изменчивость, неповторимость жизненной сиюминутности открывает импрессионизму выразительную силу («правду») эмпирической непреднамеренности, естественности, случайности - случайности, которая оказывается звеном во всеобщей связи. Так импрессионизм совершает в изобразительном искусстве переворот, аналогичный переходу от механического детерминизма к «вероятностной Вселенной». В этом смысле, импрессионизм, безусловно, предшественник эстетики фотографизма.
Хотя хронологически возникновение импрессионизма совпадает с периодом становления и распространения фотографии, импрессионизм именно предвосхитил, а не отразил эстетику фотографизма. Современная импрессионистам фотографическая техника требовала больших выдержек и по существу не знала одномоментности. Отдельные эксперименты, вроде опытов «фотографической стенографии» П.Надара, еще не предвещали эстетических возможностей фоторепортажа, в полной мере заявившей о себе на рубеже веков, благодаря работам американской школы.
Тем не менее в творчестве импрессионистов четко обозначились все тенденции, которые З.Кракауэр определил впоследствии как органические склонности фотографического медиума :
1. Изображение тяготеет к неинсценированной действительности. В нем чувствуются намерения автора воспроизвести физическую реальность в том нетронутом виде, в котором она существует помимо него.
2. Изображение склонно подчеркивать элементы ненарочитого, случайного, неожиданного. Воспроизводя пульсацию жизни, оно не терпит насильственного втискивания в банальную композиционную схему.
3. Изображение передает ощущение незавершенности, бесконечности. Его содержание связано с чем-то остающимся за рамкой, его композиция говорит о чем-то невместимом, о физическом бытии.
4. Изображение передает неопределенное, трудноуловимое в понятиях содержание, разрушает семантику обыденного, выявляя многосмысленность физической реальности.
Известно, что выставка импрессионистов 1874 года открылась в фотографической студии Гаспара Феликса Турнашона-Надара. Многие импрессионисты были фотолюбителями и оставили интересные мысли о возможностях фотографии. Тем не менее в соотношении импрессионизма и фотографии более существенны не прямые воздействия, хотя таковые, безусловно, имели место, а объединяющие их радикальные перемены миросозерцания эпохи.
Хотя фотография, казалось бы, как нельзя лучше соответствовала устремлениям импрессионизма, «фотографичность» работ импрессионистов нечто совсем иное, нежели «фотографичность», органически свойственная объективу.
Ведь живописи недоступна эмпирическая мгновенность : изобразительное искусство предполагает пластическую организацию, а следовательно, и организацию пространственно-временного континуума произведения. Поэтому применительно к живописи следовало бы говорить не о фиксации мгновения, а о его имитации.
Именно импрессионизм, благодаря его фотографическим декларациям, придал отталкиванию живописи и фотографии глубокую концептуальность.
Непременным конституциональным признаком художественного произведения (в ценностном значении этой категории) является целостность, по-разному себя осуществляющая и проявляющая, и в то же время необходимая. В том и заключена диалектика бытия созданий искусства, что будучи связаны с контекстом, - и более того – раскрывая свой смысл лишь в соотношении с чем-то, что не является частью их самих - они воспроизводят в себе единство мира, как бы параллельно миру реальному, но по своим собственным законам.
В живописи это единство дано как пластическая организация картины. Субъект искусства проявляет себя в способе организации материала. Фактура картины, ее композиция – след целенаправленных усилий художника. Поэтому технология живописца не может быть просто техникой зеркального отображения замысла, созревшего и сформировавшегося в сознании : она, эта технология, насквозь антропоморфна и в такой же степени свидетельствует о состоянии духа художника, как и о навыках его руки и зоркости его глаза. Единство картины и репрезентирует художественную индивидуальность.
Фотографический процесс как оптико-механическое действо устраняет субъект. Как правильно заметил Андре Базен, «личное участие фотографа в этом процессе сводится к выбору, ориентации, «педагогическому» воздействию на феномен, как бы ни было оно заметно в конечном результате, оно входит в него совсем на иных правах, чем личность художника. Все искусства основываются на присутствии человека, и только в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием»[13]. Фотографическое устранение объекта ведет к принципиально иной, чем в живописи семантике изображения. Одни и те же качества образа истолковываются по-разному, в зависимости от того, воспринимаем мы живопись или фотографию.
Так скажем, картина, дотошно передающая каждый волосок в бороде изображенного человека, вызывает представление о художнике, который с бессмысленной тщательностью вырисовывает малозначительные и совершенно случайные подробности, забыв о главном ( разумеется, если пристальность разглядывания не оправдана эстетически). Когда же фотография «педантично отмечает каждый камешек, бессмысленно пересчитывает все листья, слепо повторяет все без исключения» [14], мы видим за этим не субъективную активность, а механически точное воспроизведение, свойственное фотообъективу.
Пресловутый «натурализм» фотографии иного рода, нежели натурализм живописца. Несообразованность, разрыхленность композиции в живописи свидетельствует о том, что художник не смог достичь единства, не поднялся на уровень пластического обобщения. То же самое качество в фотографии - знак подлинности, непреднамеренности изображения.
Психологическое соотнесение изображения и изображаемого имеет в фотографии иную, прагматическую, ценностную наполненность, чем в живописи. Подробнее об этом – в главе, посвященной структуре фото и киноизображения.
Теперь, возвращаясь к параллели между импрессионизмом и эстетикой фотографизма, можно сказать, что стремясь сосредоточить соприкосновение («наложения») явления и его образа в конкретной временной точке и передать ее эмпирическую неповторимость, импрессионизм столкнулся с необходимостью устранить имперсональный субъект искусства, т.е. порядок, проективно накладываемый на видимый мир, и заменить упорядоченность произволом случая.
Как это ни парадоксально, но открытие импрессионистами реального времени (эмпирически переживаемого мира) фатально повлекло за собой субъективизацию видения. Недаром позднее творчество К.Моне вплотную подводит нас к абстрактному экспрессионизму. Вознамерившись решить средствами живописного искусства задачу, неорганичную для его природы, требующую иного способа изобразительной деятельности, импрессионизм оказался переломным, кризисным явлением в развитии традиционной живописи.
К употреблению термина «импрессионизм» стоит подходить достаточно осторожно, ибо, с одной стороны, этот термин обозначает совокупность художественных произведений, созданных мастерами-импрессионистами, а с другой стороны, определенное миросозерцание, гносеологическую тенденцию. Второе значение термина имел ввиду О.Шпенглер, когда писал, что «существует импрессинистическая математика, намеренно и настойчиво переступающая оптические границы… Есть импрессионистическая физика… Существует импрессионистическая этика, трагика, логика»[15].
Однако, импрессионизм в узком смысле, естественно, не может быть сведен к импрессионизму как мирочувствованию. Последнее характеризуется заменой императизма разума релятивистическим ощущением. Истинную реальность образуют качества, а не тела : качества реальнее тел, ощущения реальнее понятий. И тело, и понятие возникают как локализованные во времени комплексы ощущений. Связь качества и ощущений, их внутреннее единство и соподчинение - вторичны, условны и изменчивы. Происходит своеобразная дематериализация мира. Мы ощущаем лишь непосредственно данное, т.е. имманентно переживаемый материал настоящего мига, но утрачиваем единство всего мыслимого бытия в целом.
Установка на чистое ощущение, отрешенное от прошлого опыта, внеинтенциональное, есть установка на бездеятельное, внепрактическое созерцание, созерцание без вмешательства , без направленной воли и общеобязательного разума. Это установка аутсайдерства, отчуждения от общего смысла жизни.
Когда З.Кракауэр, следуя М.Прусту [16], объявляет состояние эмоциональной и понятийной отчуждённости от запечатленного предмета, признаком фотографического подхода, то он, во-первых приравнивает понятие фотографичности к импрессионизму в его вышеозначенном широком смысле, а во-вторых, явно «психологизирует» онтологию фотографии. Отчуждение, о котором пишет М.Пруст, может быть лишь выявлено при взгляде специфически настроенного субъекта на фотографию, но собственная детерминация его лежит не в сфере фотографической техники, а сфере общественной психологии. Кракауэр пишет, что Марсель Пруст «трактует роль фотографа… в том месте своего романа, где герой после долгого отсутствия входит без доклада в гостиную к своей бабушке»[17]. На самом же деле Пруст говорит не о роли фотографа, а об особом состоянии сознания, когда человек воспринимает мир не в «живых связях», а как «случайный свидетель», посторонний наблюдатель. Для прояснения этого процесса Пруст вспоминает о механической безучастности фотообъектива.
Правда, Кракауэр тут же оговаривается, что «и фотограф видит вещи глазами своей «собственной души»[18], поскольку всякая фотография неизбежно упорядочивает и отбирает материал и, несмотря на это, Кракауэр делает ошибочный вывод, «привязывая» состояние отчужденности к самой природе фотографического медиума. Это первоначальное смешение психологического и онтологического порождает целую цепь ошибок : следующими фотографической природе кинематографа объявляются лишь те фильмы, которые варьируют мотив отрешенного, аутсайдерского созерцания.
Если под «фотографизмом» разуметь психологическую установку, то можно смело констатировать, что антифотографическая тенденция была безусловно присуща импрессионизму в узком смысле, в той мере, в какой он оставался искусством живописи. Наиболее явно это обнаружилось в творчестве Дега (забавно, что сам Дега считал для себя неприемлемым именно « импрессионизм»).
Сугубо «фотографическая» «декомпозиция» Дега была плодом долгого наблюдения и целенаправленных конструктивных усилий, «неумолимой воли» [19], случайность не копировалась им, а творчески воссоздавалась. Взамен традиционных способов организации художественной целостности, Дега находил иные, однако сам принцип единства не ставился им под сомнение. Дега изображает не столько единичное явление, виденное в такой-то момент, сколько экстракт, сгусток действительности, свое обобщенное на основании многих наблюдений представление о действительности, но при этом картины Дега призваны рождать убеждение, что именно так происходило событие в действительности. Кстати, для Дега вовсе не обязательно непосредственно наблюдать изображаемую сцену. Его зрительная память была феноменальна, она четко фиксировала текущие жесты и движения, позволявшие художнику изучать и познавать элементы, из которых он создавал затем свои жизненно убедительные композиционные построения. Это метод художника-реалиста, передающего не беглые и непосредственные впечатления от действительности, а свое углубленное представление о ней. «Мгновение – это фотография и ничего более»[20], - писал Дега Фрейлиху. Композиционные приемы Дега, динамичная «рама», рассекающая предметы и оставляющая «за кадром» часть изображенного, непривычные, нетривиальные ракурсы, контрастное сопоставление планов, неравновесность масс, смещение композиционной оси и т.д. - впоследствии неоднократно воспринимались и порицались как «слепое подражание фотообъективу».
Вот слова известного русского живописца А.Васнецова из его книги «Художество» : «Дега – великолепный моментальный ходячий фотографический аппарат! Его фланерские фотографии по скачкам и уборным балерин – восхитительны. Можно определить даже, откуда «щелкает» его моментальный аппарат… Конечно, если на голову человека смотреть только как на пустую фотографическую коробку «кодака», то быть может, он и прав, не видя ничего в мире кроме ног, плеч, бедер балерин и крупов лошадей на скачках. Можно только удивляться и сожалеть, что такой великолепный рисовальщик как Дега, попусту тратит время : все, что он делает, великолепно исполнит за двадцать пять франков любой со вкусом фотограф»[21].
Между тем, именно Дега восставал против непосредственной фиксации увиденного. Не говоря уже о том, что «фотографические» приемы Дега на двадцать пять лет опередили появление «свободной» композиции в фотографии. Знаменательно, что будучи страстным фотографом-любителем, Дега строил свои снимки на подражании традиционным, «пикториалистским» композициям [22].
И все же, хотя импрессионизм подводя искусство к крайней черте, за которой кончалась живопись, сам этой черты не переступил. Именно он выявил и актуализировал те глубинные сдвиги в художественном миросозерцании, благодаря которым стала возможна эстетическая эмансипация фотографии как самостоятельного вида искусства.
Известная противоречивость ситуации была в том, что более общее, фундаментальное содержании е фотографии как онтологии утверждало себя через более частное, исторически локализованное содержание «фотографизма», как социально-психологической установки.
«Фотографизм» четко обозначил кризис живописи, развитие которой в дальнейшем пошло по другому пути. Сезанн привносит новое понимание пространства, которое неотделимо от времени… Сезанн считает недостаточным писать лишь то, что он видит и как видит, он соединяет на полотне непосредственно данное с мыслимым, соответственно пространство изображения динамизируется. Границы изображаемого мира раздвигаются за пределы неподвижного поля единого взгляда. Картина обретает строгую архитектонику, но не статичную, как у Пуссена, а синтезирующую, как бы воспроизводящую основные законы бытия.
Так Сезанн восстанавливает представление о картине как об упорядоченном художественном микрокосме. Если постимпрессионизм – в первую очередь Сезанн - создал основания для дальнейшего существования и возрождения живописи , то тенденция к избавлению от времени, к его «остановке», исчерпав себя в изобразительном искусстве, вышла за рамки живописи и нашла свое выражение в фотографии.
Веками живописцы стремились овладеть ускользающим от фиксации временем-становлением. Но оказалось, что оно может быть поймано лишь в виде механического слепка – мгновения, оживить которое собственными средствами изобразительное искусство не в состоянии.
Для этого понадобился кинематограф.
Примечания:
[1]. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.-Л.,Academia, 1930. Wolfflin, Heinrich. Kunstgeschiehliche Grundbegriffe. 1915.
Ср.: "Куда ни взглянешь, везде можно найти собственное течение искусства, таинственную жизнь и рост формы..." См.:Вёльфлин, Генрих. Истолкование искусства. М., 1923. - С.22.
Вёльфлин, Генрих (21.06.1864 - 19.07.1945). Швейцарский писатель, историк, искусствовед и теоретик искусства. Разработал последовательную систему анализа художественного стиля. Мастерски применил ее в классических работах, посвященных исследованию "психологии эпохи"(Ренессанс и барокко. 1888 г., русский перевод 1913 г.;
Классическое искусство. 1899 г., русский перевод 1912 г.; Италия и немецкое чувство формы. 1931 г., русский перевод 1934 г.)
[2.] Бердяев Н.А. Кризис искусства. - М.: Издание Г.А.Лемана и С.А.Сахарова, 1918.- С.6-7.
Бердяев Николай Александрович (06.03.1874-23.03.1948)
"Кубизм представлен гениальным художником Пикассо. Когда смотришь на картины Пикассо, то думаются трудные думы, - признается Н.А.Бердяев, не преминув разъяснить читателю, чем, собственно, вызвано его обращение к творчеству "гениального художника", - Здесь я воспроизвожу некоторые места из статьи о Пикассо. которая напечатана ниже. Для конструкции моего "Кризиса искусства" необходим Пикассо, как пример, на котором я развиваю свои мысли об искусстве. Перефразировать же самого себя я считаю лишним".
И далее, минуя какой либо анализ живописных полотен мастера, философ феерически раскручивает спираль своих "трудных дум" о мироздании: «Пропала радость воплощенной солнечной жизни. Зимний космический ветер сорвал покров за покровом, опали все цветы, все листья, содрана кожа вещей, спали все одеяния, вся плоть, явленная в образах нетленной красоты, распалась. Кажется, что никогда уже не наступит космическая весна, не будет листьев, зелени, прекрасных покровов, воплощенных синтетических форм. Кажется, что после страшной зимы Пикассо мир не зацветет уже как прежде. Что в эту зиму падают не только все покрова, но и весь предметный, телесный мир расшатывается в своих основах. Совершается как бы таинственное распластывание космоса» [?]
См. также рецензию А.А.Сидорова на книгу П.П.Перцова "Щукинское собрание французской живописи" (М., 1921):"Вся "диаболичность", "черная благодать" и прочее о Пикассо высказанное со слов Н.А.Бердяева... ничего общего с его искусством не имеет... и вообще является измышлением воли, искусству изначально чуждой". - Печать и революция. - 1922. -кн.1. - С.314.
[3]. Грищенко А. "Кризис искусства" и современная живопись. - М., 1918.
Грищенко Алексей Васильевич(17.03.1883 – 29.01.1977) . Выдающийся русский живописец, график и теоретик искусства. Учился в Москве у К.Ф.Юона и И.И.Машкова. В 1912 году принял участие в выставке «Бубнового валета», а в 1913-1914 г.г. – в выставках «Союза молодежи». Великолепно эрудированный и остроумный полемист, Грищенко стал известен как автор этапных для отечественного искусствознания статей и книг : «О связях русской живописи с Византией и Западом ХШ – ХХ веков. Мысли живописца», 1913; «Русская икона как искусство живописи», 1917; «Кризис искусства и современная живопись», 1917..
В 1917 году становится членом «Мира искусства». В 1920 году был вынужден эмигрировать в Константинополь. а с 1922 года постоянно живет и работает во Франции.
Персональные выставки работ А.В.Грищенко проходили в Париже, Гетеборге, Лиможе, Страсбурге. Нью-Йорке, Торонто и других городах мира. Произведения художника находятся во многих музейных собраниях: в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. ГМИИ им.А.С.Пушкина, Музее нового искусства в Мадриде, Национальном музее современного искусства в Париже, Королевских музеях Копенгагена и Брюсселя, а также во множестве частных коллекций.
[4] Аксенов И. Пикассо и "окрестности". - М., 1917.
Аксенов Иван Александрович(18.11.1884 – 03.09.1935).Русский поэт, литературный и художественный критик, переводчик. Автор и издатель первой в мире аналитической монографии о Пикассо «Пикассо и «окрестности».
Один из самых характерных, ярких и разносторонне одаренных представителей РУССКОГО АВАНГАРДА.(если говорить о РУССКОМ АВАНГАРДЕ в том расширительном смысле, который был доказательно обоснован в знаменитом исследовании Камиллы Грей «Великий эксперимент. Русское искусство. 1863 – 1922» - «Gray, Camilla. TheGreatExperiment. RussianArt. 1863-1922. – NewYork: Abrams, 1962». Эта книга по существу открыла миру уникальный феномен РУССКОГО АВАНГАРДА, обнаружив его сквозную мессианскую идею, пронизывающую и объединяющую необычайное многообразие школ, направлений и творческих деклараций. Во всяком случае, понятие РУССКОГО АВАНГАРДА имеет гораздо больше прав на существование, нежели предательски расплывчатая и двусмысленная, терминообразная метафора «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК», легкомысленным злоупотреблением которой грешили все тот же Н.А.Бердяев и С.К. Маковский).
И.Аксенов окончил Киевский кадетский корпус, а затем Николаевское военно-инженерное училище в Москве.
В 1910 году был шафером на свадьбе Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой.
Публикует блестящие статьи «Врубель, Врубель и без конца Врубель»(1912 г) и «К вопросу о современном состоянии русской живописи». Участник многих диспутов о новом искусстве вместе с Давидом Бурлюком, Владимиром Маяковским и Аристархом Лентуловым. В 1915 году - идеолог «западнической» ориентации в московской футуристической группе «Центрифуга». Под маркой «Центрифуги» выпустил сборник стихов «Неуважительные отношения» с офортами Александры Экстер(1916г).
После революции занимает высокие посты в Красной армии, становится председателем ВЧК по борьбе с дезертирством. С 1918 года состоит в Совете литературного отдела Наркомпроса и при этом входит в группу конструктивистов.
Ближайший сподвижник Всеволода Мейерхольда, первый ректор Высших Театральных мастерских. Автор первого биографического очерка о Сергее Эйзенштейне.
С конца 20-х годов занимается преимущественно шекспироведением. Именно ему принадлежит перевод «Великодушного рогоносца»(1921 г.), поставленного Всеволодом Мейерхольдом.
На сюжет «Медеи» Еврипида написал драму «Коринфяне» (1918 г).
Подготовил к изданию «Драматические произведения» Бена Джонсона (1931-1933 г.г) и объемистый 2-й том переводов английских драматургов «Елизаветинцы» ( Бен Джонсон, Томас Хейвуд, Джон Флетчер, Томас Деккер), 1938 г.
Справедливости ради следует заметить, что ошеломившая современников глубиной и точностью понимания творчества Пабло Пикассо книга И.Аксенова «Пикассо и «окрестности», была подготовлена интенсивными размышлениями и спорами художников-теоретиков, таких как Александр Грищенко, Владимир Марков (Волльдемар Матвей), Александр Шевченко, Михаил Матюшин. В частности, еще в 1913 году Александр Шевченко выпустил брошюру «Принципы кубизма и других современных течений в живописи всех времен и народов», где анализировал в контексте истории мирового искусства творчество «того, кого называют родоначальником кубизма… « неистового испанца» Пабло Пикассо. Теперь, когда Пикассо перестал быть для нас какой-то загадкой, мы не только не будем считать его сумасшедшим, диким, бегущим всего нормального, а наоборот, нам ясно стало, что он вполне последователен, он только развивает то, что ему дали предшественники, видим, что он преемственен, и при этом столько же от Запада, сколько и от Востока, если от последнего не больше».(Цит.по книге: Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Александр Шевченко. Об искусстве. – Л., 1989. – С.11-12.
Марков Владимир Иванович ( Вольдемар Ганс Иоганн Матвей) (1877-1914). Художник и теоретик русского авангарда. Один из организаторов и идеологов творческого объединения «Союз молодежи», в который входили М.Ларионов, Н.Гончарова, К.Малевич, П.Филонов, В.Татлин, О.Розанова, Д.Бурлюк, В.Хлебников, А.Крученых. Е.Гуро.
Автор книг : Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. – СПб, Изд. «Союза молодежи», 1914. – 76 С.; Искусство острова Пасхи. –СПб, 1914; Свирель Китая. Сборник китайских стихов. (Совместно с В.Егорьевым) – СПб, Изд. «Союза молодежи», 1914; Искусство негров. – Пб, Отдел изобразит. искусств Наркомпроса, 1919. – 154 С.
См. также: М.А.САПАРОВ. Теоретическое наследие В.И.Матвея и актуальные проблемы современной эстетики / / Материалы научной конференции, посвященной 90-летию латышского художника Вольдемара Матвея. (Рига, 15 января 1968 г.) – Рига, 1968.- С. 7-15.
V.Matveja teoretiskaus mantojuns un aktialas musdienu Estetikas problemas / Materiali par V.Matveja
Шевченко Александр Васильевич(1883 – 1948).
Матюшин Михаил Васильевич (1861-1934) . Русский художник, музыкант. Композитор, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда.
[5]. Лифшиц М.А, Рейнгард Л. Кризис безобразия. - М., 1968. - С.39.
[6]Базен А. Онтология фотографического образа // Базен А. Что такое кино?- М., 1973. - С.43.
[7]. Андроникова М. История движущейся камеры // Искусство кино. - 1964. - №5. - С.87-98.
Андроникова М. Сколько лет кино? - М., 1968.
[8] Эйзенштейн С.М. Гордость // Искусство кино. - 1940. - №1. - С.19.
[9]. Панофский, Эрвин. Перспектива как "символическая форма". - СПб,Азбука-классика,2004.
Panofsky, Erwin. Ptrspective as Symbolic Form.1927.
Панофский Эрвин (30.03.1892-14.03.1968). Американский историк и теоретик искусства немецкого происхождения.
[10]. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам. Вып.3. - Тарту.1967. - С.407-408.
[11]. Там же.
[12]. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. Образ и действительность. - М.-Петроград, 1923/ Перевод Н.Ф.Гарелина/ - С.295. См. также современное издание:М.:Мысль,1998.
[13]. Базен А. Что такое кино? - М., 1972. - С.44.
[14]. Казанский Б. Природа кино //Поэтика кино. - М.-Л., 1927. - С.103.
[15]. Шпенглер О. Там же. - С.293.
[16.] Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М., 1974. - С.38-43.
[17]. Там же, С..38-39.
[18]. Там же, С.40.
[19]. Валери, Поль. У Дега // Валери, Поль. Избранное. - М., 1936. - С.188.
[20]. См.: Мастера искусства об искусстве.Т.З. - М., 1939. - С.97.
[21]. Васнецов, А. Художество. - М.:Изд. Кнебель И., 1908. - С.119-120.
[22]. См., например, известный автопортрет Дега с Зоей, сделанный в 1895 г. при искусственном освещении.

Н.П.АКИМОВ. Автопортрет (фотография, подаренная Е.В.Юнгер М.А.Сапарову, автору и ведущему телепрограммы "РАКУРС", посвященной истории и теории художественной фотографии.
|
Метки: импрессионизм иван аквенов пабло пикассо вольдемар матвей александр грищенко дега |
Мирсаид САПАРОВ:ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЭСТЕТИКА - 1967 ---------------Перечитывая заново |
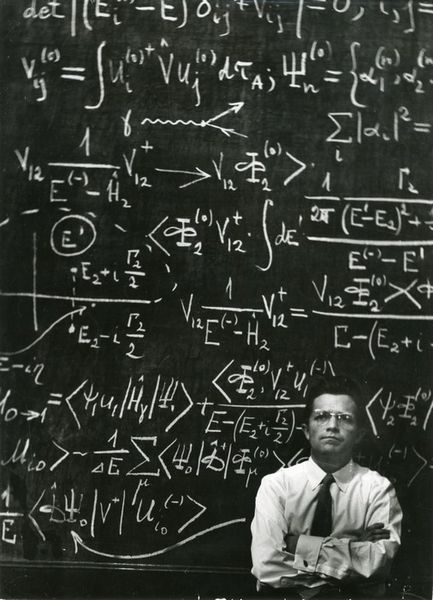
Ниже воспроизводится полный и откомментированный текст статьи Мирсаида Сапарова «Теория информации и эстетика», впервые опубликованной в журнале «Вопросы литературы» за 1967 год ( № 8, с.207-213)
Мирсаид САПАРОВ
ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЭСТЕТИКА
В последние годы буднично-затрапезное слово «информация», вполне примелькавшееся в обыденной жизни, неожиданно обрело многосмысленность и, я бы сказал, многозначительность.
Это произошло после выхода в свет ключевых работ Клода ШЕННОНА(1916-2001)[1]; Андрея КОЛМОГОРОВА (1903-1987) [2] ; Александра ХАРКЕВИЧА (1904-1965) [3]; и, конечно же, сенсационных для советских читателей книг Норберта Винера ( 1894-1964) [4]..
Многим показалось, что открывается заманчивая перспектива применения точных количественных методов и физико –математических представлений к сфере гуманитарного знания. Стали модными выражения типа «художественная информация», «информационный потенциал художественного произведения» и т.д. и т.п. Однако на деле эти словесные обновы по большей части оказывались не терминами в точном смысле слова, а ни к чему не обязывающей бессодержательной стилистической игрой.
Но вот перед нами монография известного французского ученого Абраама Моля [5], одним из первых попытавшегося применить методы теории информации к исследованию эстетического восприятия. Доктор технических наук и доктор филологии, А.Моль не только теоретик, но и экспериментатор, использующий новейшие технические средства в изучении тонких вопросов психологии и социологии.
«Сверхзадача» А.Моля состоит в том, чтобы «очеловечить» теорию, возникшую в целях усовершенствования технических систем связи, соотнести ее с возможностями человеческого восприятия и приспособить для постижения сугубо человеческих коммуникаций. Несколько забегая вперед, скажем, что оригинальное по замыслу исследование А.Моля, так и «не дотянулось» до эстетических проблем в собственном смысле слова. Тем не менее книга французского ученого по-своему интересна и поучительна для представителей искусствоведческих наук (послесловия к книге, написанного В.Ивановым и Р.Зариповым , мы в рецензии не касаемся, оно требовало бы специального разговора).
Ценно, в частности, данное А.Молем, систематическое и достаточно последовательное изложение физических основ теории и информации, особенно, если учесть то обстоятельство, что наблюдаемое ныне проникновение кибернетической терминологии в эстетику сопровождается недопустимым переиначиванием строго детерминированных понятий. А.Моль особо акцентирует внимание на том недостатке излагаемой теории, который дает о себе знать при первых же попытках расширить область ее приложения. Описывая явление, теория информации должна разъять его на простейшие элементы. Однако далеко не всегда эта операция оставляет неискаженными хотя бы важнейшие аспекты отображаемой реальности. Это замечание автора, безусловно, верно; жаль только, что сам А.Моль в дальнейшем слишком упрощенно истолковавший целостность эстетического восприятия, не вполне преодолел присущее теории информации пренебрежение «неразложимыми» свойствами целостных явлений.
Определив «сообщение» как «конечное упорядоченное множество элементов восприятия, взятых из некоторого «набора» и объединенных в некоторую» структуру» (стр.40), автор стремится строить свои рассуждения применительно к случаю, когда «приемником» информации выступает человек. Используя данные психофизиологии, оказывается возможным обозначить примерный объем того естественного «набора», на основе которого возникает все многообразие «зрительных» и «слуховых» сообщений, воспринимаемых человеком. Дело в том, что реакция системы органов чувств на внешнее возмущение характеризуется не только «верхним» и «нижним» пределами физического возбуждения(«порогом чувствительности» и « порогом насыщения»), но и определенной квантованностью «внутри» образованной этими пределами зоны. Чтобы возрастание возбуждения воспринималось человеком, каждое последующее возбуждение должно превосходить предыдущее на вполне определенную величину, именуемую «дифференциальным порогом».
Излагая далее основы шенноновской (вероятностно-статистической) теории информации, А.Моль подчеркивает, что шенноновская теория – всего лишь «физика сообщений», сама по себе никак не характеризующая их содержательную сторону. В данной системе понятий термин «информация» служит синонимом «количеству информации», величине, которую А.Моль представляет как «двоичный логарифм числа последовательных дилемм, однозначно определяющих сообщение»(стр.59). Иными словами, здесь оценивается статистическая вероятность появления определенной совокупности символов безотносительно к передаваемому смыслу. Использование автором понятие априорной «оригинальности» соответствует мере непредсказуемости сообщения. Реакция воспринимающего субъекта при этом не учитывается.
Как показывает А.Моль, для данного числа символов количество информации достигает своего максимального значения, если структура языка, определенная этим набором символов и использованная в канале передачи такова, что все символы равновероятны. Отнеся к этой максимальной информации Hm количество информации Н1, соответствующее языку, в котором вероятности появления символов не равны, мы получаем количественную оценку «расточительности» в использовании символов. Величина R=1 - H2 H1 получила название «избыточности».
Прочитав эти определения, легко убедиться, что употребление специальных понятий «информации», «оригинальности», «избыточности» в традиционном литературоведческом (или искусствоведческом) исследовании, да еще в оценочном плане, абсолютно бессмысленно. Ничем, кроме анекдотов, подобная игра с терминами увенчаться не может. Умудрился же один литератор упрекнуть прозу Джойса в «отсутствии избыточности». Оторванное от своей логической среды понятие утрачивает свою былую однозначность и начинает жить, сообразуясь с контекстом. Так срастаются «научное» и обыденное значения и возникает то зловонное» слово, о котором верно сказал А.Белый: «полуобраз-полутермин, ни то, ни се – гниющая падаль, прикидывающаяся живой: оно как оборотень вкрадывается в обиход нашей жизни, чтобы ослаблять силу нашего творчества клеветой, будто это творчество есть пустое сочетание слов, чтобы ослаблять силу нашего познания, клеветой, будто это познание есть пустая номенклатура терминов» [6].
К сожалению, и А.Моль в какой-то мере не избежал контаминации специальных терминов и «образных слов», что обнаруживается уже в первой главе, где в качестве примера предложена методика оценки «оригинальности» музыкальных программ. При этом мера неожиданности появления того или иного сочинения в концертной программе неявно отождествлена со степенью его «привлекательности» для публики. Так читатель лишний раз убеждается, что точные количественные методы могут стать камуфляжем для очень приблизительной мысли. Кстати, не доказано и другое положение «эстетической социологии» А.Моля, подразумевающее правомерность определенной оценки («взвешивания») художественного объекта посредством усреднения реакции воспринимающей аудитории. Не обманчиво ли «суждение» об искусстве от лица некоей среднеарифметической «нормы» вкуса?
Две последующих главы, пожалуй, наиболее интересны. В них А.Моль стремится найти синтез интегральной теории восприятия (психологической) с теорией развертки. Последняя, хорошо согласуясь с данными психофизиологии, рассматривает воспринимающего субъекта по аналогии с техническими устройствами, разлагающими отражение объекта на временную последовательность некоторых элементов. Психология же неопровержимо свидетельствует о целостности восприятия.
Рассматривая это противоречие в контексте теории информации, автор приступает к анализу сообщения, «наиболее трудного для передачи»: ведь поскольку скорость «приема» информации, доступная органам чувств, ограничена, несложно представить себе сообщение, по обилию информации значительно превосходящее «естественные» возможности человеческого восприятия. В итоге ряда рассуждений - любопытные подробности которых мы, увы, опускаем – А.Моль приходит к выводу, что «всякое осмысленное восприятие сопротивляется простой разверстке или жертвует ею в пользу иного типа восприятия, организуемого воспринимающим индивидуумом в соответствии со сведениями, априори известными индивидууму о сообщении» (стр.114). При этом «перенасыщенное» информацией сообщение «схватывается» целостно благодаря «наличию» у субъекта набора «символов»(видов устойчивого группирования заранее известных элементов). Понятие символа близко по смыслу к психологической категории «формы», которую автор интересно интерпретировал с теоретико-информационных позиций, выразив ее как автокорреляцию последовательности элементов.
Идеи А.Моля являют нам своеобразное «математическое свидетельство» социальности человеческого восприятия: богатство человеческой чувственности нельзя объяснить физиологическим устройством органов зрения и слуха : как ни совершенен орлиный глаз, он не видит и сотой доли того, что видит глаз человека, ибо человеческое видение мира оперирует сложнейшим «набором» идеальных «форм»(«символов», по молевской терминологии), созданных и создаваемых общественной практикой, и частности искусством.
Несомненно, что для эстетики изучение «механизма» видения в его социальной обусловленности имеет первостепенное значение. Знакомясь с интересными мыслями А.Моля о «механизме» человеческого восприятия (в частности, о роли памяти и времени в этом сложном процессе), можно было предположить, что собственно эстетические результаты предпринятого А.Молем исследования окажутся столь же оригинальными и многообещающими. Однако этого не случилось. Стоит разобраться – почему.
Автору представляется бесспорным, что «оценочные суждения» чужды «научной эстетике» (стр.244), ибо ценностный «содержательный» анализ «не объективен». Странная убежденность! Ведь устраняя эстетическое суждение и сосредоточивая свое внимание исключительно на «материальном» аспекте эстетических коммуникаций, «экспериментальная эстетика» подрубает сук, на котором сидит. В самом деле, каким образом она дознается, что именно оказалось под острием ее «сверхточного» инструмента: художественное произведение или рядовой образчик «антиискусства», эстетическое или антиэстетическое? А если наука не уверена в подлинности своего предмета, то по какому праву именует она себя эстетикой и рассуждает об «эстетическом восприятии», «эстетических сообщениях» и т.п.? Впрочем, в книге А.Моля, вопреки декларациям ее автора , нетрудно обнаружить подтверждение того, что всякое эстетическое исследование неминуемо содержит в себе и конкретное представление об эстетических ценностях и соответствующие оценочные суждения.
По А.Молю, в любом сообщении содержится два типа информации: «семантическая информация», поддающаяся точной логической формулировке и имеющая сугубо утилитарный характер; «эстетическая информация», которая случайна, «специфически связана с приемником», а главное – абсолютно бесполезна. Например, если вы слышите по радио нечто, не определяющее ваших действий ни в настоящем, ни в будущем, то такое сообщение «в принципе относится к эстетической информации», оно лишено универсальности и обязательности» (стр. 206-207). Разумеется, теоретик волен ввести понятие информации, неотделимой от конкретных условий ее передачи, но зачем, спрашивается, именовать эту информацию эстетической? «Эстетическая информация», - утверждает А.Моль, - почти равнозначна «эстетической ценности» в точном смысле этого слова, что и оправдывает введение этого понятия»(стр.223).
Стало быть, без понятия эстетической ценности все же не обошлось. Но как загадочно его появление в работе А.Моля. На стр.51 читаем: «Ценностью, по всеобщему признанию обладает то, что может быть использовано»; на стр.204: «Эстетическое ни в коей мере не носит утилитарного характера». Что же такое «эстетическая ценность» - оксюморон или научное понятие? И разве не странно: автор, который подробно оговаривает любую мелочь, оставляет вдруг недоказанным центральное положение исследования - тезис о бесполезности и необязательности эстетического никоим образом не связан ни с предшествующими построениями А.Моля, ни с теорией информации? Но ради единого слова идущей от Канта эстетической традиции пострадали и строгость, присущая теории информации, и самая обычная логика. Тут вспоминаются справедливые слова одного из предшественников А.Моля на поприще «экспериментальной эстетики» Шарля Лало: «…Метод, которому следуют эстетик или художественный критик, главным образом зависит от того, как поймут его основную проблему: проблему, проблему эстетической ценности» [7].
Без малейших на то оснований информацию о шенноновском значении этого слова А.Моль начинает называть «семантической информацией. Ей противопоставлена «информация эстетическая», на которую при этом бездоказательно распространяются законы общей теории информации. Никаких способов измерения «эстетической информации» автор не предлагает, тем не менее расчерчивает таблицу, где около имен Пауля Клее и Жоржа Матье значится «большая» «эстетическая информация», а около имен Иеронима Босха и Сальватора Дали – «малая». «Эстетическая информация» для А.Моля равна «эстетической ценности», - значит, перед нами традиционное оценочное суждение, хотя и в «табличной» форме…
Не замечая, по-видимому, собственной непоследовательности, автор провозглашает: «Все, что традиционная эстетика живописи обозначала с помощью неясных терминов: индивидуальность картины, мастерство, «оригинальность», - экспериментальная эстетика призвана уточнить, охватив выражаемым определенной числовой величиной – понятием эстетической оригинальности» (стр.208).
Как будто число способно узаконить молевские понятия«эстетической информации» и «эстетической оригинальности», таящие в себе крайне упрощенное представление о природе эстетического. К тому же математическое описание «художественного сообщения» не может заменить истолкования искусства. Как заметил Рудольф Арнхейм [8], если даже количественный анализ формальной структуры картины будет настолько совершенен, что позволит воспроизводить оригинал, получая соответствующую информацию по телефону, понимания живописи мы таким путем не достигнем.
Дабы предмет исследования соответствовал принятым теорией информации упрощениям, А.Моль попытался отторгнуть «эстетическую информацию» («эстетическую ценность») от смысла и содержания произведения искусства. Полное пренебрежение художественной семантикой (напомним «семантическая информация» не имеет ничего общего со «значением» и «ценностью» информации) привело не просто к «огрублению» реальной динамики эстетического восприятия, как это представляется А.Молю (стр.131), но к непоправимому разрушению действительных связей и отношений.
Ведь восприятие произведения искусства отнюдь не пассивно- отражательный акт, а сложный творческий
процесс, направляемый и корректируемый значением воспринятого. Эмоциональный отклик, деятельность
воображения, слияние отдельных впечатлений – все это не только следствия соответствующего « приема
информации», но и формирующие факторы эстетического восприятия, определяющие в конечном итоге его
специфику.
Восприятие музыки, о котором больше всего говорит А.Моль, не является исключением. В музыке, более, чем в какой – либо другой области искусства, понимание дается лишь тем, кто совершает какое-то действенное усилие. «Одного пассивного восприятия, - писал И.Стравинский, - недостаточно, слышать известные комбинации звуков и бессознательно привыкнуть к ним вовсе не то же самое, что воспринять и понять их, ибо можно слушать и не слышать, смотреть и не видеть» [9].
Нам могут возразить : для А.Моля теоретико-информационный подход всего лишь «первая ступень» в «восхождении» от «простого» к «сложному», которая не исключает дальнейшего анализа реакции воспринимающего субъекта. В том-то и дело, что понимание этого вопроса автором опять- таки характеризуется удручающим схематизмом. «Очевидно, - утверждает А.Моль, - что если отвлечься от рассмотрения восприятия с точки зрения теории информации, то произведение искусства представляет собой только типичный, легко поддающийся определению случай цикла «восприятие – реакция»(стр.273). Сказавшаяся здесь бихевиористская абсолютизация схемы «стимул – реакция» вряд ли нуждается в комментариях.
При всей неубедительности эстетической концепции А.Моля рецензируемая монография содержит ряд идей и наблюдений, представляющих известный интерес для теоретического искусствознания. Таковы, как нам кажется, мысли автора «о пространстве степеней свободы музыкального сообщения», о взаимодействии «частных сообщений» в «синтетических искусствах».
Особого внимания заслуживают предложенные А.Молем способы применения современных технических средств в области экспериментальной эстетики, тем более, что разнообразные, подчас неожиданные методы исследования, ставшие возможными благодаря звукозаписи, кино, колориметрии, различной электронной аппаратуре, еще не оценены в полной мере. Техника позволяет не только «увековечить», сделать предметом объективного изучения каждое конкретное исполнение произведения, но и непосредственно «экспериментировать» с художественными структурами, «разрушать» их и «перестраивать», наблюдая за соответствующими изменениями в восприятии и оценке.
Заметим, что бегло перечисленные А.Молем приемы частичного преобразования « художественных сообщений» (стр.289-290) (например, инверсия) нередко приводят к тонким и плодотворным наблюдениям. Удается, в частности, конкретно исследовать соотнесенность композиционных особенностей произведения искусства с определенным типом восприятия. Это подтверждается опытом современной «экспериментальной эстетики», которая, кстати, за восемь лет, истекших после появления книги А.Моля на французском языке, получила небывалое распространение [10]. По-видимому, эвристические приемы, выработанные экспериментальной эстетикой, при критическом к ним отношении могут быть использованы марксистским искусствознанием и эстетикой.
В пределах небольшой статьи невозможно достаточно полно охарактеризовать весьма необычное и противоречивое исследование А.Моля. Разделяя стремление французского ученого преодолеть «цеховую замкнутость» эстетики, мы остановились, главным образом, на спорных моментах его концепции, ибо, как резонно утверждает А.Моль, «цель науки – не всеобщее примирение, а постоянно возобновляемое поступательное движение» (стр. 283).
Примечания:
1. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: Иностранная литература, 1963
2. Колмогоров А.Н. Три подхода к определению понятия «Количество информации» // Проблемы передачи информации. – 1965. - №1.
К сожалению, приоритет фундаментальных идей А.А.Колмогорова в сфере проблем информации замалчивается из-за того, что новаторские идеи ученого были засекречены. Об этом, кстати, очень доказательно говорил А.А.Харкевич.
3. Харкевич А.А. Борьба с помехами. 1963; Харкевич А.А. Информация и техника // Коммунист. – 1962. - №12.
4. Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине. – М.: Советское радио, 1958 ; Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: Иностранная литература, 1958.
5. Абраам Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.:Мир, 1966. – 351 С.
6. Белый А. Символизм.- М.: Мусагет, 1910. – С.436-437.
7. Лало Шарль. – Введение в эстетику. – М.: Труд, 1915. – С.34.
8. Arnheim R. Information Theory and the arts // The Journal of Aesthetics and Art Criticizm. – 1959. – vol.XVII, N4. – P.501-502.
9. Стравинский И. Хроника моей жизни. – Л.: Музгиз, 1963. – С.220.
10. Показателен в этом смысле международный коллоквиум по экспериментальной эстетике, проходивший 7-8 апреля 1965 года в Париже и завершившийся организацией международной ассоциации экспериментальной эстетики
|
|
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО : НЕСКОЛЬКО СЛОВ К 100-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КОЗИНЦЕВА |

Когда я вспоминаю яркие выступления Григория Михайловича Козинцева, его остроумные и точные реплики, его живую реакцию на кинематографические новинки, мне трудно поверить, что в этом году Козинцеву исполнилось бы сто лет.
Как это ни парадоксально, Григорий Михайлович Козинцев, признанный классик и лидер ленинградской кинематографической школы, снявший популярные и всемирно признанные фильмы, тем не менее, никогда не воспринимался как кинематографист по преимуществу.
Или, как бы сказали нынче, « киношник».
Козинцев был, прежде всего, благородным Рыцарем КУЛЬТУРЫ.
КУЛЬТУРЫ целостной, универсальной и несовместимой с профессиональной ограниченностью.
И дело не только в безупречном вкусе мастера и его очевидном писательском даре.
Начавший свой путь как живописец – ученик Александры Экстер, затем создавший вместе с Леонидом Траубергом знаменитую ФЭКС –Фабрику эксцентричного киноискусства, многие годы сотрудничавший с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, гениальным кинооператором Андреем Москвиным, живописцами Натаном Альтманом и Евгением Енееем, Козинцев в своей художественной практике как бы объединял возможности разных видов искусства.
Ничто так не отталкивало Козинцева в кино, как имитация внешнего, как он говорил, механического жизнеподобия. Техническая основа кинематографа такова, - повторял он, - что дает возможность с помощью немудреных деталей и приемов, которыми не так уж трудно овладеть, создавать на экране иллюзию реальной жизни.
Собственно говоря, на этих приемах и основывается киноремесленничество, которое всегда приводило Козинцева в уныние и представлялось режиссеру враждебным подлинному киноискусству.
И здесь он бывал абсолютно непримиримым.
Наблюдая Григория Михайловича Козинцева много лет в разного рода обсуждениях, спорах, в итоговых конференциях Ленфильма, которые в ту пору регулярно посвящались анализу и оценке сделанного на студии, могу свидетельствовать, что интеллектуальная скудость и беспомощность, выспренное и бессодержательное словоговорение всегда его обескураживали и раздражали. Он сразу как-то скучнел, терял интерес к происходящему и старался под каким-либо предлогом уйти.
2
Знаменательно, что когда с 1964 года в Ленинграде стали проводиться всесоюзные симпозиумы по так называемому комплексному изучению художественного творчества, в их работе наряду с известнейшими филологами, искусствоведами и крупнейшими учеными, представлявшими, казалось бы, самые разные сферы научного знания, принимал участие и Григорий Михайлович Козинцев...Удивительные это были сборища. Рядом с гениальным математиком, академиком А.Н.Колмогоровым, можно было увидеть лингвиста и литературоведа В.В.Иванова, тогдашнего директора Эрмитажа, академика И.А.Орбели, физиолога, академика Л.А.Орбели, крупнейшего психофизиолога П.К.Анохина, астронома-физика Н.А.Козырева и мало ли кого еще. Замысел этих симпозиумов, объединенных, как правило, какой-то серьезной проблемой искусствознания, состоял в том, что как раз на стыке самых разных областей науки и возникают свежие, конструктивные идеи.
В 1968 году (с 9 по 13 декабря) в Ленинграде прошел очередной симпозиум, посвященный комплексному изучению процессов восприятия и интерпретации искусства, вызвавший много откликов и широкую дискуссию.
Когда газета «Комсомольская правда» вознамерилась поведать миру об этом симпозиуме, Г.М.Козинцев попросил, чтобы наряду с его размышлениями в обзоре были опубликованы и тезисы моего доклада.(См.:Секрет восприятия //Комсомольская правда, 1969, 17 апреля, с.4)
Помню, как в 1966 году, на симпозиуме «Творчество и современный научно-технический прогресс» возникла неожиданная полемика между Г.М.Козинцевым и театральным режиссером, художником, писателем и острословом Н.П.Акимовым.
Акимов обстоятельно и остроумно доказывал, что специфические особенности фото- киноизображения вызваны к жизни, конечно же, появлением специальной техники. При этом он анализировал свой собственны й опыт: «Взявшись за фотокамеру, я очень быстро понял, что так называемая постановочная фотография напрасно пытается соперничать с живописью. Фотообъектив наделен уникальными, никак иначе не восполнимыми способностями схватить жизнь врасплох, запечатлеть конкретный миг реального времени.»
При этом подразумевалось, что фотографический процесс как оптико-механическое действо устраняет субъект. То есть, Н.П.Акимов рассуждал вполне в духе крупнейшего французского кинокритика и теоретика искусства Андрэ Базена, говорившего, между прочим, , что «личное участие фотографа в этом процессе сводится к выбору, ориентации и определенному воздействию на изображаемый феномен ; как бы ни было оно заметно в конечном результате, оно входит в него совсем на иных правах, чем личность художника.
Все искусства основываются на присутствии человека и только в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием».[1]
Неожиданные рассуждения Н.П.Акимова, выявлявшего фотографическую родословную кинематографа, вызвали энергичную полемику со стороны Г.М.Козинцева. Григорий Михайлович, демонстрируя поистине блестящую эрудицию, убедительно доказывал, что развитие так называемого кинематографического мышления происходило в недрах традиционных искусств, как бы предвосхищавших рождение кинематографа.
Мне кажется, что Андрею Тарковскому была более близка мысль Н.П.Акимова о специфической интимной связи так называемых фотографических искусств, к которым, конечно, относится и кино, с реальным временем и реальной действительностью. Достаточно вспомнить его знаменитую статью- манифест «Запечатленное время».Но между тем, в Ленинградском Доме кино на премьере многострадального «Андрея Рублева», Андрея Тарковского представлял именно Козинцев.
Я не открою секрета, если скажу, что «Андрей Рублев» был тогда принят, мягко говоря, далеко не всеми. И, разумеется, именно в профессиональной среде. Но Козинцев, авторитет которого был исключительно весом, решительно поддержал картину Тарковского. Разумеется, проницательный Григорий Михайлович великолепно понимал, что приветствует кинематограф, фактически оппонирующий тем принципам художественного кинозрелища, которые были близки ему самому.
Не случайно просмотр козинцевского фильма «Гамлет» вызвал у Тарковского непреодолимое желание воссоздать шекспировскую трагедию на экране совершенно иначе, по-своему.
И, тем не менее, Козинцев оставался Козинцевым. То-есть истинным Рыцарем КУЛЬТУРЫ..
Однажды я догнал Григория Михайловича, стремительно уходящего с демонстрации какой-то очередной киноновинки ( кажется, это был Жан-Люк Годар) на закрытом просмотре в Ленинградском Доме кино.
«Григорий Михайлович, куда же Вы?» Козинцев хмуро взглянул на меня и, загадочно улыбнувшись, ответил :
«Жизнь быстротечна, искусство вечно».
Вот уж поистине…
1.Базен А. Что такое кино? – М., 1978. – С. 44.
(Опубликовано : журнал «First», 2005, №2, с.137 – 139.)

|
Метки: А.Тарковский У.Шекспир Г.Козинцев М.Сапаров Н.Козырев И.Орбели П.Орбели А.Колмогоров Н.Акимов |
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО: АНТИНОМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ |
Современная литературно-художественная критика не только отражает и оценивает результаты художественого процесса, но и непосредственно участвует в их формировании. Небывалое распространение средств массовых коммуникаций — прессы, радио, телевидения — расширяет аудиторию традиционных критических жанров и видоизменяет социальные формы бытования критики, делая их более мобильными, действенными, повсеместными.
Понимание задач критики и ее возможностей неразрывно связано с определенным истолкованием природы эстетического суждения об искусстве. Именно здесь сталкиваются различные мировоззренческие позиции, различные представления о соотношении художественной критики и жизни — с одной стороны, художественной критики и искусства — с другой.
Что есть художественная критика? Наука или искусство? В наши дни этот вопрос звучит особенно актуально в связи с непомерными притязаниями структуралистского и социологического сциентизма и не менее максималистскими претензиями эстетического субъективизма во всех его формах, от экзистенциалистских до неовиталистических.
По-видимому, «антиномия критики» существует столько времени, сколько существует сама художественная критика. Иначе говоря, издавна выявились две точки зрения: согласно первой, произведение искусства следует рассматривать как объект в ряду других объектов, полностью опуская при этом субъективность исследователя; согласно другой — всякое познание художественного произведения, подобно искусству, неотделимо от познающей личности.
В известном диалоге «Критик как художник» Оскар Уайльд, именуя критику «единственно культурной формой автобиографии», утверждал, что произведение искусства может быть проанализировано в своем эстетическом качестве только в том случае, если оно служит «исходной точкой для нового созидания», в котором своеобычно раскрывается индивидуальность критика. Причем, «собственная личность толкователя становится жизненной частью толкования». Для критика художественное произведение — просто толчок к новому собственному произведению, которое не обязано носить явного сходства с тем, что разбирается.
«Когда же критики будут художниками и только худож¬никами, и вполне художниками?» — восклицал Бодлер.
Любопытно, что эта точка зрения была представлена не только писателями, но и маститыми искусствоведами академического толка. Например, Макс Фридлендер, определяя статут художественной критики, писал: «За спасение от опасности субъективизма как смертельного врага якобы точного метода здесь требуется такая жертва, которую искусствознание принести не в силах, не отказавшись от самого себя. Изучение искусства, которое во что бы то ни стало хочет стать наукой, грозит стать наукой, направленной против искусства».1)
Как бы полемизируя с подобными точками зрения, Осип Брик писал в 1919 году в газете «Искусство коммуны»: «Скажут: познавать произведения искусства можно только эстетически их переживая. Ерунда! Так рассуждают эстетствующие интеллигенты и подражающая им мещанская масса.
Произведения искусства следует изучать так же, как и все остальное. Должно разложить их на составные части, проникнуть в законы их построения, понять их в связи с исторической обстановкой, в которой они создавались, словом, проделать ту научную работу, которую проделывают над всяким объектом научного исследования».
Итак, спор о критике — спор давний. И если признать, что вызывавшее его противоречие реально существует, а не выдумано, то придется прийти к выводу, что здесь отразились существеннейшие черты самого предмета художественной критики искусства. Иначе говоря, антиномичность критики производна от антиномичности искусства.
Наблюдая за современной дискуссией вокруг структурализма, нетрудно заметить, что в конечном итоге все разнообразие суждений восходит, по-видимому, к одной центральной категории — произведению искусства. Зачастую это понятие фигурирует как само собой разумеющееся и не требующее особых пояснений. Однако оказывается, что дать
какие-либо определения мешает отнюдь не самоочевидность понятия, а его диалектическая противоречивость и внутренняя сложность.
Распространившееся в западном искусствознании стремление лишить понятие «художественного произведения» внутреннего самодвижения, противопоставить его вещественную константность духовной деятельности безусловно имеет мировоззренческий идеологический смысл. Эстетический объективизм структуралистского толка отражает происходящее в современном постииндустриальном обществе отчуждение культурных институтов, при котором продукт творчества предстает как чуждый сознанию предмет, а не как способ духовного воспроизводства человека.
Художественное произведение как объект обладает специфическими качествами. Произведение искусства несводимо ни к вещественной предметности, ни к содержанию сознания. Оно есть особым образом организованный процесс, неизбежно предполагающий единство объективного и субъективного. Расторгнуть это единство — значит умертвить произведение искусства.
И как материальный объект и как общественное явление, художественное произведение подчиняется определенным объективным закономерностям, поддающимся научно-теоретическому, логическому осмыслению и объяснению. Поэтому критика искусства никак не может быть оторвана от науки и противопоставлена ей. Теоретико-логическое основание должно наличествовать (в явном или скрытом виде) во всяком критическом суждении, если оно хоть чем-нибудь отличается от сугубо субъективных заметок. Критика, названная Белинским «движущейся эстетикой», не может не быть теорией. Иной раз приходится слышать заявления критиков о том, что в своей практической деятельности они могут обойтись без какой-либо теории.
Но прав был А. Ф. Лосев, который еще в 1927 году писал: «Нельзя прямо бросаться наблюдать затмение солнца без предварительного знания математики и механики и претендовать на научность. Конечно, для астрономов математика есть абстракция. Солнечное затмение — подлинная жизненно ощущаемая реальность. Но скажите, кто ближе к науке, к подлинно жизненно ощущаемой реальности солнечного затмения — человек, не владеющий никакой математикой и механикой и презирающий все это на том основании, что все это абстракция и схоластика, или астроном, который овладел этими абстракциями и умеет предсказывать затмение? Как бы эстетика ни была далека от астрономии, но и для нее всегда останется идеалом иметь точнейшее знание о логической основе искусства, с одной стороны, и с другой, так уметь применять эту логику, чтобы она была как бы самой действительностью и чтобы действительность несла на себе ту же точность и ясность, что и логика».2)
Однако несколько странную картину представляет собой художественная критика как наука. Она пользуется терминами, значение которых как бы само собой разумеется и попытка точного определения которых кажется не только бесплодной, тщетной, но и кощунственной. Но когда центральные понятия не определены, вместе с ними теряют устойчивость понятия, достаточно четко выведенные в других науках.
Терминологическая неопределенность, неустойчивость эстетических категорий, понятий, в которых осуществляется анализ искусства, в том числе и центральной категории «произведение искусства», объясняется тем, что эти понятия соотносятся со все более усиленно развивающейся художественной практикой. Поэтому ни одна из категорий художественной критики не является чем-то вневременным, равно применимым ко всем явлениям искусства.
Очевидно, термины, которые весьма удачно могут быть применены к какому-либо произведению, могут оказаться пустыми и бесплодными при определении других явлений. Свойство, которое, как нам кажется, является свидетельством эстетической ценности данной работы, возможно, не будет свидетельствовать о том же, будучи отнесено к какому-либо другому произведению, а недостаток того или иного заранее ожидаемого качества, может статься, не всегда является дефектом.
Вместе с тем понятийный аппарат искусствоведения, как и всякой науки, должен включать некоторые наиболее общие категории, которые могут быть отнесены к каждому произведению, ибо отражают объективные закономерности суще-
ствования и развития искусства. Поэтому неправ известный американский эстетик М. Бёрдсли, считающий, что «каждое направление искусства, даже отдельное произведение, требует своих индивидуализированных категорий»3) Он явно впадает здесь в крайность, в полнейший терминологический релятивизм.
Сегодня, как никогда, ощутима потребность в дифференциации, уточнении, уплотнении терминологии нашей критики. Используемая ныне система понятий уже не соответствует реальной сложности, широте и разнообразию сферы художе¬ственной деятельности.
Тяготясь «нестрогостью» искусствоведческих понятий, современные критики обращаются к терминологии точных и естественных наук. Но подчас они делают это вовсе не в поисках точности, а скорее для того, чтобы создать утонченное сочетание разностильной, «разнофактурной» терминологии. Создаются своего рода вербальные коллажи — интеллектуальная игра эпохи кибернетики.
Стремление «поверить алгеброй гармонию» подчас сопровождается возрождением нормативизма в его худшем варианте.Подобно тому, как бессмысленны имевшие место в прошлом попытки навязывать искусству как универсальное качество пропорции «золотого сечения», современные попытки найти структурные константы, пригодные и необходимые для всякого произведения искусства, являются принципиально ошибочными. Понятие искусства — понятие «открытое». Всякое новое явление, появившееся в его сфере, развивает, расширяет старое сложившееся представление об искусстве, «расподобляет» стереотипы, связанные с представлением об искусстве.4)
Опыты Абрама Моля, Макса Бензе, пытавшихся найти информационные количественные критерии художественной ценности, завершились таким же бесплодным нормативизмом, как и предпринимавшиеся Матилой Гика, Хеймбиджем попытки найти какие-то математические вневременные основа¬ния искусства. Оценивая результаты этих исследований, Рудольф Арнхейм писал: «Стремление выработать универсаль¬ные математические критерии оценки искусства может быть охарактеризовано как пиррова победа калькуляции над видением."5)
Особенно опасен вид нормативизма, который тщится вывести какие-то вневременные нормы мастерства и доказать, что существует некий внеисторический уровень мастерства, который позволяет судить о произведении. При этом забывается, что техническая искусность сама по себе может быть неинтересна с эстетической точки зрения.
«Мастерство художника» есть нечто такое, что соотносится с творческой индивидуальностью. Когда критики пытаются остановить понятие художественного мастерства в его раз¬витии, представить его в виде неизменного статического ка¬чества, это становится причиной чудовищных и грубых заблуждений. Так, мы приходим к тому, что художественная критика, стремясь к объективности, к логичности, не может игнорировать субъекта искусства, особую эстетическую природу своего предмета.
Постигнуть художественное значение — значит дать произведению заговорить, раскрыть связанную в нем «информацию». Но смысл в искусстве — итог не одних лишь логических операций, он добыт эстетическим переживанием. Посему критика, соответствующая природе искусства, не может быть только логической.
И, может быть, не столь уж постыдно признать, что в тот миг, когда любое чудо искусства станет целиком доступно логическому анализу, когда гений Пушкина, или Ватто, или Шопена уже не будет волновать чем-то непередаваемым в терминах и категориях науки, в тот самый миг умрет искусство. Эта точка зрения ни в коей мере не утверждает агностицизма. Она просто рассматривает произведение как развивающееся, живое явление. Созерцая произведение искусства, мы открываем в нем себя и созидаем, формируем себя по его образу. А этот процесс бесконечен и разомкнут.
Теоретические устремления критика и его личный вкус образуют обычно взаимокоррелирующуюся пару в процессе исследования. Нет ничего более сомнительного и обманчивого, чем суждение об искусстве от лица некоей «среднеарифметической», «узаконенной» нормы вкуса, ибо такое суждение уже по своей природе, по самой своей структуре не имеет ничего общего с подлинно эстетическим переживанием.
Некоторые историки искусства заявляют, что в своей конкретной" работе они избегают суждений об эстетической ценности анализируемых произведений. Между тем, сам предмет исследования предполагает определенную оценку.
В книге «Истолкование искусства» Г. Вельфлин утверждал: «Всякое описание художественной формы неизбежно включает в себя суждение ценности». «Последнее и решающее в подходе к искусству заложено в эстетической оценке. Ведь несомненно, что смысл искусства открывается не в широких группах, не в стиле, а в отдельном произведении. Дать качественную оценку памятнику искусства — вот проблема проблем всякого истолкователя».6)
Вот почему построения представителя современного позитивизма в эстетике Мориса Вейтца, оправдывающего критиков, избегающих оценочных суждений, на том основании, что оценка якобы ничего не добавляет к критическому анализу, глубоко ущербны. Это — очевидное проявление объективистского взгляда на искусство и художественную критику, свойственного и многим представителям структурализма.
Прежде чем судить о произведении искусства, его необходимо «вкусить», эстетически пережить как художественное явление. Адекватность анализа анализируемому произведению без этого просто немыслима.
Отсюда следует, что художественный анализ можно рассматривать как особую, специфическую форму художественного творчества (хотя и не в том узком исключительном смысле, который имеет в виду О. Уайльд).
По-видимому, можно говорить о двух видах художественной деятельности: один из них предполагает непосредственное создание художественных ценностей, другой находит свое выражение в их актуализации и анализе. В первом случае процесс эстетического переживания диалектически слит с процессом выражения в материале. Во втором объединяются эстетическое переживание и анализ.
Для того, чтобы анализировать отношение искусства к жизни, надо внять тому диалогу, который они ведут, надо владеть языком, который делает этот диалог возможным.
Поэтому деятельность критика в чем-то сходна с работой переводчика или музыканта-интерпретатора. Нельзя быть переводчиком поэзии, не будучи поэтом, нельзя передать духовные богатства мастера, если ты сам никакими духовными ценностями не обладаешь.
Но искусствовед вместе с тем никак не может ограничить свою деятельность анализом эстетического своеобразия искусства. Нельзя постичь сущность искусства, отринув его от всей полноты эстетических переживаний, порождаемых непосредственно самой жизнью, не выявляя при этом собственной жизненной идейной социальной позиции.
По самой своей природе художественный вкус остается предпочтением. Эстетическая всеядность критика означала бы отсутствие развитого и самостоятельного вкуса. Если критик не скрывает своих личных убеждений и устремлений, это еще не значит, что он субъективен в суждениях. Но всякий вкус не произволен, а исторически, социально обусловлен. Когда эта обусловленность прояснена, критика выигрывает в убе¬дительности.
Мнимая бесстрастность и самоустранение субъекта в суждении об искусстве есть лишь игра в объективность, которая нередко маскирует вполне конкретные художественные и общественные пристрастия.
Как это ни парадоксально, но, при прочих необходимых условиях, чем отчетливее, рельефнее проявится в работе индивидуальность исследователя, тем объективнее в целом будет его суждение.
Объективизм социологический и объективизм математико-логический одинаково не способны отменить суждение вкуса и оценку явлений искусства как обязательное условие полноценной художественной критики.
Отражая свойственную живому искусству диалектику субъективного и объективного, критика не может избавиться от проблематичности своего собственного существования. Предлагая вопросы искусству и жизни, критика одновременно должна выдержать натиск вопросов, обращенных к ней самой. Неустранимая антиномичность отнюдь не свидетельствует о недоразвитости критики, как иногда полагают. Антиномичность — источник тех взыскующих усилий человеческого духа, которые и составляют сущность критики.
-------------------------------------------------
1) Фридлендер Макс.Знаток искусства. М.,1922, с.20.
2) Лосев А.Ф.Диалектика художественной формы, М.,изд. автора, 1927,с.5-6.
3) Beardsley, Monroe C. The Concept of Economy in Art.- "The Journal of Aesthetics and Art Criticism", XIV, 1955-1956, pp370-372.
4) Более подробно о проблемах искусствоведческой терминологии см.:М.А.Сапаров. Между "художественностью" и сциентизмом. В кн.: Художественное и научное творчество. Л., Наука, 1972, с.135-141.
5) Arnheim R. Information Theory and the arts. - "The Journal of Aesthetics and Art Criticism".XVII,1959,P.501-502.
См. также: М.Сапаров. Теория информации и эстетика. - "Вопросы литературы",1967, №8, с.207.
6) Вельфлин Г.Истолкование искусства. М., "Дельфин", 1922,с.28.
М.А.Сапаров
ТВОРЧЕСТВО
Основан в 1957 году; 1975, №1(217), С.10-11.
P O S T S C R I P T U M
Спустя десять лет авторитетный ленинградский философ Ю.В.Перов, говоря о проблематике герменевтики искусства писал:"Интерпретированность всякого литературного произведения есть его способ существования, при котором само произведение и его понимание образуют единство, нерасчленимое даже аналитически. Есть смысл ограничиться лишь некоторыми из однотипных высказываний, перечень которых легко продолжить:
"Понимание принадлежит самому бытию художественного произведения"(См.:Gadamer H-G.-Wahrheit und Metode. Die Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik.-Tubingen, 1965.-S.96);
" Художественное произведение и его мысленная реконструкция в восприятии или же в литературоведческом анализе...не только соотносительны и взаимно обязательны, но и образуют некое нерасторжимое целое."(См.: Сапаров М.А. Понимание художественного произведения и терминология литературоведения//Взаимодействие наук при изучении литературы.-Л.:Наука,81.-С.239.
И более "сильная" формулировка - "есть довольно обширная область явлений, где объект тождественен своей интерпретации".(См.: Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.Три беседы о метатеории сознания//Труды по знаковым системам.V.-Тарту, 1971.-С.369.)
Цит. по: Перов Ю.В. "Культурная герменевтика" и наука о литературе.
Публикация и комментарий Т.В.Алексеевой
|
|
Мирсаид САПАРОВ: ИМПРЕССИОНИЗМ И ФОТОГРАФИЯ. 1974. (перечитывая заново) |
. Мирсаид САПАРОВ ИМПРЕССИОНИЗМ И ФОТОГРАФИЯ
Доклад на научной конференции , посвященной 100-летию
со дня открытия первой выставки импрессионистов
Государственный Эрмитаж
22 – 23 октября 1974 г.
Огромное революционизирующее воздействие фотографии на современную систему искусств до сих пор в полной мере не оценено и не проанализировано нашим искусствознанием. Фотография не только способствовала возникновению и небывалому распространению художественно-документальных жанров, не только породила новые виды искусства, основанные на техническом воспроизведении (прежде всего кинематограф), но и привела к радикальной переоценке ценностей и смене установок в области традиционных видов изобразительного творчества. Вопреки распространенному мнению, фотография - не только технический способ отражения и воспроизведения действительности. Она заключает в себе новаторский эстетический принцип.
Анализ этого принципа имеет чрезвычайную теоретическую актуальность, тем более, что в обыденном сознании, как, впрочем, и во многих популярных искусствоведческих сочинениях, укрепилось представление о фотографии, как о чем-то изначально связанном с унылым и бездушным протоколизмом, неспособностью к художественному обобщению действительности, приземленностью и вульгарностью. Фотография при этом нередко выступает как антипод искусства, художественности и содержательности.
История осознания фотографией своих специфических возможностей, обретения ею самостоятельности проясняет многие закономерности художественной культуры. Особый интерес представляет параллельное рассмотрение эволюции живописи и фотографии.
Хотя хронологически возникновение импрессионизма совпадает с периодом становления и распространения фотографии как искусства, импрессионизм скорее предвосхитил, нежели отразил эстетику фотографизма. Современная импрессионистам фотографическая техника требовала больших выдержек и не знала одномоментности. Отдельные эксперименты, вроде опытов «фотографической стенографии» Поля Надара, еще не предвещали эстетических возможностей фоторепортажа, в полной мере заявивших о себе на рубеже веков благодаря работам американской школы.
Тем не менее в творчестве импрессионистов четко обнаруживаются все тенденции, которые крупнейший теоретик фотографии Зигфрид Кракауэр определил впоследствии как органические склонности фотографического медиума:
1. Изображение тяготеет к неинсценированной действительности. В нем чувствуется намерение автора воспроизвести физическую реальность в том нетронутом виде, в котором она существует помимо него.
2. Изображение склонно подчеркивать элементы ненарочитого, случайного, неожиданного. Воспроизводя «пульсацию жизни», оно не терпит насильственного втискивания в банальную композиционную схему.
3. Изображение передает ощущение незавершенности, бесконечности. Его содержание связано с содержанием остающегося за рамкой, его композиция говорит о чем-то невместимом, о физическом бытии.
4. Изображение передает неопределенное, трудноуловимое в понятиях содержание, разрушает семантику обыденного, выявляя многосмысленность физической реальности.
В отношениях импрессионизма и фотографии не столь уж существенны прямые воздействия, хотя таковые, безусловно, имели место. Важнее другое – их объединяют радикальные перемены в миросозерцании эпохи.
Фотография дала возможность «мумифицировать» временное бытие физической реальности во всей его эмпирической конкретности. Импрессионизм завершает движение европейской живописи к постижению реального времени, которое, в отличие от ньютоновской абстракции «длительности без свойств», неотрывно от движущейся материи. Оно необратимо, интенсивно, несимметрично и неделимо на части.
Сложившаяся в эпоху Возрождения изобразительная система характеризовалась спатиализацией времени, и в этом ей вполне соответствовало ньютоновско-кеплеровское миропонимание. Организуя картину как замкнутое самодостаточное единство, художник наделял изображение надвременным идеальным бытием.
Погоня за фиксацией мгновения, стремление передать изменчивость, неповторимость жизненной сиюминутности открывает импрессионизму выразительную силу («правду») непреднамеренности, естественности,
случайности - случайности, которая оказывается звеном во всеобщей связи явлений. Так импрессионизм совершает в изобразительном искусстве переворот, аналогичный переходу от механического детерминизма к «вероятностной Вселенной». Так импрессионизм становится предшественником эстетики фотографизма.
Пытаясь решить средствами живописного искусства задачу, неорганичную для его природы, предполагающую иной способ изобразительной деятельности, импрессионизм оказался переломным, кризисным явлением в развитии традиционной живописи.
В этом смысле импрессионизм глубоко антиномичен.
Как это ни парадоксально, но открытие импрессионистами реального времени, безусловно, означавшее прорыв к объективной реальности, фатально влекло за собой субъективизацию видения.
Живописи недоступна эмпирическая мгновенность, ибо изобразительное искусство предполагает пластическую организацию, а следовательно, и организацию постранственно-временного континуума произведения. Применительно к живописи следует говорить не о фиксации мгновения, а о его имитации.
Именно импрессионизм, благодаря его «фотографическим» декларациям, придал отталкиванию живописи и фотографии глубокую концептуальность.
Антифотографическая тенденция, безусловно присущая импрессионизму в целом, наиболее явно обнаружена творчеством Дега (причем внешне биографически это выразилось как неприятие импрессионизма). Сугубо «фотогафическая», казалось бы, «декомпозиция» Дега была плодом долгого наблюдения и целенаправленных конструктивных усилий, «неумолимой воли» (Валери), случайность не копировалась, а творчески воссоздавалась. Взамен традиционных способов организации художественной целостности Дега находил иные, однако сам принцип единства не ставился им под сомнение.
Композиционные приемы Дега: «динамичная» рама, рассекающая предметы и фигуры и оставляющая «за кадром» часть изображенного, непривычные, нетривиальные ракурсы, контрастное сопоставление планов, неравновесность масс, смещение композиционной оси и т.д. - впоследствии нередко воспринимались и порицались как «слепое подражание фотообъективу». [1]
Между тем, именно Дега восставал против непосредственной фиксации увиденного. (Не говоря уж о том, что «фотографические» приемы Дега на 25 лет опередили появление «свободной» композиции в фотографии). Знаменательно, что будучи страстным фотографом- любителем, Дега строил свои снимки на подражании традиционным «пикториалистским» композициям.
Далеко не сразу были осознаны те глубинные сдвиги в художественном миросозерцании, которые выявил и актуализировал импрессионизм и благодаря которым стала возможной эстетическая эмансипация фотографии
и фотографических искусств как самостоятельных видов творчества. Целый период в развитии фотографии, отмеченный насилием над ее природой, возник как подражание фактуре импрессионистов. С помощью некоррегированных линз, софтфокуса, изощренной химической обработки негатива стремились создать впечатление неопределенности деталей и расплывчатости контуров.
Но не салонная фотография Робера Демаши [2] и Констана Пюйо [3] была наследницей импрессионизма. Его завоевания и его противоречия способствовали расцвету реалистического фотоискусства, минуя которое говорить о художественной культуре ХХ века невозможно.
Опубликовано :
Краткие тезисы докладов к научной конференции, посвященной первой выставке импрессионистов. 22-23 октября 1974 г. Ленинград, Издание Государственного Эрмитажа, 1974, с.17-20.
Полный текст доклада «Импрессионизм и фотография», прочитанного М.А.Сапаровым 23 октября 1974 года на юбилейной конференции в Государственном Эрмитаже, был включен в фундаментальную монографию М.А.Сапарова «ВИДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ НАЧАЛА КИНОИСКУССТВА. Синергетический параллакс: живопись – фотография – кинематограф – литература» (Ленинград, 1975), депонированную в библиотеке Российского института истории искусств.
Рost Scriptum
Доклад М.А.Сапарова «Импрессионизм и фотография» на научной конференции в Государственном Эрмитаже в 1974 году, посвященной 100-летию со дня открытия первой выставки импрессионистов, был проанализирован патриархом российского искусствознания Ниной Викторовной Яворской (1902-1992).
Она характеризует его как затрагивающий самое «существо проблемы импрессионизма».
В обстоятельном историческом обзоре «Проблема импрессионизма», где дан принципиальный анализ осмысления импрессионизма советским искусствознанием с двадцатых по восьмидесятые годы, Н.В.Яворская отметила:
«М.А.Сапаров … утверждал, что импрессионизм – среди прочего – повлиял на создание художественной фотографии. Докладчик говорил, что изображение у импрессионистов тяготеет к неинсценированной действительности (…) склонно подчеркивать элементы ненарочитого, случайного, неожиданного (…) передает ощущение незавершенности, бесконечности.» Сапаров подчеркивает, что изображение у импрессионистов «передает неопределенное, трудноуловимое в понятиях содержание, разрушает семантику обыденного, выявляя многосмысленность физической реальности.»
В докладе была высказана мысль, что «импрессионизм совершает в изобразительном искусстве переворот, аналогичный переходу от механического детерминизма к «вероятностной Вселенной.»
Сапаров выдвинул положение, что открытие импрессионистами «реального времени, безусловно означавшее прорыв к объективной реальности, фатально влекло за собой субъективизацию видения». И последнее, что стоит отметить в этом докладе, это утверждение, что у
импрессионистов «случайное» не копировалось, а «творчески воссоздавалось.» [4]
Аналитик другого поколения искусствоведов, известный теоретик искусства, филолог, философ и киновед М.Б.Ямпольский в статье «Палитра и объектив» писал: « М.Сапаров, рассматривая живопись Возрождения (то-есть, вообще некоторый тип европейской живописи, тяготеющий к фотографизму и эффекту реальности), отмечал: « В период Возрождения неизменность предмета оказывается существеннейшей, и поэтому единица времени имеет границы сколь угодно широкие…Живописи недоступна эмпирическая мгновенность : изобразительное искусство предполагает пластическую организацию, а следовательно, и организацию пространственно- временного континуума произведения. Поэтому применительно к живописи следовало бы говорить не о фиксации мгновения, а о его имитации.» (См.: Сапаров М.А. Предыстория кинематографа как методологическая проблема// Методологические проблемы современного искусствознания. Вып.2. Л.:1978, с.131-132.)
Тот же М.Сапаров подчеркивает, что открытие импрессионистами реального мгновения ведет к субъективизации живописи. Нельзя не согласиться с точностью этих наблюдений, коль скоро речь идет о европейской живописи. Пространственно замкнутая организация полотна, его выверенная пластика изолируют холст от мира, останавливают в нем течение времени. Внедрение эмпирической мгновенности поэтому и осуществляется в живописи с помощью разрушения этой замкнутости, подчеркивания как бы «случайности» взгляда, в конечном счете – субъективизации.» [5]
Один из организаторов конференции, посвященной 100-летию со дня первой выставки импрессионистов, блистательный искусствовед Борис Алексеевич Зернов (1928 – 2003), считающийся одним из « мифов Эрмитажа», в интервью чешскому журналу «Estetika», отметил: «Концептуальный доклад М.А.Сапарова «Импрессионизм и фотография»,
развивающий традиции классической морфологии культуры, убедительно связал возникновение импрессионизма с глубинными сдвигами в мироощущении эпохи, проявившимися в переходе от пространственно-временного континуума в ньютоновском понимании к «вероятностной Вселенной» наших дней.»[ 6]
Примечания :
[1] Знаменательно, что академик живописи Аполлинарий Васнецов, упрекая Эдгара Дега, писал в 1908 году: « Дега – великолепный, моментальный фотографический аппарат! Его фланерские фотографии по скачкам и уборным балерин - восхитительны. Можно определить даже откуда «щелкает» его моментальный аппарат. Вот фотография из первых рядов кресел, другая – из-за кулис, из бельэтажа. А вот, по-видимому, глазок «кодака» был наставлен в замочную скважину - и вышла уродливая балерина, поправляющая ступню…
Можно только удивляться и сожалеть, как такой замечательный рисовальщик как Дега, попусту тратит время…» (Васнецов А. Художество. – М.,1908.- С.119-120)
[2] Робер Демаши (1859 – 1936). Французский фотограф, крупнейший представитель пикториализма. Первым использовал при печатании снимков гумми бихроматы. Усовершенствовал технологию бромойля.
В 1882 году был принят в члены Французского фотографического общества. В 1888 г - один из основателей Парижского фотоклуба. Публиковал свои работы в журнале Альфреда Стиглица Camera Work.
[3] Констан Пюйо (1857 – 1933), родившийся в семье художника, в 80-е годы вместе с Робером Демаши стал одним из лидеров пикториализма во Франции.
«Констан Пюйо – утверждает историк фотографии Сергей Морозов – занимался съемкой балета, достигая искусной имитации живописи Эдгара Дега».
[4] Яворская Н.В. Из истории советского искусствознания. О французском искусстве Х1Х – ХХ веков. – М.: Советский художник, 1987. – С. 101.
[5] Ямпольский М.Б. Палитра и объектив//Искусство кино, 1980, №2, с.94
[6] Зернов Б.А. //Estetika. Praha. 1975, №2, p.97.

Робер ДЕМАШИ. Танцовщица. 1900. Фотография из собрания Метрополитен музея. Нью-Йорк.
Констан ПЮЙО. Женщина в чалме.1900 г. Фотография из собрания Метрополитен музея. Нью-Йорк.

|
|
Дневник Мирсаид_Сапаров |
Автор комплексных исследований по герменевтике искусства.
Философ, эссеист, литературовед.
Теоретик и историк mass media.

|
|
| Страницы: [1] Календарь |











































