-Цитатник
Зимние пейзажи российского художника Рема Сайфульмулюкова. Сайфульмулюков Рем Назывович - росс...
Художник Jane Jones & Вадим и Татьяна Клевенские & Мария Монастырная - (0)Художник Jane Jones & Вадим и Татьяна Клевенские & Мария Монастырная ...
Анна Разумовская. - (0)Чувственный танец души. Художник Анна Разумовская Дорогие читатели, за окном п...
Без заголовка - (0)Фотохудожник Андрей Морозов. Натюрморты Фотохудожник Андрей Морозов. Натюрморты ...
Без заголовка - (0)Фотонатюрморты Костюченко Людмилы Фотонатюрморты Костюченко Людмилы ...
-Рубрики
- (0)
- АУДИОЗАПИСИ (119)
- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (93)
- БИБЛИОТЕКА (114)
- Любимые страницы (2)
- ВИДЕО (703)
- Видеоролики (187)
- Мультфильмы (1)
- Фильмы (277)
- ВСЁ ДЛЯ БЛОГА (855)
- Заработок (7)
- Клипарты (163)
- Комментарии, открытки (138)
- Разделители (66)
- Рамочки (256)
- Смайлики (8)
- Уроки блоггеру (46)
- ГРАФИКА (92)
- ДАЧНЫЕ ИДЕИ (87)
- ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (91)
- ДЕТЯМ (150)
- ДИЗАЙН (424)
- ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ (544)
- Все для красоты (206)
- Гороскопы (11)
- ЖИВОПИСЬ (3781)
- Акварель (537)
- Анималистика (280)
- Гиперреализм (13)
- Дети (304)
- Жанровая живопись (102)
- Женский образ в живописи (1188)
- Иллюстрации (134)
- Импрессионизм (46)
- Интерьерная живопись (8)
- Историческая живопись (24)
- Маринисты (16)
- Натюрморт (504)
- Пейзаж (1186)
- Пин-ап (16)
- Портрет (335)
- Сюрреализм (24)
- Фэнтези (58)
- Цветы (826)
- ЗНАМЕНИТОСТИ (685)
- Актеры, режиссеры (44)
- Венценосные особы (178)
- Знаменитые женщины (181)
- Композиторы, музыканты (12)
- Певцы, исполнители (8)
- Писатели, поэты (168)
- Ученые (2)
- Художники (144)
- ИНТЕРЕСНОЕ (237)
- ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ (103)
- ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (39)
- ИСТОРИЯ РУССКАЯ (176)
- КУЛИНАРИЯ (1548)
- Блюда из грибов (14)
- Блюда из мяса, курицы (170)
- Блюда из овощей (110)
- Блюда из рыбы (17)
- Гарниры (4)
- Десерты (81)
- Закуски (177)
- Карвинг, украшение блюд (113)
- Консервирование (125)
- Напитки (23)
- Первые блюда (7)
- Рецепты для хлебопечки (4)
- Салаты (196)
- Соусы (3)
- Торты, пироги, печенье (703)
- МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РИСОВАНИЮ И РУКОДЕЛИЮ (220)
- МОЛИТВЫ, ЗАГОВОРЫ (33)
- МУЗЫКА, ПЕСНИ (389)
- ОБРАЗОВАНИЕ (21)
- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (363)
- Дом (56)
- Здоровье (140)
- Нужные ссылки (37)
- ПОЛИТИКА (44)
- ПРАЗДНИКИ (476)
- Подарки, украшения (207)
- Поздравления (34)
- Свадьба (14)
- Ссылки (1)
- Сценарные материалы (13)
- ПРИРОДА (139)
- Животные (41)
- Цветы (78)
- ПУТЕШЕСТВИЯ (505)
- Города (105)
- Достопримечательности (368)
- Страны мира (69)
- РУКОДЕЛИЕ (11812)
- Аппликация (52)
- Батик (112)
- Бисер, украшения (1521)
- Букеты из конфет (79)
- Валяние из шерсти (104)
- Винтаж (39)
- Витраж (27)
- Всякая всячина (полезное) (439)
- Вышивание (574)
- Вышивка бисером (111)
- ВЯЗАНИЕ (3402)
- Вязание + ткань (41)
- Вязание аксессуаров (16)
- Вязание Брюггское кружево (52)
- Вязание детям (169)
- Вязание для дома (15)
- Вязание Ирландское кружево (365)
- Вязание мотивов, узоров (30)
- Вязание платьев (55)
- Вязание. Топы, кофточки, блузки (87)
- Гильоширование (6)
- Декорирование предметов (704)
- Декупаж (505)
- Изготовление цветов (489)
- Изделия из бумаги (479)
- Изделия из кожи (99)
- Изонить (5)
- КАНЗАШИ (27)
- Квиллинг (101)
- Коллекция картинок (218)
- Куклы авторские (108)
- Куклы, игрушки (1716)
- Мозаика (32)
- Мыло (2)
- Печворк (109)
- Плетение из газет (35)
- Полимерная глина (355)
- Скрап (239)
- Соленое тесто (23)
- Упаковка, коробочки (25)
- Флористика (40)
- Шибори (9)
- Шитье детям (34)
- Шитье для дома (31)
- Шитье, мода (480)
- Шитье, переделки (83)
- Шторы (93)
- СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА (95)
- СТИХИ (910)
- УРОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА (122)
- ФЛЕШ-ИГРЫ (26)
- ФОТО (264)
- Женщины, мужчины, дети (5)
- Коллажи (28)
- Природа, цветы (11)
- Фотонатюрморты (53)
- Фотошоп (83)
- Этикет (3)
- ЮМОР (252)
-Музыка
- Игорь Тальков - Чистые пруды
- Слушали: 9155 Комментарии: 0
- ДДТ - Что такое осень
- Слушали: 8554 Комментарии: 0
- Александр Серов - Я люблю тебя до слёз ...
- Слушали: 1545 Комментарии: 0
- ансамбль
- Слушали: 114 Комментарии: 0
- Артур Руденко – Забыть нельзя, вернуться невозможно
- Слушали: 372 Комментарии: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Записей: 23718
Комментариев: 3583
Написано: 29283
«Значит, нужные книги ты в детстве читал!..» Ко дню рождения Александра Дюма |
Эта строчка В. Высоцкого – цитата из статьи Давида Аврутова, послесловия к первой книге, изданной нашим издательством в 1992 году, включившей два романа А. Дюма, неиздававшихся ещё в то время в России. Мы были первыми. Вот эта книга: обложка, выходные данные, тираж, иллюстрации. Оцените качество. Этот первый блин отнюдь не был комом.






Мы и наши книги:



А вот статья Давида о Дюма и этих романах. Прошло уже столько лет, а я не устаю с восхищением её перечитывать. Не могу не поделиться ею с вами.

Об Александре Дюма
Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почём, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
В. Высоцкий
О чести, мужестве и достоинстве… и о любви!
О гордости, благородстве и верности… и о любви!
О предательстве, трусости и коварстве… и о любви!
Это Дюма. Много есть прекрасных, любимых с детства писателей: и Майн Рид, и Купер, и Жюль Верн. Но Дюма любим всю жизнь. Потому что в его книгах скрещивают шпаги Добро и Зло и Добро побеждает. Изворотливая, корыстная хитрость наказывается не менее изобретательным, но благородным коварством. И читатель торжествует.
Как-то на встрече с читателями в Останкине писатель Владимир Максимов сказал, что если бы литература могла влиять на человечество, то для достижения идеального устройства мира достаточно было бы одной книги: «Трёх мушкетёров».

Не всё, что вышло из-под пера А. Дюма, равноценно. И неудивительно: Дюма – это настоящая фабрика романов. Удивительно то, что большая часть их увлекательна. А главное – в каждом из них, действительно, как в детях, живут гены автора, гены доброты, щедрости, неувядаемого жизнелюбия.
Эти качества были органичны для Дюма. Он сам мог быть героем своих книг.

Да он и был им, так как это его доброта и сила живут в Портосе, его порывистость и детская открытость — в д'Артаньяне, его ум и достоинство — в Эдмоне Дантесе.
Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, занимает особое место в творчестве Дюма.

Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо
Это гений мести. За всех униженных и оскорблённых, обманутых и преданных.
Казалось бы, как можно любить героя, который живёт ненавистью, а целью жизни считает месть? Но мы любим его, горяо, преданно, восторженно, как можно любить только мечту. Потому что он мстит за нас, он всегда за справедливость, потому что это ненависть, о которой Владимир Высоцкий писал:
Ненависть пей – переполнена чаша!
Ненависть требует выхода, ждёт.
Но благородная ненависть наша
Рядом с любовью живёт!
В эту книгу включён роман, героями которого опять являются граф Монте-Кристо и его красавица жена.
Безусловно, он по разработке сюжета, по богатству героев уступает роману о графе Монте-Кристо.

Но он интересен тем, что Дюма пытается поднять тему возмездия за убийство гения. Гений мести Монте-Кристо клянётся наказать убийцу гениального поэта. Для нас, для России, тема тем более интересна, что речь идёт о мести за смерть любимейшего русского поэта Александра Пушкина, а одним из действующих лиц романа является Жорж Дантес.

Мы мало знаем о судьбе убийцы Пушкина после их роковой дуэли. Нам интересно отношение великого французского писателя и к Пушкину, и к его врагу, чей образ Дюма нарисовал выразительно и исторически верно.
Другой роман, включённый в книгу, построен на народных легендах о Робине Гуде.
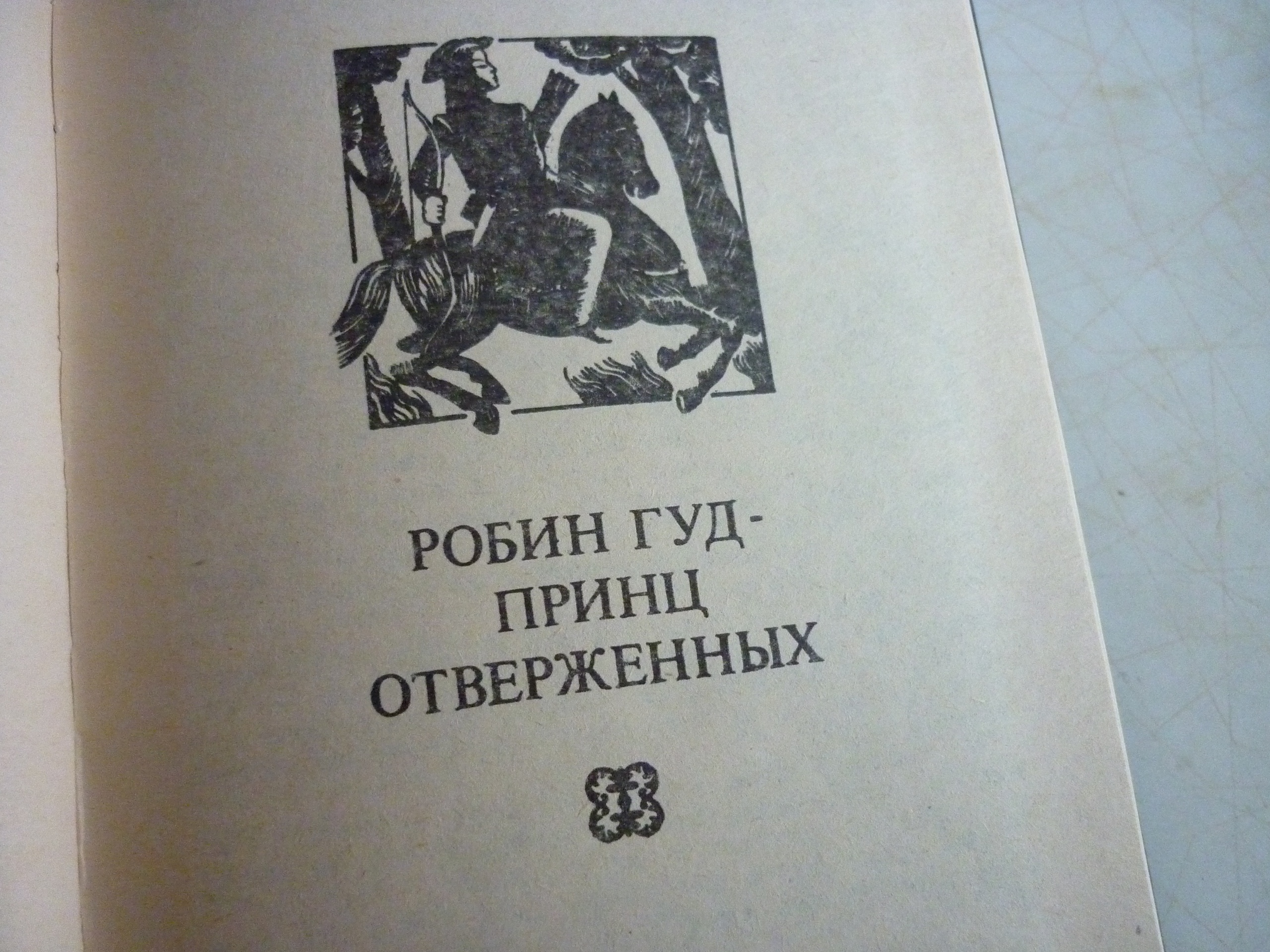
У Дюма был особый дар пересказать легенду как факт действительности. Думается, что этому способствовала искренность рассказчика, умение перевоплотиться в своих героев, слиться с ними и наделить их чувства своей повышенной чувствительностью, глубиной переживаний, деятельностью. Фантазия и жизнь сплетаются под пером писателя в увлекательнейшее повествование, в котором из-за высокого накала страстей трудно провести грань между вымыслом и реальностью. «Над вымыслом слезами обольюсь» – эта пушкинская строка точно отражает восторг, который вызывает высокая творческая фантазия романиста.
Почему именно эти два романа объединены одной обложкой? Ну, во-первых, потому что они ещё не издавались у нас, а всем, кому дорог Дюма, интересно каждое произведение, вышедшее из-под его пера. А во-вторых, это два романа о мстителях. Роман о Робине Гуде повествует о том, как жадность, эгоизм, жестокость лишают героя крова, родных, друзей и заставляют возглавить отряд народных мстителей. Это роман-прелюдия. Он рассказывает только о причинах, побудивших героя посвятить себя отмщению. И если бы Дюма продолжил развитие этого сюжета, то роман мог бы развернуться в захватывающую эпопею о подвигах Робина Гуда. Так что и в литературном отношении это как бы вступление к роману, но вступление, как и всё у Дюма, увлекательное и художественно завершённое.
Александр Дюма родился 24 июля 1803 года в небольшом городке Виллер-Котрэ Энского департамента недалеко от Парижа.

Дом, где родился А. Дюма

Памятник А. Дюма в родном городе
(Хочется заметить, что он был современником Пушкина, всего на четыре года моложе).

Его отец был когда-то одним из любимых генералов Наполеона. Он прославился тем, что один отбил атаку целого эскадрона при защите Бриксенского моста при Клаузене. Генерал Томас – Александр Дюма – Дави де ла Пальетри от природы был наделён сложением и силой Геркулеса, отличался душевной прямотой, непосредственностью и жизнерадостностью – чертами, которые унаследовал его сын. Отец послужил прототипом Портоса.

генерал Томас – отец А. Дюма
В жилах отца текла негритянская кровь, негритянкой была его мать Тьенетт Дюма, на которой дед писателя женился в бытность свою губернатором на французском Гаити (тогда Сан-Доминго). Так что в наследство от бабушки писателю досталась не только горячая негритянская кровь, но и имя «Дюма».
К тому времени, когда родился Александр Дюма, бывший любимец Наполеона был в отставке и жил в бедности. Он умер, оставив сына и вдову почти без средств.
Мелкий заработок писца в конторе у нотариуса не могу удовлетворить девятнадцатилетнего Дюма. По совету своего товарища, автора водевилей Адольфа Левена, Александр пробует себя на драматическом поприще. Его не смущают первые неудачи. Полный надежд и тщеславных мечтаний, он вместе со своим коллегой по конторе нотариуса отправляется завоёвывать Париж.

А. Дюма в юности
У юношей не было средств, но они взяли с собой ружья и по дороге в Париж жили за счёт того, что продавали настрелянную дорогой дичь. У Дюма были с собой ещё и рекомендательные письма от избирателей Энского департамента к старым генералам империи. Ио всех, к кому обратился молодой Дюма, ему помог только генерал Фуа, друг и сослуживец его отца. Он помог зачислить его в секретариат герцога Орлеанского сверхштатным переписчиком. Работа оставляла достаточно времени, чтобы заняться самообразованием. Дюма садится за чтение. Он открывает для себя Шекспира, Гёте, Вальтера Скотта, французских классиков. Одновременно сочиняет небольшие комедии и маленькие повести.
В 1826 году выходит небольшой томик повестей Александра Дюма. Два театра Парижа ставят три его пьесы: «Охота и любовь» «Свадьба и похороны» и «Гракхи». Дюма не смущает ни недостаток исторических знаний при написании исторических пьес, ни незнание немецкого языка при переводе трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», ни интриги актёрского мира. Деятельность, решительность и решимость он считает залогом успеха. Дюма уверен в себе. Очевидно, эта уверенность шла от того, что он был убеждён: он чувствует главное – мастерство интриги, секрет динамичного развития конфликта. Не должно быть скучно! Дюма входил в литературу не для того, чтобы поднять и воплотить какие-то грандиозные и общественно-политические или философские проблемы. С самого начала и до конца жизни его программа была откровенно проста: занимательность. А это значит – столкновение характеров, накал страстей, конфликт Добра и Зла. Главная ценность жизни – сама жизнь. Для Дюма это естественно в силу его врождённого жизнелюбия. Он и не думал отягощать себя философскими проблемами. Жизнь сама по себе достаточно богата и интересна. Увлечь читателя жизнью – что может быть грандиознее? «Гений не продаёт, он завоёвывает», – писал Дюма.
И Дюма победил. Его пьеса «Генрих III и его двор», поставленная в 1826 году, имела огромный успех. На представлении ему рукоплескал сам герцог. Дюма был возведён в звание придворного библиотекаря Луи-Филиппа Орлеанского.

Началась жизнь, весёлая, стремительная, полная впечатлений, любовных увлечений, бурных приключений, достойных сюжетов Александра Дюма. То он роялист, то бонапартист, то республиканец. Причём это не связано с глубокими политическими убеждениями. Дюма – это воплощение жизни, и он движим только непосредственностью чувств. Как и его романы, жизнь Дюма замешана на любви, ненависти, жажде славы и богатства. Показательно, что позже, в апогее славы, когда Дюма построит свой знаменитый замок Монте-Кристо, на его фасаде будет изображён родовой герб с девизом: «Люблю тех, кто меня любит».
Сейчас в этом замке музей, который открыт для посещений.

Обидевшись на Карла X, что тот не даёт ему орденскую красную ленточку, Дюма едет в июльские дни 1830 года сражаться против Бурбонов и получает июльский крест. Луи-Филипп отказал Дюма в министерском портфеле, и в отместку была написана пьеса «Наполеон-Бонапарт или тридцать лет истории Франции».
То он добивается министерского портфеля, то хочет стать депутатом парламента, то получить звание академика. Дюма глубоко страдает от каждого фиаско, но его деятельный ум изобретает новую цель, и он вновь устремляется за птицей счастья.
И надо сказать, что счастье почти большую часть жизни сопутствует Дюма. Прежде всего благодаря его литературному таланту и огромной, почти нечеловеческой работоспособности.

Его известность растёт. Парижане рукоплещут его драмам. Но наибольшую популярность приносят ему повести и романы. Дюма пишет много. Работоспособность его фантастична. Он выпустил в свет 560 книг. В очерке о Дюма А. И. Куприн пишет: «Если мы допустим, что Дюма умудрялся при титанических усилиях писать по четыре романа в год, то и тогда ему понадобилось бы для полного комплекта его сочинений работать около ста сорока лет самым усердным образом, подхлёстывая себя неистово сотнями чашек крепчайшего кофея».

Ещё при жизни Дюма упрекали в том, что он использует чужие темы и сюжеты. Вот как отвечал Дюма на эти упрёки: «Когда глупый критик упрекал Шекспира в заимствовании иногда целой сцены у какого-нибудь современного автора, Шекспир отвечал: «Эта сцена – девушка, которую я вывел из дурного общества и ввёл в хорошее». Мольер говорил ещё наивнее: «Беру своё добро, где попадётся». И Шекспир, и Мольер правы. Гений не продаёт, он завоёвывает… Я принуждён высказать это, потому что вместо благодарности за то, что я познакомил публику с неизвестными ей сценическими красотами, мне указывают на них пальцем как на подлог, как на кражу. Мне осталось, правда, в утешение сходство с Шекспиром и Мольером: порицатели их были так ничтожны, что ничья память не сохранила их имён».
У Дюма, действительно, были литературные помощники, или, как их называли его недоброжелатели, «негры»: Огюст Макэ, Поль Мерис, Октав Фейе, Е. Сустре, Жерар де Нерваль и др. Но, как пишет А. Куприн, «если кто и был в этом товариществе настоящим «негром», то, конечно, он, сорокасильный, неутомимый, неукротимый, трудолюбивейший Александр Дюма. Он мог работать сколько угодно часов в сутки, с самого раннего утра до самой поздней ночи, иногда и больше. ...Говорят, он пыхтел и потел во время работы, ибо был тучен и горяч.
По его бесчисленным сочинениям можно судить, какое огромное количество требовалось ему сведений об именах, характерах, родстве, костюмах, привычках и т. д. его действующих персонажей. Разве хватало у него времени просиживать часами в библиотеке, бегать по музеям, рыться в пыли архивов, разыскивать старые хроники и мемуры и делать выписки из редких исторических книг?
...Правда, Дюма порою мало церемонился с годами, числами и фактами, но во всех лучших его романах безошибочно чувствуется его собственная, хозяйская, авторская рука. Её узнаёшь и по характерному искусству диалога, по грубоватому остроумию, по яркости портретов и быта, по внутренней доброте… Сквозь десятки чужих страниц географического, этнографического, исторического и вообще энциклопедического свойства всё-таки блистает Дюма, пылкий, живой, увлекательный, роскошный».

Дюма как-то сказал, что люди будут учить историю Франции по его книгам. И действительно, он запечатлел эпоху от Франциска I до Наполеона III. Пренебрегая деталями, иногда отступая от исторической скрупулёзности во имя динамичности интриги, Дюма создавал аромат эпохи, колорит, быт, нравы. Он выразил наиболее полно французский характер, и сам был живым его воплощением.
В нём великие недостатки уживались с великими достоинствами. На всех поступках Дюма лежала печать жизнерадостности, наивной, почти детской беззаботности. Он целиком отдавался чувству, будь то гнев или веселье, и всегда это чувство было предельным, полным, естественным. Недаром биографы, когда пишут о Дюма, обращаются к образам Геркулеса, Гаргантюа, Гулливера (правда, иногда и Мюнхгаузена).
Бурная жизнь и характер Дюма послужили поводом для многочисленных рассказов и легенд ещё при его жизни. Над ним часто шутили, но надо сказать, что почти никогда он не оставался в долгу. Порой Дюма становился объектом сплетен, клеветы. Про него сочиняли анекдоты, и не всегда безобидные. Такое несколько бесцеремонное отношение к писателю сложилось в какой-то степени из-за его благодушия, радостного, лёгкого жизненного настроя, из-за его умения ценить шутку.
Слава Дюма росла, а с нею и богатство. Он жил роскошно, широко, зарабатывал много и тратил, не считая. Он устраивал такие празднества, о которых говорил весь Париж. На них приглашался цвет светского общества и литературно-артистической среды. Порой пиршество заканчивалось грандиозным ночным шествием под музыку с факелами в руках под громкие приветствия полицейских: «Vive notre Dumas!» («Да здравствует наш Дюма!») Про Дюма говорили, что его слава и обаяние занимают второе место за Наполеоном.
Дюма всегда окружали поклонники, прихлебатели, представители богемы. Он пользовался успехом у женщин, и сам увлекался безоглядно. Увлечения как возникали, так и проходили бурно, почти всегда заканчивались разрывом не без признаков театральности. Но, как утверждает А. Моруа, Дюма никогда не забывал тех, кого он любил, и всю жизнь, пока мог, заботился о том, чтобы когда-то любившие его женщины не испытывали материальных затруднений.
Дюма был 61 год, когда он сказал одной даме: «У меня много любовниц, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна – ей не прожить бы и недели! Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей».
Конечно, в этой реплике большая доля бахвальства. Официально Александр Дюма усыновил двух детей: сына, который родился в 1824 году, будущего автора «Дамы с камелиями», и дочь, родившуюся в 1831 году.
Мать Александра Дюма-сына была хозяйкой небольшой швейной мастерской – Катрина Лабе.

портрет Мари-Катрин-Лор Лабе работы Леона Бонна
Матерью дочери Марии – актриса Белль Крельсамер.
Дети унаследовали от отца писательский дар.

Дюма очень любил детей, особенно сына, славой которого гордился больше, чем своей.

с сыном Александром

с дочерью Мари-Александрин
В 58 лет у Дюма родилась дочь, которую он тоже хотел удочерить, но её мать, двадцатилетняя актриса Эмилия Кордье, воспротивилась этому, боясь, что её лишат материнских прав.
Одно из увлечений А. Дюма закончилось вынужденным браком. Он неосторожно явился на бал герцога Орлеанского с актрисой Идой Ферье.

Это было нарушением приличий. Принц, подойдя к Дюма и его даме, сказал: «Без сомнения, любезнейший, Вы могли представить мне только жену свою?» Ослушаться этого приказа означало потерять благосклонность двора. Существует и другая версия, будто Ида скупила все долговые векселя Дюма и таким образом вынудила его жениться. Так или иначе брак состоялся, была шикарная свадьба, однако прожили они вместе всего три года.

Из всех своих произведений Дюма больше всего любил эпопею о трёх мушкетёрах и роман «Граф Монте-Кристо». Дивная сказка о жизни гордого графа и его острове настолько пленила самого автора, что в зените славы он решил воссоздать свой Монте-Кристо. Надо сказать, что этот роман дал Дюма не только духовное удовлетворение, но и 200 тысяч франков.
Дюма решил построить замок, назвав его «Монте-Кристо». Замок должен был стать его апофеозом, символом его успеха, роскошным приютом всех его друзей и поклонников и в то же время местом, где бы он черпал вдохновение для новых шедевров.
Под замок Дюма купил в окрестностях Парижа кусок земли с каким-то старинным замком, который и собирался перестроить по своему замыслу. Он рассчитывал истратить на строительство замка сорок восемь тысяч франков. Но ошибся в расчётах, так как не учёл масштаба своей фантазии, которая про строительстве Монте-Кристо в жизни превосходила дерзкую фантазию романа. Строительство велось два года, и до конца замыслы Дюма не были осуществлены.
В замке Монте-Кристо перемешались сказки Шахерезады с детскими мечтами сказочника о Монте-Кристо. Беспорядочное смешение стилей. Дорические колонны рядом с арабской вязью, рококо и готика, ренессанс и Византия. Строители, специально выписанные из Туниса, построили настоящую арабскую комнату – Альгамбру в миниатюре, – стены которой были расписаны стихами Корана (Дюма взял с мастеров подписку, что они ничего подобного в Европе не построят).
Столовая была устроена в форме небесного купола из голубой эмали, и на голубом фоне сияло золотое солнце, светились расцвеченные звёзды и серебряная луна.
Рабочий кабинет Дюма был построен в виде киоска с лазурным сводом. Его разноцветные стёкла бросали причудливые блики на инкрустированные стены.
В замке было двенадцать комнат для гостей, мастерская для художников. Специальная беседка была построена для обезьян, попугаев и собак. Конюшня не уступала королевской. Стены замка украшали гобелены, а пол – персидские ковры. Приёмная была убрана шелками и золотом, здесь Дюма устроил выставку чудес искусства, всевозможных редкостей. Картины, статуи, антиквариат. Всё дышало роскошью, богатством, правда, мягко говоря, не всегда отличалось вкусом.
Широта Дюма проявлялась не только в устройстве замка, но и в образе жизни, который был в нём заведён. Его двери были открыты почти для всех, и этим пользовались не только друзья, но и различные проходимцы, которым даром предоставлялись богатые палаты, изысканный стол, экипажи для прогулок, увеселений, охоты, рыбной ловли.
В честь открытия замка был устроен грандиозный пир. Известные артисты разыграли спектакль по специально написанной пьесе «Шекспир и Дюма». В ней Дюма так восхвалялся, что он даже постеснялся её печатать.
Вместо сорока восьми тысяч на строительство было истрачено триста тысяч франков. Конечно, такого мотовства не выдержала казна Дюма. Не считая трат, он не заметил, как разорился. Фортуна стала ему изменять. Замок ему пришлось заложить, чтобы спасти свой театр, который стал его следующей постройкой после Монте-Кристо. За свой замок Дюма получил всего 30 тысяч.

замок А. Дюма в Париже
До конца жизни Дюма так и не смог поправить финансового состояния. Конечно, он не мог отказаться от расточительности, не мог изменить образ жизни. Но дело было не только в этом. Построенный им «Исторический театр» мог бы приносить достаточный доход. Поставленная им пьеса «Королева Марго» (переделанная из романа) имела успех. Но театр открылся в феврале 1847 года, когда Франции было не до театральных представлений.
В дни революции Дюма пытался заняться журналистикой. Но то ли он не нашёл верной интонации, то ли репутация баловня королевского двора помешала ему добиться успеха. К шестидесяти его годам создалось такое положение, что Дюма, которого продолжали любить и читать, стал нуждаться в деньгах. Все лучшие его романы были запроданы издателям. Он ещё пытался вновь создать свой журнал («Мушкетёр», переименованный через четыре года в «Монте-Кристо»), однако журнал просуществовал недолго. Дюма дважды делает попытки создать свой театр, но всё неудачно.
В 1856 году он совершает путешествие в Россию по приглашению основателя журнала «Русское слово» графа Г. А. Кулешова-Безбородько.
Дюма вообще любил путешествовать. Чтобы написать роман или повесть, место действия которого происходило в другой стране, Дюма необходимо было или увидеть эту страну, или прочитать о ней. Отличаясь живым, впечатлительным, непоседливым характером, Дюма быстро загорался при одной мысли о возможности совершить путешествие. Как-то он совершил прекрасное путешествие по Швейцарии. В Испанию он был приглашён на свадьбу герцога Монпасье. Из Испании на корабле, который ему предоставило правительство, он с большой группой друзей добрался до Африки, где охотился на львов и, если верить его мемуарам, освободил двенадцать пленников Абдель-Кадера.
Непродолжительное время он жил в Бельгии, совершил путешествие по Италии.
Но его давно влекла Россия. Ещё в 1840 году Дюма написал роман о декабристе Анненкове («Учитель фехтования»), о его любви к соотечественнице Полине Гебль, последовавшей за мужем в Сибирь (в романе у них другие имена).

Русские мужчины рисовались воображению Дюма великанами (вроде Жана из «Последнего платежа»), а женщины – красавицами. Загадочной казалась история этой страны. Кровавая, жестокая, она представлялась Дюма романтичной.
В 1839 году писателю очень захотелось пополнить свою коллекцию орденов русским орденом Станислава второй степени, который он увидел у возвратившегося из России художника Ораса Вернэ. В надежде получить этот орден он решил преподнести царю Николаю I рукопись одной из своих пьес, которую сопроводил письмом за подписью: «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена Почётного легиона и ордена Изабеллы Католической». Но царю претили романтические драмы, и он в ответ на просьбу министра удовлетворить желание знаменитого автора ответил: «Довольно будет перстня с вензелем». И хоть перстень был с алмазом, Дюма обиделся. Рукопись он посвятил своей будущей жене и написал своего «Учителя фехтования». Роман в России был запрещён.
Случай приехать в Россию представился Дюма лишь в 1858 году. От России Дюма был в восторге. По его собственному признанию, нигде ему не дарили столько подарков. Всё здесь его поражало: и скандальная история Романовых, и богатство хозяев, у которых он гостил, и русский быт, русские обычаи, соколиная охота, скачки.
Автор будущей кулинарной книги, он восторгался обилием и своеобразием русской кухни (водка Дюма не понравилась). Его приводили в восхищение дрожки, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие «паштет из гусиной печёнки».
Дюма посетил Санкт-Петербург, Москву, Кострому, Нижний Новгород с его ярмаркой. В Нижнем Новгороде он познакомился с героями своей книги, графом и графиней Анненковыми, которые к этому времени были помилованы Александром II.

По Волге Дюма проследовал в Казань и дальше в Камышин, Царицын и Астрахань. В Астрахани во владениях калмыцкого князя Тюмена Дюма вдоволь насладился романтикой азиатского быта и развлечений: скачки верблюдов, ловля диких лошадей, охота на лебедей – всё это, по признанию Дюма, «производило какое-то средневековое впечатление» и приводило в восторг.
Свои впечатления он описал в «Путешествии по России и Кавказу».
В 1860 году Александр Дюма в сопровождении двух друзей и Эмилии Кордье, переодетой в костюм адмирала, на собственной небольшой шхуне отправляется в путешествие по Италии. Благо к этому времени у него появились деньги, 120 тысяч франков золотом – аванс за продажу права издания всех своих сочинений. Путешествовали весело. Узнав, что Гарибальди собирается отобрать у Бурбонов Сицилию и Неаполь, Дюма спешит помочь ему всем, чем может: советом, своей шхуной для переброски войск, деньгами, наконец. Оставшиеся от путешествия 50 тысяч франков идут на оснащение армии Гарибальди для освобождения Неаполя.
В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников. Он руководит раскопками Помпеи, основывает газету (всё, что написано Дюма для газеты в это время, могло бы составить 15 томов), пишет историю неаполитанских Бурбонов (роман «Сан-Феличе»), «Воспоминание Гарибальди» и брошюру об условиях проведения аграрной реформы в Италии.
Несмотря на возраст (Дюма почти шестьдесят), его работоспособность, жажда утвердить себя во всевозможных видах деятельности: в литературе, в журналистике, в археологии, в политике, а также в любви – не угасает. Всё он делает от чистого сердца, с любовью к людям и, естественно, ждёт ответной благодарности. Однако и Неаполь, как в последнее время и Париж, не оценил по достоинству деятельного Дюма. Раздосадованный, он возвращается в Париж.

Через четыре года он вновь посетит Италию (Неаполь, Флоренцию, а потом Германию и Австрию. Каждое путешествие вдохновляло Дюма на новые произведения. Но несмотря на то, что Дюма писал много и всё ещё много получал, денег у него не было. Как пишет А. Моруа, «десять раз он становился богачом и одиннадцать – разорялся».
Дело дошло до того, что было продано почти всё, остался лишь дорогой для Дюма эскиз Делакруа и полотенце, испачканное кровью герцога Орлеанского.
Материальное положение Дюма усугублялось его «неприличным» поведением. Он не чувствовал возраста и продолжал свои сумасбродства.

Этого несоответствия возраста и образа жизни ему общество (и даже собственный сын) не могли простить. Дюма как-то заявил: «Требовать от человеческой природы благодарности – всё равно что пытаться заставить волка стать травоядным».
Первые признаки угасания Дюма почувствовал в 65 лет: ему стала изменять память, мысли утратили ясность. Тогда он заперся и стал перечитывать свои книги. За этим занятием как-то застал его Дюма-сын. На вопрос, что он читает с таким увлечением, Дюма-отец ответил:
– «Мушкетёры». Я давно решил, что когда буду стариком, то постараюсь уяснить себе, чего стоит эта вещь.
– Ну и как? Где ты читаешь?
– Подхожу к концу.
– И как тебе показалось?
– Хорошо!

Совершенно больной, разбитый параличом, он переселился к сыну. Как свидетельствует Дюма-сын, остроумие, желание шутить до последнего часа не оставляло его.

Больше всего волновал Дюма вопрос о значении его творчества. Ему приснился сон, что он стоит на горе, каждый камень которой – его книга. И вдруг эта гора осыпалась под ним, как песчаная дюна. Когда Дюма рассказал это сон своему сыну, тот ответил:
– Спи спокойно на своей гранитной глыбе. Она головокружительно высока, долговечна, как наш язык, и бессмертна, как родина.
Дюма умер в 1870 году.
Давид Аврутов




| Рубрики: | ЗНАМЕНИТОСТИ/Писатели, поэты |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |






