|
 Алкия
Суббота, 14 Сентября 2024 г. 20:49 (ссылка) Алкия
Суббота, 14 Сентября 2024 г. 20:49 (ссылка)
Это цитата сообщения Бусильда50 Оригинальное сообщение
Майя Кучерская "Константин Павлович"
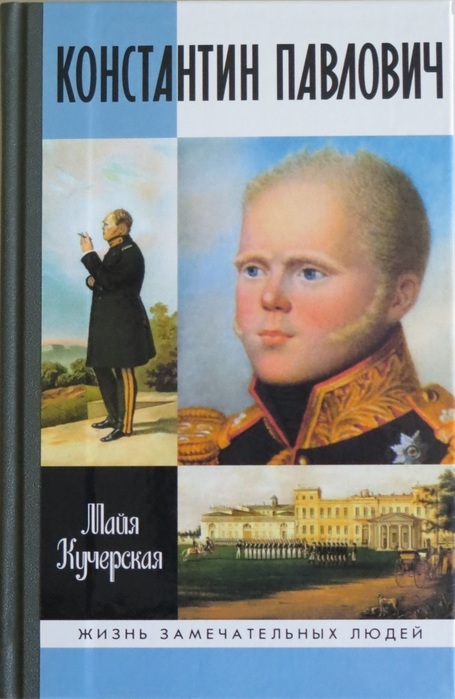
Взбалмошный и деспотичный, великий князь Константин Павлович (1779-1831) совсем
не был похож на наследника русского престола.
Сын убитого заговорщиками императора Павла I и брат Александра I, он мечтал вести жизнь частного человека, отказался от императорской короны даже тогда, когда вся Россия присягнула ему.
К чему это привело, известно.
Восставшие на Сенатской площади кричали "ура!" Константину и... Конституции.
Потом было восстание в Польше, в котором Константин Павлович также сыграл не слишком завидную роль.

Читает Михаил Росляков
|
|
|
P.S. Чтобы послушать книгу, нажмите на её название.
 KotBeber
Вторник, 30 Августа 2022 г. 13:46 (ссылка) KotBeber
Вторник, 30 Августа 2022 г. 13:46 (ссылка)
Майя Кучерская. Лесков. Прозёванный гений — Издание второе, исправленное - М.: Молодая гвардия, 2021 — 622 с., илл. (Жизнь замечательных людей. Вып. 1890) 3000 экз.
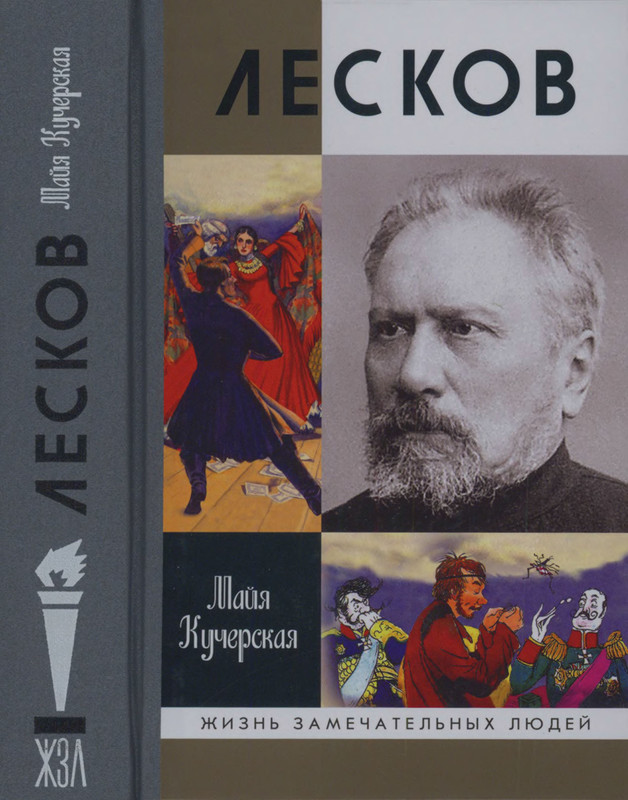
Читать далее...
 Светлана_Богдан
Пятница, 20 Мая 2022 г. 04:40 (ссылка) Светлана_Богдан
Пятница, 20 Мая 2022 г. 04:40 (ссылка)
ПЛАЧ ПО УЕХАВШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ РИСОВАНИЯ И ЧЕРЧЕНИЯ
Больше всего это напоминало ржавый штырь. Воткнутый в сердце.
Штырь медленно поворачивала рука. Он был с резьбой. Она кричала. Нет, оно.
Уехала вдаль. Вот по ней. Умчала. В горы высокие еленем. В камень прибежище заяцем. На желтом в черную клетку коне. На воздушном шаре в быстром крепком ветру. На деревянном ероплане — в жадную синеву небес.
Ее измученность, ее старенькость, истерзанность ее — вот что мучило сердце — раз.
Ее отсутствие, вот что мучило сердце — два.
Много, много жизней, прожитых ею, среди них и моя — три.
Вынужденность любви к ней — вот что четыре!
Это был не тот вольный ветер, что спархивает с облака вон того, похожего на растрепанную от изумления лошадь, и не с листвы вершин, ввысь вознесенных, нет. Это была любовь, выведенная в пробирке, вдруг вспыхнувшая и разорвавшая в стеклянные брызги все. В звонкой пахучей колючей стеключей лаборатории твоей вывела ее ты. И незаконное ее происхождение приносило дополнительную муку. Умышленность, вот.
Приезжай скорее и все-все мне объясни.
Приходи, любимая, и все сделай прозрачным. Почему мне больно каждый день? Зачем этот штырь? Что это? Возвращайся.
Май-месяц — время мыть окна. Набирать тугую воду, бросать синие плески в мутное стекло. Возить сладко длинной палкой, резиной упрямо скрипеть.
Давай только сначала поправим твое лицо — уберем из него усталость прожившей пятьдесять две тысячи триста девяносто четыре семь двенадцатых жизней — детских взрослых юных молодых средних старых.
Вот теперь можно и поговорить.
Что, рассказать тебе, что я нашла перед твоим отъездом под зеркалом у нас в коридоре? Конверт! И знаешь, что на нем было написано простым карандашом, в уголке, почти незаметно? «М.А». Он был заклеен, но лежали в нем — я посмотрела на свет — деньги! Уж не для тебя ли, любовь моя?.. Краснеешь? Да расслабься! Тебе крупно повезло, те же инициалы и у моей мамаши, так что, возможно, наоборот, это ей кто-то передал. Не знаю. Почерк по двум буквам не определишь, тем более они там слабые, карандашные… И все-таки думаю, это предназначалось тебе. Конверт за услуги — типичный мамашин стиль. Ты — продажная, любовь моя!
И тем, кто к тебе приходит, за плату такую или побольше ты отдаешь свою душу, в форме виолончели она. Чтобы вдвоем поиграть. По необходимости подкручиваешь еще винтом-штырьком, подкалываешь иголочкой, сыграв дуэт-другой… Уходишь. Во сне. Пока они спят, одурманенные, твои пациенты, и ты даже не осенив — нельзя, разбудишь! привяжешь больше, чем след! — не осенив их лиц поцелуем, беззвучными шагами улетаешь в окно.
Ты сон их предутренний, сочный, цветной. Ткни пальчиком — потечет краска. Апельсиновая и малиновая, хочешь, лизни?
Ты их мечта самая выстраданная.
Ты — живое страдание. Их.
Ты…
Святая. Мария Магдалина имя тебе. Смотрела Мэла Гибсона фильм?
Красный тюльпан зацвел на школьном огороде. И я сказала — вот так мак! А ты ответила — это тюльпан! Я — мак!!! Ты — хорошо, мак, превратившийся в тюльпан. А я — ночью? Ты — всегда! А я — нет, на рассвете. Все хорошее случается на рассвете. А ты — нет, на рассвете наступает прощание. Ха! Проговорилась, Мария Алендровна.
Разворотило, разворошила.
Ты разворотила меня. Он оставил на столе своей мастерской одну книгу, я сдула с обложки опилки, странно она называлась — «Лолита». Раскрыла, и сразу же: «Ты разворотил у меня что-то внутри».
После чего мы и переехали в другой город. Мама вышла замуж. За коротышку, ниже ее на полголовы. Он нашел там работу. И мы переехали в город Другой.
Все совпало. Мама сказала: чудесно! Как же вовремя. Иначе уже не знала, что и делать, куда отсюда бежать. От проклятого этого ДК. Я только рыдала не вслух.
А тут ты.
И снова мама сказала: надо же, вот ведь удачно. У нас ты вела черчение, у младших — рисование, но по совместительству была еще и психолог школы! Говорили, что ты и где-то еще, в нешкольной жизни пользовала людей странными средствами, учила их видеть. Моя профессия — учить видеть. Так ты сказала. Меня сразу же затошнило тогда.
Но ты уже положила на меня глаз. Я тебе понравилась, да, Малендра? Увидела?
Сначала ты все повторяла — тебе никто не говорил, у тебя талант? Талант к цвету? Ты различаешь оттенки. Тебе надо рисовать. Приходи. Вы, что ли, кружок ведете такой (это я спросила; сдалась она мне, эта бабуля-хромоножка). Помнишь, что ты ответила? Веду. Кружок. Но заниматься в нем будешь только ты. Одна. Индивидуально!
Знаю, ты с мамашей моей говорила, она и не скрывала, что специально приходила к тебе как-то днем, пока мы учились, как папы карлы, а у тебя, видите ли, было окно, не знаю только, в какой точно день. Накидала тебе чепухи истерической до самого потолка. Ты не поняла, что мамаша моя как раз не видит? Ничего. Но вот захотела, наконец-то, хоть что-нибудь разглядеть. За твой счет. Вот ты теперь и заманивала меня этим рисованием, этой лестью, потому что нажаловалась мамаша, и ты наверняка обещала ей помочь, но и самой тебе ведь так круто показать, как подвластны тебе любые души, любые проблемы и как запросто ты можешь помочь… Какая же это любовь?!
Мы рисовали вместе. Ты рисовала тоже — я так удивилась! Разве такие кружки рисования? Но ты рисовала. Черной гелевой ручкой. Горы. Вершинки белые, измазанные зубной пастой «Жемчуг». Деревья, речка. Олененок с оленем пьют. Напевала непонятное. Горы высокие еленем… Я говорила: что за песня такая не по-русски? Ты говорила: есть такая книга, Псалтырь, вот оттуда. Я говорила: вы, что ли, горнолыжница? Ты отвечала: Нет. Давно уже. Зато раньше. Я ж из Хибин, и раньше… Но теперь нога… Просто каждое лето хожу с друзьями в поход. Я говорила: У вас че, так прям много друзей? Ты говорила: ну… в самый раз на поход. А как же муж-дети? Но про это я не спрашивала, зачем? И так было ж ясно все! Ни мужа, ни детей. Только сын взрослый, который давным-давно, кажется, погиб. Это я случайно знала от зоологички. Я спрашивала: раз ты так их любишь, эти горы, раз так ждешь поход, почему все черно-белое? Какая же это любовь? Ты отвечала — графика. Я дальтоник. И улыбалась тихо. Я говорила: да разве женщины? А впрочем, плевать. Мне-то, мне — что теперь рисовать? Вот, подоконник с вазой уже готов. Дальше что?
Ты говорила — да что хочешь. Хотя… лучше, наверное, то, что чувствуешь сейчас. О чем думаешь или о ком.
И я рисовала. О ком. Только о ком, всегда!
Черное озеро, кипевшее тайной воронкой внутри. Листок зеленый глотает невидимый зев.
Пламя бахромой, камни горючие, красные ветки, космы жидкого янтаря жгут колени.
Что это?
Вы не видите? Огонь! Лес горит.
Ландыши нежные дрожащие в тени. Противные. Чтоб слюда их была порвотней.
Горячая голая ладонь. Обвожу черным карандашом свою и покрываю мелкими темными волосками. Под ладонью — мотыль, наживка. Рыбка плывет насквозь.
Ты сказала — та-ак, понятно. Что, что понятно вам? Ты улыбнулась: некоторые вещи не нуждаются в одежке слов. Я: нуждаются. Очень. Скажите мне! Ты опять улыбнулась, и знаешь, улыбка твоя была такой старенькой! такой уставшей. Вот тут я и увидела это.
Ты сказала: понятно то, что ты не можешь забыть что-то, что у тебя болит. Горит. И уже другим голосом, веселым и бодрым: возьми-ка ластик. Стирай. Стирай эту ладонь и травку на ней. И вскоре ладонь, волоски, мотыль спрятанный исчезли. Осталась одна рыбешка. А ее? Пусть поплавает еще, ты сказала. Давай прервемся теперь. Смотри-ка — май. Потеплело-то… Время мыть окна. Набирай в туалете воды.
И мы мыли в твоем классе окна. А ты говорила — это не в классе, это ты прощаешься с зимой, с зимней пылью, льдом, сном и просыпаешься, пробуждаешься в новую жизнь. В ясный свет весны. Смотришь сквозь эту новую чистоту. А я говорила — это не чистота, это просто окно открыто. А она — что ж, вытяни руку, потрогай воздух. Но пальцы утыкались в стекло. За стеклом рвался стриж. Пел соловей. Стрекотало на стройке тракторно. Вот и не плачь, видишь? Видишь, как хорошо и звонко вокруг. А все остальное мы стерли ластиком, никого больше нет, понимаешь?
Тем и закончилось то занятие.
Но уже в среду, на перемене — я преградила ей путь.
Мария Олеандровна, я не могу жить в «нет»! Потому что жить в «нет» невозможно. Это клетка — «нет», в ней нужно стоять по стойке смирно! Навытяжку. Рук не раскинуть, не обнять никого. Где сквозняк, где блаженный ветер, что откроет дверь и отпустит? Я хочу «да». Да! Но кому мне теперь сказать его, кому мне сказать мое «да»?
И ты засмеялась, будто двадцать четыре года тебе, засмеялась и произнесла медленно, спокойно и немножко играя, как с детьми говорят: неужели не понимаешь? И ткнула мне в сердце иглу.
Это значило — скажи свое «да» мне, девочка. Люби меня. Вот и забудешь.
Мама благодарила тебя, помнишь, мы столкнулись тогда на остановке. Теперь я уж думаю, может, все было подстроено в тот раз? Но тогда уверена была: вот так встреча, ждали автобуса — и на тебе! Ты. И мама, не стесняясь меня, сразу ж в твою сторону — шасть: «Спасибо, спасибо, спасибо вам, девочку невозможно узнать, наконец-то я стала спать ночами». Я отвернулась скорей, отошла подальше. Мама, зачем ты говоришь фразами из плохих советских фильмов? Мама, я слышу твой храп. Тонкий женский храп, все эти ночи, которые ты не спала. Потому что этот твой спит тихо. Когда не кричит во сне. А тебя, мама, давным-давно нет на земле. Все эти одиннадцать лет ты искала мужа, а говорила, что папу — мне. Мама, мне не нужен никакой папа. А станет нужен, найду без тебя. И мы не будем рассказывать нашей Маше, как часто ты уезжала к «подруге», а я ночевала одна. Не будем тяжко душно уточнять, как я искала тебя той ночью в лужах — такой мохнатый меня душил страх. И сколько раз ты просила пожить меня без тебя. Особенно в субботу и воскресенье.
Так мы и поехали на то озеро. Потому что если б ты чаще была дома… Если бы и в те выходные ты снова не отпросилась у меня к «подруге» и хотя бы приготовила мне бутерброды на перекус.
Так я и оказалась в нашем ДК. Дома было скучно, и я записалась в кружок. В субботу и воскресенье он работал, то, что нужно как раз! Он сказал, глядя на мою мыльницу: «ладно, на первое время сгодится пока». О нем поговаривали дурное, и когда ты узнала, к кому и на какой кружок я теперь буду ходить, чуть подняла брови, но не испугалась. Мало ли что говорят. Город у нас не так чтоб очень большой… Людям скучно, надо же о чем-то сплетничать, мало ли. Ты домалолилась, мамаша! Вот и пришлось нам пере-.
Жальче всего было, как я мчусь на велике вдоль пирса, быстро-быстро, сквозь наш вечно зимний ветер, летящий с свинцового моря, доносящий легкие брызги до щек. Потом пирс кончался, дальше через деревянный мосток. И скок-поскок по корням толстым, по тропинке, в аромат стройный. К секретному месту, к обрыву, где коротким летом успевают пожить ласточки. Велосипед приходилось бросать раньше, иначе не добраться. И шагать по топкому месту, но всегда удачно. Вот он, мой изрешеченный гнездами обрыв. Однажды прямо на подходе я нашла умирающую ласточку. Ворона тихо качалась на тонком дубке, стерегла. Я подняла ее осторожно, слабо и впервые увидела смерть. Оказывается, ласточка только и ждала меня, чтобы умереть спокойно. И пленочка, эта слюдяная пленочка на глазах. Я вернулась в лес, выкопала гаечным ключом ямку, похоронила ее под сосной. Села и покатила назад. В тот день я обиделась на ласточек. Не смогли защитить. И не поехала к ним больше в то лето, тем более мы скоро пере-.
Не взяли ве?лик, так и оставили в старой квартире. Коротышка сказал: вернемся, не надо дарить, не надо продавать и давать объявление. Следующим летом!
Коротышка кричит во сне, потому что три раза он по-настоящему тонул на своей подлодке, однажды пролежал в темном отсеке сутки по пояс в воде, что там говорить, работка была не очень. Я не люблю его. А он, когда на меня смотрит, всегда хочет улыбнуться. Но боится. Придурок он все-таки, мам. Вот только запах. Запах дешевого табака, простого одеколона, по утрам смешанный с жужжанием бритвы, плотно наполнил наш дом — и вот за это спасибо тебе, капитан второго ранга. Я, естественно, раза два мерила тайком твой китель, по длине он мне в самый раз, только в плечах широк, а тебе-то куда он здесь, но вот ведь потащил с собой. Велик — не захотел, а китель… Коротышка устроился здесь директором охранного предприятия в одной крупной компании. Мам, да ты скажи прямо: охранником! В крупной компании таких же, как он сам, бывших вояк. Мам, да я даже не против, об одном прошу, передай ему, но скажи ему это, пожалуйста, сама. Пусть никогда не говорит больше: «Докладываю! Обед готов». И еще это «убыл». Не надо. Это он так шутит, понятно, но я не могу… «докладываю», «убыл», мам! Стухли его шутки на следующий же день.
Так я и болтала с Марией Алендровной, а она говорила — вот и хорошо, что в доме правильный запах. И бритвы нежное жужжанье. Давай теперь дальше рисовать.
Нарисуй мне свой страх той ночью. Я рисовала черноту. Блески луж. Мякоть грязи. Быстро получилось, глядите! Отлично, а теперь рисуй свое самое большое счастье. Это как я мчусь на велике и ледяной кусок моря сверкает, вы имеете в виду? Оно холодное всегда, наше море, в нем не купаются, не считая отдельных сумасшедших — в него только ходят и еще регулярно тонут, но это и делает его таким… Я рисовала. А это что за квадратики здесь на берегу? — Разве не ясно? На берег выкинуло фотографии с затонувшего корабля, фотки девочек в бальных платьях, матросках, потому что он сказал мне потом, знаешь что? Ты слушаешь меня вообще? Или опять скачешь по своим горам? Слушай, пора тебе угомониться. Поберечь в конце концов ногу. В общем, это не все девочки, кое-кто и мальчики, и слушай, что он рассказал. Оказывается, так их раньше наряжали. В кружевных панталончиках, кудряшках, платьях. Даже мальчиков! Я вспомнила, что видела такого одного. То ли это был Ленин, то ли царь Николай в детстве, в таком же платьице, вот кто-то из них.
Но даже стертый ластиком он не умер. Олеандровна, вот. Еще один вам рисунок. Что это, хлеб? Да, бутерброды! Видишь, с розовыми кружками — докторской колбасой, другой с плавленым сырком плашмя. Он кормил меня на озере, нашем пленэре, и вот это было хуже всего. Он что, не понимал, что я и так давно люблю его? Тащусь от него, обожаю! Что не надо мне никаких бутербродов? Не надо отламывать и кормить. Потому что у всех были бутерброды, кроме меня, мама! Всем дали их мамы. А он отдавал мне свои. Отщипывал и давал, как маленькой, мы ушли поглубже, повыше, сидели на мшистом бревне, немного сыром. Он покупал меня этим колбасными щепотками. Хотя это было не нужно! Все равно я таяла от каждого нового хлебного лоскутка, и все хотела сказать ему: не надо. Слышались возгласы, клики, крики. Наш кружок шумел там, на берегу. Бесился. Жарил на костре булки. Ржал. Так отчетливо слышны звуки у воды, знаешь? Дымом несло, горелым хлебом, тиной слегка. Он молчал и смотрел в меня. Правый глаз у него чуть меньше и намного хуже видит, бурная молодость, он сказал. Хотя и сейчас он не очень старый. Тридцать пять лет, все-таки не совсем старик, да? Но этот глаз был остров. Остров беззащитности на его лице, особенно когда он снимет очки — тогда мне достаточно взглянуть туда, чтобы… Малендровна, почему когда мысленно я гляжу в него, этот пожухлый правый глаз, сразу невозможно дышать? А ты говорила: не надо, не рассказывай. Я ведь не любопытная. Не нужно. Я не хочу. Просто рисуй.
Но бумага-то кончилась! Пришлось отдирать крышку коробки, и он лег на эту длинную крышку из-под красок, маленький, бутербродный, розовый, с ртом-мотыльком. Усы я сделала из двух бахромок моего шарфа, темно-вишневые, а? Круто! А потом ты дала мне спички. Какая же вонь стояла от этих сгоревших усов!
И пока мы сметали вместе пепел, ты была такой тихой и так сострадала мне, так хотела мне добра и свободы, добра и свободы… И двигалась в твоих пальцах игла, сшивающая нас вместе.
Мне страшно захотелось сказать тебе жалкие слова. Но ты опередила, тихо так произнесла, точно читая мои мысли: «Ты не думай, я ведь тоже привязываюсь к тебе. И тебя полюбила».
На следующих занятиях ничего такого уже не было, никаких сожжений. Колдовства детсадовского, в лабораторьи твоей. И рисовали мы все меньше. Все больше болтали. Со мной ты молодела, мне казалось. Не то что на уроках, совсем другой становилась, когда начинала «кружок». Делалась веселой, стройной! И смеялась так хорошо, когда проверяла рисунки и чертежи, и читала вдруг приписку чью-нибудь к чертежу смешную. Извинения разные, одно даже было в стихах. И немножко пела свою Книгу. Черчение у нас было в среду. А кружок в пятницу. Как же я его ждала! Ждала твою арт-терапию, ясно? Думаешь, не знаю, как все это называется. Интернет-то на что? Но мне знаешь что понравилось, что ты делала все не как в Интернете. А по-своему совсем. Вот. И вопросов тупых не задавала, как там предлагают. Никаких тестов и анкет. Просто вела меня из духоты в свои высокие горы, в сухой чистый воздух, в можно дышать.
Поэтому сейчас, только сейчас, смотри, как долго я терпела, я задам тебе, наконец, самый важный вопрос.
Зачем ты уехала? Даже до конца учебного года — зачем?
Сколько дней тебя уже нет в городе, знаешь? А у меня все посчитано! Тысячу пятьсот лет и сорок четыре дня тебя нет! Нет. Нет. Нет.
Зачем ты приголубила меня и тут же тю-тю?
И это любовь?
Я думаю о тебе все время, думаю, начиная с когда открою утром глаза и все увижу, тут же начинаю думать. И хожу тайком в твой кабинет — вдруг ты приехала? Сейчас там временно поселилась зоологичка, мы с ней нормально, она не против. Я захожу, смотрю на шкафы с красками, на стенд с образцовыми чертежами, на рисунки лучших учеников — но они только смазь без тебя, я даже… однажды взялась поднимать стулья на столы, помогать зоологичке убраться, и представляла вместо нее тебя.
А рисовать без тебя мне совсем не хочется. Хотя ты сказала на прощание именно это: если что — берись за краски, карандаши, и…! Даже задание мне дала — будет настроение, ты сказала, нарисуй других. Не то, что болит, не то, что внутри, а что вокруг, хорошо? Это будет как твое письмо мне отсюда.
Но вокруг никого, ничего. Кого же мне рисовать? Ты увезла с собой все, что можно рисовать, знаешь? Не тяжело тебе? Возвращайся и все обратно вези!
Он сказал мне — слышала про такого, Льюис Кэрролл? «Алису в стране чудес» читала? Великий сказочник фотографировал девочек голыми! С разрешения их матерей. И это в умытой подстриженной Англии сто с лишним лет назад! Ну, мы до такого никогда, конечно, не дорастем. Он вздохнул и хихикнул. Не засмеялся — хихикнул, как мальчишка. И я в ответ. Хотя я не читала, если честно, Льюиса Кэрролла, не пришлось. Диск у меня правда был еще в детстве. Хотя я его мало слушала, не любила. Не умел он шутить, ваш Кэрролл. Какие-то тритоны и червяки… — маленькой я этого совсем не понимала, а потом диск затерялся, так и пропал. Вот только зачем он вспомнил про этого лисьего Льюиса? Да еще такое! Девочки безо всего. Наверное, потому что знал: я люблю его. И прощу ему любое хулиганство, даже истории про неприличное. И рада буду просто тому, что он ко мне неожиданно обратился. Ты вот говоришь, у меня призвание к живописи. Он тоже говорил — ты, девочка, зорко видишь. От этой «девочки» я плавилась, превращалась в восхищенную лужу. Других-то он по именам называл, и меня в общем тоже, но иногда вдруг... Девочка. И учил нас фотографировать, хотя фотоаппаратов нормальных у многих не было, у меня в том числе — он учил на своих. У него их было четыре. Два старых, с выдержкой, третий — так себе, современный, усовершенствованная мыльница, он говорил, другой — очень классный, дико дорогой, наверное, и тяжелый! На грант губернаторский купленный, в каком-то конкурсе он победил и ему дали такой вот приз.
Но он не только фотографировать — он умел все! Он же три кружка сразу вел у нас. Еще токарное мастерство и этот… дизайн. К нему лом был народу! Его боготворили. И мальчишки маленькие. И девчонки взрослые совсем, с дизайна. У всех родители ушли на работу, уехали к подруге или в другой город навсегда, а он слушал, общался со всеми, кто к нему приходил. И никогда не спрашивал: «Уроки сделал? Ну, и что ты сегодня получил?» Он был немножко, как ты, только шире! Он был море. Какая уж тут семья, если целыми днями он торчал в ДК? Всегда шумел прибой голосов в его мастерской. Не сам, так пускал поработать на станках мальчишек. И фотографиями его и нашими тоже были завешаны стены всего ДК. И в кафешках двух городских, и в администрации даже, говорили, тоже его фотографии висели, во как. Знаменитость. Только такая скромная, в очках. Ну, и ему тоже хотелось тепла.
Ничего не было, ясно?
Маме я вообще с тридцать три короба наврала, чтоб она заткнулась и не цеплялась. Чтобы потерялась в свалке моих коробков. А тебе скажу. Он только гладил и гладил тогда на озере мои волосы, а я все растила их, и растила, и растила их для него. Потому что он… он, хотя этого и стеснялся, страшно любил фотографировать девочек с длинными волосами, и значит, с каждым миллиметром волос прибавлялось его любви ко мне, а когда мы уже уезжали и собирались, он принес мне ландыши, подстерег, когда я шла в наш молочный киоск, и подарил. Только мне. А перед этим еще на последнем занятии отдал мотылька в подарок, из слюды. На дизайне они таким занимались.
Он был человек-гора, и с каждым днем общения с ним я поднималась все выше на эту гору. Понимаешь? После этого как можешь ты говорить — тебя вместо него? Не сердись и не обижайся. Но, видишь ли, это совершенно невозможно. Три не три ластиком, жги не жги. Тем более ты уехала. Тем более… знаешь, что я увидела в нашем дворе сегодня днем?
Рваный пуха комок.
Комок был легок. Тополя зацвели, май давно позади, дневники нам раздали уже неделю тому, кончилась даже эта тупая практика, а тебя все нет. Хорошо хоть лето.
Коротышка уже купил билеты.
Поняла? Так что я не могу тебя больше ждать, сама скоро отсюда смоюсь. Ну, а сколько можно было тебя звать! Вот и не возвращайся вообще, теперь это уже неважно, оставайся в своих черно-белых горах с оленятами. Поселись там, давай-давай, а решишь вернуться — застанешь как раз, как мы взлетаем, отрываемся от посадочной полосы. Взорваться бы прямо там, в воздухе, пролететь огненным клоком сквозь! Ладно, не пугайся, сделаем еще проще.
Я уеду, но потом все-таки вернусь в самый лучший на свете город у серого холодного моря, с оглохшим, запустелым портом.
Смажу маслом моего коня, подниму еще немного сиденье, похлопаю по рулю. Он преданно звякнет. Поеду, конечно, к причалу — помчусь по дорогам насквозь, по асфальтовым, по земляным, а потом быстро-быстро по мертвому бетону, не в лес, нет, к самой воде, а там по трапу, вверх, колесами прыг! прыг! на тот самый корабль, на котором… Будет стоять он. Ждать меня в кителе жестко-ворсистом, черном, пахнущем так, как надо. Вскинет голову мне навстречу. Скажет тихо: «Привет!». Очочки и правый глаз, все на месте. А потом добавит громче, по-капитански: «Отдать швартовы!».
Олеандровна, ты чего? Да не плачь! Не плачь, я ж пришлю тебе посылку, не надо, так-то уж не переживай. Брошу бутылку из-под нарзана прямо в море, наверняка доплывет. Только у бутылки темного изумруда придется горлышко отколоть. Справишься? Да легко, я знаю. А как отколешь, из сырой черно-зеленой тьмы тут же полыхнут, жгя лицо, дохнут слезно — водоросли, йод, глина, рыба, свобода, соль. И на ладонь тебе выпадут два маленьких предмета, твои любимые инструменты — ржавый винт и погнувшаяся с золотым ушком игла.
 Светлана_Богдан
Среда, 18 Мая 2022 г. 16:31 (ссылка) Светлана_Богдан
Среда, 18 Мая 2022 г. 16:31 (ссылка)
ХИМИЯ «ЖДУ»
Все начиналось с воздуха. Менялся его химический состав.
Что-то из него вынимали. Точно обтесывали потихоньку один, затем другой атом молекулы кислорода. Снимали легкую стружку. Работа шла незаметно, но споро! — вскоре кислород исчезал вовсе, вытеснялся углекислым газом. Или каким-то другим — он не знал. Дышать становилось все тяжелее. А газ все сочился да сочился сквозь — из-под закрытой двери, струился из щелей окон, прорезей паркета, невидимых вентиляционных отверстий в потолке. Постепенно он начинал его видеть — тихий полупрозрачный беловатый пар без запаха, комнатной температуры, вроде бы безобидный. Но пар уплотнялся, превращался в синеватый дымок. Кутающий душу тесно, смертно. Травил.
Дымок был тоской по ней. Тоска нарастала, в кабинете уже нельзя было находиться! Дым ел глаза, летучими, но жесткими когтями драл горло — он одевался, почти бежал на улицу, заранее зная: бесполезно. Свежий воздух — как ни свеж, как ни пронизан ароматами весны, лета, осени — не растворит. Ядовитое облако не рассеет. Потому что оно стоит в нем, злым колом, давит на горло изнутри. В конце концов какая-то тонкая стенка внутри прорывалась, пробивая трещину — и тогда душу заливало бешенство.
Задыхаясь в едких испарениях, он мечтал удушить и ее. Налечь всем весом, коленом — на грудь, нажать на горло, никаких подушек, играем в открытую — ощущая ее тело, ее тепло и сопротивление. Ладони одна на другой, горячая длинная шея, да кого теперь волнует ее длина, он усмехался — сонная артерия бьется, сопротивляется, хочет жить.
Тут она поднимала на него глаза. За миг до расправы. Глядела. Никогда не взглядом жертвы, нет! — только устало. Всегда с любовью.
Он сразу же отступал. Откидывал пятерней-убийцей нависшие на лоб волосы. Ладно, живи пока. Но шло время, отрава снова начинала действовать, и опять ему хотелось кусать, грызть ее зверем, не грызть, так хотя бы хлестать по щекам, пусть болтается ненужная голова, маша волосами. Причинить ей резкий, физический вред. Пусть повизжит немного. Или явится уже в конце-то концов.
Хотя можно было поступить еще проще — прострелить ей голову из пневматического ружья, что лежало у него в загородном гараже, где он хранил зимнюю резину — на всякий случай и по случаю же обретенное. Смотать в гараж, бросить ружье на заднее сиденье, разрешение у него есть, вернуться и застрелить. А потом сорок дней спустя, через сорок поприщ выжженной черной пустыни, она ему позвонит. Просто позвонит, усмехнется: привет, мол. И положит трубку. Положит трубку. Этого будет довольно — вполне! Он снова станет богачом.
Ничто не помогало. Ни убийства, ни мордобой. Не звонила все равно.
Наваждение продолжалось.
Голубая скатерть на кухне была она. Он скидывал скатерть, солонка изумленно летела на пол — пятна, пора стирать, жена пожимала плечами, но и столешницей, красивым правильным овалом под скатертью тоже была она. И белыми занавесками на кухне в дурашливых цветных точках. И фиалкой в горшке. И свесившимся со стула пледом, кривыми черными клетками на красном. И снегом, который наконец посыпал.
Вот до чего он дошел. Идиот.
Бывший дьякон, инок Сергий, в миру Алексей Константинович Юрасов. Образование — медицинское высшее. Ныне — специалист по продвижению лекарственных препаратов крупной фармацевтической компании в аптечные сети, с неизбежными, требуемыми службой втираловом и преувеличениями. А как еще?.. семья.
* * *
Двадцатитрехлетний, лохматый раб Божий Алексей сидел на лавке шумной автобусной станции в Калуге. С брезентовым рюкзаком за плечами, Иисусовой молитвой на устах, «Откровенными рассказами странника» на коленях, которые читал и перечитывал тогда взахлеб. Пришвартовался пока к маленькой пристани в снующем людском море, был выходной, суббота — все куда-то перемещались.
Ждал себе автобуса в Козельск, не видя, не слыша. Тут-то и появились эти… в платочках. Одна повыше, в очках, сутуловатая, другая пониже и побойчей — кареглазая, кругленькая — ему показалось в первый миг. Простите, пожалуйста, а Вы случайно не знаете… (та, что в очках, смущенно, но строго). Он знал. Так и покатили в Оптину вместе, куда денешься? По дороге не сразу, но разговорились. Потом вместе работали на послушании — тоннами чистили картошку, до боли в пальцах терли морковь, свеклу, рубили громадными ножами капусту, и говорили, говорили без устали, без остановки — исключительно на духовные темы. Изредка маленькая вдруг прыскала, несмотря на то что обсуждали-то самое важное, но всегда этот прыск оказывался тем не менее кстати, он тоже смеялся в ответ — под неодобрительные взгляды не раз застававшего их за этим бессмысленным смехом отца Мелетия, сурового, пожилого монаха, главного по кухне.
Обе девочки учились в московском педе, робко мечтали уйти, может быть, монастырь. Но кареглазой пока не разрешала мама — и правда, как я ее оставлю одну? — пожимала она плечами, — папа-то у нас давным-давно тю-тю. Высокая хотела сначала доучиться, но потом уж точно. Вот и рядом тут вроде должны были открыть женский, Шамордино, Амвросий Оптинский его очень опекал… По вечерам, на длинных службах все трое исповедовали грехи за день отцу Игнатию, поражавшему их неземным видом и взглядом сквозь — сразу туда. Куда надо.
Та, что в очках, была посуше и помолчаливей, она словно уже определилась, понимала, как ей жить дальше, куда идти. Маленькая, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся круглолицей, с румянцем во всю щеку, с шаром жестких светлых волос под косынкой, которые то и дело мешались, непослушно скидывали платок, была птенец неоперившийся. Любопытный. Не смотрела — хлопала глазами. Все ей было интересно, все важно было понять, а крестилась она, оказывается, месяц назад всего! Несмотря на речи про монастырь, и сама она, конечно, не понимала еще, чего хочет. И глядела на всех, вот и на него тоже, словно вопросительно и с надеждой. Отдувала склонив голову набок, челку, складывала губы недоуменно, дыша невинностью, дыша чистотой и верой, верой и ему тоже. «Сестренка», прозвал он ее про себя. И с удовольствием отвечал на ее детские, прямые вопросы — он-то в православии прожил уже год — ветеран.
Но на собственные вопросы не знал ответов и он. Его тоже тянуло в монастырь, к подвигам иноческим. Но если его призвание жить в миру? Как не ошибиться, как выбрать свое? Хотя и в миру можно было стать батюшкой, но тогда не стоит терять времени — надо поступать в семинарию скорей…
Однажды после длинной монастырской всенощной, закончившейся только к ночи, службе, на которой на несколько мгновений он вовсе потерял себя, весь словно растворившись в небесном братском пении, Алеша вышел из храма, присел на стоявшую здесь же скамейку. Передохнуть, ноги подкашивались, даже до их домика брести не было сил. Великий пост двигался к концу, и уже совсем другими запахами дрожал воздух, уже пряталась в набухших мокрых почках весна, и в потеплевшем ветре, и в раздвигавшихся светлых днях. Алеша прикрыл глаза. И увидел Амвросия Оптинского.
Преподобный Амвросий вышел среди других людей из храма. И пошел к нему. Такой же седобородый старичок со впалыми щеками, каким он был нарисован на иконе, только сейчас он выглядел гораздо более худым, слабым. Батюшка присел с ним на скамейку, да так близко, что видно было его длинную белую бороду, серебряный крест, который почти заслоняла борода, и то, что подрясник его ветх, на локте рукав почти протерся, просвечивает. Глядевшие прямо на Алешу серые глаза были в мелких морщинках и очень усталые, красные, с набрякшими веками, точно и преподобный после службы изнемог. Алеше показалось даже, что он ощущает тонкий аромат ладана, но и как будто и запах старости, лекарств… Хотя разве такое возможно? Но спросил Алеша совсем другое, как по-писаному, как солдатик заведенный. Раз старец явился — надо спрашивать о главном.
— Что мне делать, отче? Остаться в миру или уходить в монастырь?
Амвросий взглянул на него еще пристальней — и не ответил. Только все так же глядел и глядел прямо в глаза с выражением, полным сочувствия, совершенно родственного, но неземного по силе, и одновременно с кротостью — нечеловеческой, святой.
И от этого взгляда все откатилось в несуществующую даль — все другие вопросы, которые тоже следовало, конечно, задать и которые начали было роиться в Алешиной голове, и выходившие из храма, крестившиеся люди, послушники, монахи, и мокрый весенний ветер, и слабый свет зажженных у ворот фонарей. Они посидели еще немного, так же молча, и словно во сне. Алеша чувствовал, что от этого взгляда Батюшки и от незаслуженной любви к нему по лицу у него уже текут слезы, внутри точно открылся источник слез, которыми он не управляет — сами собой они так и льют потоком. Наконец старец поднялся, Алеша встал тоже — преподобный Амвросий медленно и раздельно благословил его, глядя на него все так же молча и все тем же взглядом небесной шири. Алеша поцеловал сморщенную старческую ручку, мягкую и теплую на ощупь. Батюшка тихо побрел в сторону братского корпуса да так и растворился во тьме.
Алеша рассказал о видении отцу Игнатию, тот слушал его с мягкой улыбкой, но без удивления и посоветовал никому больше об этом не говорить. «Не надо, — качнул он головой. И добавил вдруг с подъемом, почти восторженно: — Преподобный здесь, здесь, это и все сейчас ощущают, не один вы!».
Через два дня Алеше нужно было возвращаться в Москву. Прощаясь со своими новыми знакомыми, он снова плакал. Все сошлось, все слилось в эту минуту. Вот стояла перед ним эта девочка с такими прекрасными, наивными глазами, ставшая ему за эти дни любимой сестрой, вот ее милая, неразговорчивая подруга, которой он был благодарен за то, что она никогда не мешала им, и совсем уже близкая Пасха, и недавняя, почти обыденная встреча со старцем, убедившая его в близости неба — и на следующий после встречи день накрывшее его покаяние, никогда не испытанной прежде силы — кромешное, жгучее. После молчаливого общения с преподобным он понял, как сам-то он, сам далек от явленной старцем небесной любви, как плотно окутан коконом самомнения, самолюбия, высокомерия. И жажда быть чистым, быть простым, быть хорошим забилась в нем живым, жадным источником, но к этому роднику прибивалось сейчас и другое — он хотел, чтобы все, что он чувствует сейчас, прощально, по-братски обнимая эту румяную, вечно удивленную девочку — чувствовала и понимала она.
Когда Алеша вышел из монастыря и зашагал пешком к Козельску, сквозь еще не оттаявший, но уже шумно щебечущий лес он осознал смятенно: больше всего жаль ему оставлять не святую обитель (сюда-то он так и так вернется, видение старца явно означало призыв), а сестренку. Она была вовсе не такой простушкой, как показалось ему поначалу, нет. В ней жил артистизм, задор, легкость… И много чего еще, чего он толком не понял, но с чем хотелось быть рядом, во что хотелось погружаться глубже и глубже. Как хорошо было с ней говорить! И смеяться… Но и молчать.
Ничего, кроме ее имени и того, что она учится в Москве в педагогическом, Алеша не знал. Даже телефонами они не обменялись — вроде как ни к чему. И в какой именно храм она ходила в Москве, он не узнал. Как мог? Не узнал.
Весну и половину лета Алеша провел в Москве, защищал диплом, получал зачем-то корочку, попутно избавляясь от вещей, книг, тетрадей, накопившихся за время учебы да и за всю жизнь, к чему это теперь? Ветхий человек, как эта старая одежда, кассеты с записями, исчезал, убирался прочь, в тьму прошлого. Несмотря на твердое решение уйти в монастырь, Алеша хотел ее напоследок увидеть. Дважды подряд приезжал к ее институту утром, стоял в стороне, пытаясь разглядеть ее в толпе спешащих на занятия студенток — не ее саму, так хоть подругу в очках; не разглядел.
После Преображения он уже ходил в подряснике, грубых ботинках, измученный, но счастливый, работая то на стройке, то в братском корпусе, то с корзинкой на грибном послушании в лесу. Тяжко было, не привык он столько работать — но все-таки светло, ведь все они делали общее святое дело — восстанавливали обитель из руин, и ребят подобралось много, таких, же как он, — молодых, полных сил, душу готовых положить ради родного монастыря и жизни монашеской. Однажды брат, обычно читавший на службе, сильно простудился, попросили читать Алешу. И оказалось, он читает очень хорошо — звонко, внятно — вскоре его тоже посвятили в чтеца.
В золотом стихаре он выходил в середину храма и ровно с затаенным вдохновением (так ему казалось!) читал Псалтырь, читал Апостол. Солнце лежало на темной, шершавой странице. Книга была совсем старой, еще из тех времен. И только солнце знало и видело, кто читал по ней здесь, в этом же храме, сто лет назад. Державшие книгу пальцы заметно дрожали — между службами он выполнял теперь самую грязную и тяжелую работу: мыл, отскребал, выносил помои. Так отец Игнатий помогал ему бороться с тщеславием, с мыслями о том, как красиво он читает, как глубоко и выразительно звучит его голос.
А потом случилась эта история с благочинным. И почти сразу же, с соседом по келье, которого он считал лучшим своим другом, впрочем, одно с другим было тесно связано. Постепенно вскрылись и другие детали — когда готовились к приезду митрополита, и отец игумен совершил поступок… Но тс-с. Нет, никогда Алеша не обнажал наготу братьев своих, и никому так и не открыл ничего из виденного тогда в монастыре. Но каждый из этих случаев, один за одним оставлял сквозные ранения, а последняя история так и билась в нем несколько месяцев, пока не выжгла всякое желание оставаться здесь дальше. Тем более жить до конца жизни.
Из всех этих историй следовало, в сущности, простое: даже самые искренние здесь — слабые и грешные люди, способные и на подлость, и на предательство, и на любой человеческий грех. И это бы было ничего, но ведь в отличие от тех, кто жил за монастырской оградой, эти, эти учили других. Батюшки, из которых один был… а другой… требовали от других, точно таких, как они, грешных людей, приезжавших в монастырь за советом мирян, невозможного. Проповедовали им бескорыстие, жертвенность, целомудрие, любовь к ближнему и Богу в непосильных пределах, точно забыв оборотиться на себя…
Четыре года спустя, уже в дьяконском сане, отец Сергий навсегда покинул обитель.
В миру он снова превратился в Алешу и почти сразу, как-то взахлеб женился на первой же засидевшейся в девках невесте, которую высмотрел на одном московском приходе. Тогда хотелось только тепла, тепла человеческого и жен-ского, и крепкоголовых мальчишек-сыновей — нормальной, не придуманной, не фальшивой жизни наконец!
Его законная супруга, из многодетной православной семьи, была старше его на несколько лет. Она легко простила ему его прошлое и полюбила его точно такой любовью, в какой нуждалась его неприкаянность и сиротство. Котлеты, борщ, клюквенный с детства любимый кисель. Накормила, спать уложила. Год он проплавал в ощущении длящегося блаженного отходняка и радовался, что может быть просто мужиком, принимать решения, заниматься ремонтом, зарабатывать, есть заслуженный ужин, обнимать жену; в церковь, конечно, не ходил вовсе — и жене доставало такта его не трогать.
Хотя поначалу ему часто снилось, как он служит — как уже дьяконом выходит на солею и провозглашает великую ектенью — тихо, сладко теряя себя, становясь частью возводимого молитвой космоса. Вот храм сей, вот пресвитеры его, дьяконство, иноки, притч, вот богохранимая страна наша, взгляни, Господи, власти и воинства ее, вот они сидят в своих кабинетах, лысые, важные, подписывают бумаги, а вон солдатики маршируют на плацу, и зябко им, и тошно, но шагают, а вот град сей и другие города, городишки и деревни вокруг, а вот и воздух, которым мы дышим, деревья и плоды, а вокруг плещут моря с плавающими и путешествующими, больницы со страждущими, темницы с плененными. Мир человеческий и земной он приносил Господу, к подножию престола Его. Только б не сбиться, только бы голос не задрожал.
Алеша просыпался в тревоге, полдня потом ходил сам не свой. Но через полтора года родился наконец сын. Спать сразу пришлось меньше — он жалел жену, вскакивал к кроватке, баюкал их мальчика — и спал уже совсем по-другому, дергано, вслушиваясь и сквозь сон к пыхтенью в кроватке — совершенно без сновидений.
Он встретил сестренку в поезде. После женитьбы его прошло восемь лет. Он разглядел ее уже на перроне, возле собственного, второго вагона. Но оказались они не только в одном вагоне — в одном купе. Он узнал ее сразу же, когда она протягивала билет проводнице, стоя к нему вполоборота, и огорчился: теперь она и в самом деле располнела, волосы отрастила и собирала в унылый пучок, возможно, от этого золотистый оттенок из них ушел — блеклый, никакой цвет. В уголках глаз, у губ проступили морщины — она выглядела старше своих лет. Он вошел в купе вслед за ней, неторопливо, глядя ей прямо в лицо, поздоровался. Она его не узнала, ответила вежливо, равнодушно. Тогда он назвал ее по имени. Она вздрогнула и так знакомо… заморгала. Оптина, самое начало, Великий пост, весна, помните? — она вспомнила сейчас же, оживилась, сразу помолодела. Заговорили. Нет, совсем не так, как тогда, осторожней, сдержанней, обходя возможные углы, но, когда он пошутил раз и другой, она прыснула точно так же. Даже кулачок подставила, точно смущаясь, как и тогда. Теперь он уже ясно видел в ней ту самую всему удивлявшуюся девочку, которая тоже никуда, оказывается, не делась. Только теперь все, что и тогда было в ней — любопытство, веселье, задор, — точно осолилось, и эта соль, эта новая горечь сделала все в ней определенней, законченней и… совершенней.
Она давно была замужем. Старшему ее мальчику уже исполнилось девять, младшему — два, всего у нее было четверо детей, в середине — две девочки. «Обычные православные штучки», — вздохнул он про себя, потому что видел: она несчастна, хотя, конечно, любит своих детей. Но они не сделали ее счастливой, потому что счастливой женщину делают не дети. Она упрямо избегала говорить о муже. Даже когда рассказывала, как выходила за него, все равно не называла его никак, точно он и не участвовал в этом — «тут я получила предложение, от которого сначала отказалась, а потом думала-думала да и согласилась, мама очень этого хотела, все уговаривала меня… отец Александр нас и обвенчал…» Алеша все-таки решился:
— Ну, и кто же он, кто твой избранник?
Она только рукой махнула и ответила странно: «наш папа», знакомо пожала плечами и не захотела продолжать. Он не посмел расспрашивать.
Он ехал в командировку, она к бабушке — та была совсем плоха, собралась умирать и звала любимую внучку проститься. Только один пассажир сидел с ними в купе, возвращавшийся домой молодой стриженный под ноль парень, с наушниками в ушах, с плеером, в странном полосатом пиджаке. Паренек почти сразу же забрался на верхнюю полку да так и лежал там — листая рекламную газетку, поглядывая в окно. Когда он поворачивал голову, было видно, как он шевелит губами — подпевает. Под столиком стояли его ярко-вишневые лаковые ботинки.
В начале ночи ботинки утопали прочь. Они продолжали говорить. Поначалу еще делая вид, что говорят так же, как и при соседе, но разговор изменился, едва они остались вдвоем, все вдруг усилилось — открытость, понимание, чуткость. Только под утро обоих сморил сон. Прощаясь, бледные, не вы-спавшиеся, оба понимали: началось. Что-то, в чем оба нуждаются и чего оба хотят. Как хорошо, что встретились — наконец!
* * *
Странные у них сложились отношения. И пока он уверял себя, что на самом деле никаких отношений нет, что все это — только нелепость и бабьи басни, прошло еще пять лет.
Первые полгода они только созванивались, обсуждали ее старшенького, второклассника, который все терял, и костюмы младших девочек на садовский праздник, про маленького почти не говорили… Как это всплыло, этот учебник?
Она вздохнула:
— Вася опять учебник где-то посеял. Им в школе выдали, а ни в одном магазине этого издания уже нет. Неужели ксерить придется? И как его потом в школу носить, этот ксерокс огромный?
Вася потерял учебник французского, Алеша расспросил, что за издание, с какой картинкой на обложке, и пообещал достать. Поискал в Интернете, нашел, и через два дня уже ехал с голубеньким трофеем в пакете. Он рулил, погрузившись в пустоту, не думая ни о чем, но не успела она сесть к нему в машину, как Алеша начал ее целовать в лицо, в губы — ласково и восхищенно, не оставляя ей выбора. После мгновения растерянности она откликнулась так, будто только этого и ждала, за тем и явилась. Так начался их первый год тайных свиданий, год влюбленного открывания друг друга, полный невыносимой, но такой необходимой зависимости от этих встреч, эсэмэсок, перезваниваний кратких… Но несмотря на то острое счастье, которое обрушивали на него эти отношения, ни одной абсолютно счастливой встречи у них все-таки не было — из-за нее. Каждое свидание было проникнуто ее тоской, ее молчаливым вопросом «что я делаю? как я смею?». Ничего подобного она не произносила, но он читал это в ее глазах — особенно отчетливо после, когда все уже было позади.
В своей тоске она жила одиноко. Это было «что делаю я?», и он не понимал, как вырвать ее из сумрачного царства бесполезных угрызений, как хотя бы раздвинуть ее замкнувшееся в себе, сжавшееся в скулящий комок «я» до «мы». Это делаем мы. У меня тоже семья. Тоже сын. Это мы. Нас — двое. Единственное, на что он был способен, повторять ей все то же: давай будем вместе всегда. Давай будем вместе всегда. Давай!.. Это казалось так просто, правильно, так единственно возможно. Но она не хотела уходить от мужа. Не могла? И по-прежнему не хотела о муже говорить. Никогда. Как и тогда в поезде тщательно обходила его стороной — и за все это время помянула о нем только раз, сказав, что человек он тяжелый. Да ты же не любишь его, ты же… Давай поселимся в большой трехкомнатной квартире, снимем где-нибудь на окраине, в новом, недавно отстроенном доме, там совсем другие размеры да и цены, я буду работать, ты...
Но эти разговоры только удаляли его от нее, едва он начинал звать ее в побег, особенно вот так конкретно, рисуя очертания их квартиры, со дна ее глаз поднималась отчужденность, она смотрела на него словно со стороны, чуть не с досадой. Она не могла. Не могла так. Она не говорила «а как же дети?», но он угадывал их имена, имена всех четверых ее детей — Петр, Полина, Таисия, Федор — в этой наступавшей замкнутости. Детей нельзя было лишать отца, дети не должны были наблюдать разрушение семьи. Хорошо, пусть наблюдают разрушение матери, — цедил он точно в ответ ей, хотя она молчала.
В конце концов он затаился. Тем более она по-прежнему соглашалась встречаться. Так часто, как только получалось. Тогда получалось раз, изредка два в месяц. Он был счастлив. Он тоже пока не уходил от жены, но жена точно перестала существовать. Сын — нет. Сын и тогда нет.
А спустя год, безумный, полный обожания плачущего, она провозгласила вдруг новые правила. Такие бесчеловечные, что сначала он не поверил.
Разозлился — но не поверил. Надо сократить встречи. И не просто сократить…
До этого он был главным, но с минуты, когда правила были объявлены, спокойным, уставшим голосом, в номере ветхой привокзальной гостинички, снятом на два часа (которые уже истекали!) — главной стала она. И вот уже который год подряд — третий? четвертый? не может быть — начиная с первых чисел сентября, он то и дело проверял, не забыл ли дома мобильный, не получил ли незамеченных сообщений, и особенно внимательно проглядывал пропущенные звонки.
Именно с этого времени и следовало ожидать ее появления. Ее непредсказуемость укладывалась в три последние месяца года.
Правила заключались в следующем. Встречаться раз в год. Это было правило номер один.
— Я понял, понял. Значит, и каяться придется всего раз в год? Так ли? Но тогда давай уж подгадаем наши встречи под чистый понедельник! — язвил он, натягивая рубашку и пока лишь посмеиваясь, еще не ведая, что она всерьез, она правда надеется их исполнять. — Под начало Великого поста, а? К Пасхе как раз хватит времени очиститься.
Она молчала, даже не смотрела на него.
— Ты, может, думаешь, у Бога там счеты, да? Часы? — он уже повысил голос, он не знал, как докричаться до нее. — Думаешь, Бог считает, сколько дней прошло, и живет по земному календарю? Что Ему твои раз в год, Ему, у которого тысяча лет как один день?
Она сидела в кресле напротив, уже одетая, чуть отвернувшись, глядя в окно, за которым серебрилось зимнее московское небо, на удивление солнечное, и по-прежнему не отвечала, точно не слыша. Когда он закончил говорить, она вновь повернула голову и продолжила как ни в чем не бывало… Интересно, она и с детьми своими так же? Так же их воспитывает? Именно в эту минуту Алеша подумал, что совершенно не знает ее, что до сих пор смотрелся в зеркало.
Правило второе — звонить будет она. Звонить со своего, хорошо известного ему номера, но отныне номер этот будет использоваться тот самый единственный раз в году — в остальное время сим-карта уляжется в потайном месте, чтобы ждать своего показательного выступления целый год. Да, она потеряет этот телефон, тот, что у нее сейчас, чтобы купить новый, новый телефон и новую симку, а старую спрячет до следующего года…
Ему уже не хотелось шутить, иронизировать. Пусть объяснения эти все-таки смехотворны, сама подробность их вывела его из себя. Как она все хорошо продумала! Даже про сим-карту — это чтобы он, не дай бог, не сорвался, не позвонил! Дура! Он и без всех этих хитростей не позвонит. Никогда.
Алеша ходил по тесному номеру, уже не сдерживая гнев — половицы отчаянно скрипели, когда здесь последний раз делали ремонт? Наконец он остановился, скрип послушно замер.
— Раз в год — это все равно что ни разу. Это значит никогда. Я понял. Разбегаемся. Прощай.
Он хотел добавить что-то еще и колебался, но она уже кивнула, встала. Понимаю. И все-таки я тебе позвоню. Сказала, уже не оборачиваясь, мимо.
Стянула с вешалки пальтецо, подхватила сумочку и вышла. Из дряблого гостиничного номерка.
Так, в январе 2009 года она столкнула его в ледяную яму.
Тогда он и пережил все это впервые — превращение воздуха в яд. И, чтобы справиться, попытался вышибить клин клином — стал глушить боль спиртом. Отрава на отраву — и даже помогало, каждый вечер он превращался в краснорожий, лыка не вязавший бесчувственный мешок, к ужасу жены, которая все пыталась его уговорить, все расспрашивала. Кончился этот ежевечерний марафон неприятно — сердце, и до того не идеальное, устроило бунт; увезенный на «скорой», почти месяц Алеша провел в больнице. Постоянная боль, беседы с соседями по койке, мерная, но суетливая больничная жизнь погрузили его в новые заботы — анализы, кардиограмма, капельница, физиотерапия, отложенная шахматная партия с Миронычем из сто девятой палаты, сколько дать врачу, как лучше отблагодарить медсестер? Он научился радоваться просто тогда, когда боль стихала, когда чувствовал себя хотя бы немного лучше, не забывая, конечно, отмечать про себя, что здесь не только не тоскует о ней, но даже почти ее не вспоминает. Он вышел из больницы, когда уже наступило лето. Все распустилось, оказывается, тут, на воле, все цвело, а вишни в парке возле дома, где он гулял с сыном, уже осыпались. Он дышал спокойно, свободно. Полной грудью. Он был исцелен.
Она позвонила намного раньше, чем обещала, в солнечный сентябрьский денек. Он не ответил, наслаждаясь обретенной силой, но прошло всего несколько минут, и он стал ждать, он был уверен — сейчас перезвонит! Она перезвонила только через сутки, в течение которых воздух снова сделался разреженным и вдохнуть его полной грудью стало невозможно. И уже через час после второго ее, наконец раздавшегося звонка он уже сжимал ее крепко-крепко, в собственном доме, на родном диване, днем, пока не было никого, а она медленно говорила, словно сквозь забытье: «Ты. Все внутри меня — ты. Ты один, всегда. И это так светло и так страшно». Девять месяцев терзаний утонули в пресветлой лазури почти летнего дня.
Так и пошло.
Год он жил семьянином, благородным доном, мужем и отцом, а потом отправлялся в короткое плаванье, на остров лазури. Хорошо бы, конечно, было жить этот год, не помня, не ведая об острове, каждый раз принимая его как не-жданное чудо, но это было, увы, невозможно никак. Миг сияния был оплачен неизбежным — скатертью, солонкой, газом.
Он, медик, узнавал симптомы, и сам ставил себе диагноз: отравление солью тяжелых металлов. Свинец, именно свинец, не ртуть, не кадмий. Свинец, распавшийся на коллоиды фосфата и альбумината, циркулировал по нему, оседая смертным грузом в костях, печени, почках и головном мозге. Свинцовый яд копился и все непоправимей, с каждым годом все глубже отравлял его изнутри. Каждый следующий раз после разлуки нехватка воздуха наступала раньше, хотя и прежняя острота переживаний от этого немного притупилась, зато прибавлялись новые симптомы. Он уже не только с трудом дышал, он не мог быстро двигаться, легко ходить — нужно было пробиваться сквозь постоянную боль, тошноту, тяжесть. Однажды в припадке малодушия (в какой это было год?) Алеша даже взвесился — в подвале их офиса работал тренажерный зал и стояли весы. Улучил минутку и забежал проверить! Не физическая ли это в самом деле тяжесть, не поправился ли он, не потяжелел? Нет. Оказалось, он даже похудел немного и весил меньше своего обычного веса. Но тогда почему бесплотные желания, ощущения, а значит, повторял он себе, чтобы окончательно не свихнуться, значит, не имеющие веса, обретали свойства материи? Повисали неподъемной взвесью в крови? Как это могло быть?
Но были и приобретения. К третьему разу он научился мысленно выпаривать свинцовые частицы из воздуха, соединять их в сплав, тяжелый слиток, который бросал в рюкзак. Рюкзак закидывал за спину. Пусть полежит, так все же намного легче, легче передвигаться, потому что он пойдет себе дальше, пешком. Да он и был в путешествии, вечным странником, бредущим к своему декабрю. Несколько дней слиток его не тревожил, пока все не начиналось заново, но эти дни были отдыхом, хотя одновременно с победой над воздухом и собственным дыханием все вокруг окончательно угасало, делалось вовсе уж пресным на вкус, исчезали оттенки, краски — бледное, стальное бесчувствие без вкуса.
И тогда он писал ей письмецо. В безумной надежде. Маленькую эсэмэску. Полную ерунду. Дождь пошел. Снег пошел. Первый снег. Последний. Первый дождь.
Сообщение так и зависало, ожидание сведений о доставке все длилось. Сим-карта лежала вынутой в белом конверте в ящике ее стола. И опять он сходил с ума и заклинал, молил этот твердый прямоугольничек хоть ненадолго запрыгнуть в телефон и ожить, отозваться! Однажды мольбы подействовали — сообщение оказалось доставлено, немедленно. Едва он увидел вспыхнувшую зеленую галочку возле конверта, как тотчас понял, что попал в ловушку. Вентиль открыли, воздух снова начал поступать в легкие свободно, краски сиять, он дышал, видел, жил, но ощущал себя в клетке. Все того же ожидания. Ведь теперь он будет ждать ответа! Теперь ему дико хотелось еще и позвонить. Он терпел беспредельный день, а к вечеру позвонил — естественно. Абонент не отвечал. В какую прорезь ему удалось протиснуться, кто получил его письмо? Так никогда он и не узнал, потому что, когда они наконец встретились, было не до выяснений.
В позапрошлом году звонок раздался уже перед самыми ноябрьскими праздниками и застал его в магазине, где он выяснял отличия одного Самсунга от другого, так и не выяснил, вышел в середине разговора с продавцом, пошагал с прижатым к уху телефоном на улицу, слепо, по Кожуховской набережной, в сторону Павелецкого вокзала, как всегда удивляясь: мир преобразился и засиял — маленькие белые колючки, пронизывающий ветер, слитые с ее голосом, были не счастьем, нет, были глотком жизни.
Год назад прошли все сроки, а она все не появлялась.
Он терял надежду постепенно, пока к началу декабря не осознал: ее больше нет! Вот почему она не звонит. Нет в этом городе, в этой стране, на этой земле. Умерла. Но отпустить ее он был не в силах, Алеша начал молиться — впервые с тех монастырских пор, всхлипывая, малодушно. Даже заехал в церковь, чтобы подать записку за здравие и ждал, ждал вопреки очевидно давнишним ее похоронам. Бродил по царству мертвых, искал ее тень и не находил. В тот год к безвоздушию прибавился дымчатый сумрак в глазах, даже когда солнце сияло — все было подернуто тонкой пленкой, он тер и тер глаза. Помутнение хрусталика? Но к врачу даже не пошел, слишком устал. И впервые подумал о собственной смерти как о единственном и таком естественном выходе, и сознательно ее захотел.
Она позвонила 26 декабря, сказала, что болела, лежала в больнице, и что встретиться сможет не раньше чем через месяц. При первых же звуках ее голоса муть в глазах обратилась в прозрачность, легкие задышали в полную силу. Он готов был подождать, конечно, и этот новый месяц ожидания дышал легко, видел ясно. Болезнь ее была серьезной, но не к смерти, они увиделись в самом конце января — и снова все было лучше, чем прежде, просто потому что они не виделись год, и можно было прожить новые десять месяцев до новой встречи.
И вот они снова истекали, кончался сентябрь, 2012 года, и он нервничал. Клял ее дурацкие высосанные из пальца, из Ванек-встанек, Тургенева и Бунина (так он однажды и ей это сформулировал) правила.
Но когда наконец получил эсэмэску, подписанную ее именем, перезвонил и услышал ее голос — снова забыл все. Как обычно. Действительно нелепость, действительно невозможно так жить, но вот ведь жили и так и не придумали, как по-другому.
На этот раз она назначила ему свидание в дачном подмосковном домике, недалеко от Москвы. Она отправилась туда вполне официально (и за день до этого написала ему). Накануне сторож сообщил, что, похоже, в дом их залезли — окно выставлено, хотя на двери замок. Она приехала разбираться.
Алеша бросил машину возле шоссе и пошел пешком, чтобы не привлекать внимания соседей, если они случатся. Зима выдалась малоснежной, снег едва прикрыл дорогу, даже сугробов не намело, под ногами хрустел ледок, шагалось бодро. Он шел мимо пригорюнившихся за заборами старорежимных генераль-ских дач, деревянных, из прошлого века — и хоть бы кто перестроил, поставил новый дом — нет! На этой улочке стояли сплошь ветераны — двухэтажные, с высокими окнами, кое-какие с балконцами даже, послевоенная роскошь — но ветхие, словно рассыпающиеся на глазах. Каждому второму хотелось подставить плечо — снять облупившуюся краску, покрасить заново, поднять просевший фундамент, перестелить крышу, заменить скрипучие двери…
Ее дом он увидел сразу — самый зеленый, так она сказала. Он и правда выглядел свежее соседей — хотя был из того же полка. Из трубы вырывался легкий, тут же уносимый ветром дым. Алеша прошел по участку, поднялся на крыльцо, постучал — она уже стояла на пороге, одетая, в красной распахнутой куртке, с какой-то фиолетовой тряпкой в руке, глаза сияли — и опять она оказалась чуть другой, чем он ее помнил. Не то чтоб старше на год, нет, просто на год иная.
В доме стояла нежилая прохлада, хотя печь топилась, но раздеваться не хотелось. Ледяным тянуло из дальней комнаты, там вор выставил стекло. Унес он только макароны, консервы и несколько теплых вещей. «Это был кто-то очень голодный и замерзший», — улыбнулась она.
Сегодня у них было не полтора и не два часа — целый день.
И первый раз за все то время, что они встречались, они пожили семьей.
Он принес из колонки на краю общей улицы воду. Колонка была припорошена снежком, ни следа человеческого — слава Богу! Она поставила на печку закопченный чайник. Он заколачивал фанерным листом выставленное вором стекло — она придерживала фанеру, подавала ему гвозди, все время благодарила. Если бы не ты… Он не отвечал, не хотел, хотя странность сквозила — работа мужская, почему сам хозяин не приехал, отправил жену? А если бы вор все еще прятался здесь? Или это она уговорила мужа, имея в виду их встречу? Но Алеша ничего не спрашивал, стучал себе молотком, поглядывая на нее, на развешанные по комнате, пожалуй, в избытке иконы — и, вгоняя в два удара последний гвоздь, внезапно понял. Понял, кто ее муж. Да священник же. Она — матушка. Вот оно что. И не потому только, что детей много, что икон невпроворот, а по всему сразу — множество накопленных за эти годы мелочей сейчас же получили объяснение. Спрыгивая со стула вниз, он громко и освобождено выдохнул. И сразу же был ласково подхвачен вопросом «устал»? Что ты, я полон сил.
И рубил дрова во дворе, принес березовые полешки в дом, ссыпал у печки. Она кормила его привезенными из Москвы, необыкновенно вкусными щами, ухаживала — в своем духе — невесомо, легко, с улыбкой. Он любовался. Она и правда, была совершенна. Взлеты рук, маленькие розовые уши, и облако волос, сияющее на скромном зимнем свету — наконец-то она отпустила их на волю. Занавеска на окне лимонная, полупрозрачная, горка дров у печи, стол деревянный, темный, на чуть вывернутых резных ногах — старше дома, стеклянная вазочка для сахара из его детства, два куска бородинского, бисер тмина на дереве. Заснеженный сад за окном. Так и будет выглядеть его рай. Если умирать, то прямо сейчас, здесь, лучше уже не будет, — подумал он неожиданно, но совершенно спокойно.
Уже незадолго до исхода, до окончания этими небесами, лесами, садом подаренного дня, Алеша заплакал.
Что ты?
Он не ответил. Он не мог сказать, что с той же ясностью, с какой когда-то различал прохудившийся локоть подрясника преподобного Амвросия, с какой увидел сегодня утром, кто ее муж, теперь видит: прощание. Больше они не встретятся, никогда.
Она отказалась ехать с ним, процедила что-то вроде «я на электричке, меня ж на вокзале будут встречать», подбросил ее только до станции — и помчал. До МКАД донесся мгновенно, но в городе почти сразу пришлось притормозить.
Но он и не спешил никуда. Он по-прежнему ощущал себя на вершине покоя — расслабленный, размягченный, переполненный ее словами, прикосновениями, ее теплом, закутанный ее любовью как младенец пеленкой — скользя по сияющей предновогодней Москве. И без всякого спросу, точно помимо него, словно благодаря все той же прозорливости, которая раскрылась в нем сегодня, Алеша понял вдруг: ничего лучше тех четырех монастырских лет в его жизни не было.
Нет, не только не было, ничего лучше в его жизни — тут он почувствовал, что тот самый воздух, которым он надышался наконец до отвала, снова покидает его, безвозвратно выходит из легких… почему так рано? — ничего лучше в его жизни уже и не будет. Ничего лучше молитв в алтаре и в келье, выходов на середину храма с Псалтырью и торжественного чтения святых слов — не будет. И это «не будет» без предупреждения, вероломно прошило его тонким острым ледяным стержнем. Он застонал. Стержень входил все глубже — боль сделалась невыносимой. И все тянулась. У такой боли должен быть конец. Но она продолжалась, ровно-ровно. Даже закричать он не мог, только зажмурился покрепче.
Инфаркт? Инсульт? Это от недостатка кислорода, клеткам мозга слишком долго недоставало кислорода, думал он почти в бреду, артерии блокировали свинцовые бляшки, свинец разлуки расставлял невидимо свои посты, и вот... Но может быть, все это результат колотой раны — протаранившего его только что стержня? Он снова открыл глаза. И подумал трезво, что приступ протекает иначе, совсем иначе, чем тогда, когда «скорая» увезла его после очередной бутылки. И что на этот раз он совершенно один. Стержень замер, боль приотпустила и сейчас же в тонкую, как лезвие, паузу пробился луч — день его крещения: насупленная бабка в темно-красном платке, с алюминиевым чайником в морщинистой, загорелой руке, наполняла кипятком высокую серебристую чашу, белобрысый бойкий младенец, смешно машущий ручками, — это для него готовили теплую воду, и слова батюшки Николая, которые он запомнил навсегда, но что-то не вспоминал давно, а теперь вот всплыли, колыхались бликами на воде: «Возможно, никогда уже больше, Алеша, не будет у тебя таких открытий».Опять это «никогда»! И снова шевельнулось ледяное шило.
Сзади сигналили машины, он их слышал, он видел зеленый приветливый кружок светофора, мерцающую оранжевыми огоньками гирлянду в витрине, он все сознавал и понимал, что самое время нажать на газ и поехать, но не мог шевельнуться, тем более двинуть машину с места, только незнакомо, будто это уже и не он, застонал; даже стон дался ему тяжело и отнял последние силы. Голова у него запрокинулась, и снова он увидел в прорезь: чаша, тепло, свет горит. Он жадно смотрел в жаркую, праздничную воду. В движение сияющих бликов. Оседавший на зимних стеклах горячий пар. Все кончалось, кончалась многолетняя мука, он уже понимал — через несколько мгновений ему станет все равно, он будет наконец свободен. И испытывал только радость, радость, несущую его все дальше, выше.
|