Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://pamupe-cc.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pamupe-cc.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Болт (04.01)/Песня (07.01)/Дверь Храма (15/16.01) |
(04.01)
В этом году решил сделать свой день рождения обычным рабочим днём. Никуда не ехать и ничего особенного не делать.
Судя по подарку от семьи - явно ошибся. Нескольких часов между работой и сном явно не хватит на нормальное изучение возможностей металоискателя.
Хотел выйти хотя-бы на море, но хватило времени только на сборку самого прибора и тестовый проход по саду. В нескольких местах он явно реагировал на что-то под травой. Нашёл точку, где нет газона и можно выкопать источник сигнала ничего не повредив.
Болт. Большой и ржавый, потерявший форму настолько, что его можно спутать с камнем. Все смеются, что это подарок и что я должен его забрать домой. Действительно забираю, это был успешный тест, всё работает.
Каждая находка с этим прибором будет частью растянутого во времени празднования дня рождения.
(07.01)
Звучит песня. Дневное сознание требует вспомнить обстоятельства прослушивания, но память в данном случае отключается, даже мелодии не слышно. Только ощущение от прослушивания. Смесь удовольствия от энергетики и злости и раздражения от глупости и злобы. Меня крайне смущает то, что мне нравится эта песня.
Наведение резкости. Появляется сюжет. Мы с знакомым идём в сторону центра из родного Нового Строения. Знакомый в лучшем случае шапочный, не друг, не приятель и не соратник. Тусовочная массовка, вечно похмельный полупанк полугопник. Ему очень нравится обсуждаемая песня, как политически правильная, отчего у меня только усиливается смущение.
Выходим с церковной горки. Теперь нужно решить, по какому пути идём. Есть длинный, вдоль трамвайных путей и через мост, мимо тюрьмы. Но всё детство и юность я шёл по другому, более короткому, через железную дорогу. Там нельзя ходить, нарушителей штрафуют. Но так ходят всё.
Только в этот раз мне не хочется вниз. Уже темно. Обрыв больше чем в реальности. В тюрьме срабатывает сигнализация, кто то пытается оттуда сбежать. По железной дороге идёт тень с фонарём, в темноте не видно, есть ли у неё форма.
Но я не хочу показать что нервничаю, поэтому вздыхаю и спускаюсь вниз, к звуку будильника.
Проснувшись вспомнил, как пытался переучить себя от любви к трип-хопу, слушая всякий патриотический рок рекламировавшийся в "Лимонке". Иногда искренне нравилось, но зачастую приходилось буквально ломать себя. Зато теперь могу по памяти напеть основные хиты с первых кассет "Бритоголовые Идут", в которых тогда, к моему нынешнему стыду, видел некую необходимую дикость.
Даже ощущения от песни вспомнил. Очень похоже на совместные записи Саши Непомнящего (которого искренне любил и до сих пор ценю) и хард-рокеров "Кранты" (которых слушал через силу)
И ещё вспомнил, что в последний приезд в Даугавпилс пошёл по длинному пути. Хотя с ностальгией взглянул со стороны на короткий, но не было времени и не хотелось зря рисковать.
Весь день напевал про себя соответствующие песни. Довольно быстро, по естественным ассоциациям, переключился с Непомнящего на Усова. Вечером заехал в супермаркет, на обратном пути, недалеко от дома, увидел в свете фар маленький труп у дороги. На секунду испугался что это наш кот. Но он простыл вчера и мы его временно не выпускаем. Проверил. Ещё одна лиса. Первая в новом году. Всё возвращается к рутине из символических снов и ритуальных похорон. Лент на деревьях. Клыков под падубом.
Когда я ехал в тишине на холм, покрытый густым туманом, то, внезапно для себя самого, начал напевать вслух:
И не надо бояться Алисам,
Заблудившимся в темноте
В синей чаще спрятаны лисы
И, наверное, именно те.
(15/16.01)
Встали пораньше, так как день предстоял насыщенный. Нужно было забрать картину Алёны из деревенской галереи под Лондоном, в сорока минутах сельских дорог от London Orbital в сторону Оксфорда. Затем успеть на выставку картин Блейка, она закрывается через пару недель и это одна из последних возможностей. Ну и вечерем мы договорились встретиться с старым сетевым знакомым, ещё по временам расцвета Живого Журнала, он же был одним из моих любимейших музыкантов в первую половину нулевых, до виртуального знакомства. Был и остаётся. Мы живём в странное время.
В Бакингемшире просто невероятное количество орлов. Я второй раз в этом графстве, и оба раза поражаюсь этому факту, нигде больше такого не видел. Буквально над каждым полем кружит одна или две огромные хищные птицы, мы видели даже нападение на голубя. Хочется остановиться на обочине и наблюдать весь день, но времени буквально впритык. Нужно будет сюда вернуться весной, благо галерей тут тоже полно. Ещё одна причина для возможного возвращения - встреченное на окраине деревни заражённое омелой дерево. Шар паразит слишком высоко, я его никак не достану. Зато текстура коры и несколько листьев под ним заставляя предположить, что дерево может быть дубом. Хотя листья могли быть принесены ветром.
На подъезде к Лондону понимаю, что времени почти не осталось. Я планировал сделать крюк по окружной и оставить машину в привычном месте на юге, но сейчас любая пробка гарантирует потерю билетов на выставку. Решаю рискнуть и не сворачивать с М40, быстро ставшей А40, то есть попытаться найти парковку недалеко от метро в незнакомом районе. Всё получилось, бросили машину у Гринфорда, выиграв около часа. Были у музея за полчаса до зарезервированных билетов.
Выставка оказалась отличной. Удивили размеры многих рисунков, я знал что многие из них маленькие, но не представлял насколько. Особенно величайшая из визионерских картин, "The Ghost of a Flea". С другой стороны поразили размеры и качество "Newton", "Nebuchadnezzar" и "The Night of Enitharmon's Joy". В комнате с этой серией можно было реально провести часы.
С возрастом меня всё меньше привлекает космология, Блейка при всей еретичности она всё равно по сути авраамическая. Он пророк, но не уже мой.
Зато любовь к нему как художнику и поэту лишь укрепляется с каждым годом и с каждым увиденным оригиналом картин.
Вышел, покачиваясь от усталости и голода. Поужинали ожидая встречи с Прохором.
Как всегда, веду гостей столицы в любимую смесь паба с кунсткамерой, "The Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & UnNatural History". Сам уже знаю там всё наизусть, но новых людей он неизменно впечатляет.
Жеманный продавец предлагает купить книжечки о музее в довесок к билетам. Сперва отказываюсь, мы уже взяли парочку когда была выставка магических предметов. Вдруг замечаю, что у книги новая обложка с хорошо знакомыми именем и фамилией. Ithell Colquhoun. Итель Кохун. Я про неё узнал совсем недавно, но сразу включил в персональный пантеон. Художница, изгнанная из английских сюрреалистов за участие в оккультных организациях. Не за занятие оккультизмом, но за преданность структурам, нарушавшую строгие правила лондонской группы. Я как раз собирался поискать, где могут быть её картины, совершенно не ожидая увидеть их под самым носом.
Поворачиваюсь. Весь паб увешан незнакомыми мне работами, под которыми весело пьют и общаются хипстеры, не обращающие ни малейшего внимания на красоту рядом. Это очень похоже на ещё одну извращённую шутку Виктора Винда. Сложнейшее ритуальное искусство, будучи вынесенным из галерейного контекста, воспринимается зрителями как деталь интерьера.
Потом мы показывали комнату Спейра и кунтсткамеру внизу, но я был в этот раз плохим экскурсоводом, так как постоянно уходил в соседнюю комнату. Проверить, не освободились ли столы через которые можно подойти к картинам. Осмотрел, в итоге, все, но всё равно слегка в спешке.
Нужно будет вернуться.
Затем провёл гостя до соседней улицы Beck Road где находилась колыбели индустриальной культуры. В старом сквоте "Throbbing Gristle" и "TOPY" горит свет, там кто-то живёт. Фотографируемся возле чёрной двери. Дотрагиваюсь до одного из чёрных болтов, вспомнив как хороший друг взял один из них на память. Что-то останавливает от похожего жеста.
До позднего вечера разговариваем в пабе, про общих знакомых и советских художников. Когда решили разъехаться, выяснилось, что красная ветка стоит. Человек упал на рельсы на окраине. Минут сорок на табло сообщалось что приближается поезд и персонал уверял что точно уедем. Около часа ночи сообщили что всё, станция закрывается. Пришлось добираться до машины через весь Лондон, сперва на ночном автобусе, потом на такси.
Над машиной пролетела сова. Вдоль дорог бегали лисы и кролики.
Домой добрались к четырём утра. Перед сном послал фотографии с дверью в общий чат. Заодно нашёл фотографию, где она видна днём. Посмотрев на неё был шокирован, оказалось что черные болты выстраиваются в TOPY-Крест. Даже виден один исчезнувший.
Это до сих пор дверь храма, всё это время я не замечал произведение ритуального искусства, считая его деталью интерьера.

|
Метки: сны день рождения |
Музыка ада. Духи распада |
Музыка ада. Духи распада
Кинокомпания "Каскадёр-Фильм" как образец азиафикации постсоветского кино
Для того, что бы понять некий исторический процесс, необходимо определить и проанализировать конечный результат. Конечным результатом эволюции постсоветского кино стал современный российский кинематограф и его аналоги из ближнего зарубежья. Я его, конечно, очень не люблю, но личная оценка тут не особо важна. Этот кинематограф есть как данность, каждый год снимается большое количество фильмов и сериалов, и они в целом явно не похожи на европейское кино. Есть точка зрения, достаточно логичная, что российский жанровый кинематограф нужно рассматривать в контексте современного азиатского кино. В этом случае он размещается примерно между индийской и корейской киношколами. Это может показаться оскорбительным, учитывая то, что мы говорим про наследников великой и безусловно оригинальной школы советского кино. Но это факт. За два десятилетия, прошедшие после распада СССР, российское кино мутировало в образец массовой культуры страны третьего мира. И если смотреть с этой точки зрения, то история кино начала девяностых становится историей "азиафикации".
Хорошим примером для данного процесса можно назвать два фильма ялтинской студии "Каскадёр-Фильм" и последовавший за ними "Русский Рэмбо" Юрия Музыки, режиссёра первого из них. На данный момент он, как и большинство жанровых ремесленников девяностых, является востребованным режиссёром телесериалов. Это кстати, хорошее объяснение вопросу, почему из российского кино пропал былой беспредел. Авторы, прежде снимавшие реально сумасшедшее кино, сейчас плотно заняты конвейерным производством серий в рамках жёсткого телевизионного формата. Возможно, в отдельных сериях возрождается былой дух, но я лично не готов это проверить на практике путём просмотра двух десятков сериалов целиком. Я ещё жить хочу.
Но в девяностые Музыка реально зажигал, как и второй герой этой истории, каскадёр, сценарист, режиссёр и продюсер Василий Будишевский.
Начнём с Музыки. Сперва небольшое отступление.
В советское время у него были связаны руки, в первых трёх фильмах он был лишь сорежиссёром, и заметная разница между ними явно являлась разницей между реальными авторами.
Первый из них, "Переходный Возраст", был снят Ионом Скутельником в Молдавии в начале восьмидесятых. Я могу рекомендовать эту нечеловечески скучную романтическую комедию о взаимоотношениях между пышноусым организатором гастролей и его излишне самостоятельной дочкой только любителям нимфеток с фетишом на советском фильме "Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки". Всем остальным стоит держаться подальше.
До следующего фильма Музыке пришлось ждать девять лет. Зато самого факта участия в съёмках фильма "Чёрная магия, или Свидание с дьяволом" в принципе хватает для гордости, это очень хороший фильм. Возможно, моя оценка связана с тем, что я смотрел его уже после знакомства с поздним творчеством Музыки, соответственно у меня были очень завышенные ожидания от этого фильма. Или заниженные, если судить с точки зрения "нормального" кинематографа. Казалось неизбежным, что мистический фильм с таким названием от такого режиссёра окажется чем-то вроде "Опасной Соблазнительницы" Эйч Тьют Джалиля. На наличие второго режиссёра я тогда внимания не обратил. А зря. Борис Дуров – нормальный советский профессионал, человек, побивший все финансовые рекорды, сняв "Пиратов ХХ века", первый карате-боевик в СССР. Объективно это было очень качественное жанровое кино. И я уверен, что неожиданная адекватность "Чёрной магии" связана именно с его тлетворным влиянием. Адекватность, разумеется, относительная, это очень странный фильм. Но по-хорошему странный, и на фоне прочих творений Музыки он выглядит шедевром.
Итак, сюжет. Послевоенные годы, глухое молдавское село. Нищета, разруха, голод. По селу ходит местный сумасшедший во френче и с усами, считающий себя Сталиным. Дети арестованных коллаборационистов кидаются камнями в сторонников советской власти. Хотя реальных сторонников на селе и нет. Есть председатель, опытный мужик. И пионер, который даже умеет читать. От его излишней образованности всё и началось. В один прекрасный день председатель уронил портрет Сталина и сломал раму. НКВД в селе нет, доносить некому. Но рано или поздно приедет какая-нибудь комиссия, и тогда могут начаться большие проблемы. Пионер предлагает выход, возле села стоит заброшенный дом бывшего помещика, а в нём куча брошенных вещей. Среди них вполне может оказаться подходящая рама. Рама действительно нашлась, но, кроме неё, там оказалось много любопытного, включая старинный гримуар с подробным описанием ритуала вызова дьявола. Советская власть, напомню, научила нашего героя читать и писать. Он единственный во всём селе способен на такие подвиги. С этого момента я понял, что фильм совсем не предсказуем. Я ожидал исполнения жанровых штампов, герой читает заклинание на свою голову, и выпускает зло в деревню. К моему удивлению, сценарий делает очень оригинальный поворот. Ритуал можно провести только в определённый день, до которого ждать почти год. Требуется куча специальных предметов, которые нужно подготовить, с жертвами и осквернением святынь. Правильно, в ещё советской Молдавии, задолго до волны современного пост-хорора был снят фильм, сюжет которого заключается в долгой подготовке к гоэтичечкому ритуалу.
Подростку с такой задачей никак не справится. Он и не стремится к этому. Но он практически не скрывает находку, используя её для игр. Новость доходит до взрослых. Взрослые решают, сперва очень узким кругом, что такой шанс упускать нельзя. Парня блокируют в деревне, не давая уехать в интернат. Ведь без него некому будет читать заклинания.
И начинается кропотливая работа по подготовке к ритуалу, постепенно затронувшая практически всех жителей деревни. Затронувшая и заранее изменившая.
Необычный фильм. На девяносто процентов совершенно реалистичная драма. Странная, но всё же реалистичная, вполне обходящаяся без излишнего мистицизма. Герои переживают целую цепь событий. Убивают в ритуальных целях умную, дрессированную овцу живущего в деревне циркача. Пионер из ревности к девочке цыганке пытается убить этого циркача, тайком заточив шпагу, которую тот глотает для развлечения жителей. И так далее. Всё очень угрюмо, в фильме царит атмосфера полной безысходности характерная для "чернухи". Злом оказывается не дьявол, которого пытаются вызвать, а сами люди, решившиеся на такое.
Если бы все сто процентов фильма были в таком духе, я бы решил что был несправедлив к Музыке. Но регулярно, и всегда неожиданно, в фильме появляются эпизоды, характерные именно для лихорадочного, ирреального стиля лучших и одновременно худших образцов его творчества. Это сны-кошмары героев. Работа цыганки целительницы. И очень смешная "битва экстрасенсов", когда прямо посреди совещания две героини, вышеупомянутая цыганка и старуха повитуха, начинают мериться силами путём передвижения взглядом кружки по столу. Эти моменты добавляют энергии происходящему, но явно выпадают из общей картины. Так же как и название картины в целом, настраивающее на совсем другой сюжет.
Следующая коллаборация оказалась довольно скучной. В фильме Евгения Васильева "Крысы, или Ночная мафия" нет ничего всерьёз выделяющего из волны кооперативных боевиков. Он специфичен, но не за счёт оригинальности или странности авторов, это просто общая специфичность эпохи. Зато именно на нём, скорее всего, происходит историческая встреча с вторым героем этой истории. Фильм рассказывал о борьбе честного таксиста с подчинившими таксопарк рэкетирами, то есть требовал большого количества автомобильных трюков. За которые отвечал один из лучших советских каскадёров, Василий Будишевский. Он начинал свою карьеру в середине семидесятых, с мотоклуба "Наша Родина – СССР", гастролировавшего с автородео. Затем находит себе официальную крышу в виде Ялтинской Киностудии и в последовавшее десятилетие отвечает за трюки в множестве разнообразных картин. Заработав огромный опыт, но оставшись энтузиастом, горячим до невменяемости. Будишевский хочет снимать собственное кино, с эзотерическими сюжетами и огромным количеством трюков. Он никогда не отвечал за съёмки, значит ему нужен режиссёр. У Музыки точно хватает опыта.
Через год Музыка приезжает в Крым с развязанными руками. Никто рядом уже не мешает снимать, как хочется. Так началась легенда. Так появились "Духи ада".
Получилось нечто невероятное. Наглядное доказательство того, что может собственных Эйч Тьют Джалилей земля российская рожать. Это даже не индийское кино. Это реально индонезийское кино восьмидесятых, только снятое в Крыму девяностых.
Сюжет прекрасен.
Рэкетиры байкеры терроризируют город. Рэкетиры в этом фильме очень круты, они реально лучшие известные мне образцы жанра. Они ездят по городу в масках с черепами и на антикварной машине, тоже украшенной гигантским черепом. Идеальная маскировка. Столь злые люди, естественно, не могут не творить злодеяний, положение обязывает, И вот, завязка сюжета, бандиты нападают на две молодые пары, с целью сексуально использовать их прекрасные половины. Начинается драка, и двух главных героев фильма, парня и девушку, коварно убивают. И скидывают трупы в некую пещеру, где, внезапно, оказалась целая колония духов. Эти призраки там занимаются карате, причём в кимоно с нашивками явно реального клуба. Общаются они с главным духом хором. И стихами. Стихи плохие, но выглядит это просто изумительно, жаль, что подобный китч практически не переводим. Так вот, волевым решением главного духа покойных воскрешают, делают из них супергероев и отправляют бороться с преступностью.
Что характерно, несмотря на наличие в съёмочной группе целого выводка каратистов, боевые искусства в фильме ограничиваются шоу с нунчаками в задымлённой пещере. Постановщика боёв просто нет. Вместо него монтажёр. Я уверен, что Музыка никогда не смотрел турецкие боевики семидесятых, где боевые сцены тоже состояли из монтажа кадра удара и кадра полёта тела. Просто он мыслит схоже с Инчачем, истинные творцы похожи. С другой стороны, в фильме неожиданно хорошие каскадёрские трюки, с мотоциклами и машинами. Они сняты всерьёз. Это сочетание общей халтурности и наивности с внезапным профессионализмом похоже на гонконгские образцы жанра, там тоже внутри предельно глупых фильмов могут быть виртуознейшие по хореографии постановки боев и трюков. В данном случае – только трюков. О Гонконге напоминает и лидер злодеев в исполнении Артура Ли.
И самое безумное, в один момент рассматриваемый фильм взял вершину, сравнимую с самым лихим вариантом индийского кино. Внезапно, без всякой связи с сюжетом, в экран выскакивает группа "Кар-Мэн" в полном составе и начинает петь на смести ломанного русского с ломаным английским о том, что они воины добра и хотят нам дать любовь. Это невероятно плохо и невероятно глупо, ценители жанра будут в восторге.
Одним словом перед нами нечто уникальное, это халтура уровня самых диких вариантов азиатского малобюджетного кино семидесятых и восьмидесятых, причём напоминающая сразу про несколько различных киношкол. Сейчас такие фильмы переиздают на двд для преданных фанатов. Только одно но, на фоне качественной советской киношколы мирового уровня столь быстрая мутация в жанровое кино третьего мира действительно выглядит деградацией. И ведь Музыка не одинок, на фоне Кучкова и Джигурды он выглядит частью большого процесса. Возможно, что советская тенденция сознательного подавления жанрового кино вместе с подпольным, но массовым культом американских боевиков и хорроров привело к этому удивительному феномену чудовищного несовпадения общей кинокультуры с происходившим в жанровых нишах.
В любом случае, рассматриваемый фильм обязателен к просмотру всеми ценителями малобюджетного безумия и экзотики, пусть этой экзотикой является наше же недавнее прошлое.
Через два года Будишевский и "Каскадёр-Фильм" сняли ещё одну ленту, "Фантом". От описания гурманы паракинематографа могут просто захлебнуться слюной:
Экстрасенс влюбляется в душу девушки, которую сам же у не забрал, променяв на способность побеждать на конкурсах красоты. Пропавшая душа красотки каким-то образом встречает душу молодого паренька и вместе они образуют Фантом, желающий незамедлительно вернуться в тело девушки.
За режиссуру теперь отвечал сам Будишевский, и она заставляет предположить, что он всерьёз учился на съёмках "Духов Ада". В принципе автору сценария и продюсеру в одном лице не нужно было быть ещё и режиссёром, он по умолчанию обладал достаточным уровнем контроля для сохранения авторского замысла. Судя по "Фантому" – авторской картины мира.
Это реально неописуемое кино. Мафиози экстрасенс по фамилии Князев (ещё один пример магического диктатора как популярного в кино того периода типажа) принимает клиентов в перерыве между организациями злодейств. Принимает из экспериментаторских побуждений, он мечтает удалить из человека химеру совести, то есть душу. Юная дева, желающая победить в конкурсе красоты, соглашается на операцию, что приводит к неожиданным последствиям. Изгнанная душа находит юного астрофизика и из сюжета пропадают последние остатки связности и вменяемости. Души модели и астрофизика соединяются в астрального андрогина, с мужским телом, женским голосом, одеждой восточной танцовщицы и мимикой / жестикуляцией Леди Терминатора. Всех бьёт. При этом астрофизик остаётся собой и тоже бегает за бандитами, спасая тело обездушенной девы. Эта беготня двойников по замкнутому пространству добавляет лёгкий привкус Линча. Экстрасенс горюет, так как влюбился в душу, и регулярно разговаривает с ней по переносному портативному компьютеру.
В определённый момент всё окончательно сползает в безумие, для описания которого нужно поставить в одно предложение максимальное количество несопоставимых слов. Итак: астральный мститель-андрогин под песню Вики Цыгановой "Гуляй, Анархия" срывает организованную экстрасенсорной мафией контрабандную поставку нескольких бутылок крымского вина Дары Диониса для арабского шейха коллекционера. Не шутка. Минутный поиск показал, в Крыму реально есть винзавод Дионис, названный так в девяностом. Учитывая количество открытой рекламы в фильме, буквально с подчёркиванием марок машин с адресами и телефонами спонсоров, эта линия тоже рекламная. Логичного объяснения, почему шейх не мог легально купить данную бормотуху, нет. Сюжетный ход с отправкой контрабандного вина рейсом под видом совершенно легального и не вызывающего вопросов груза из проституток (включая сопротивляющуюся продаже в рабство обездушенную танцовщицу) хорошо показывает, насколько извращено было на тот момент понятие нормы. Эротики, при этом нет, циничные высказывания продажных дев никак не иллюстрируются. Церковь в финале напоминает, что эзотерика на тот момент была густо замешана на православии.
Изумительный фильм. Как и в прошлый раз, работа каскадёров и постановщиков трюков выше всех похвал, что составляет сильнейший диссонанс с остальным цирком. Постановка боёв уже получше, при всей забавности зрелища с битвой между трансвеститом и зомбированными рэкетирами в одинаковых турецких свитерах.
Особенность существующей VHS-копии с всерьёз распавшимися цветами делает фильм неожиданно стильным, цвета размыты красиво, словно стилизация. Это особенно хорошо в сочетании с музыкой, которую хоть сейчас издавай под видом ретро-вейва.
На этом история компании закончилась, надеюсь временно.
Музыка позднее доказал, что он и без Будишевского способен гнать лютую экзотическую чушь, сняв в Молдавии фильм "Дезертир / Русский Рэмбо"
Первый и последний полноценный "рэмбосплотейшенс" на территории бывшего СССР. На самом деле жанр перестроечного и постсоветского боевика был настолько пропитан влиянием американских боевиков, что его авторы были обречены на попытки прямого подражания особо выдающимся образцам. Как известно ценителям экзотического кинематографа, самые дикие и непредсказуемые фильмы получаются из попыток сделать рип-офф с голливудских блокбастеров путём имитации наиболее запомнившихся зрителям визуальных образов. Один из самых забавных поджанров, созданных в рамках вышеописанной тенденции, является вышеупомянутый "рэмбосплотейшенс". Такие великие фильмы как индонезийский "Рамбу / Pembalasan rambu" или турецкий "Бесстрашный / Korkusuz" вызывают у меня восторг, смотреть их куда интереснее, чем пересматривать оригинальные фильмы со Сталлоне. Исходя из этого, просто невозможно пропустить экранизацию сценария, изначально названного "Русский Рэмбо". Тем более снятого таким удивительным человеком как Юрий Музыка.
К сожалению, это уже поздний Музыка, немного остепенившийся. Подозреваю, что если бы он снимал по данному сценарию где нибудь в 91 году, то турки и индонезийцы были бы полностью посрамлены. Но и в 97 году он сумел снять очень милую, уютную халтуру идеальную для вечернего просмотра.
Это боевик про Афганистан, смешанный со сказкой. И я не шучу. Афганистан тут показан как совершенно мифическое пространство. Поголовно говорящие по-русски пуштуны одеваются как герои советских ориенталистских сказок. И ведут между собой битву добра и зла. Добро воплощают собой просветлённые старцы в белых одеждах, которые называют себя "стражи Великого Гинду" и поклоняются неким "небесным богам". В форме идолов, называемых, простите, мамандами. Зло – разбойники, очевидно занимающие в удивительном мире "Дезертира" место реальных моджахедов. Эти злодеи в начале фильма похищают невесту главного героя. Похищение тоже изумительно, оказывается, по Афганистану ездили практически не охраняемые рейсовые автобусы, которые возили родственников к солдатам. Вот на такой вот автобус внезапно и напали, ко всеобщему удивлению. Главный герой, как и полагается славянскому воину, способен управлять чем угодно. Поэтому он угоняет вертолёт, и летит на выручку родимой. Родимую, тем временем, моджахеды используют про прямому назначению. Уборщицей и служанкой, мы же о сказке говорим. Девушка при этом проявляет гордый характер и всячески демонстрирует преимущества свободной женщины Запада, к большому восхищению афганцев. Впрочем, недолго – товарищ Скворцов её вскоре выручает. И вмешивается в битву добра и зла, на стороне, естественно, добра.
Очаровательное кино. Афганистан явно снят в Молдове, он зелёный от бурной растительности и очень уютный. По его пещерам ползают удавы. Герой – брутален до невозможности, в одном эпизоде он поборол отряд вооружённых моджахедов на конях, будучи сам вооружённым только копьём. Про такие мелочи как удар ногой по воткнутому в землю ножу, в итоге прицельно улетающему в тело противника и говорить не стоит, написано же, русский Рэмбо.
Ну и неимоверно пошлая эротическая сцена хороша, с обязательной русской поп-музыкой на заднем фоне.
Короче говоря, рекомендую этот фильм всем ценителям. Он очень глупый. И достаточно короткий, около часа идёт, так что надоесть не успеет.
Особенно извращённые ценители могут сравнить конечный продукт с сценарием, киноповестью Звягинцева "Скиф", доступной в сети. Я после ознакомления с фильмом за сорок минут просмотрел, чудовищная халтура, конечно. Автор – типичный графоман с погонами, от диалогов хочется лезть на стенку, сюжет невнятный, и, несмотря на изначальную нацеленность на экранизацию, совершенно некинематографичный. Зато переполненный дешёвой эзотерикой, как признаком эпохи. Там в 86 году герои Джуну обсуждают, и её претензии на роль княгини. Видят сказочные сны, с пустыми восточными городами. А "стражи Гинду" берут героя в путешествие по "реке Времени" и пророчествуют о том, что скоро мировая война, а в 2050 под землёй родится новое солнце. А в 2090 прилетят посланцы вселенского разума. И так далее. Дико жаль, что Музыка убрал всю эту чушь из конечного продукта, получилось бы здорово.
С другой стороны, сценарий куда более развёрнутый, автор по мере таланта, точнее его отсутствия, пытается объяснить все возникающие противоречия. И автобус там хорошо охраняется, но попадает в засаду, и оба героя знают местные языки. Музыка всё дико упростил, сделав глупый и скучный текст очень глупым и смешным фильмом.
Затем начались сериалы. Много.
Будишевский с девяностых не снял ни одного полнометражного фильма, только кинопробы, но он тоже пытается снять сериал, с изумительным названием "Тайна силы духа каскадёра". С 2009-го на сайте "Каскадёр-Фильм" висит такое вот объявление:
Сверхзадача фильма – показать пути гармоничного развития человека, достижение равновесия Духа, Души и Тела. Фильм о рождении, формировании, жизни и бессмертии человека.
В основе сюжета лежат реальные события из жизни каскадёров. В фильме показано рождение человека в море при участии дельфинов. В основе сюжета судьба каскадера, охватывающая две эпохи нашего времени (с 1965 года по наши дни). Фильм насыщен зрелищными трюками. Некоторые из них для Книги рекордов Гиннесса.
Фильм строится на воспоминаниях каскадера, что позволит использовать целый каскад трюков из фильмов производства Каскадёр-фильм "Духи Ада" и "Фантом", видеоматериалы (в цифровом качестве) из каскадёр-шоу. Это позволит значительно снизить себестоимость телесериала "Тайна силы духа каскадёра". В судьбе каскадёра присутствуют все проблемы и радости жизни: любовь, рождение детей в воде, столкновение с чиновниками и бандитами, смерти и искалеченные партнеры. Сам неоднократно травмированный, на грани смерти и рискуя покалечиться, в борьбе с самим собой и используя приемы самовосстановления человека, каскадёр остается здоровым и активным в этой жизни.
Псевдопродюсер продает всю группу каскадеров под видом каскадёр-шоу террористам для использования их возможностей. Любовь к женщине – матери его детей – и к его детям помогает преодолеть удары судьбы.
Есть даже плакат, просто прекрасный.
Искренне надеюсь, что он найдёт спонсоров, способных понять, что опытный режиссёр сериалов с глубоким пониманием стиля Будишевского уже есть.
Современное российское кино похоже на современное азиатское
Им обоим явно не хватает былой дикости.

|
Метки: paracinemascope katab.asia кино девяностых |
Жестокие фантазии. Девяностые Дмитрия Томашпольского |
Начинаю год с первой статьи, собранной из старых постов на парасинемаскопе.
Думаю это далеко не последнее, что я напишу о Томашпольском.
ЖЕСТОКИЕ ФАНТАЗИИ. ДЕВЯНОСТЫЕ ДМИТРИЯ ТОМАШПОЛЬСКОГО .
Первый фильм Томашпольского я увидел в четырнадцать лет. Разумеется, я не обратил внимания на фамилию режиссёра, даже название не запомнил. Зато сам фильм запомнился навсегда.
Здесь нужно учитывать специфику момента и особенности восприятия. Телевидение середины девяностых было довольно сентиментальным, в моду входила смесь оптимизма с ностальгией. С 95-го зрителей бомбардировали "Русским проектом", Новый год уже встречали "Старые песни о главном", Астрахан выстрелил довольно популярным (по крайней мере в кругу моей семьи) фильмом с характерным названием "Всё будет хорошо". Новый 97-ой мы встречали под "Полонез" Чижа в "Бедной Саше". Я всё это ненавидел всей душой и сердцем. На самом деле эта ненависть уже давно копилась, я только недавно это понял, решив посмотреть подборку рекламы начала девяностых. Хотелось проверить, помню ли я её. Оказалось, что помню каждый кадр, каждую белоснежную улыбку и каждую ноту в песнях, воспевающих очередную химическую отраву. Неожиданным оказалось другое: мне от этой подборки стало морально и физически очень плохо. Потом я понял: вспомнились не только рекламы, вспомнились и чувства, с которыми я их тогда смотрел. Полная безнадёжность, отвращение и ненависть. Слишком велик был разрыв между экраном и нашей жизнью. Понятно, что юный озлобленный неврастеник не был целевой аудиторией всего перечисленного и моё раздражение никак не влияло на популярность, скорее наоборот, это популярность усиливала раздражение.
Я сделал это длинное отступление, пытаясь объяснить контекст трансляции по телевидению никому не известной украинской комедии. Я начал смотреть её фоном, сразу проникаясь отвращением к очередной астраханоподобной сладкой патоке, но на середине понял, что вижу нечто странное. Фильм формально сохранял все черты ненавистных мне сентиментальных комедий, но при этом удивлял и даже пугал. Не могу сказать, что понравился, но в памяти навсегда отпечаталось, что есть фильм с советским загробным миром.
Через десятилетия я снова нашёл этот фильм и узнал фамилию режиссёра. Двусмысленность восприятия по-прежнему сохранилась, я до сих пор не могу сказать, нравятся ли мне его фильмы. Но точно скажу — они мне интересны.
Ключом к эстетике Томашполького явно являются его студенческие фильмы конца восьмидесятых. Сейчас доступны три из четырёх, самый длинный из них, "Господа, спасём луну!" (1990), пока не оцифрован, поскольку плёнка в очень плохом состоянии. Очень жаль, гоголевские "Записки сумасшедшего" явно подходят к эстетике режиссёра, что прекрасно показано оставшимися тремя фильмами.
На самом деле всеми фильмами, но если полнометражные фильмы девяностых всё-таки можно отнести к жанровому кино, просто с сильными элементами комедии абсурда, то снятое Томашпольским в институте выпадало из всех возможных рамок. Особенно характерен дебют, киноамфибрахий "Медный купорос" (1987), действительно представляющий собой экранизацию авангардного стихотворения в упомянутом размере. Очень смешной и визуально богатый.
Лучшее за тот период — "Необъятное" (1989), синти-поп оперетта по мотивам пьесы "Черепослов, сиречь Френолог", написанной Петром Ершовым и Николаем Чижовым и изданной (видимо, всерьёз переработанной) Жемчужниковым под именем Петра Федотыча Пруткова (отца Кузьмы). Сам факт, что работы прутковского кружка всё-таки экранизировались, уже достоин внимания. В случае с Томашпольским обращение к текстам Пруткова выглядит любопытным дополнением к вопросу о реальном смысле его поздних фильмов. Если взглянуть на "О безумной любви…" и "Будем жить!" как на игру с эстетикой советской/постсоветской мелодрамы в духе прутковской "Фантазии", то многое становится ясным. Даже если эти фильмы не были прямой пародией, сама любовь к абсурдным стилизациям, вынесенная из студенческой среды в позднем СССР, не могла не повлиять на подход к жанровым клише.
Интересно, сколько таких безумных вещей в духе НОМ снималось в конце восьмидесятых в качестве дипломных работ, не выходя за стены родных институтов?
Третий сохранившийся фильм "Молодая гвардия 2" (1991) — совсем короткий и необязательный, трёхминутная шутка об эмиграции в стилистике соц-арта.
В следующем году молодой режиссёр снял свой первый полнометражный фильм — "О безумной любви, снайпере и космонавте" (1992).
Уже на нём сформировался этот жутковатый стиль, который можно описать как смесь Линча периода "Простой истории" с Дмитрием Астраханом. То есть игра с элементами советской эстетики, оставляющая после себя жуткое ощущение. Конкретно в "О безумной любви…" деконструкции подверглись советские новогодние сказки и позднесталинские мелодрамы. Примерно три четверти фильма стилизация выдерживается вполне строго: там есть влюблённые друг в друга оперные певец и певица, ревнивая примадонна, неудачно влюблённый космонавт, а также злобный снайпер в маске и постоянно мешающий ему добрый волшебник. Всё это великолепие блестит мишурой, поёт и веселится. И только иногда от происходящего на экране начинается мороз по коже, благодаря мелочам — еле заметным, но внушающим беспокойство. В некоторые моменты фильм балансирует на грани хоррора, не снимая сусальной улыбки.
Впрочем, к финалу режиссёр не выдержал и раскрыл все карты, пряничный домик обрушивается одним ударом. Только странное дело: от фильма, где представитель сил добра умирает в отчаянии от разрыва сердца, а безумная любовь заканчивается тотальным, космическим одиночеством, впечатление остаётся скорее светлое. Томашпольский не издевается над советской эстетикой, он её препарирует, как лягушку, но при этом, как ни парадоксально это звучит, сохраняет уважение. Возможно, именно поэтому обсуждаемый режиссёр оказался настолько недооценённым, его первые фильмы отчётливо выходили за рамки господствовавших в то время тенденций. Его было трудно поставить в какую-нибудь конкретную категорию, поэтому оказалось проще проигнорировать.
Небольшое замечание: он не был одинок, в 1994-ом его жена, Алёна Демьяненко, снимает "Жестокую фантазию". Судя по описаниям и фотографиям, эти двое явно влияли друг на друга, но на данный момент данный фильм недоступен. Плёнка есть, в 18-ом его показывали в Довженко-Центре как часть программы, посвящённой малоизвестному украинскому кино девяностых. Но пока фильм не оцифрован, он так и остаётся малоизвестным.
В 95-ом появляется кинокомпания с прекрасным названием "Дети Мельеса", которая и сняла столь шокировавший меня фильм "Будем жить!".
Пересмотр этого фильма только закрепил детское впечатление.
Внешне — сладкая, как патока, обволакивающая фальшивка, но при этом очень неуютное и жуткое кино, где среди рассыпающихся декораций из прошлого дует холодный ветер.
В "Будем жить!" действие происходит в загробном мире. Там пустой советский санаторий — с карнавалом, танцами и развлечениями. К примеру, среди развлечений — просмотр фильмов, снятых на похоронах обитателей. У любого нормального человека от такой перспективы поседеют волосы, но для героев фильма это рай, поскольку их жизнь была на порядок хуже. И лучше в случае удачной реанимации и возвращения на землю ничего не помнить, поскольку иначе несчастный оживший просто покончит с собой.
Ещё там есть соседний загробный мир — для африканцев. Между темнокожими и советскими покойниками возникают иногда трения, связанные с тем, что одна покойная мулатка случайно оказалась в советской части загробного мира. Но всё решается полюбовно, ведь это именно советский загробный мир, навеки застывший в эпохе застоя, если не в позднем сталинизме. В нём есть добрый начальник, готовый закрыть глаза на небольшие нарушения режима. Дети, помогающие этому начальнику, — причём никак не объяснено, как именно они умерли. Ветеран, при разрешённой правилами короткой вылазке на землю посещающий памятник своим павшим товарищам. Не очень понятно, почему этих товарищей нет с ним рядом в стране мёртвых, но эта страна в целом необъяснимо пуста и безлюдна.
По-настоящему страшный фильм.
Следующий фильм завершил первый украинский период Томашпольского. Строго говоря, "Всем привет" вышел в 2000-ом (и по сюжету закончился как раз новогодней ночью), но снят был явно в 99-ом и может считаться последним моментом этого замечательного десятилетия. На фоне других работ Томашпольского он выглядит сравнительно мягко, однако эта мягкость, снова, обманчивая.
С первого же эпизода становится ясно, что в пространстве фильма любая навязчивая идея оказывается реальностью. Практически все персонажи ведут себя как невменяемые, но их картина мира адекватна их миру. И два главных героя, оба врачи и скептики, по мере развития сюжета полностью принимают картину чужого бреда. Бред хороший: параллельные миры в каждой квартире и отряд пенсионеров-шпионов, потерявших контакт с центром. Всё это реализовано с песнями, плясками и навязчивой сентиментальностью. То есть с типичными признаками уникального авторского стиля.
Мягкий, добрый, но довольно мрачный, если не обращать внимания на мишуру. Особенно за новогоднюю ночь, в которую оставшийся одиноким последний из персонажей не слышит звучащих над ним голосов из параллельного мира.
По идее, на этом нужно ставить точку. В начале нулевых Томашпольский и Демьяненко уезжают в Россию и успешно вливаются в индустрию по производству сериалов. В большинстве случаев для режиссёров девяностых это оказывалось приговором: сериальный конвейер быстро учит ходить строем. В десятые они возвращаются в Украину и пытаются снова войти в прежнюю воду, сняв на удивление неловкий фильм "F63.9 Хвороба кохання" (2013). Правда, для незнакомых с прежними работами этой пары фильм выглядел полным безумием в хорошем смысле, что хорошо показано в дневнике, который вёл критик Станислав Битюцкий во время Одесского международного кинофестиваля. Но для меня возвращение Томашпольского к авторскому китчу оказалось разочаровывающим. Это по-прежнему он, всё узнаваемо, но годы и российское кино его не пощадили. Труба была пониже и дым пожиже, "О безумной любви…" был сильнее по всем параметрам. С другой стороны, это реально безумный фильм для нашего времени. Пошлый, глупый, немного пластмассовый, но в нём всё ещё есть прежняя странность.
Затем пошли новости. Демьяненко сняла комедию "Моя бабуся Фані Каплан" и мюзикл "Гуцулка Ксеня" с группой "Dakh Daughters". Томашпольский — чёрную комедию "Ржака". Прямо сейчас он собирает призы на фестивалях авторского хоррора с фильмом "Сторонній", причём кадры и фрагменты действительно прекрасны.
Большинство перечисленных фильмов второго украинского периода сейчас недоступны, но реакция критики и зрителей на них скорее указывает на выход из эстетического гетто. Очень похоже, что Томашпольский уже оказался уникальным примером странного (в смысле weird) режиссёра девяностых, чья креативность сохранилась за прошедшие десятилетия и успешно трансформировалась в новых условиях. Это заставляет поставить мысленную галочку перед названиями его комедий и сериалов нулевых: возможно, они интереснее, чем кажутся по описаниям.
Фильмография девяностых завершена, но на фильмографии в целом нужно поставить знак многоточия, этот текст явно придётся в будущем дописывать.
Раймонд Крумгольд
|
Метки: paracinemascope katab.asia кино девяностых |
38 |

С днём рождения меня.
Итоги 37-го года подвожу вместе с коллективными
Как можно заметить, в связи с писательским блоком закончил только семь статей. Зато с короткими фрагментами всё было в порядке, и в плане дневника, и в плане рецензий на выкладываемые в парасинемаскоп фильмы.
Попробую в этом году взять в себя в руки и доделать накопившиеся черновики.
На самом деле год был очень хорошим и важным, осталось накопленное за него сформулировать в текстах.
|
Метки: день рождения |
Медь и золото (21/22.12)/Окрашенные царапины (23.12)/Комфорт (24/31.12) |
(21/22.12)
Собирались лечь спать пораньше, но сразу после двенадцати за окном раздалось громкое мяуканье. Наш кот дома, значит кто-то чужой. Выхожу, осматриваюсь, ко мне подбегает сильно напуганная кошка. Никогда такой тут не видели, явно заблудившаяся.
Мы никак не можем пройти мимо очередной пушистой damsel in distress.
На руки просится, но попав в них пугается и начинает атаковать. На нашего кота шипит и бросается, значит в квартире её держать нельзя, шум будет на весь дом. Ветеринары тоже не берут, кошка здоровая. Накормили, сфотографировали, оставили корзину с одеялом у подьезда. Через фейсбук нашлись возможные хозяева, скинули им наш адрес. Ложились спать совсем уставшие, но понимая что устали не зря. Я как раз накануне выложил хорошую книгу с анализом образа Фреи, значит и помощь посвящённому ей животному выглядит хорошей подготовкой к Ночи Матерей.
Проваливаюсь в сон.
Мы лежим в грязи между корнями деревьев и ждём такси. Недалеко даугавпилский автовокзал, значит это Парк Железнодорожников. В ожидании я начинают есть землю. Меня это слегка смущает, я понимаю что зрелище странное. Но земля довольно вкусна, плюс из неё выкапываются в процессе миниатюрные металические предметы, похожие на римские вотивные фигурки, символические жертвоприношения, которые я люблю рассматривать в нашем (уэртингском) городском музее.
Такси подъехало. Пора платить. Человек рядом передаёт мне большую монету. Она странно выглядит и явно антикварная. Думаю цифру семнадцать, если это евро, то плата за такси слишком большая. На монете рисунок похожий на волка, спрашиваю - она чеченская?
Открываю глаза от тихого шума рядом. Алёна ложится обратно спать, её разбудил звонок в дверь в шесть утра. Но внизу никого не было.
Проваливаюсь обратно в сон.
В результате всей этой кутерьмы проснулись довольно поздно и с целым списком того что нужно сделать до отъезда. Звонок в дверь, как оказалось, был от хозяев потеряшки, они приехали утром и нашли свою кошку у нас в кусте.
Выехали в час. Светового дня осталось часа три, от части планов пришлось отказаться, оставив только поиск "рощи друидов" и праздник у друзей в Лондоне. К парку Norbury в котором находится знаменитая роща из старых тисов можно было свернуть с А24 двумя маршрутами. Когда я увидел деревья с омелой возле одного из поворотов, то понял что это и есть нужный путь.
В деревне Westhumble увидели ещё один шар омелы. По дороге до парка - последний, на тополе. В парке омелы не видно, видимо дело в том что парк больше похож на лес. Огромный, тёмный, неухоженный и залитый непроходимой грязью. Мне здесь очень нравится, нужно будет вернуться летом в хорошую погоду. Тисы тоже найдены, ими заполнена ощутимая часть парка. Дошли до точки откуда открывается лучший вид на окрестности. Решили, что пора возвращаться, и тут Алёна говорит, что подарок задуманный на новый год лучше подарить сегодня и даёт мне маленькую коробочку. Открываю, там большая медная монета. Она выглядит странно, неофициальной. На одной стороне - голова друида в окружении дубовых листьев. На другой - надпись WE PROMISE TO PAY THE BEARER ONE PENNY и цифры 1788. Ясно, восемнадцатый век, расцвет друидизма как первой неоязыческой религии.
По боку монеты идёт сообщение, что её можно обналичить в Лондоне, Ливерпуле и в Англси. Вспоминаю недавний сон с путешествием до этого острова. Затем вспомнил утренний сон. Парк, грязь, антикварная монета, цифра семнадцать - никогда на моей памяти не было столько пересечений между сном и последовавшей явью.
Этот подарок явно очень важен.
Вечером пировали с друзьями. Приятный сюрприз, сидр из Сомерсета замеченный мной в одну из прошлых поездок туда, продаётся и в Лондоне. Там интереснейшая претензия, якобы яблоки собираются в период летнего солнцестояния и разливаются по бутылкам в зимнее. Даже если это всё рекламный трюк, сидр на вкус отличный и с символичностью всё в порядке.
Ночью домой. После двух мы уже были на юге. Час на сон. Затем раскладываю руны на следующий год. Исландский Plastur. Англо-саксонский Os. Норвежский Úr и календарный Övermagi/Unger Man.
Выходим в сад с последней бутылкой сидра. Встречаем момент. Быстро царапаю на тонкой золотой пластинке старшие руны ALUGOD и прячу у себя на шее.
Перед сном проверяю в имеющихся книгах информацию про календарную руну. Похоже ничего плохого. Сравню выводы в следующий декабрь.
(23.12)
Весь день показывали тёще Брайтон. Заходя с ней в огромный блошиный рынок я оглядывался по сторонам ожидая возможные покупки для задуманной на вечер работы руками. Ничего. Взял винил с "Renaissance of the Celtic Harp" Алана Стивела, оригинальный вариант мне нравится больше семплов использованных Тибетом в "Imperium"
Вечером собрал всё что было. Коробочку доставшуюся от прадеда. Флягу "Old Thorns" с отбитым горлышком в которую вставлен сухой чертополох, найденный в прошлое зимнее солнцестояние. Бронзовый ножик с омелой в рукоятке.
Я давно понял, что эти три предмета по случайности совпадают с известной рунической формулой. Настало время нанести её на них. Обычных царапин тут не хватает, они быстро становятся не видны. Нужно царапать метал долго и нудно, сверяясь с формулой Thistil Mistil Kistil на камне из Ледберга. Потом вспоминаю, сколько раз на предметах из метала находили фразу переводящуюся как окраска рун, и ради эксперимента добавляю в царапины краску. На бронзе не получается выцарапать, пришлось использовать пластиковую часть. В остальном - завершено.
Немного думаю, и делаю тоже самое с золотой пластиной. Вчерашние царапины не видны, согласно трактовке урны из Loveden Hill профессором Пэйджем это нормально, процесс нанесения надписи важнее читаемости результата.
Но ничего не мешает повторить надпись и окрасить, сделав в итоге видимой.
(24/31.12)
Зима. Даугавписский базар. Не современный, раздражающе безликий торговый центр, а тот старый, девяностых, по которому я бродил часами прогуливая школу. Сугробы и столы с товарами под открытым небом. Даже сейчас там остался угол с подобным, раньше он таким был целиком.
Торговец уже собирается, я немного припозднился. Быстро просматриваю кассеты, останавливаюсь на альбоме Линды 96-го года. Он мне тогда нравился, но не был куплен. Не знаю, стоит ли брать через столько лет.
Больше в этом сне нет ничего. Ни сюжета, ни странности, ни страха. Только комфортное место, удовольствие от поиска и выбора и лёгкое беспокойство оттого что всё уже заканчивается. Просыпаюсь в утро перед новым годом.
Последнюю неделю, после солнцестояния, мне снятся только такие сны.
Первый был 24-го, в день смерти отца. Блуждание по квартирам типового многоэтажного дома на окраине всё того же условного постсоветского Города. Осматривание старых, пыльных предметов, напоминавших про детство. Потом анонимная женщина в одной из квартир, с которой мы начинаем заниматься столь же анонимным сексом без страха и обязательств. Проснувшись с удивлением понял, что этот сон неинтересно записывать, впервые за три года фиксации снов мне приснилась столь банальная и предсказуемая эротика с реализацией подростковых фантазий.
Вечером фотографировал черновик со стихам и записями отца. Понимая, что и об этом мне нечего писать, так как я до сих пор не могу прочитать его почерк.
На неделе был ещё один сон. Семья уехала на автобусе в центр большого приморского города, похожего на Брайтон. Я же остался на заасфальтированном берегу и медленно пошёл пешком в сторону этого центра, внимательно осматривая деревья на предмет омелы. Все шары оказались искуственными. Всё.
Теперь этот сон, ничем по сути не отличающийся от моих обычных походов по магазинчикам на выходных.
Всё это время я записывал сны, так как они меня удивляли и иногда пугали.
Если в предстоящем году мне будут сниться только такие уютные мелочи, то я наверное перестану их записывать. Не вижу особого смысла фиксировать комфортную повседневность.
|
Метки: сны солнцестояние |
Церковная Горка (08.12)/Reid (16.12)/Бритвы (18.12) |
(08.12)
Просыпаюсь от собственных слов, сказанных с явной иронией:
"Это подарок для психоаналитика, увидеть во сне Брюса Лябрюса."
Лежу в кровати с лёгким ошеломлением. В том, что помню из сна, нет никакого дешёвого фрейдизма. До будильника ещё пара часов, решаю доспать и обдумать всё за завтраком.
В привычке записывать сны есть нечто фальшивое. В момент пробуждения сон воспринимается цельным, все его образы существуют сразу, рядом, в этом самом моменте. Дневное сознание уже пытается структуировать его, найти последовательность действий. Далеко не факт, что единственную возможную. Сон как литературный текст неизбежно включает в себя измерение, отсутствовавшее в сне как переживании. Частично отражает, но не передаёт.
В этот раз я никак не мог структуировать воспоминание. Хорошо помню что и где происходило, но в центре сна словно осталась раздражающая пустота.
Это снова был Даугавпилс, церковная горка, на которой с детства знаком каждый камень. Лето. Светло. Мы на перекрёстке 18.Novembra и Varšavas. Машин нет.
Алёна разговаривает в центре перекрёстка с неким человеком и я знаю что этот разговор невероятно важен. Но именно тут пустота, я не помню дневным сознанием, кто именно этот человек и в чём состоит такая важность.
Сам я наблюдаю за разговором со стороны, явно на подстраховке.
Они переходят до Борисоглебского Собора, я иду за ними через дорогу и останавливаюсь у польской школы. Возле неё маленький садик, не существующий в реальности. Моё внимание привлекают туннели среди цветов, похожие на искуственные норы. Это явно для содержания норных животных, такое я видел на фото из приютов для барсуков. Говорю садовнику, что это бесполезно, в Даугавпилсе никто не будет так содержать диких зверей. Садовник молча усмехается. Поворачиваюсь к собору и тут мне становится смешно от сюжета сна и я говорю шутку, от которой просыпаюсь.
Всё утро думал о сне. Пока шёл на работу (машина опять сломалась, явно пора покупать новую) наткнулся на дерево посреди тротуара. Раньше я думал что оно проломило асфальт, сейчас же увидел, что это старый полумёртвый тис. Ему точно сотни лет, скорее всего куда больше. Напротив церковь, он мог рости здесь до неё и асфальт точно положили вокруг него. (На обратном пути проверил, бывший центр деревни, первая часть церкви построена в XI веке) Эта встреча снова напомнила про церковную горку, смысл диалога явно связан с местом, где он происходил.
На работе детали сложились и я, с явным опозданием, расхохотался. The Second Coming. Глупый авангардный фильм, который я как раз посмотрел во время поездки в Даугавпилс. Там играл Лябрюс, и я дико удивился тому, что человек с столь лихой репутацией выглядит как маленький вежливый интеллигент. Именно так выглядела фигура, с которой там говорила Алёна. Весь этот фильм состоит из бессмысленных, но якобы очень важных диалогов. Мои перемещения были перемещением камеры.
Даже финал был лишь сломом четвертой стены.
Reið
(16.12)
Несколько раз просыпался в поту от очень неприятных снов. Запомнил два. Оба такие, что не хотелось их запоминать.
Во первом мне прислали ссылку на видео с авангардным спектаклем, в котором участвуют мои бывшие друзья. Прислала одна из подруг тех времен, написав что это будет смешно.
Тёмная сцена. Люди, которых я некогда очень любил, но сейчас к большинству отношусь с неприязнью, разыгрывают сцены из нашей прошлой жизни в максимально условной манере. На сцене с конфликтом, которого не было в реальности, одна из девушек срывает с себя всю одежду и убегает со сцены в истерике. С злорадством нажимаю на паузу, и просыпаюсь от раздражения на то, что её нажал.
Засыпаю обратно и оказываюсь в постапокалиптическом Даугавпилсе, где по неясной причине в один момент погибли почти все жители, а оставшиеся в живых сходят с ума и охотятся друг за другом.
Прохожу мимо банд на машинах, проносящихся с дикими воплями. Всё это весело, красочно и напоминает мультфильм.
Захожу в дом на Марияс. Поднимаюсь в квартиру, где меня встречает мать в крайне сварливом настроении. Раздражённый сажусь за стол. Думаю о том, что в соседской квартире на последнем этаже прячутся оставшиеся в живых члены семьи. Нужно поднятся и проверить как они там.
На этом моменте меня, на долю секунды, словно накрывает волной безумия, происходяшего снаружи. Мои мысли темнеют, становятся хищными, полными крови. Люди в соседней квартире вдруг становятся лёгкими жертвами.
Долю секунды я наслаждаюсь этой лёгкостью и кровожадностью. Затем с ужасом прихожу в себя, понимая что стал опасен для всех родных и близких. Сижу, обхватив голову руками, пока не просыпаюсь.
Весь день хожу с противным ощущением, будто наглотался гнилой воды смешанной с кровью. Суперэго, конечно, стоит на страже, выкидывая даже из неправильных снов. Но сами сны напоминают о том, что в моём прошлом, а значит и в подсознании настоящего, вполне присутствует эта архаическая смесь из злобы, эгоизма и комплексов, приводящая к токсичной маскулинности. Жизнь убедила меня в правоте синей таблетки, но внутри меня, как и у всех нас, сохраняется тьма. Всё, что я могу, это помнить о ней и не лгать самому себе.
Всё эти мрачные мысли хорошо резонировали с работой по подготовке нового амулета для купленной накануне машины. Мой старый форд снова встал, и цена детали на замену убедила даже такого упрямца как я в том, что хватит хлестать умирающего коня. Вместе с новой машиной я решил обновить и амулет, что быстро привело к небольшой теоретической проблеме.
Амулеты для меня - нечто вроде якорька, предмет напоминающий о ритуале и изменённом им сознании. Возвращающий при необходимости набор определённых символических ассоциаций.
Последние пять лет ассоциации возвращали меня в начало декабря 14-го года. К первому сознательному ритуалу с практической целью и использованием рунической символики.
Тогда я просто пытался прорвать психологический барьер мешавший сдать на права. Провёл импровизированный ритуал с медитацией на руну Raido как архетип движения, и к моему изумлению это полностью изменило настроение и манеру вождения.
Потом я думал о ритуальном предмете в машину, но подаренное мне колесо Тараниса несколько смутило кровожадностью божества, в честь которого сжигали заживо. В итоге сделал амулет с вышеупомянутой руной из обломка камня, использованного в первом ритуале.
В последующие пять лет я много читал по теме, и всё яснее становилось, что пара из пятой и рун явно связаны с образом громовежца, его колесницы и пламени. То есть на самом деле это были графические варианты всё того же колеса Тараниса, явно повлиявшего на германское представление о Торе. На первый взгляд германский вариант не выглядел столь двусмысленным, достаточно добродушная сила и "друг людей". Но недавно я нашёл в сети латинский оригинал и английский перевод "Gesta Normannorum". В описании кровавого ритуала вызова попутного ветра действительно призывался "thur deum". Сам метод жертвоприношения, удар по голове тупым предметом, явно соответствовал функции "силы". И это проясняет многое: авторы "Life and Death of a Druid Prince" Энн Росс и Дон Роббинс считали что в тройном жертвоприношении человека из Линдоу удар по голове символически заменял сожжение в честь Тараниса. В описании погребения Бальдра Тор выполнял функции жреца, освящая молотом костёр, в который отправил карлика Лита. Плюс убийство викингами архиепископа Эльфхеаха ободом топора и целая серия сожжений вместе с домом в сагах, прямо описываемой как ритуальные в саге об Инглингах и неприемлимые для христиан в саге о Ньяле. С интереснейшей аналогией в виде истории варяжских мучеников Феодора и Иоанна, убитых в своём доме незадолго до дня Перуна.
В новую машину тоже напрашивалась пятая руна, только теперь с пониманием её тёмной стороны.
Вечером вздохнул. Взял бронзовую секиру Перуна, купленную в Риге. У меня раньше была серебрянная, но она очень символически потерялась сразу после решения не начинать драку на одном концерте с пьяным скином. Решение было вменяемым, мне нужно было всю семью назад везти, но явно далёким от воинского архетипа. Новая секира дешевле и адекватнее по материалу.
Выкладываю на ней веточками рябины, никогда не касавшейся земли, первую руну слова Reið. Заливаю суперклеем. Жду пока окаменеет.
Амулет, как психологический якорь, должен напоминать о всех составляющих архетипа. Не только о той, что нравится.

(18.12)
Мы с братом опаздываем.
Я должен посадить его на поезд, недалеко за полем станция.
Но мы идём вдоль странной линии старых зданий, параллельных железной дороге и тут очень интересно.
Заходим в нечто вроде бани смешанной с цирюльней. Средневековые стены, клубы пара, мрачные люди прямо в тазах точат огромные, пугающие но очень эффектные бритвы. Они выкованны из тёмного метала и больше похожи на мечи, но это именно бритвы.
Мы не моемся и не стрижёмся, просто смотрим на них как завороженные.
Они красивы.
Когда наконец-то выходим, я смотрю на часы и понимаю, что уже два. Он должен был уехать утром, но я не проследил, снова потеряв счёт времени.
Понимаю, что ожидающая его мать будет в ярости и что она будет права, так как я реально виноват. Снова ощущаю былую беспомощность, но внезапно говорю брату, что её поведение объяснимо. Она просто боится за нас и предстоящая вспышка злобной агрессии будет вызвана всплеском адреналина в крови.
Такая простая мысль ни разу не приходила мне в голову в детстве, поэтому она стала диссонансом выкинувшим меня из сна.
|
Метки: сны |
Обыск (27.11)/Удел (28/29.11- 01/02.12) [Централ/Зимние птицы/Белоснежная ткань/Секретик] |
(27.11)
Выглядываю в окно спальни. Даугавпилс. Улица Марияс. Лето.
Возле гаражей стоит полицейский автобус, похожий я видел у спецназа Омега. Выглядываю в окно комнаты - вдоль стены соседнего дома крадутся две тени в полном облачении. Становится интересно, они явно не к нам, а к соседям снизу.
Спускаюсь во двор и заглядываю в окно первого этажа. Соседкой, к моему удивлению, оказывается моя тётя из Пскова. Её выводят из комнаты, и проводящие обыск следователи начинают обсуждать между собой дело. Диалог совершенно неправдоподобен и похож сразу на плохие детективные сериалы и пародии на них. Соседка невиновна, но её нужно запугать и закрыть, с целью выманить настоящего преступника, скрывающегося в семье. Меня возмущает такая наглость, но одновременно становится ясно, что это всё не реальность.
Как всегда, с моментом осознания вся иллюзия связности сюжета полностью разваливается. Между первым и вторым этажами открывается железная дверца, откуда, с клубами пара, начали вываливаться продукты. В логике сна это была огромная посудомоечная машина, общая для всего дома. Перед обыском соседи кинули в неё какие-то вещи и вот они прошли полный цикл.
У моих ног с хлюпаньем упала большая картонная коробка, отсыревшая насквозь. Открываю её, смотрю на белую, расплывшуюся массу и громко спрашиваю, не хочет ли кто нибудь варёных бананов?
С разных концов двора ко мне подходят люди, вижу среди них знакомых филипинцев и просыпаюсь.
По дороге на работу думал о том, что моё ночное я буквально живёт в нашем старом доме. Потом с удивлением понял: ни в одном из записанных за три года снов ни разу не появлялась тюрьма. Аресты, обыски, партработа: все детали того десятилетия возвращаются во снах, но самый серьёзный и травматический опыт словно остаётся в слепом пятне.
Удел (28/29.11- 01/02.12)
***
Централ
(28.11)
До поезда час, поэтому вышел из автобуса на пару остановок раньше и пошёл до вокзала пешком через старую Ригу. Билет назад куплен на утро субботы, то есть в эту поездку другой возможности не будет. Похороны и сразу назад.
В "старушке" с удивлением ощущаю полузабытое чувство, ностальгию. Особенно проходя через "квадрат", мимо бывшего музыкального магазина, ставшего рестораном. В стороне виднелась бывшая "стекляха", дешёвое кафе куда нас пускали бесцельно сидеть ночью. Теперь там торгуют бургерами.
Сел в поезд, неожиданно полный. Учитывая дату и время, повернулся к окнам на другой стороне, и начал ждать новой встречи.
Семнадцать лет. Тем, кто родился в тот год, скоро можно будет голосовать.
Странно, но я не в этот раз вспомнил про годовщину ареста. Зато день, когда нам выбрали меру пресечения и отвезли в Централ вспомнился во всех подробностях, во многом благодаря очередному мрачному совпадению. Проверяя маршрут (мир стал маленьким, но всё равно на дорогу с пересадками нужно потратить весь день) я с ужасом понял, что около шести часов поезд проедет прямо мимо пятого корпуса. Тогда меня завели в него примерно в это время.
Саму дату я запомнил, так как это день выхода первого номера газеты Лимонка, праздновавшийся своими как день рождения Партии. В то утро у меня было вполне праздничное настроение. Камеру развезли на следственные действия, я был в ней один, впервые за восемь дней. Предварительный арест был на десять, и это уже четверг, если бы они опоздали с бумагами в пятницу, то пришлось бы выпускать. Разумеется, около двенадцати попросили с вещами на выход, посадили в один воронок с подельниками. Ольгу подняли на суд первой, и вернувшись она с неизменной улыбкой показала пальцами решётку. Потом я описал этот момент в крайне посредственном верлибре.
Два месяца предварительного. Прямиком в Централ. Осталась фотография, сделанная тогда при регистрации, они поместили её на свидетельство о освобождении. Я там худой, заросший за восемь дней и с совершенно пустым взглядом. Даже не напуганным. Обречённым и смирившимся с этой обречённостью.
Нас с Артуром не могли держать вместе в карантине, мы были подельниками по очень серьёзному делу. Поэтому около шести меня вывели. Впервые я прошёл по внутренней части тюрьмы. Было темно и холодно, но снега ещё не было. Я пытался бодриться и шутить с конвоиром, но это шоу было явно неудачным. В пятом корпусе меня кинули на ночь в холодную камеру без удобств, скорее похожую на средневековую келью. Мимо проходил последний поезд в Даугавпилс, он десятилетиями идёт в одно время.
Память слегка подвела, или они используют другие рельсы. Поезд не просто проскочил мимо пятого, он медленно проехал периметр. Центральный вход, первый корпус, пятый - всё крупным планом.
В Даугапилсе брат пожалел, что я не остаюсь на день рождения бабушки, и я понял, что планируя поездку совершил серьёзную ошибку.
***
Зимние птицы
(29.11)
Приходим утром. Молодая девушка продолжает отпевать, ночью они сменялись. После нас пришёл батюшка, это беспоповцы, но особых отличий от образа священника со стороны заметить сложно. Он, вместе с двумя оставшимися чтицами, последовательно зажигает все свечи в храме. Электрического света нет, но люстру с зажжёнными свечами всё таки поднимает вверх мотор. Его шум странно сочетается с продолжающейся читкой священного текста.
Поворачиваюсь к окну. Дерево оккупировал стая воробьёв. После знакомства с "Воробьиной Ораторией" я помню, что они психопомпы. Их появление к завершению ночи казалось важным.
Потом старообрядческий ритуал, интересный со стороны, но чуждый мне. Батюшка был строг до грубости, Алёна потом сказала что ей это понравилось, как единственный правильный способ удерживать закрытую общину в враждебном окружении. Тело тестя было совсем худым, невозможно было в нём узнать того весёлого, общительного и властного человека. Он в целом изменился перед смертью, ушло всё наносное.
Конечно в последние дни он видел святых и богородицу, он был в этой традиции и силы пришли за ним.
Чем дальше я от христианства, тем меньше во мне враждебности к нему.
Гроб уносили под наблюдением изучавшей соседнюю крышу сороки. Закапывали под громкое чириканье стаи синиц.
Зимние птицы, которые не улетели в Ирий. Словно остались на некой границе.
***
Белоснежная ткань
(01.12)
Проснулись очень поздно. Во сне взорвалась Игналина, и улица Марияс стала Припятью. Мы собирали там радиоактивные материалы с поверхности и прятали в подвал.
Когда за нами приехали эвакуаторы я понял, что все предметы, дорогие нам, тоже впитали радиацию и то, что я держу в руках отравляет мой организм. Но не хочу ничего бросать.
Созваниваюсь с бабушкой. Я думал что у неё вечером собираются, как раньше. Но в этот раз все будут в три часа дня, мы не успеваем, нужно сперва заехать на кладбище до заката. Покупаем цветы, берём такси, заезжаем к ней скинуть подарки, орхидею не стоит носить по холоду. И едем к отцам. У Алёниного в горке песка видно углубление, судя по следам лап некое животное весело копало нору или что-то искало. Оставляем рядом смешную кружку, он всегда их любил и коллекционировал.
Алёна прощается с ним, оставляю её одну и бегу к вершине холма. На кладбище ещё не растаял снег, в отличии от города. Оно выглядит белым как его стихи.
Принёс с собой поллитра медового сбитня, это ближе всего к медовухе из доступных в Даугавпилсе напитков. Очертил им круг. Поздравил с днём рождения его матери. На последней живой туе - белое полотенце в пыли и могильной земле.
Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань.
Все эти дни я думаю о одале. Уделе. Родной земле и наследстве, последней из старших рун, . Смерть старшего представителя одной из ветвей моей большой семьи окончательно закрепило осознание того, что эта семья есть. Что я не тот выродок и одиночка, каким себя твёрдо видел в юности. У моей семьи есть три ветви и я ощущаю себя безумно близким к каждой из них. Разбирая вещи покойного, включая экзотику вроде золотых монет, я встретил самодельный зековский нож с костяной рукояткой, при первом взгляде на который я понял что это моё. То, что нельзя купить, только получить в наследство.
Эта белая ткань с землёй, в которую был зарыт отец, тоже ощущается как символ удела.
Праздник у бабушки был на удивление веселым. Она явно счастлива редчайшему случаю, оба внука и обе внучки одновременно в городе. У неё на шкафу всегда стоит старая фотография с нами, ещё совсем детьми. С удовольствием повторили позы, но теперь уже с четырьмя поколениями в одном кадре.
Вечером пошёл густой снег. Мрачная и неприятная Латгалия полностью преображается под ним, так что снова ощущаешь ностальгию.
По дороге домой встретили беременную чёрную собаку, явно на грани родов. Она искала удобное место в снегу и злобно рычала на нас. Уже думали насильно тащить в тепло, но её всё таки нашёл взволнованный хозяин.
***
Секретик
(02.12)
До автобуса в Ригу ещё час. Заказал такси до родной Марияс. Она мне столько раз снилась за последние месяцы, что было необходимо обновить впечатление.
Всё в снегу. Необычно много берёз, я никогда не понимал что рос среди них. Вся роща, спускающаяся к заводу, состоит из них. Значит и отец рос среди них, березы в его стихах были далеко не абстрактными. Это были городские деревья на маленькой улице.
Одно из них растёт прямо возле дома, по моему я его смутно помню. Ему по виду вполне может быть лет сорок. Пара наростов образуют нечто вроде глубоких чаш.
Выхожу к гаражам. Возле третьего дома копают землю, видимо ремонтируют трубы. В день смерти тестя я прочитал в новостях с родины, что при раскопке траншеи нашлись кости двух человек, явно старые. Вчера на празднике это обсуждалось, решили что это могли быть пациенты из больницы, бывшей на месте улицы в войну. Мы всё детство играли над ними.
По статье я решил, что раскопали то место, где я тогда потерял секретик. Вырыл ямку в земле, положил монеты и игрушки, накрыл стеклом и зарыл. Потом пытался найти, но спрятал слишком хорошо.
Но раскопано всё дальше, на пути к заводу. Он всё ещё может быть спрятан. Постоял. Повернулся. Снова подошёл к берёзе и с пятой попытки закинул монету в одну из естественных чаш.
Они высоко, это было непросто.
Спускаясь к городу посмотрел на завод. Два холмика, про которые думал что их срыли при строительстве стоянки для рабочих, стоят ни капли не изменившись. До того как доступ к ним закрыли стройкой, я часто играл на них. Однажды, в центре очередной сложной символической игры я вдруг нашёл кольцо. Наверняка медное, но маленькому ребёнку оно показалось золотым. Я ведь слышал про расстрелы евреев и что в могильниках находят предметы. На момент находки я был так глубоко в иреальном состоянии, что как лунатик поднялся на холмик, подошёл к заполненной водой железной трубке, глубоко воткнутой в землю, и кинул его внутрь.
Когда пришёл в себя, был очень зол на свою глупость. Мы жили в жуткой нищете, и настоящее золотое кольцо могло бы помочь матери. Но у меня тогда легко включалось ритуальное поведение с полноценными ритуалами, за которые потом было стыдно. Сейчас я включаю это состояние самостоятельно.
Всё чаще задумываюсь о том, что никто на самом деле не взрослеет. По крайней мере из тех кого я знал.
На подьезде к Риге понял, что мне некому звонить. Только один близкий человек из некогда огромной суррогатной семьи. Один в Даугавпилсе и одна в Риге.
Договорился о встрече с ней. Пошёл гулять по столице. По сильному снегопаду. Понедельник, все музеи закрыты. Знакомство с балтскими и ливскими идолами нужно будет включить в планы на следующий раз. Зашёл в любимую ювелирку с копиями древних украшений. Взял бронзовую секиру Перуна, вместо потерянной, и серебрянную лунницу Алёне, весной мы нашли на море два металическиъ обломка похожей формы. В одном парке наткнулся на точную копию ливского идола, запертого в музее. Если ливы действительно были бьярмами из саг, то оригинал может быть описанным в них идолом Юмалы. Ничего не мешает поклонятся ему прямо в парке.
Ближе к вечеру встретились с Алиной. Провели отличные часы рассказывая новости о общих знакомых.
Дошли до вокзала, и я показал ей главную покупку этого дня. Проверил по приезду рынок и нашёл там последний оставшийся музыкальный киоск. И там, среди прочих дисков и кассет, нашёлся "Прыг-Скок" от лучшего психоделического проекта в истории русской музыки. Сама кассета чёрная, явно переписанная, не оригинал от "ХОР". Но буклет полный, и его лицевая сторона выцвела на солнце, породив изумительно красивый эффект. Она явно все два десятилетия стояла под стеклом, никому не нужная.
Ещё одним забытым секретиком, осколком тех странных лет.

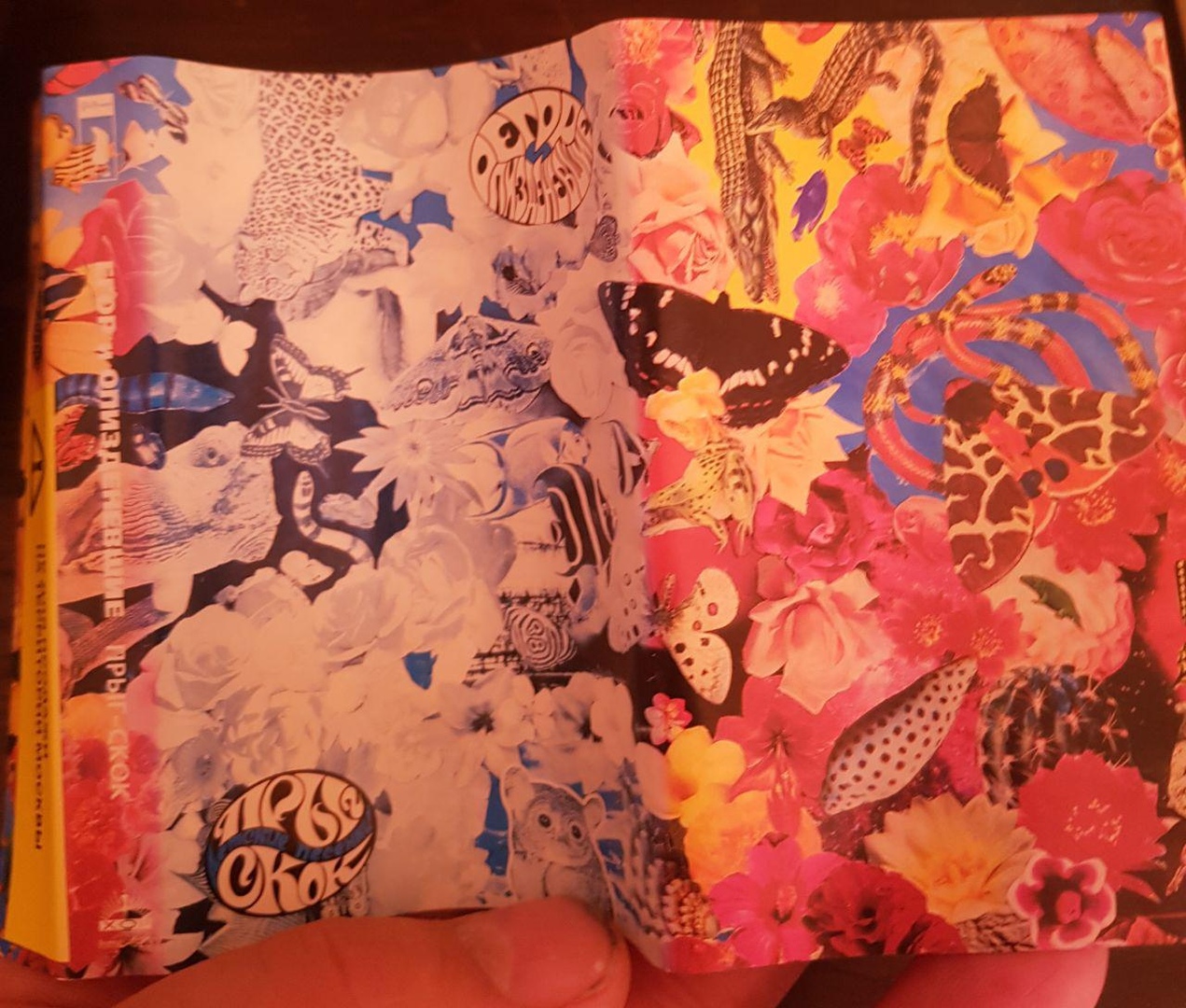
|
Метки: сны Латвия |
Годзилла (18.11)/Медовуха (22.11)/...to flame in the dark (23.11) |
(18.11)
Фильм о Годзилле, глупый но увлекательный. Сам тип монстра хорошо знаком, это не ранние фильмы Хонды, а "эпоха Хэйсэй", популярная у нас в начале девяностых. Один из этих фильмов я тогда даже в кинотеатре посмотрел, под названием "Легенда о Динозавре 2".
По сюжету конкретно этого фильма два безликих разнополых персонажа преследуются монстром. Герой бежит в космос, героиня спасается в экзотических уголках Земли, на каждый из которых обрушивается гнев преследователя.
В решающий момент героиня заперта в деревне под склоном гор и почти настигнута. Но ей на помощь приходит герой, осознавший что его не преследуют в космосе и вернувшийся узнать, в чём дело. Они вместе уезжают на мотоцикле через туннель ведущий сквозь всю горную цепь. Пущенный им вслед световой луч сжигает машины, но останавливаетая автоматическими противопожарными заслонками.
На этом моменте происходит переключение условного "я" из позиции наблюдателя в участника и сон приобретает черты кошмара.
Снова Даугавпилс. Снова родная улица Марияс. Стою на склоне холма и с тревогой смотрю в небо. Ещё ничего не видно, просто серый, промозглый вечер. Но я знаю что оно уже движется со стороны центра города.
Бежать всё равно некуда, возвращаюсь в свою старую квартиру. В ней вечеринка. Десяток незнакомых мне пьяных людей бродят из комнаты в комнату. Я не пью, слишком сильная тревога. Смотрю в окно, из которого виден только соседний дом. Внезапно понимаю, что слишком рано, ещё не должно быть так темно. Это тень. Оно уже пришло и стоит, нависая над домом.
Ко мне подходит пьяный парень и говорит, что ничего страшного. Есть заклинание, которое звучит как детская считалка. Если его произнести, то оно исчезнет. Я не верю ему, всё слишком просто. Но произношу нужные слова. За окном светлеет.
В следующий момент меня выкидывает из сна будильник, причём я открываю глаза с пониманием, что именно этого звука и ждал.
(22.11)
Старый трёхэтажный дом, стоящий на возвышенности, к которому нужно подниматься по не менее старой лестнице.
Мы идём туда компанией за медовым самогоном.
Я заранее представляю себе густую, золотистую жидкость.
Один из нашей компании говорит, что ему не интересен алкоголь и он идёт туда за текстом детской книги, одной из повестей Булычова. Причём по логике сна речь шла не о физической книге, а именно о тексте.
Мы спорим о том, что важнее, текст или медовуха, но по дружески, без злости. На полуслове меня вырывает из сна разговор рядом. Алёне позвонили посреди ночи сообщить что её отец всё-таки умер.
Он продержался в хосписе больше месяца, я уже думал что выберется.
Проваливаюсь обратно в сон. В нём у меня происходит тяжёлый разговор с сильно нервничающей бабушкой, по поводу наследства. Там её беспокоит, реально ли я согласен на решение, уже принятое нами в реальности. Успокаиваю её. Выхожу в другую комнату, больше похожую на большой тёмный зал или ресторан. В ней пьёт давно покойный дед, причём его обслуживает слуга во фраке, подающий напитки. Последнее поражает даже там, дед был простым и гордым рабочим, не нуждавшемся в лакеях. Приглядываюсь и понимаю, это какая то игра. Слугу изображает один из его старых друзей. Они переглядываются. Подмигивают друг другу и я снова просыпаюсь.
С утра разрабатывали логистику предстоящих похорон. Решили поставить их на 29-ое, оптимальное для всех число.
Заехал на работу, подписать заявление на срочный отпуск. Выходя из неё я пошёл через неустроенную, заросшую часть стоянки и начал записывать в смартофон сон. Вдруг резко остановился, едва не наступив на мёртвую лису. Уже давно мёртвую, она полусгнила и мумифицировалась. Значит я мимо неё десятки раз пробегал торопясь на работу и не смотря под ноги, потом проходил назад вечером в темноте.
Мне трудно считать совпадением такую находку в такой день.
Вечером собрался и вернулся к работе. Тело настолько не замечают, что над ним поставили машину, ещё пара сантиметров и пришлось бы выдирать из под колеса.
Рядом парк. По большей части обустроенный, но есть замечательная своей дикостью полоса из деревьев и кустов между стеной и теннисным кортом. Один раз там даже поселился на пару дней неведомым образом залетевший в городскую черту фазан. Лиса явно чувствовала себя там в безопасности.
Нахожу подходящее дерево. Разросшийся падуб. Под ним, у стены, нора. Оставляю там. Делаю глоток обжигающе крепкой тридцатипятиградусной литовской медовухи.
Дома предлагаю выпить за покойного тестя. Выливаю в стакан остатки медовухи. Задумываюсь и добавляю в неё мёд. Смешиваю, пока не получается густая, золотистая жидкость, которую видел во сне.
...to flame in the dark
(23.11)
Сны снова расфокусируются, тонут в мутном тумане. Утром вспоминаешь только обрывочные фрагменты не обрабатываемые дневным сознанием.
В этот раз помню только то, что ухаживал, сильно смущаясь, за двумя аутичными девушками в неком салоне, похожем на парихмакерскую, убеждая их отдать мне бесплатно палочки для термоклеевого пистолета.
Девушки твёрдо отказывают. На стене телевизор, на экране Трамп танцует под японскую поп музыку.
Проснулся на полчаса раньше, именно с целью заехать в центр города и купить вышеупомянутые палочки. Неудачно, как и было во сне.
После работы заскочил в другой магазин и взял строительный клей.
Мой первый физический арт-объект явно нуждался в серьёзной доработке, особенно после поездки в Уэстон-сьюпер-Мэр. Пластинка отваливалась, плюс появились новые детали для коллажа. Годовщина кремации Бэланса идеально подходит для продолжения работы над инсталяцией.
Собираю омелу в котелок, его ведь сожгли с ней в руках. Зажигаю в дальней части сада, часто используемой для шашлыков, небольшое пламя. Совершаю ошибку, омела внизу и огонь её только слегка опаляет. Пытаюсь перемешать обломком пиратского диска с "Musick to Play in the Dark".
Тишина для пылания в темноте.
Прикрепляю к жести маленький камень из фундамента "Северной Башни/Дубового Берега". Потом две половинки вышеупомянутого диска. Лунная музыка как две фазы луны.
Обгоревшую омелу прячу под винил и пытаюсь закрепить на максимальной площади. Всё ещё получается криво и мне не раз придётся возвращаться к этому предмету. Но я успешно учусь, пусть и методом проб и ошибок.
|
Метки: coil сны |
Гудёж с Парфри (Интервью из четвёртого катабазина) |

Интервью-попойка, взятое Питом Силаевым у Адама Парфри.
Мы его долго ждали, но это стоило того, текст обязателен к прочтению.
От интервьюера. Интервью записано летом 2010 года во время визита Адама Парфри на Московский международный книжный фестиваль. Все участники пили армянский коньяк и пьяны. Участники: Адам Парфри, издатель; Пётр Силаев — менеджер фестиваля; Григорий Ениосов — барабанщик группы Cavestompers. Ему пришло в голову, что было бы круто записать интервью на бобинный магнитофон из 60-х — возможно, это было ошибкой, но выглядело стильно. Потом на протяжении месяцев Григорий расшифровывал белый шум, ко мне стенография пришла уже в этом виде. В тот момент мне было совершенно не до неё, потому что я находился в федеральном розыске, поэтому интервью чуть не кануло. А в позапрошлом году Григорий покончил с собой и теперь бобины не найти. Полностью эта стенограмма публикуется впервые.
|
Метки: апокалипсис Адам Парфри katab.asia |
...agitates the atmosphere (13.11)/DISABLED LANDSCAPES: Эссе о музыкальной психогеографии |
(13.11)
У дерева посредине автостоянки лежит полуобъеденный фазан. Все устало проходят мимо не обращая внимания, стоянка посредине трассы М4 и люди остановились передохнуть в пути к Уэлсу.
Я тоже прошёл. Остановился. Вернулся. На секунду даже задумался, не взять ли с собой, но решил что это явно слишком. Джон, конечно, любил птиц и видел в себе одного из них, но вряд ли в это понятие для него входили фазаны.
Нашёл в машине перчатку, перенёс к кустам. Воронам так будет проще.
Впереди была ещё пара часов пути.
У меня эта поездка срывалась два года. Могла бы сорваться и в третий, но это пятнадцатая годовщина со дня смерти. Друзья готовили трибьют, с разными версиями "Fire of the Mind". Я сам сдал туда для озвучки свою дневниковую запись за семнадцатый год. Потом сел, вздохнул и начал писать эссе на тему.
У меня уже третий месяц был серьёзный писательский блок, совершенно не получалось сформулировать что-то сложнее дневниковой заметки. Плюс сама идея писать про эту группу пугала. Я действительно люблю эту группу, а значит могу легко сорваться в столь раздражающие меня у других щенячьи восторги на тему того что "онангел/цойл жив". Возможно это парадоксально, но я не люблю писать большие тексты о том что люблю, предпочитаю выбирать для этого то, что интересно. В интересе для меня всегда присутствует критичность и недоверие к сложившемуся мифу или самопрезентации. Любовные письма обычно скучны даже для их повзрослевших авторов.
Мне пришлось насильно отключить все подросковые импринты, связанные с их музыкой, для чего я просто перекормил себя ей, слушая по кругу каждую доступную композицию, включая раздражающие. Плюс внимательно прочитал стихи самого Бэланса. Человек так не любил себя, что спился до смерти от отвращения. Элементарное уважение требует не игнорировать эту сторону натуры, действительно неприятной и для него и для окружающих. Не маскируя его под возвышенно поэтическое "погружение в безумие".
Заодно выяснилось, что я все эти годы не понимал контекста любимой песни. Фраза "fire of the mind agitates the atmosphere" - это название картины Луиса Уэйна. Одной из поздних, пугающих, с демонами шизофрении под масками котиков. Можно было сразу понять, что пламенем разума может быть только безумие. Будоражущее атмосферу вокруг перед приступом.
Просто мы всегда выбираем самый романтический вариант.
В любом случае я смог написать этот текст только вспомнив пейзажи вокруг места его смерти. Места, куда я возвращаюсь.
Городок совсем маленький. Я уже знаю, где ставить машину и куда идти. Захожу к самому дому на разведку. Никакой охраны, даже заглядываю в внутренний двор в поисках хоть кого-то. Двор совершенно идентичен домашнему видео от "Black Sun Productions". Персонал весь внутри и явно занят, не хочу им никак мешать.
Пытаюсь найти путь наверх, к лесу. Всё застроено. Дом рядом называется "Temple Hill", и от символа на гараже захотелось кричать. Солнце с руками. Атон. Я не видел его шестнадцать лет, с того момента когда сам не нарисовал его во время одного из тестов в психиатрической больнице.
Мне, как юному традиционалисту, на тот момент нравился монотеизм вообще и солярный монотеиз "первого пророка" Эхнатона в частности. Нас с подельником проверяли на вменяемость, и я настолько расслабился и поверил в свои знания учебника по судебной психиатрии, что решил пошутить. На четвёртом уточняющем вопросе понял что рано расслабился, так как явно проговорился о той части своей натуры, которую старался задвинуть и не показывать. Потом я про эту историю верлибр написал, опубликованный в Лимонке. И вот я снова встречаю этот привет из собственной "солярной" фазы.
Решаю спуститься в город. Обычно на новом месте я сразу ищу музей. Нашёл перед самым закрытием, но галерея маленькая и меня туда пустили. Как всегда лучшая часть - кельтская. Есть даже золото, для карликового музея неплохо. Но украшение экспозиции, скелеты с вершины холма Ворлебури (Worlebury). Местный форт был полностью вырезан, не взирая на пол и возраст, в 45-ом году нашей эры. По времени совпадает с продвижением римлян на север, да и сам modus operandi явно соответствует Империи. Ритуал, проведённый на развалинах форта Бэлансом и Кристоферсоном сразу меняет значение. Они наверняка знали что приветствуют жертв геноцида.
Иду назад. Начинается дождь. Замечаю тропу, ведущую к лесу, при первой попытке до неё не дошёл. Заглядываю, понимаю что он огромный.
Возвращаюсь к зданию. Мелкий дождь превратился в проливной ливень. Жду в машине, но он не проходит. Зажигаю пламя в светильнике, но сочетание ливня и ветра сразу всё тушит. Получается спасти только тление. Поднимаюсь к дому с крепким алкоголем. Выливаю его на землю и камни. Прикасаюсь к стене. Внутри меня звучит музыка, но снаружи всё тихо.
Поскольку рынок переполнен бутлегами, я уже трижды попался на покупке нелицензионных версий. Решил все оставить для этого дня. Вырываю из одного буклета фото Бэланса и накрываю тлеющее дерево. Пытаюсь разжечь. Тление переходит на бумагу, но открытое пламя невозможно в этой атмосфере. Прячу обугленное фото среди камней стены. Накрываю куском жести из Дандженесса и камнем, как секретики в детстве.
За его жизнь боролись почти четыре часа. С пяти тридцати до девяти двадцати. Хочется спрятаться от погоды, но времени не так много. Решаю проехать к подходу в лес с другой стороны и найти остатки того форта. Спички полностью отсырели, пламя не зажечь, поэтому просто набиваю полные карманы омелы.
Впервые я иду в лес с зонтиком, это единственный шанс пусть и промокнуть, но не до нитки.
Лес явно интересный, но в такую темноты и дождь трудно его рассмотреть. Карта в смартофоне, конечно, игнорирует овраги. Путь, который она показывает, ведёт вверх по почти отвесному склону заросшему колючим кустарником. Решаю просто побродить вокруг и минут через пять нахожу ступени, ведущие вверх. У нас на юге много кельтских укреплений, поэтому я быстро узнаю остатки стен. Захожу в центр форта, там они и погибли. Высыпаю омелу кругом. Выливаю мёд на четыре стороны. Долго стою в тишине под ледяным дождём.
Возвращаюсь в город и прячусь в пабе. Мне ехать назад, поэтому заказываю самую маленькую порцию сидра и медленно тяну её. Паб единственный на этот район, уверен что настоящий алкоголик не мог его пропустить.
После восьми ливень закончился. Дошёл до магазинчика, купил новые спички. Вернулся к машине, собрал в котелок омелу. Его сожгли в крематории в строгом соответствии с символикой, с шаром омелы в руках. Добавляю все три неофициальных издания. Почти девять. Спускаюсь к морю. Полицейский патруль медленно проезжает мимо.
Луны не видно за тучами, но вчера было полнолуние. Вода поднялась почти до ступеней.
Над водой парит что-то горящее. Это может быть парящий на шаре из горящего воздуха фонарик, может быть дрон. Не успеваю рассмотреть, он уходит вверх.
Сам захожу на скалы и зажигаю огонь в котелке. Он не должен быть виден снаружи, я учитываю наличие патруля. Перед водой горят фотографии, звёзды хаоса и омела. Слушаю с смартофона "Lake View". Пять минут с момента годовщины его смерти над тёмной водой тихо звучит повторение фразы "It seems a long way down/If you’re going to fall".
Когда поднимаюсь назад, весь пропахший дымом, через тучи начинает пробиваться луна.

На всякий случай копирую весь текст эссе сюда
'
DISABLED LANDSCAPES: Эссе о музыкальной психогеографии Coil
Карта не предупреждает о том, что ощутимая часть Уэстон-сьюпер-Мэр находится на склоне большого холма. Сразу после центра городка сворачиваю на нужную узкую улочку, и она резко идёт вверх, почти вертикально. Северная Башня, дом-студия Coil, оказалась на самой вершине, недалеко от церкви. Которую — в своё время — явно поставили на самую заметную точку в округе.
Сейчас в этом помещении дом престарелых. Название тоже сменилось, теперь это снова "Oak Bank". Сразу за воротами — тропа, ведущая дальше вверх: здание стоит достаточно высоко. Из его окон наверняка можно увидеть море. Скорее всего, и лес.
Есть домашнее видео, снятое в Северной Башне итальянцами из Black Sun Productions, они потом использовали его для клипа на "A List Of Wishes" . В какой-то момент камера даёт широкую панораму леса на склоне холма, ведущего к деревне Кьюсток, и моря, точнее, Бристольского залива. В принципе, они могли пройтись за город для этого кадра, но остальное видео снято внутри двора и сада. В той части леса находится кельтский форт, на месте которого Бэланс и Кристоферсон провели ритуал приветствия местных духов вскоре после переезда на север.

На самом деле мне совсем не хочется следовать навязшим в зубах буколическим стереотипам формата "уставший художник из столицы уезжает в провинцию и находит источник нового вдохновения в идиллическом блеянии ягнят". Понятно, что "лунная" фаза в истории Coil радикально отличается от "солнечной", но из этого факта совсем не следует, что именно переезд из Лондона привёл к началу концертной деятельности с обязательным посвящением исполняемой вживую музыки Луне. Вынесенное в заголовок этого эссе стихотворение Бэланса про "инвалидные пейзажи" с явным уклоном в темы грядущей "фазы" было написано на пике работы над "Love’s Secret Domain" и опубликовано в буклете к строго лимитированному (всего 55 экземпляров) изданию сборника "Gold Is the Metal (With the Broadest Shoulders)".
Более того, первый полноценный "лунный" альбом, "Astral Disaster" был записан ещё в Лондоне. Не переезд привёл к смене концепции, наоборот, исчерпанность прежнего подхода к творчеству привела к необходимости уехать. Хотя мне совсем не хочется пинать собственную священную корову, но давайте будем честны: если бы в 94-ом в Ислингтоне Бэланс ухитрился запихнуть в себя ещё больше сноуболла и не выбрался из передозировки после "трёх суток чириканья", то любой объективный некролог говорил бы о группе одного великого альбома. Плюс яркой и эпатажной пробы пера со "Scatology" и совершенно развалившегося под грузом возбуждённых стимуляторами амбиций "Love’s Secret Domain".
Это очень показательно, когда присланное издателям кассетное демо, то есть буквально аудиописьмо с просьбой дать ещё немного денег, звучит на порядок сильнее, яснее и вменяемее окончательного варианта.

Но сборник в целом выигрывает за счёт своей лёгкости — на фоне тяжеловесной перепродюссированности "Love’s Secret Domain". Стимуляторы явно не затронули креативность, но прибили чувство меры и способность фильтровать идеи. Идей было слишком много. В том числе и таких вспышек хорошего вкуса, как клип на заглавную композицию. Coil явно повезло, что протестанты не добрались до этого видео в ходе охоты на Пи-Орриджа. Джон в роли крунера в блестящем костюме; танцует на фоне полуголых тайских мальчиков, воет, что его сердце стало розой, — идеальная картинка для первых страниц жёлтой прессы.
Всю историю бесконечной работы над разными вариантами "Backwards" и пересказывать не стоит. Проект явно зашёл в тупик. И характеристики этого тупика идеально укладываются в стереотипное "аполлоническое": перфекционизм, самовлюблённость и так далее. Джеффри Лоуренс Бёртон, как заметно по псевдониму, всегда стремился к балансу, стихотворение с таким названием он написал в 14 лет и потом так назвал одну из своих первых композиций. В его жизни никогда не было ничего похожего на сбалансированность, но тут последние остатки этого качества исчезали и из творчества.

Смена оккультной концепции выглядела очень логичным шагом. Этот шаг выиграл несколько лет. Говоря о Солнце, Бэланс почти обязательно добавлял определение "Чёрное". Его Луна тоже явно была далека от травоядной викканской романтики — не тот тип личности.
Об этом уже говорит то, что самое характерное место в Уэстон-сьюпер-Мэр далеко от идиллического леса. Оно в другой стороне, совсем рядом. Достаточно просто спуститься с холма по одной из застроенных домами сторон, и вскоре перед глазами предстаёт совершенно невероятная картина. Разрушенный пирс. Берег из огромных, покрытых грязью и тиной камней. Море, надвигающееся в приливе. Здесь природа обнажена.
Это место сразу напоминает про Данджнесс, последний дом Джармена. Очень похожее сочетание воздуха, камней и моря. Красивое и жуткое. Ещё оно похоже по настроению на самый яркий визуальный образ Coil солярного периода, фотосессию к "Scatology", снятую у канализационной насосной станции в Хаммерсмите.
Но главная ассоциация — история, которую Бэланс часто пересказывал на концертах перед исполнением "Broccoli". Про отчима, взявшего его в Германии к дамбе, поднявшего над бездной и затем побившего за слёзы. Про неудачную инициацию в мир "нормальных" мужчин.

В начале жизни в Уэстон-сьюпер-Мэр группа использовала эти камни для съёмки телепередачи "Hello Culture", изображая на них исполнение "Higher Beings Command" Сейчас есть отличный клип, снятый там с использованием архивных кадров, он хорошо показывает всю красоту и неуютность этого места. Важнее то, что на пике алкоголизма Бэланса вело именно туда. Не в лес к цветочкам, а на липкие от тины камни. С которых он мог упасть и разбиться в любой момент.
Алкоголь, в отличие от стимуляторов, выглядит довольно "лунным" наркотиком. Растворяющим. Топящим.
Переход к концертной деятельности после десятилетия чисто студийной работы тоже был важной частью "лунного цикла". Бэланс получил возможность выпустить на публику свою шаманскую часть натуры — без контролирующей рациональности своего партнёра. Это породило десятки прекрасных живых записей, но ещё сильнее толкнуло его в бездну за другой стороной весов. Регулярное безумие по расписанию. Утомительные поездки с алкоголем в каждой комнате отелей.

Можно точно сказать, на каком моменте он перешагнул черту. Греция. Пятого октября 2002-го. Финал затянутого тура. На концерте в Салониках он начал читать под музыку текст, который больше ни разу не прозвучал. Вполне вероятно, что это была чистая импровизация.
Текст начался с описания человека, не включающего свет в своей тёмной комнате, и затем превратился в гипнотическое повторение фразы "It seems a long way down/If you’re going to fall". Это выглядит долгим путём вниз, если ты будешь падать. В финале Бэланс сказал, что это была новая версия "The Universe Is A Haunted House", но во всех списках композиция названа "Lake View". Вид на озеро.
После концерта Бэланс исчезает. Его ждут до конца, но потеря оборудования и билетов для всей группы стоила бы состояния — и Кристоферсон принимает рациональное решение. Если бы он принял чуть менее рациональное решение и остался сам в отеле, то эта история могла бы закончиться чуток иначе.
Очнувшийся Бэланс обнаружил себя брошенным в чужой стране. Трудно сказать, как именно он добирался до дома, но на пороге Северной Башни он появился в ярости. Эта ярость хорошо слышна на их следующем концерте, "Megalithomania!". Сорокаминутная версия всё той же "The Universe Is A Haunted House" оказалась не столь монолитной, как задумывалось, так как текстовая импровизация на тему космического ужаса внезапно включала в себя мат в адрес остальной группы и публики. Вскоре после концерта вышел официальный пресс-релиз. Бэланс и Кристоферсон остаются партнёрами по Coil, но больше не считают себя парой. Три следующих концерта были инструментальными, Бэланс категорически отказался выходить на сцену.
Невероятно, но даже после этого кризиса группа продержалась два необъяснимо продуктивных года. Похоже, чем сильнее Бэланса уносило в водоворот алкоголизма, тем лучше были его тексты, записанные в моментах просветления. Ясно, что без команды профессионалов, ухаживающих за ним и структурирующих поток его поэзии, эти два года выглядели бы куда мрачнее.
Были даже концерты. Действительно хорошие. От последнего, в Дублине, хочется просто плакать: полностью новый материал, ни разу после этого не прозвучавший и действительно сильный. На "Unhappy Rabbits" появляется иллюзия, что он действительно сумел переломить культ юности в своей голове.
Но в самом тексте этот процесс преломления программы связан со смертью.
Оставшиеся недели, в строгом соответствии с той жуткой импровизацией, прошли в тёмной комнате в обнимку с бутылкой водки. Иногда он выходил. Записал вокал для двух композиций своих друзей.
В последний день даже поел немного супа и принял душ — сам факт, что Кристоферсон специально отмечает это, многое говорит о творившемся аде.
В пять тридцать по Гринвичу произошло падение. Северная Башня действительно высока. Через семь минут прибыла скорая. В девять часов двадцать минут в местной больнице была официально зарегистрирована смерть.
Это был долгий путь вниз.

P.S. Вид на озеро.
Его пепел развеяли на весеннее равноденствие в невероятно красивом месте. Я был там уже дважды и ещё вернусь, несмотря на как минимум шесть часов за рулём. Это Камбрия, Озёрный край. Большое и тихое озеро среди гор. Боярышник на берегу.
Не трудно понять, почему он приехал в эти края: Бэланс известен интересом к кромлехам и мегалитам, а возле соседнего городка Кесвик стоит Каслриг — самый старый на острове каменный круг. Старый и очень красивый. Ещё понятнее, почему ему так понравился этот берег.
Там тоже есть это сочетание воды в озере и камней в виде окружающих гор. Но всё совсем другое, не похожее на описанные выше инвалидные пейзажи, наоборот, этот пейзаж полностью цельный и сбалансированный. Словно физическое воплощение того, к чему Бэланс безнадёжно стремился.
Мне всё-таки иногда кажется, что часть пепла стоило оставить морю возле разрушенного пирса. Или даже отвезти в Германию, к той злополучной дамбе.
Но развеявший прах Ян Джонстон явно лучше знал, что нужно было его любимому.
Стать частью вида на озеро.
Раймонд Крумгольд
|
Метки: coil katab.asia heliophagia |
Белые кости (19.10)/N'as'eo (23.10)/Ежонок (02/03.11)/Blotmonath (07.11)/ Пятёрка (09.11) |
|
Метки: coil сны солнцестояние |
Выношу в норми-нет из RunicaABC пост про Джона Кембля |

Не почитатель, сторонник или продолжатель дела, именно прямой ученик.
Даже если бы он просто пересказывал на английском выводы учителя, его тексты стоили бы внимания. Но его специализацией был англо-саксонский язык. Кембль блестяще переводил с него поэтические тексты и внимательность переводчика оказалась в рунологии весьма полезной.
Именно он заметил серию рун в нескольких анонимных поэмах, оказавшихся именем Кюневульф.
Он же первым прочитал сохранившиеся фрагменты текста с Креста из Рутвела, которые до него безуспешно пытались расшифровать скандинавские учёные с крайне комичными результатами. Мало того, именно он, при переводе поэм из Верчелльского Кодекса нашёл идентичные фрагменты в поэме "Видение Креста".
Уже этой серии достижений хватает.
Выкладываю его основную статью, которую мне повезло найти на бумаге в формате брошюры (переиздание конца семидесятых) и две дополнительные статьи по теме. За пдф основной статьи спасибо соратникам из Library of Dos
Главное - добавляю отличную книгу с переводом и анализом разных вариантов поэмы "Соломон и Сатурн", в которой он тоже видел реликт рунической магии. Именно он предположил, что "Меркурий Гигант" создавший, согласно одному из ответов, алфавит- это Воден. Фрагмент с магической силой букв (и рун в рукописи) слова Pater Noster как части заклинания против демонов подозрительно напоминает про популярное в магии, в том числе и поздней рунической в Скандинавии, заклинание Sator Arepo. И есть основания предположить, что в отдельных моментах автор поэмы и переписчик учитывали значение рун, ac описан как нечто сильное, что логично для дуба, а rad преследует противника.
И без рун эта книга заслуживает прочтения. Просто ради поэтической картины мира с персонифицированным Вюрдом (явно норна), смерть в образе птицы и солнцем, краснеющим на закате так как оно спускается в ад.
John Mitchell Kemble
(Статьи)
Anglo-Saxon Runes
Additional Observations on the Runic Obelisk at Ruthwell ; the Poem of the Dream of the Holy Rood ; and a Runic Copper Dish Found at Chertsey.
Further Notes on the Runic Cross at Lancaster.
(Книги)
The dialogue of Salomon and Saturnus : with an historical introduction [Перевод, вступительная статья и комментарии]
Оригинал поста
Без телеги пдф можно взять в вконтакте
|
Метки: runicaabc |
Кинематограф конца света в одной отдельно взятой стране |
Именно после неё я решил вернуться к кино и запустил paracinemascope (Без телеги можно посмотреть по этой ссылке)
Кинематограф конца света в одной отдельно взятой стране
Эти фильмы почти никому не нужны. Редкие переиздания на двд выглядят курьёзом на фоне полок с советским кино и сериалами нулевых/десятых. Ещё очевиднее это на торрент-трекерах. Бесконечные списки раздач хороших копий советской классики и современного, глянцевого кино, среди которых сорняками выделяются все эти рипы с рассыпавшихся вхс-кассет. С ужасным звуком, откровенной малобюджетностью, малоосмысленными названиями, крайним оптимизмом в случае комедий и крайним пессимизмом всего остального. И, разумеется, с почти обязательным обнажённым женским телом по поводу и без повода.
Чернуха. Эротическая мутация постсоветского кинематографа. Массовое помешательство, которое теперь пытаются забыть.
Мне невероятно нравятся эти фильмы.
Кино всегда было странным видом искусства. Изначально оно даже не было искусством вообще. Балаганное зрелище, чистое развлечение для безграмотных масс. Первые кинопримитивы создавали дельцы и изобретатели, искавшие простые и эффективные способы привлечь скучающую толпу. Сейчас, глядя на сохранившиеся образцы того буйного периода, мы понимаем, что Мельес и Сегундо де Шомон были именно что гениальными художниками-примитивистами. Только они сами не видели в себе художников. Фокусники, изобретатели, бизнесмены и шоумены. Ранее кино было видом искусства, создаваемого актёрами-неудачниками вроде Гриффита, мошенниками, энтузиастами и мечтателями с кучей никому не нужных патентов. Они пытались угадать вкусы публики, не понимая того, что уже сами меняют публику.
Просто кино ирреально само по себе. Оно только выглядит отражением реальности. Любая техническая ошибка превращает историческую драму в комедию абсурда. Даже без ошибок кино выглядит сном, сюрреалисты восхищались совершенно коммерческими сериалами Луи Фейада "Фантомас" и "Вампиры", поскольку эти фильмы были естественным, самозародившимся внутри массового искусства сюрреализмом.
Но у кино есть и другая сторона. Это коллективное и дорогостоящее производство. Даже у самого авторского кино много авторов, часть из которых рискует своими деньгами, поэтому не хочет рисковать. Чем сильнее развивалась техника, чем острее становилась конкуренция – тем стандартнее получался конечный продукт. Это два изначальных полюса кинематографа как вида искусства. Хаос и конвейер. Это вовсе не дихотомия между коммерческим и авторским кинематографом. В малобюджетном эротическом боевике могут быть десятки дыр в конструкции, через которые проползает этот хаос, в то время как высокоинтеллектуальная драма, снятая ради победы на фестивале, обычно состоит из стандартизированных блоков по единому госстандарту, через которые не протечёт ничего живого. Нельзя сказать и того, что это враждебные тенденции. Речь идёт, скорее, о сложном диалектическом взаимодействии тенденций, протекающем через всю историю кинематографа. Технический прогресс помогает как стандартизации, так и разнообразию, к примеру, появление звукового кино явно закрепило стереотипы голливудского кино ничуть не меньше, чем пресловутый кодекс Хейса. Другой пример – видеомагнитофоны, распространение которых, с одной стороны, дало возможность распространения целой волны независимых хорроров, породив феномен video nasty, но одновременно похоронило художественную порнографию семидесятых.
Речь здесь не идёт о неком противостоянии двух ярко выраженных лагерей. Скорее, о беспрерывном процессе взаимного влияния с переходом из одного лагеря в другой. Причём путь из мира высоких бюджетов и критического признания в независимую халтуру далеко не редкость.
Мировой кинематограф десятилетиями развивался именно в этом варианте.
С одной стороны – высокобюджетное кино, создаваемое блестящими профессионалами и иногда настоящими художниками, но плотно связанное кодексами поведения и произволом продюсеров. По крайней мере теоретически, на практике всё было куда сложнее. Примеры Хичкока и Майкла Пауэлла наглядно показывают, что трудно помешать художнику передать то, что он на самом деле хочет сказать.
С другой – целая россыпь карликовых студий, боровшихся за выживание руками и ногами, без высоких бюджетов, но и без комплексов. Именно там сохранялся вышеописанный дух раннего кино, Хершел Гордон Льюис был бы прекрасным конкурентом для Мельеса. Иногда эта энергия прорывалась в мейнстрим, костяк "нового Голливуда" семидесятых набирался опыта на дешёвых фильмах, снятых или спродюсированных Роджером Корманом, параллельно с участием в контркультуре шестидесятых.
В итоге в западном кинематографе сложилась и работала несколько десятилетий весьма стабильная система, где массовое и популярное кино уравновешивала система грайндхаусов и артхаусов, куда для ценителей всего странного отправлялся весь неформат, включая европейское и азиатское жанровое и/или авторское кино. Парадоксальным образом идеи перетекали через все три сегмента кинопроцесса, превращая его в сеть взаимных влияний. Повышая, в итоге, общее качество кинематографа.
Желающим подробнее изучить этот процесс рекомендую прочитать две блестящие книги, "RE/Search No. 10: Incredibly Strange Films" и "Nightmare USA: The Untold Story of the Exploitation Independents". В первом случае это сборник эссе и интервью, в том числе Бойд Райс, разговаривающий с Хершелом Гордоном Льюисом и Тэдом Микелсом. Вторая – настоящая энциклопедия независимого хоррора от Стивена Трауэра, музыканта классического состава Coil, сейчас играющего в Cyclobe.
Ещё один хороший пример – Британский Киноинститут (BFI) и их серия двд/блу-рэй Flipside. Дорогостоящие и высококачественные издания жанровых редкостей, позволяющие увидеть полную историю британского кино, помещая экспло про группиз вроде "Permissive" в один контекст с общепризнанной классикой. В случае с советским/российским кино не существует ничего похожего.
На самом деле история русского кино изначально является историей экспло. Оно появилось на десятилетие позднее мировых образцов, только в 1908 году, и изначально проигрывало конкуренцию по всем фронтам. Но эта маргинальность привлекла очень своеобразных людей создавших очень своеобразную эстетику. Первый продюсер, Андрей Дранков, прославился тем, что сумел без разрешения снять прогулку по двору Льва Толстого, по легенде едва ли не через окно в туалете. Первый сценарист и один из первых режиссёров, Василий Гончаров, был вообще классическим графоманом уровня Эдварда Вуда-младшего, энергичным и полным энтузиазма, от чего ему даже приходилось лечиться. Его история достойна сценария, сравнимого со сценарием фильма Бёртона "Эд Вуд", только с одним важным отличием: для Гончарова не придётся придумывать счастливый финал. Он действительно успел перед смертью пережить настоящий триумф, с роскошной премьерой и государственными наградами за первый в истории России полнометражный фильм "Оборона Севастополя".
Он снимал очень плохие, но при этом совершенно замечательные фильмы. Наивные, энергичные и живые. Просто посмотрите его поразительный "Жизнь и смерть А. С. Пушкина". Такое кино нельзя не любить.
Даже в Гражданскую за разными фронтами с разных сторон продолжали сниматься фильмы, судя по описаниям, очень похожие на будущее экспло.
В свою очередь советское тоже создавалось яркими маргиналами. Лев Кулешов был образцом интеллектуала, влюблённого в западную массовую культуру. Его лучшие фильмы были сознательной деконструкцией дешёвых американских комедий и приключенческих сериалов. В двадцатые годы это был заметный тренд, достаточно посмотреть "Мисс Менд" или прочитать "Иприт" Всеволода Иванова и Виктора Шкловского. Лучший фильм Кулешова – "По закону", лаконичный и мрачный ревизионистский вестерн по сценарию Шкловского, – был снят именно как эксперимент по малобюджетному жанровому кино.
При всей разнице между основателями российского и советского кино, в них обоих бурлил схожий дух. Бешеный драйв "Приключений мистера Веста" и "Луча смерти" вполне напоминает вышеупомянутую "Жизнь и смерть А. С. Пушкина".
Затем наступил соцреализм. Советское кино было замечательным явлением, полным профессионалов и с ощутимым процентом настоящих художников. Литературу чистили безжалостно, однако в случае с кино всё было явно сложнее. Большинство лидеров авангарда двадцатых успешно перековались, превратившись в хороших технических работников выполнявших поставленные задачи. Вопрос только в задачах. Советское кино развивалось в предельно неестественных условиях, это был кодекс Хейса, доведённый до логического конца. Ничего другого и не могло возникнуть в ситуации, когда есть ровно один продюсер – государство. Причём долгое время этот один продюсер де факто работал на вкусы одного конкретного зрителя.
Без этого затянутого предисловия невозможно понять взрыв, который произошёл в середине восьмидесятых.
В СССР было жанровое кино, в том числе и малобюджетное. Под вывеской "экранизации прогрессивных западных писателей, разоблачающих жуткий мир капитала", даже сложилось нечто вроде неонуара. Очень дешёвые, тёмные и безысходные детективы. Иногда фантастика. Были студии национальных республик с куда меньшим давлением со стороны центра. Были студенческие фильмы, был грандиозный забытый феномен любительского кино. Был ярко выраженный массовый запрос на западное жанровое кино, в отсутствие собственных комиксов даже пародийный "Фантомас" приобрёл в народном сознании черты настоящего. Но над всеми этими процессами стояли взрослые и серьёзные дяди с садовыми ножницами, единственной задачей которых было сдерживать и не допускать. В итоге получилось блестящее во многих смыслах кино, научившееся взаимодействовать и иногда успешно обходить вышеупомянутые ножницы.
Советское кино было, как сжатая пружина. Исчезновение внешнего давления привело к неизбежному взрыву.
Формальными точками на временной шкале можно назвать два киносъезда. Бунтарский "V съезд кинематографистов СССР", на котором отстранили всё правление, начиная с Сергея Бондарчука, и запустили процесс перестройки в кино. И "III съезд Союза кинематографистов" в 1997-м, на котором власть захватил Никита Михалков, построивший свою кампанию на разоблачении малобюджетной серии фильмов Студии имени Максима Горького. Только в реальности кино девяностых не было изолированным явлением. Это было отражение динамических процессов в культуре и политике. Процессов, которые начались раньше и продолжились дальше. Ещё Зигфрид Кракауэр заметил, что жанровая история германского кино удивительным образом коррелирует с политическими процессами, словно отражая изменения в коллективном бессознательном. Эта предпосылка прекрасно работает и в случае с перестроечным/постсоветским кинематографом.
Самое главное: кино девяностых в его чистом виде реальности существовало очень короткий период. Всего несколько лет в начале десятилетия. Но эти шедевры коллективного безумия нельзя рассматривать вне общего контекста. Ситуация, которая привела к появлению целой волны откровенно невменяемых фильмов, была уникальной, но у неё было множество предпосылок и последствий. Если попытаться сформулировать одной фразой, что именно произошло в эти несколько лет, то можно сказать, что это был период между двумя структурами. На несколько лет исчез мейнстрим. Система координат, в рамках которой понятно, что можно снимать и чего не стоит. То, что ещё недавно было общенародным, резко маргинализировалось. То, что было маргинальным, – не стало общенародным. В этой ситуации полного распада связи времён продолжали сниматься сотни фильмов, авторы которых в маниакальном возбуждении искали то, что станет новым, общепринятым мейнстримом. Поскольку не осталось никаких границ, то многие авторы ушли в этом процессе совсем далеко. Именно это и делает перечисленные фильмы столь поразительным зрелищем, не имеющим реальных аналогов в истории кино. Их часто сравнивают с фильмами Ходоровски, но тогда перед нами самозародившийся аналог сюрреализма. Возникший естественным путём, в процессе поиска новой нормы.
Нужно сразу отделить этот феномен как от перестроечного, так и от нового русского кино. Перестройка была периодом трансформации мейнстрима, причём объективно качественной. То, что ещё недавно клалось на полку, увидело свет и понравилось свету. Разумеется, многих шокировало появление на больших экранах откровенно сексуальных сцен в сочетании с общей депрессивностью сюжетов, но это была вполне естественная реакция авторов и публики на недавние ещё запреты. Это очень похоже на "новый Голливуд", только с одним важным отличием: у авторов "нового Мосфильма" не было возможности учиться и работать у Кормана. Советские по сути авторы пытались повторить западное кино, не очень понимая, как именно оно устроено. Уже тогда это приводило к эпическим в своей маловменяемости фильмам вроде "Трагедии в стиле рок" Кулиша. Совместив вполне картонную советскую молодёжную драму, хорошо узнаваемую по чудовищным диалогам, с новомодными темами наркотиков, сект и прочего ужаса и добавив поверх реально гениальную музыку, Кулиш создал мутанта, сравнимого с "Reefer Madness". Другой эталонный пример – узбекское кино, быстро радикализировавшееся. Изумительные "Шакалы" Хабиба Файзиева, с наркотическими оргиями узбекских неонацистов, подчинённых коррумпированным чиновникам, были сняты ещё в 1989 году. Перестроечное кино национальных окраин в целом было отдельным феноменом, достаточно взглянуть на рижскую "Депрессию", двухсерийный rape and revenge с атмосферой, идеально соответствующей названию.
Однако если мы посмотрим на большинство лидеров проката конца восьмидесятых, то увидим очень качественное кино, жанровое, но с авторским уклоном. Такие фильмы, как "Кин-Дза-Дза", "Игла", "Маленькая Вера", "Интердевочка" и "Господин оформитель", более чем заслужили свою популярность и культовый статус. В полном соответствии с мировой практикой множество новорождённых независимых кинофирм попытались повторить успех, разумеется с особым акцентом на шоковые элементы, то есть на абсурд, секс и безысходность. Так и началась волна "чернухи и порнухи", хотя именно второго элемента в кино тогда не возникло: голых тел было полно, но на реальный половой акт по-прежнему оставалось подсознательное табу, порноиндустрия начнёт развиваться только в конце девяностых.
Затем всё кончилось.
Можно придумать альтернативную историю американского кино. Просто представить, каким бы оно стало, если бы в начале семидесятых, на пике "нового Голливуда" и волны грайндхауса в США начался социальный катаклизм, который привёл бы к распаду страны. Не к трансформации, а к уничтожению. Остались бы режиссёры и техника, кино продолжало бы сниматься, но отражало бы совсем другой мир. Другое коллективное бессознательное. В случае с советским кино нам не нужно гадать. Просто посмотрите эти фильмы. Вслушайтесь в их названия: "Великое замыкание, или Детонатор", "Взбунтуйте город, граф", "Выкидыш", "Духи ада".
Они не похожи ни на что, в том числе и друг на друга. Общее в них – ощущение лихорадочного поиска. Можно проследить общие паттерны, но это, скорее, отражение идей и ощущений, носившихся в коллективном бессознательном. Страх перед грядущей диктатурой, иногда принимающей черты оккультной, чем напоминающей про экспрессионистские хорроры двадцатых годов. Тема домовых из разрушенных зданий. Постоянно повторявшаяся тема двойников и ряженых. Иностранцы в России как территории хаоса, и наоборот, русские в экзотических странах. Неоэкспрессионизм и монтажные фильмы, особенно популярные в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Бесконечные эротические комедии, самый популярный, судя по всему, жанр. При попытках переснять в его рамках западный эротический артхаус вроде "Яда скорпиона" или белорусских "Вальсирующих наверняка" становится очевидной крайняя закомплексованность авторов и участников. Строго говоря, весь постсоветский сексплотейшенс крайне закомплексован и зажат – с постепенным раскрепощением он и исчез, сменившись сперва на софткор, затем дойдя и до полноценного хардкора.
Здесь перечислена только часть этих общих паттернов, ни один из которых не стал полноценным жанром. Именно из этого варева в итоге структурировался новый русский "капиталистический реализм". Начиная с определённого момента некоторые режиссёры стали попадать в цель. Сперва Рогожкин после нескольких совершенно удивительных и радикальных фильмов успешно реализовал проект народной комедии с первой частью "Особенностей национальной охоты", вполне продолжающей основные темы комедий абсурда начала девяностых про взаимное непонимание Запада и России. Плюс крайний успех Михалкова, получившего "Оскар".
Появление популярной эстетики постмодернистского боевика помогло переосмыслению недавнего прошлого. Первым и лучшим из подражаний Тарантино стало "Жёсткое время" Максима Пежемского – одного из самых интересных режиссёров описываемого периода – по сценарию Мурзенко. Затем появился уже упоминавшийся малобюджетный проект Студии Горького, действительно яркая попытка совместить популярные мировые тренды с местной, оригинальной эстетикой. Одновременно Дмитрий Светозаров, ещё один из ключевых авторов эпохи, буквально на коленке создаёт новый русский сериал. Первый сезон "Улиц разбитых фонарей" ещё продолжает в новом формате традицию петербургского авторского кино. Последовавший за успехом "Ментов" успех "Агента национальной безопасности" закрепляет новый медиа-феномен, всосавший в себя, как пылесосом, почти всех жанровых режиссёров, актёров и технический персонал. В большинстве биографий/фильмографий начиная с начала нулевых начинаются бесконечные телесериалы с практически нулевым уровнем оригинальности. Телеконвейер быстро научил ходить строем и выполнять простые трюки, из чего следует, что у многих былая оригинальность была связана только с отсутствием конвейера.
Резюмируя, буквально за несколько лет весь хаос кристаллизировался и выстроил вполне адекватную иерархию жанров. Окончательно закрепил новую систему успех "Брата 2" (первый ещё был эталонным питерским артхаусом) и "Ночного Дозора" (первый вариант сценария которого назывался "Москва вампирская", писался Литвиновой и должен был быть снят режиссёром "Упыря" Сергеем Винокуровым).
Уже к концу девяностых мейнстрим был мейнстримом и андеграунд – андеграундом. Последний сгруппировался вокруг питерского фестиваля Дебошир-Фильм и московского Sтыка и продолжил развивать уже не модные дискурсы. Фильм Баширова "Железная пята олигархии" вместе с фильмами студий НОМ и "Алибастер" чётко наследуют параллельному кино и вдохновлённым им постмодернистским комедиям начала девяностых, в то время как Баскова и Мавроматти довели до логического конца "чернуху". Затем пришёл Михалков, и всё стало ясно. Так и настало новое тысячелетие. Девяностые сперва оказались забыты как временное помешательство, за которое стыдно, а затем предельно мифологизированы.
Сейчас у нас нет "Российского киноинститута" (RFI), который тратил бы бюджетные средства и пожертвования энтузиастов на спасение и реставрацию единственной копии забытой эротической комедии. Нет даже субкультуры энтузиастов, издававшей бы собственные фэнзины и накапливающей таким образом информацию. Уникальный пласт культуры просто игнорируется как малозначительный курьёз.
Хотя, может быть, что сама культура, игнорирующая собственные корни, в будущем будет считаться курьёзом. Ведь есть вероятность, что молодые авторы потом снова будут в панике искать новую норму среди окончательно обезумевшего мира.
Автор: Раймонд Крумгольд
Иллюстрации: такой-сякой
(behance.net/zlatau)
|
Метки: paracinemascope katab.asia кино девяностых |
Спящие города, что говорят во снах (29.09)/Тени и пламя (01.10) |
(29.09)
Ночь. Туман.
Маленькие острова, заросшие деревьями.
Появляется огромный тюллень, но он совсем не агрессивен. Думаю о том, что морж такого размера мог бы напасть.
Говорю, что это удобный путь. Можно так и оставлять машину у гостиницы, из которой мы вышли, и идти здесь. Или ехать на поезде, параллельно идут пути.
Входим в центр. Он пуст и состоит из угрожающе выглядящих каменных зданий, одновременно архаических и современных. Похож скорее на Петербург и Берлин одновременно. Река распадается на каналы, между ними - остров кладбище, как в Венеции. Остров мёрвых. Пытаюсь зайти в него, черех мост, ворота закрыты, но видно, что в большом холле готовятся к пиру. Явно поминки. Вспоминаю, что буду там работать, в течении недели, по три часа вечером. Для этого и шли. Но есть ещё второе место, где буду подрабатывать днём, на осмотр города останется утро.
Идём искать вторую работу. В огромном и пустом подземном переходе вдруг видим открытый клуб. Судя по плакатам там концерт нацистской музыки. Заходим. Бритая толпа, свастики на сцене, всё стандартно. Группа играющая громкий и быстрый oi уходит, и внезапно на сцену выходит темнокожая девушка с двумя музыкантами, чьи лица скрыты. Её белое платье прозрачно, она почти обнажена. Воцаряется мрачное, угрожающее молчание, под которое начинает играть очень красивая музыка. Текст на испанском, неожиданно знакомый.
Sexo a la Luna, Sexo a la Luna
y agua para el Sol
Моя любимая песня Ô Paradis, только музыка изменена.
Удивительно, но скины не нападают, хотя явно шокированы.
Выходит ведущий, благодарит группу, называя её подлинно консервативным авангардом, и вызывает на сцену Ле Пена, оказывается это его мероприятие. Перечисляет его награды и достижения, словно речь идёт о шоумене. Ле Пен выходит в клоунском костюме. Юрис наклоняется ко мне и шепчет что ему это явно идёт. Всё становится очень похоже на видео последней Поп-Механики
Тихо уходим из клуба. Просыпаюсь, пытаясь вспомнить, как звучала там песня.
Днём делаю то, что давно откладывал. Ищу текст. Группа не очень популярная, переводов нет, только оригинал на испанском. Прогоняю через автоматический перевод. Дэмиен поёт про реку времени, любовные письма как бумажные кораблики и спящие города, что говорят во снах.
(01.10)
Знакомые лица. Знакомое место. Уже открыты двухлитровые бутылки пива. Подхожу, здороваюсь, спрашиваю, что происходит? Уже десять лет при каждом приезде на родину моё настроение неизменно портится при виде пустых скамеек в сквере. Старая компания выросла, новых не появилось. Лишний раз стараюсь не проходить мимо.
Никто не отвечает. Только Цыпа явно рад моему появлению. Он говорит, что я изменился и повзрослел. Я тоже говорю, что он сильно изменился, так как он сидит между скамейками в палатке с прозрачным входом, у него длинные волосы и лента на голове как у хиппи. Я сильно удивлён, он всегда был убеждённым панком.
Над нами пролетает вертолёт. Зависает и падает на место, где должна быть школа. Но там жилые дома. Огромный взрыв, столб пламени, бегу в пострадавший дом вытаскивать людей. Из первой квартиры выходят сразу. Во второй две полуодетые женщины, возмущённые вторжением и не обращающие внимание на пламя за окном. С трудом убеждаю их выйти. Вывожу к скверу и понимаю, то компания так и стоит, как тени, не меняя поз. Кричу им что один не справлюсь и нужно помочь. Снова вбегаю в дом. Жара стала сильнее, как и тьма от дыма. Вижу дверь сбоку, выбиваю её и оказываюсь в огромном помещении с маленькими кроватями в которых спят младенцы. Ясли. Огонь уже вырывается из окон, скоро здесь всё будет пылать. Начинается паника, я никак не успею их всех вынести в одиночку.
Хватаю сразу трёх младенцев, с ужасом думая что убью их если уроню. Выношу через дым на улицу. Кладу на асфальт и поворачиваюсь к тусовке собираясь покрыть их матом.
Внезапно осознаю: это всё неправильно. Ясли в одном помещении с жилыми квартирами, причём на месте где должна быть школа. Младенцы под ногами не плачут и выглядят куклами. Но главное - толпа на "тарелочке" не замечает ни меня, ни пожара, словно застыв.
Декорации начинают рушиться. Мимо проезжает старая, потёртая машина дизайна семидесятых с уродливым мужиком за рулём. На ней наклейка UKIP, совершенно неуместная в Даугавпилсе. Звучит голос по радио, видимо из машины. Там говорят о преступной политике либдемов.
Эта последняя капля абсурда, выкидывает меня из сна. В реальности вспоминаю: Цыпа умер в середине нулевых. Как честный панк, от алкоголя. Его дом вскоре расселили и он долго стоял пустым. Мы в нём один раз жутко напились поминая его, и лестничная клетка с корридорами выглядели как горящее здание в этом сне. Ещё вспомнил, что недавно всплыли наши фотографии из четвёртого года. Проверяю - лица и одежда у компании идентичны, мне приснилась именно фотография. Только Цыпа на ней выглядел собой.

|
Метки: сны |
Поздравил с девятым днём рождения родной проект |

По-настоящему я включился в работу только в четырнадцатом. Я даже помню точную дату — 23 июня. Мы праздновали Лиго (национальный латышский праздник) в Портсмуте, когда мне пришло личное сообщение с вопросом о помощи с интервью Иэна Рида из Fire + Ice. Накануне я решил, что нужно снова начать писать, и это сообщение явно ответило на вопрос "куда?".
Для меня было огромным сюрпризом найти в команде старых друзей и познакомиться с отличными новыми. За последние годы катабач растёт на глазах, превращаясь в сложную ризому из взаимных влияний, и эта тенденция только радует.
Мы делаем то, что кажется невозможным, и главное слово здесь "мы".
С праздником. Как личным, так и коллективным
Раймонд Крумгольд
|
Метки: katab.asia |
Иглы и кости /Ganpati/Anglesey/Under The Beech Possessed/Монеты |

Иглы и кости
(28/29.08)
Встал поздно. Прошёлся до соседнего благотворительного магазинчика, где накануне выложили целый набор релизов лейбла Tzadik, в основном с японским авангардом. На неделе я послушал пару альбомов и решил что надо брать. Но в деревне нашёлся понимающий человек и взял сразу весь лот.
Пожал плечами. Купил не слушая совместный альбом Boris и Michio Kurihara, не замеченный конкурентом, и пошёл домой. На последнем перекрёстке перед ним моё настроение резко упало. Блин с иглами. Судя по размеру может быть нашим Йожиным, он как раз начал вес к зиме набирать. Последние недели каждый вечер я следил за его перемещениями по траве и радовался динамике округления. Понял что с ужасом жду вечера и опустевшего сада.
Захожу за перчатками. Отдираю с асфальта. Временно прячу в саду, до вечера.
Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей начинаю собирать шкаф. К своему удивлению делаю две трети всей работы в один заход. Физическая усталость успокаивает, но я понимаю что нужно заехать в лес. До осеннего равноденствия осталось меньше месяца и мне нужно подготовить материалы для задуманного предмета. Уже несколько лет я не забирал оттуда ни костей ни черепов, так как они оставались лежать мёртвым грузом и я не хотел захламлять квартиру. Теперь же я точно знал, как соединять их с деревом и камнем и поэтому мне явно потребовались новые образцы. Да и просто, хотелось пройтись на свежем воздухе по склону холма.
Медленно двигался с веткой рябины в руке, осматривая землю под ногами. Я всё ещё надеюсь найти амулет, потерянный здесь несколько лет назад, уверен что он так и лежит под листьями. Всё чаще задумываюсь о том, что мне для походов по полям стоит купить металоискатель.
Дошёл до своего бука. Оставил на нём ветвь рябины, внезапно заметив важную вещь. Из старого ствола растут два молодых побега. Я всегда считал их просто ветками самого бука, но сейчас ясно увидел форму листьев. Похожи на рябину, но больше, и нет ягод.
Ясень. Паразитический ясень, никогда не слышал о подобном. Побег мирового дерева.
Не знаю что делать с такой находкой. Пока даже не прикасаюсь. Просто собираю кости под ногами, необходимые для задуманного. Как всегда начинаю жадничать, но из руки выпадает зуб и буквально исчезает под ногами, явным знаком того что хватает.
Вернулся домой. Выпустил кота. Срезал остатки органики с кости, поняв, зачем я недавно сделал и заточил нож из ложки. До сих пор он тоже лежал мёртвым грузом.
Засыпал воду содой и солью.
Потом собрал еду для подкармливаемых. Включая ежиный корм, к нам явно не один приходит. Иду в сад с тяжёлым сердцем и буквально врезаюсь в нашего толстеющего подростка, уже вышедшего на газон и целенаправленно двигающегося в сторону кормушки. Мне жалко погибшего ежа, но я эгоистично счастлив тому, что это был не наш.
Затем встала отложенная проблема с мёртвым телом. Сперва я поступил лениво, просто зарыв его под яблоней. Затем обсудил вопрос и понял, что именно там скоро будут работы и люди могут уколоться. Попробовал доехать до Titnore Wood с удивлением обнаружил, что самый удобный проход в лес ночью закрывают на ключ. Сил искать другой вход уже нет, зато неподалёку есть другое, хорошее место. Оставил там. Посмотрел на ясное небо полное звёзд и пошёл сидеть на траве возле барсучьих нор, слушая птичьи крики в кустах. Это было очень красиво, уходить не хотелось. Когда наконец ушёл, понял что потерял по пути один из ножей. Пришлось вернуться и сделать крюк. Нашёлся. Прямо перед блеском в траве увидел метеорит.
(02.09)
Индусы на работе в массовом порядке ушли в отпуск и вывесли на доске объявлений самодельное приглашение на фестиваль. Первый факт означал что несколько раз подряд мне придётся просыпаться в 5.30, что для меня чистый кошмар. Но сам праздник выглядел интересно, особенно после личного приглашения.
После работы прогулялся по центру. Думал дома поспать, но не успел. Быстро собрался и в районе семи уже искал нужный дом. Улица хорошо знакома, я по ней сотню раз до работы шёл, никогда не замечая ничего необычного. А тут заходишь в типичный английский дом и оказываешься в максимально экзотической обстановке. Всё заполнено женщинами в сари и с золотыми браслетами. У стены огромный алтарь с двумя статуями Ганеши. Что поразительно, за ним ещё большая инсталяция в поддержку индийской армии, с флагом и вырезанными из поролона фигурами солдат. Всегда считал Ганешу мирным божеством, видимо напрасно.
Европейцев не видно, только потом, на праздничном ужине заметил двух англичанок. В остальном только индийцы, включая пару знакомых католиков. Слегка дразню их, но они серьёзно объясняют что в Индии на этот праздник собираются все.
Мне всё очень нравится. Вспоминаются угрюмые обеды у кришнаитов в Даугавпилсе в девяностые. Они нам помогали выжить в реально голодные годы, но даже тогда было ясно что это заманивают в новые члены секты, убеждая принять участие в одной из форм жертвоприношения. Тут атмосфера совсем другая, людям явно не нужно проповедовать. Никаких ряженых псевдобрахманов, настоящая живая традиция, наивная на грани китча. Я давно понял что религиозные языческие организации меня совершенно не привлекают. Но если вдруг представить реальное возрождение европейского язычества, то оно бы выглядело как современный индуизм. То есть как противоречивая мешанина из радикально различных маленьких культов. Система в которой оказываются рядом сложные философы, откровенные мошенники и деревенские старосты по привычке поклоняющиеся столбу. Поздний Рим на самом деле был очень похож на эту картину.
Оставил на алтаре мандарины и омелу. Попробовал еду. Выливать мёд счёл неуважение, всё таки божество трезвенник.
Очень хорошие люди и хорошее место. Обязательно приду к ним на следующий праздник.
(07.09)
Еду на поезде через всю Англию, до уэльского острова Англси. Цель поездки вполне практическая, но я помню о том что это был священный остров. Думаю, как найти время и место для поминального ритуала по вырезанным там друидам.
Вокзал соединён с портом, на остров ведут скоростные катера. Подбегаю к причалу в последний момент, к катеру ведут две стеклянные двери. Выбираю левую, прыгаю в неё не глядя и понимаю что ошибся. Это не вход для пассажиров, я упал прямо на нос отходящего катера. Падаю с него, но успеваю схватиться за поручни. Человек в будке знаками показывает мне что катер на автопилоте, уже вышел на заданный курс и он не может его резко остановить. Мне придётся висеть так до самого острова.
Ситуация опасная, но я иррационально спокоен. Мне даже скучно висеть на огромной скорости над бурлящей пеной и только не желание промокнуть мешает мне отпустить руки.
Проснувшись проверил. Конечно, до Англси построены два моста.
Under The Beech Possessed
(22/23.09)
Наверное я никогда не смогу высыпаться перед сакральными датами. Все планы на равноденствие были сбиты приятным сюрпризом, концертом Роуз Макдауэлл. Пропустить такое событие никак нельзя, значит домой вернёмся глубокой ночью, и затем ранним утром встану для ритуала.
Концерт был отличным. Роза с годами сменила имидж, превратиашись рабоче-крестьянскую шотландскую ведьму, дико харизматичную и острую на язык. Наверняка она такой была всегда, но во времена "апокалиптического народа" это смягчал готический имидж. Сейчас она была одета вполне повседневно, только длинные чёрные косички и шапка с помпонами добавляли элемент шоу. Голос по прежнему сильный, старые песни стали только лучше звучать со временем. Был безумно счастлив услышать живьём To Drown a Rose и A Sad Sadness Song, это может быть последний шанс мельком взглянуть на прошлое любимой сцены.
Купил на виниле альбом "Under the Yew Possessed" её проекта "Sorrow." Очень люблю эту странную запись, лиричный неоязыческий дрим поп в неофолковой обёртке. Взял автограф. Текст в буклете подтвердил интуитивное ощущение от альбома, он действительно писался на пике увлечения эзотерической рунологией. Ещё один элемент для задуманной статьи.
Домой вернулись поздно ночью. Пять часов сна, сбор необходимых предметов и я выхожу до машины. На выходе со двора встречаю двух ворон, разумеется они прилетели доедать корм за лисами, но примета всё равно хорошая.
Казалось что времени полно, но не доезжая до нужного поворота встал в гигантскую пробку, потеряв кучу времени.
Приехал минут за восемь до равноденствия.
На склоне видно стадо животных, до них далеко, но похоже это олени. Последний раз я их тут видел четыре года назад. Небо ясное, настроение на удивление хорошее. Этот холм всегда воспринимался как тёмный. Не только мной, недавно я случайно нашёл невероятно комичный текст о том, как нью эйдж целительница потратила несколько лет на серию ритуалов с целью исцелить "Кольцо Тьмы" от зловещего влияния Кроули. Она развешивала целебные кристалы (скорее всего выкопанные детьми рабами) на буках и медитировала на аметистовых ангелочков, призывая Богиню. Эта попытка исправить неправильную сакральность смешила и раздражала одновременно. Раздражало сходство ощущений от места, у меня все таки есть общее с нелюбимыми мной нью эйджерами. Смешила сама попытка поставить пластырь на дыру в плотине.
Сегодня тьма в этом месте светла.
Дошёл до леса через семь минут.
Долго стоял под корнями бука, на которых повис четыре года назад в безумном ритуале, изменившем, в итоге, всю мою жизнь и представление о мире. Сегодня я довожу до реализации идею, возникшую тогда. Со мной четыре мешочка с рунами. Достаю одну на каждый алфавит. Ясень. Солнце. Старость, из поздних добавлений в исландский. И Турс из календарного шведского, как руна этого дня.
Оставляю руны под корнем. Осматриваюсь, на сломанном стволе рядом вырос паразитический шиповник. Иду наверх, до своего бука. Вырезаю на купленных в местной лавке трёх копиях англо-саксонских скеатов отсутствующую в надписях первую руну. Оставляю одну монету под паразитическим ясенем. Вторую, вместе с клыком барсука, оставляю в мешке на шее. Третью откладываю на вечер. Думаю забрать материал для новой ветки с черепом, но в итоге ограничиваюсь только ещё одним клыком. Пока хватает.
Сверху доносится странный голос, словно там наверху кто-то читает проповедь. Слов не разобрать. Ползу по склону наверх, до Кольца. Выбрал незнакомый путь и пришлось лезть через ограду. Наверху попробовал найти оставленную в прошлый раз раковину, оказалось невозможно, слишком много кусков мела и кремня. Ещё одна задача на будущее.
Усталость дикая, меня словно водит кругами. Снова услышал тот голос. Оказалось что в поле недалеко от Кольца два темнокожих мужчины тоже проводят некий ритуал. Они ходят кругами, иногда останавливаются и по очереди читают речь на незнакомом мне языке. Хлопают в ладоши, звенят в колокольчик и издают шум трещоткой. Завораживающее зрелище. Я слышал слухи что на пляжах в городе замечали темнокожих людей в белых одеждах проводивших странные ритуалы. Возможно эти двое из той общины, только одежда у них повседневная.
Возвращаюсь домой. Сплю пару часов. Потом работаю вечером. После ужина пытаюсь реализовать задуманное: приделать череп барсука к старой ветке бука и прибить к ней медными гвоздями все четыре мешочка с рунами. Сделав набор для транспортировки всех четырёх алфавитов и медитации. Переносную версию старого бука.
Сперва ничего не получается. Было легко приделать к буку череп с монетой под ним, но медные гвозди слишком большие (их используют для убийства деревьев) и ветка бука слишком хрупкая. При попытке вбить в него гвоздь он буквально рассыпался на три части. Когда запланированное не получается, начинается импровизация. Гвозди вбиваются сверху и укрепляются клеем. Череп барсука в железной чаше становится нижней частью gambanteinn в материале для которого теперь соединяются оба священных места моей персональной религии.
Прямо сейчас я читаю подборку статей польского учёного Лешека Гарделы, и его тексты о жезлах для сейда и использовании черепов в ритуальной практике явно повлияли на получившуюся импровизацию. Можно сказать что я структуирую хаос случайных идей следуя древним стандартам.
Монеты
(24.09)
Иду по улице 18 Ноября в сторону от центра города.
Вечер.
Уже совсем поздно, но мне нужно зайти в психиатрическую больницу и навестить некого пациента. Только я не уверен даже в его/её возрасте, поэтому не знаю куда идти. В одной стороне взрослая больница, существующая в реальности. Но здесь есть и детская, до которой нужно ехать на втором номере трамвая, то есть возвращаться назад.
Решаю проверить взрослое.
Сажусь в трамвай первой линии. Останавливаюсь в недоумении, пытаясь вспомнить, сколько нужно платить. Читаю на стене, что всего десять центов. Достаю деньги, рассыпаю их. Начинаю собирать с пола, и они словно увеличиваются в количестве. Насыпаю в карман у сердца полными ладонями, пока он не заполняется целиком. Думаю о том, что теперь карман остановит пулю.
Открываю городскую газету. В ней моя ностальгическая статья о бурном прошлом. Под ней комментарий от одного из участников Штаба Защиты Русских Школ, тоже вспоминающего былое. Понимаю что меня очень раздражает упоминание о их руководителе, запросившем в этой ветке истории политическое убежище в Казахстане.
|
Метки: сны солнцестояние rose mcdowall |
Культурология Апокалипсиса |

Рад сообщить, что завёл себе ещё один канал в телеграме.
Культурология Апокалипсиса
Теперь их у меня четыре.
Тринадцать лет назад, когда мы запускали сообщество в ЖЖ я был ещё молод, романтичен и полон надежд по поводу надвигающегося хаоса. Сейчас я давно живу в другой стране и скорее пресытился действительно наступившим хаосом , поэтому делать, как раньше, коллективный проект по сбору в книгу безумных текстов явно уже не смогу. Но былые интересы вполне сохранились, просто сменился угол зрения. Теперь я предпочитаю анализировать, а не прославлять.
В составе Катабазии я уже написал несколько эссе вполне подходящих для задуманной некогда книги:
Тотальность как иллюзия
PR и Пламя
Магия Крови (Эссе о свободе слова и реальном безумии)
Выход в узор: заметки о Равинагаре
Пасть в пирамиде: оккультные корни финансового апокалипсиса
Мережковский видел сон
Путь царя
Плюс последний двойной номер нашего журнала целиком посвящён Апокалипсису, в том числе и в культуре, и вполне может считаться заменителем сборника Парфри. Следовательно ничего уже не мешает мне забыть о невыполненном и спокойно открыть небольшой канал для выкладывания будущих статей, заметок по теме (из которых тоже могут со временем вырасти статьи) и скопившихся в библиотеке тематических книг. Явное удобство телеграма - в возможности делиться тем, о чём пишешь. Советую подписаться, у меня уже скопилось достаточно материала для потлача.
Другие мои каналы в телеграме:
Гиперион
Место для небольших дневниковых заметок и репостов из других каналов (то есть можно ограничиться только им)
Парасинемаскоп
Прямое продолжение старого а-культа, но в очень узкой нише, место для показа всяких странных артефактов выпадающих за рамки условно "нормального" кино, как жанрового, так и авторского.
RunicaABC
Результат изменившихся за прошедшее десятилетие религиозно-оккультных интересов. Место куда я выкладываю прочитанные книги по крайне узкой теме и отмечаю в заметках то, что реально из них пригодилось. Самое важное для меня сейчас увлечение.
|
Метки: апокалипсис runica abc paracinemascope katab.asia |
Книжный магазин (09.08)/ Виктория (11.08)/ Бег (21.08)/Музей (22.08)/Gambanteinn (23.08) |

(09.08)
Нам теперь принадлежит книжный магазин. Подробности передачи остались в незапоминаемой части сна, просто теперь мы ответственны за большое помещение и должны сделать его окупаемым. Алёна осматривает книги, и говорит что тут в основном мусор. С сожалением соглашаюсь, тут есть книги которые можно забрать себе, но продавать особо нечего. Скорее всего для оплаты счетов придётся продавать свои книги из личной библиотеки. Я этого не хочу, но ситуация серьёзная.
Магазин двухэтажный. Алёна уходит в офис наверху подготовить фотосессию. Я остаюсь торговать. Никто не заходит, поэтому я выхожу в двери и начинаю зазывать народ, расхваливая товар как на вокзале. Две тетушки заходят спрятаться от дождя, но ничего не покупают. Беспокойство усиливается.
Алёна зовёт меня из офиса, я должен ей попозировать. Только одеться по особенному, в костюм и шляпу-котелок. Вспоминаю, что на обложке одного из фильмов в моей видеотеке был похожий кадр. Думаю о The Corridor People но вспоминаю скорее про The Bed Sitting Room. Иду проверить, только на нужной полке тоже книги. Старые советские детективы в потёртых обложках. Думаю о том, что зря я звал прохожих на английском.
Надеваю котелок, и на этом моменте происходящее теряет последние остатки логики и смысла. Потолок растворяется и я вижу небо над городом. Собираются тучи, нечто огромное идёт к нему с разных сторон. Я знаю, что там монстры, которых вызвал переодеванием, словно нарушив некое табу. Ожидаю увидеть нечто вроде Годзиллы, похоже нечто подобное идёт со стороны моря. Но первым заглянул за горизонт и наклонился над городом, внезапно, гигантский клоун Красти из Симпсонов.
Открыл глаза от будильника в состоянии крайнего изумления. Потом долго пытался понять, откуда это могло взяться, я последнюю серию в девяностые по телевизору видел.
(11.08)
На ветке метро Виктория как всегда полно нищих. Возможно это связано с отсутствием барьеров на станциях третьей зоны. В центре они не смогли бы выйти.
Уже на Stockwell по вагону прошла женщина, собиравшая дань с высокомерной улыбкой. Не самая эффективная стратегия, помогать ей явно было не нужно. Под мостом у выхода со станции Finsbury Park, среди воспетых Тигровыми Лилиями лужиц мочи темнокожая бездомная со сломанной рукой сидит на матрасе, возле которого поставлены вазы с искусственными цветами. Выглядит даже уютно. Неподалёку матрас другой девочки, довольно симпатичной. Прохожу мимо них вполне привычно, воспринимая как неприятную норму.
У друзей среди прочих многочисленных тем для разговора вспоминали марсельские трущобы. Как один из последних настоящих Городов Красной Ночи, не заметивших наступления нового тысячелетия. Вечером поехали назад. Бездомные под мостом собрались в весёлую группу. Нырнули в метро. Сел читать. Увидел краем глаза ещё одну фигуру в лохмотьях и поразился ненаигранной боли на лице. Повернулся. У парня гниёт нога. Она распухла настолько, что штанина с неё была срезана, так как она в два раза больше здоровой. Парень белый, но нога в лучшем случае красная. Часть уже почернела и гниёт. Особенно видны чёрные следы уколов. Я читал о таком, но никогда не видел лично, что именно крокодил делает с человеческой плотью.
Высыпаю всю мелочь, говорю ему что он должен пойти к врачу. Уверяет что был вчера и ещё пойдёт. Только ясно, что он собирает мелочь ещё на одну дозу, которая добавит очаг гниения.
Всю дорогу до дома кипел от бессильной ярости. Не знаю, как этот человек дошёл до такой точки и сколько бед принёс окружающим в процессе - всё равно, такого быть не должно. Если для помощи таким людям нужно легализовать опиаты и выдавать по рецепту - пусть так и будет. Понял, что я стал куда менее толерантным, вся эта лицемерная викторианская мораль в современной обёртке меня жутко бесит. Бесит, что это всё остаётся нормой, по прежнему в гетто люди травят себя дрянью которая достойна появления в самых жутких текстах Берроуза.
Наверное так и левеют.
Бег
(21.08)
Нас трое и мы убегаем от некой безликой силы, видимо государственной структуры. Кто-то идёт по следу, перерезает коммуникации и перекрывает пути отхода. Но в этой реальности можно летать и телепортироваться, поэтому всё превращается в запутанный лабиринт из локаций, через который мы проносимся на огромной скорости.
Пролетаю через пустые здания, переключение, мы в подвале. Я узнаю его, это второй бункер. Стол дежурного, партийная символика на стенах, знакомый типаж бритых налысо девушек. Начинаем с ними разговаривать, уходить отсюда не хочется, но я понимаю что в этом месте точно будут внедрены агенты и уже дан сигнал. Чувствую что пора, кто-то спускается в подвал. Разворачиваюсь и снова начинается быстрый бег/полёт по полуразрушенным помещениям.
Открываю глаза по будильнику, в полшестого. Теперь интересно, всегда ли у меня такая фаза глубокого сна?
Музей
(22.08)
Ночь. Тёмная фигура выходит из одноэтажного дома. Я прячусь за крыльцом, тихо наблюдая как он перешагивает через лужи сворачивая на тропу через кусты. В этом варианте города это мой отец, совсем не похожий на фотографии. По неясной причине я к нему враждебно настроен, потому и слежу незаметно. Пытаясь застать с любовницей, видимо в забытой части сна присутствовала моя мать, в интересах которой я и действую.
Фигура доходит до старого здания. Это даугавпилский городской музей, только странно заброшенный и с дополнительными этажами. Думаю, что он идёт к охраннице на ночном дежурстве и тихо захожу следом. Здание заброшено, экспозиции разграблены и нет никого живого. Поднимаюсь по лестнице и приближаюсь к нему. Он сидит и пьёт в одиночестве.
Монтажная склейка. Мы выходим вместе из здания. Уже рассвет, возле парка Дубровина почему-то течёт канал. Нужно перейти через кирпичный мост, по которому бегает выдра. Увидев нас, она ныряет в дыру в стенке, на месте выпавшего кирпича. Удивляюсь её сноровке, дырка выглядит маленькой. Затем она появляется на барьере и смотрит на нас, готовая прыгнуть обратно в воду. Ещё сильнее удивляюсь, это выдра, но у неё вместо лап ласты, как у тюленя. Как она смогла туда залезть?
Мы разглядываем её и тихо разговариваем о стихах Введенского. Вспоминаю кадр из лекции о отце Людмилы Вязмитиновой которую я недавно перепечатал на слух. Видимо дальше я должен был рассказать об этой лекции, но звонит будильник, оставив перед глазами только морду заинтересованной выдры.
(23.08)
Утром понимаю, что мне нужно купить медные гвозди. Проверяю в интернете, там они есть в продаже, оказывается их используют если нужно убить дерево. Решаю, что заказать их слишком просто, тем более сегодня уже не придут. Оставлю на будущее, буду проверять магазины, рано или поздно попадутся.
В нашем деревенском их нет, покупаю вместо них несколько тюбиков суперклея.
Жара дикая.
Вечером выделил себе час на поездку до рощи. Пришёл в своё любимое место и срезал по ветке от каждого растения, окружающего мой испровизированный шмашан.
Til holtz ec gecc/вот я в лес пошел
oc til hrás viðar/я в сыром лесу
gambantein at geta/прут волшебный искал
gambantein ec gat/прут волшебный нашел
Рукоятка ножа отламывается при пилении большой ветки ясеня. Ну и отлично, она мне совсем не нравилась.
Дома откладываю ветви и занимаюсь обыденными делами. Ужинаю, выпускаю кота, кормлю юного ежа, уже приходящего за кормом до десяти. Потом достаю лисий череп, уже несколько лет лежавший без дела на полке, и начинаю экспериментировать. Суперклей не работает, зато пластиковый из нагревающего пистолета оказывается идеальным средством закрепления. Ветка ясеня как основная. Орешник и падуб как дополнительные, закреплённые и возле черепа, и внизу. В процессе работы с улицы доносится жуткий лисий вой, выскакиваю, думая что это мог быть очередной наезд машиной, но там никого и ничего нет. Возвращаюсь и доделываю проект, переносную версию личного священного места. Голова жутко болит, видимо от запаха клея. В остальном ощущения при взгляде на получившийся предмет очень сильные. На ясене три аса. Орешник не тронут, ведь сага об Эгиле подсказывает, что можно делать с прутом и черепом. Лучше оставить как есть.
Потом приделываю новую рукоятку ножу, из маленького камня с дыркой и клея. Медные гвозди добавлю в следующий раз.
|
Метки: сны |
Другие говорят (речь Людмилы Вязмитиновой о Валдисе Крумгольде) |
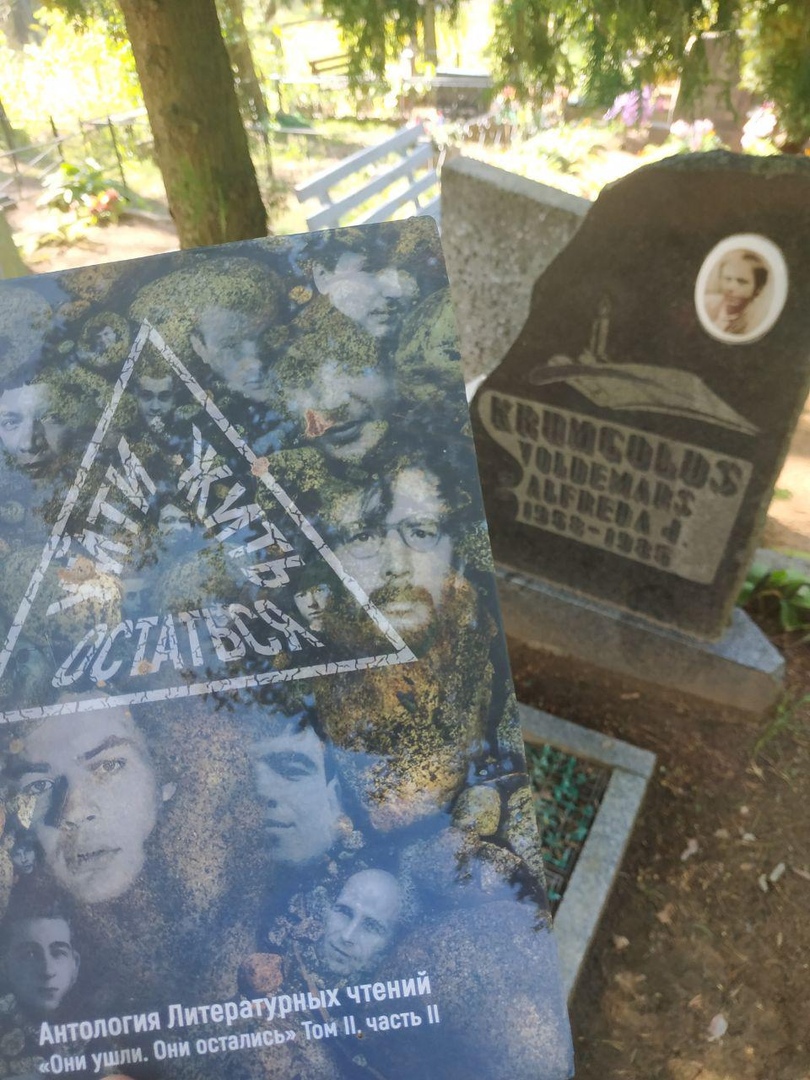
Отпраздновал день рождения отца расшифровывая речь Людмилы Вязмитиновой. Сперва думал обойтись вырезанным видео, но потом разозлился на себя и сел после работы внимательно слушать каждое слово. Это мой первый такой опыт и думаю пару слов я мог не уловить.
Очень хорошая речь. Я не со всем согласен, но речь хорошая. И меня доводит почти до слёз сам факт, что пишутся новые статьи и читаются такие речи. Когда я завёл сообщество про отца, мне казалось что я пишу в пустоту. В итоге с появлением антологии оказалось, что этот тотально непопулярный паблик предоставил составителям максимально возможное количество информации.
Для меня важно что бы его помнили. Теперь я думаю, что на это есть реальный шанс.
Конечно жалко, что мало так народу, потому что на самом деле вещи тут достаточно серьёзные говорятся. Когда мне Борис предложил говорить о поэте, я сначала возмутилась, надо сказать, раскрою небольшую кухню, аргументируя это тем что вот писатель Комаров написал об этом поэте и получается как там даже не только некоторая вторичность, а несколько неуютно себя чувствую, так как Комаров написал, изложил, всё это напечатано, что получается что я выхожу и говорю то что написал Комаров. Это и так можно прочитать и какая надобность говорить то? Даже некоторая у нас размолвка с Борисом получилась. Но когда я стала читать этого автора, которого, оказывается, настоял Николай Милешкин, что бы он был включен в антологию, я поняла что судьба удивительным образом подаёт нам возможность сказать то хотелось, но чего мы не сказали. Творчество этого поэта и вся история его жизни легла на эти теории, которые я, в общем-то, развивала в связи с этими чтениями "Они ушли, они остались". Я говорю это потому, что Комарова может прочесть каждый, что здесь написано, и уж если я вышла и говорю, то простите Борис, то что я думаю от своего имени, а не пересказывая то что написал Константин Комаров.
Когда, несколько лет назад, мне довелось открывать чтения которые шли, по моему, в Борисоглебском переулке, я сделала доклад о поэте и ранней смерти. Не бог весть, конечно, свежие истины, и так всё понятно. Но я постаралась сформулировать их обточив как бы понятийный аппарат и причины того что происходит.
Заявив там что поэты безусловно находятся в зоне риска, будучи людьми чувствительными к слову, к тому что происходит в жизни. Они ранимы. И та ранимость, которая в молодости, особенно создает проблемы. С годами она приводит к трагедиям, или человек каким-то образом примиряется с жизнью, находит пути защиты и выживает.
Грубо говоря, как писал Высоцкий, что "нынешние как-то проскочили". Проскочили, видимо, потому что накал романтизма снизился. Романтики поэты опустились в толпу и во общем-то стали как каждый всякий. Не очень выделятся из толпы. Видимо как-то всё-таки немножко занизился градус переживания безобразия мира который разумеется несовершенный, и себя. Так вот эта зона риска, в которую попадают поэты в силу своего переживания того, чем занимается поэзия: любовью и кровью, жизнью и смертью онтологическими вещами лирическая поэзия занимается.
Здесь когда я вникла и стала читать про Крумгольда, про Валдиса Крумгольда, я вдруг поняла что судьба послала мне шанс сказать то что хотела, но что я не высказала. Здесь ситуация ровно наоборот тому что я говорила. Этот человек прожил двадцать семь лет и стихи писал последние три года. То есть, вообщем-то, двадцать четыре года уже, если человек пишет стихи то к двадцати четырем годам он уже заявляет о себе как поэт. Конечно всякие случаи в наше время, когда люди в шестьдесят начинают писать. Но все таки поэзия всегда, искони, считалась занятием молодых. Родился такой человек. Чувствительный к слову, чувствительный к жизни. Рвётся из него, он чувствует зависшим, как я писала в статье, между горним и дольним, а уж ныне вообще непонятно, между мирами, эдакая онтологическая неудовлетворённость и потребность высказаться по этому поводу.
А здесь у человека обнаружили рак крови. И подписали ему смертный приговор. И тому кто не оказывался в этом положении, человеку которому вдруг объявляют смертный приговор, что он болен очень серьёзной болезнью, которая как бы уже обрисовала границы его жизни. Все мы смертны. Все мы когда-то умрём. Но если люди об этом будут думать, они сойдут с ума и не смогут жить. И есть некоторая доля людей которым вот говорят что вот все, тебе осталось три года или три месяца или полгода. И вот в такой ситуации получается уже другая зона риска. И если как я писала и говорила, писать об этом, конечно не стоит, но я говорила много раз. Когда при мне говорят что какой-то поэт спился или пьет горькую, неважно что люди говорили, абсолютно неважно, то мне всегда хотелось сказать, а вы походите в этой шкуре прежде чем говорить что он завалил себя. Ведь бывают такие состояния когда действительно не держишься.
Здесь ситуация ровно наоборот, человек оказался перед лицом смерти.
И в этом состоянии перед лицом смерти. Перед этой сумасшедшей болью. Перед состоянием в котором просто невозможно быть. Каждый ведёт себя тоже по разному. Эта альтернатива противоположенная зоне риска, которая привела этого человека в поэзию. То состояние перед лицом смерти подвигло Валдиса Крумгольда сделать может быть единственный шаг который дал ему то, что никакой не даст. Он начал писать стихи.
Причем как совершенно справедливо, я не очень согласна с постановкой вопроса который сделал Комаров, я бы по другому написала и может быть ещё напишу, если бог даст жизни и сил. Но в одном я согласна, в исходном положении я согласна с Комаровым, это стихи от боли но не о боли. Это поведение человека и написание поэзии человеком который стоит на краю между жизнью и смертью, он уже чувствует что такое смерть, он знает что такое сумасшедшая боль и что такое невозможность жить. И мир который он видит вокруг себя это мир из которого он вот вот уйдет. И в этом состоянии осмысление того чем занимается лирическая поэзия, той онтологии, онтологических её основ просто удивительно. Не жалобы, а скорее любовь к миру. И так ведут себя немногие. Я не говорю что это уникальный случай. Я посмотрела исследование. Я дала себе труд даже заглянуть в исследование. Оказывается написаны целые исследования на эту тему, как ведут себя люди в этих пограничных состояниях. Потому что объявили человеку что у него спид, к примеру, можно наверное бороться. Или тот же рак, который в последней стадии. И в таком состоянии авангард, наиболее сильные, наиболее достойные люди они понимают, что то что человек должен делать, на самом деле делать, от сердца, от себя, он делает абсолютно одинаково и перед лицом жизни и перед лицом смерти. И даже перед лицом смерти он сделает это лучше, потому что нет запаса. Или ты сделаешь сейчас, или не сделаешь вообще. Если говорить совсем просто, не высоким стилем, потому что мы здесь все занимаемся поэзией, других людей теперь практически не бывает на такого рода мероприятиях, такой человек который стоит перед лицом смерти, перед лицом совершенно сумасшедшей боли, он по другому чувствует, он как бы видит это, перед ним открываются эти просторы которые, может быть, откроются перед другим поэтом другими способами и не скоро.
Казалось бы, поэзия Крумгольда не громкая. Но тем не менее она удивительно жизнеутверждающая. Казалось бы в таком состоянии человек должен писать о смерти, о том что такое смерть, о том что все мы бренны. Ничего подобного, это именно тот редкий случай когда что то такое понял и попытался передать. Что можно передать и увидеть только в этом состоянии. Всегда когда, ну не всегда конечно, кто там особенно о нем говорит и кто его знает. Написано немного. Когда начинают нападать на эту антологию и говорить что это неумная идея и что кому это нужно? Это всё гробокопатели. Я хочу сказать что антология вышла и слава богу, антология это всегда прекрасно. А теперь уже, после того как я столкнулась с этим, я скажу что такие вот удивительные случаи, никто бы никогда в жизни не услышал об этом Крумгольде. И я бы прошла в этой жизни мимо, следуя своим путем и не поняла бы то, что мне удалось понять и не влезла бы в ту область психологии творчества в которую в данном случае удосужилась влезть. Поэтому всегда, не всегда, вот когда сейчас о нем заговорили, то всегда говорят об этом "Геологи, засучите рукава, мрамора не хватит на мой памятник" а мне в его стихах видится совершенно другое. Ну кто может еще написать? Сейчас я найду. Например:
Самолёт над лесом
Я подхожу к люку…
А интересно, из чего
Получается клюква?
Вот казалось бы, верхний слой, но когда понимаешь вот это состояние, то из чего получается клюква? Клюква цвета крови. Такой разбрызганной, особенно когда это видишь сверху и понимаешь что если выброситься с самолёта, то эти вот брызги крови. Такие стихи можно писать только в таком состоянии, в противном случае они бы никогда не были написаны. Позвольте прочитать ещё раз:
Самолёт над лесом
Я подхожу к люку…
То есть у человека есть смертельный диагноз, который может быть будет ещё мучительным. Легко выброситься. Хочется наверное наложить на себя руки и покончить с этим состоянием, и тем не менее он этого не делает а пишет поэтические строчки А интересно, из чего получается клюква?
И образуется тот слой смысла который действительно представляет из себя удивительную поэзию. И вот эти стихи, которые я прочла, три четыре, которые всегда цитируют:
Не боги даруют
эту боль
Когда душа
Равняясь со вселенной
Висит на кончики пера
И капля крови
Падает на белое
То есть Комаров назвал свой текст о Крумгольде повальный эпитет "белый", но у него постоянно этот эпитет белый сочетается с красным. То есть с словом кровь. В данном случае кровь и любовь здесь в буквальном смысле фигурирует. Вот эта вот боль она постоянно бьётся, она ненавязчива. Она накладывается на жизнеутверждение, на то что всё равно жизнь прекрасна. Он оставил сына. У него была любящая жена. Вроде бы, как говорится, всё благополучно. Но тем не менее вот это вот движение не от поэзии к пониманию смерти, а от понимания и ощущения смерти к поэзии, это вот тот удивительный случай, который подарил нам этот поэт. Который писал, на самом деле, о царстве белизны. Но как известно белый цвет он является, белый цвет образуется когда суммируются абсолютно все цвета радуги. Если чёрный это поглощение всех цветов, то белый это излучение всех цветов. И в какой то мере тут даже, если перекличку с собственным творчеством, то когда я писала о боли, у меня тоже всё время выносило на белое. На чистоту снега, то есть это та предельная чистота, которая даётся человеку только перед лицом смерти. Он очищается от всего земного и понимает что действительно всё суета сует и всяческая суета. И в сущности жизнь она есть смерть, а смерть есть жизнь.
Ещё вот пару стихов его.
Я хочу я должен
Раньше тебя
Уйти в вечность
Чтобы наше вечное
Осталось мне навечно
У него была хорошая семья, у него была любящая жена.
Вот ещё одно:
На возвращение нанизаны пейзажи,
И чуть дрожат они на стыках рельс,
А за окном сгорает заживо
В закатном зареве летящий лес.
Возвращаюсь я из долгого далека.
Как будто в первый и последний раз,
Пылает лес, в прозрачность стекол
Вплелась ветвей горящих вязь.
Лес догорает. Искры звезд
Летят. Но нету в хаосе их - лишних.
И мой восторг так чист и прост:
Я возвращаюсь, я к себе все ближе.
На возвращение нанизываю черноту,
И этот мир летящий - вечен...
Я сейчас переступлю черту
Меж возвращением и встречей.
То есть это вот совершенно блестящее выражение того пограничного состояния когда человек между жизнью и смертью находится и понимает что смерть она есть жизнь а жизнь она есть смерть. И понимать такие вещи, которые может понять только поэт, котоым он стал, может быть, благодаря этому смертельному диагнозу. Настолько неисповедимы пути господни. Поэтому закончу свой спич, который я наверное затянула, хотелось бы словами этого поэта
На землю я вернусь по лесенке стиха
То есть была лестница Иакова, на которую поднимались, вот это ощущение бесконечного неба, сейчас уже не буду вас задерживать, и говорить что где он пишет что "небо не защищает от космоса". То есть то небо, то горнее, то что приговорило его, то светлое, которое сотворяется с богом в темноте, оно не защищает от космоса. От той бездны космоса, откуда на самом деле приходит судьба. И где на самом деле находятся те высшие силы, которые руководят нашей судьбой.
Благодарю за внимание.
PS
Видео можно скачать в моём канале в телеге.
|
Метки: отец |
Секс, наркотики и насилие (30.07)/Работа (07.08) |

(30.07)
Последний из этих снов был относительно ясным.
Мы шли втроём по приморскому городу в поисках этого самого моря. Город постсоветский, вроде бы Юрмала, но не похожий на настоящую. Он полон полуразрушенных зданий. Смотрю на карту и срезаю путь через огромное нежилое здание с пустым советским бассейном. С другой стороны должен быть пляж. Только там опять улица, уже в сумраке. Она похожа на Ригас в районе даугавпилсского вокзала. Человек, идущий с нами (совершенно его не узнаю) останавливается у одного из домов и звонит в дверь. Потом он и говорит что я должен заплатить. Поднимаюсь к двери, оттуда выходит нервный молодой человек, называет сумму и отдаёт в ответ белые таблетки вперемешку с красными ягодами рябины. Понимаю, что это наркотики. Начинаю беспокоиться. Вдруг за нами раздается шум. Два парня на улице избивают третьего, совсем молодого. У меня сразу два импульса. Хочу вмешаться и помочь парню, но рядом Алёна и на кармане, как назло, таблетки. Не успеваю сделать выбор в пользу трусости, один из избивающих замечает что я смотрю на его футболку с маленьким нацистским лозунгом под сердцем, разворачивается и бъёт меня в лицо. С облегченим бью его в ответ, к моменту удара понимая что это сон и я уже просыпаюсь в свою скучную, мещанскую реальность.
(07.08)
Заезжаю на наш холм. Последнее время в выходные я стараюсь выяснять, какие растения растут в округе, специально ищу определённые виды. Места, которые раньше просто проходил, теперь читаются как осмысленный текст. Особенно удивило место, выбранное случайно для лис. Специально бы не смог такое подобрать, оно между орешником, падубом/остролистом и двумя ясенями. Недалеко большой боярышник. Ветка с орехами висит прямо над центром круга, все эти годы они падали мне под ноги.
Несколько дней думал об этом. Скандинавы орешником отмечали границы Тинга и места оговорённой заранее битвы. Ритуал из саги об Эгиле явно переворачивал это значение, проклиная саму землю.
Этот орешник тоже отмечает границу.
Срезаю с ветки три ореха. Ищу четвертый, но на ветке конкретное число.
Красная ягода рябины на глаза лисёнка.
Убираю из круга отход жизнедеятельности некого домашнего любимца, ставлю закладку в памяти что нужно в рощу с уборкой по выходным приезжать.
Еду на работу.
Вечером оказалось, что я ошибся. Не правильно учёл разницу во времени. Момент астрономического Лугнасада. оказался через двадцать минут после завершения смены. Задуманная импровизация на перерыве сменилась импровизацией в саду у дома, я успел туда доехать несмотря на пробки. Три знака coll на орехах. Плюс одна полоса на яблоке, дающая ceirt . Урожай в руках и под ногами.
Пока светло - сразу поехал в ближайший лес. Я по нему тоже недавно прошёлся, найдя наконец-то путь внутрь. Благодаря системе заборов по краям было трудно понять реальный размер, роща где я был с утра на самом деле прилегает к этому пространству. С другой стороны есть проход. Там живут странные люди в трейлерах, украшающие деревья куклами. Подозреваю что это они ставят в лесу ловушки для птиц, выглядящие нелегальными. Обхожу их табор, углубляюсь в темноту. Я уже знаю что там ищу. Тройной ясень. Между тремя стволами - углубление в коре, там скопилась дождевая вода. Реальное дерево как букальное отражение старого мифа. Я принёс к нему яблоко, орех и ветку рябину. Зная, что можно там вырезать. Вымочил пальцы. Случайно уронил в воду зуб барсука. Понял, что так и надо.
Работа будет продолжена.
Вымыл пальцы в мёде. Вернувшись домой не удержался и начал увлечённо рассказывать Алёне о своей последней идее. Пока я думал о символическом использовании орешника, мне внезапно пришла в голову идея о том как именно могла быть реализована мантическая система упомянутая в "Сватовство к Этайн". Три года я пытался понять тот фрагмент. Осталось только попробовать на практике. В работе.
|
Метки: сны солнцестояние |










