-Метки
"народный собор" Троцкий акварель армия атаман атаманы большевики вера воины вольноопределяющийся евреи ермолов живопись жиды запорожская сечь запорожцы история история казачества история песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки крестный ход медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революция религия русские русский святые соборное дело старые открытки супруненко традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка
-Рубрики
- История (288)
- Статьи (257)
- Культура (255)
- Традиции (246)
- Балясы обо всем (233)
- Воины,оружие (232)
- Творчество (200)
- Новости (105)
- Галерея (55)
- Кухня (13)
-Музыка
- Любо, братцы, любо
- Слушали: 3371 Комментарии: 8
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
-Статистика
Выбрана рубрика Новости.
Другие рубрики в этом дневнике: Традиции(246), Творчество(200), Статьи(257), Кухня(13), Культура(255), История(288), Галерея(55), Воины,оружие(232), Балясы обо всем(233)
Другие рубрики в этом дневнике: Традиции(246), Творчество(200), Статьи(257), Кухня(13), Культура(255), История(288), Галерея(55), Воины,оружие(232), Балясы обо всем(233)
Расскажу Вам казачью сказку "Митяй - казак бесстрашный" |
Дневник |

Расскажу Вам казачью сказку "Митяй - казак бесстрашный"
Рассказывали люди, когда Митяй мал еще был, чуть больше рукавицы, лежал он в люльке. Насупленный, сурьезный такой. В курене ни души: отец в поле, мать хлопотала где-то по домашности.
Подкрался к люльке Страх и стал ребенку рожи корчить, чтоб напужать мальца. А Митяй изловчился. Хвать его за бороду и ну трепать. Да так ухватил — не отдерешь. Крики, вопли в курене. Мать услыхала. Ой, чтой-то с Митяем? Забежала сама не своя, а он в люльке лежит, от удовольствия пузыри пускает, в руках пучок сивых волос держит, играется. А за окном плач да угрозы, да воркотня. Где это видано, чтоб со Страхом так обращаться.
Следующий случай вышел, когда Митяю три года исполнилось. Посадил его отец на коня, чтоб по двору провезти, по казачьему обычаю. Страх из-за сарая как выскочит, отец напугался до смерти, из рук узду выпустил. Конь — на дыбки и понес через забор в чисто поле. Убьется малец! Замерло сердце у отца, мать в голос завыла. День к вечеру уже пошел. Видят, идет конь ко двору, весь в пене. А на нем Митяй восседает. Довольный. Вот какие чудеса чудесные!
Другой случай такой был. Митяй уже в малолетках ходил. В путину со взрослыми невод увязался тянуть. Упросил Страх Водяного побаловать, людям объявиться,
— А я, говорит, — за кусточками посижу.
Долго не хотел этого Водяной. Не солидно, мол. Да согласился наконец. Тянут казаки невод. Тяжело. Видать много рыбы попалось. Подтащили к берегу. А из мотни Водяной, возьми да объявись. Врассыпную народ, кто куда. Страх хихикает, ручонки потирает. Довольный. Смотрит, а Митяй, как стоял на бережку, так и стоит. Говорит Водяному:
— Ты что балуешь?
А Водяной ему бряк в ответ:
— Где здесь дорога на Царицын?
— А вот тамочки, — говорит Митяй, — так прямиком и держи по реченьке.
Развернулся Водяной, от досады Страху кулаком помахал и пошлепал прямо по воде в ту сторону, куда ему Митяй указал.
Пошла с тех пор за Митяем слава бесстрашного.
Подрос Митяй, в года вошел. Война приключилася. Пошел Митяй на войну. А Страх в обозе пристроился. «Уж тут, — думает, — я его пройму».
Вышли казаки к позициям. Слышит Митяй команду:
— Подтянуть подпруги! Садись! Смирно! Шашки вон! В атаку с гиком марш-марш!
Чует Митяй, что-то тревожит его, не по себе ему чего-то. Оглянулся, а сзади на крупе Страх присел и ухмыляется. Выхватил Митяй нагайку и проканифолил Страха от души.
— Размякни маленько, отдышись.
Пули — тзык-тзык! Орудия громыхают, пехота сгурбилась, как стадо, тут казаки врезались в самую гущу. Тут и Митяй подоспел, злой, что замешкался. Упаси боже, что плохое подумают! Вертится на своем маштаке, рубится без устали. Кровь разгорячилась, рука расходилась. Тут наш трубач «стой!» играет, «ап-пель!». Пехота заторопилась, ну, стрелочки, пора и в кусточки. Наши отошли, а Митяй не слышит, в самый раж вошел. Вражий офицер говорит своим метким стрелкам:
— Ну, братцы, ссадите вон того молодца.
Да где там! Такого молодца разве пулей возьмешь. Тут и станичники на выручку пришли, ударили по неприятелю. Опрокинули. Хоть рыло в грязи, да наша взяла. После боя позвал Митяя к себе генерал.
— Хороший ли ты казак? — спрашивает.
— Под судом и следствием не был, — отвечает Митяй.
— На следующий раз попадешь, если команды слушать не будешь. И произвел его в урядники.
После того, как Митяй нагайкой проканифолил Страха, забился он в самые что ни на есть калюки, охает-стонет: «И что же это на белом свете такое происходит». Глядь, а рядом Смерть стоит. Притомилась. Жатва ей большая вышла. Стоит, на косу тяжело опершись... Страх к ней.
— Подсоби, — говорит.
— Да на что он тебе сдался? У меня и без него дел по самую маковку.
— До чего ж ты, — говорит Страх, — неупросливая, когда надо. Ты вот тут гузынишься, а он меня за живое задел. Страх я или кто? Подсоби! Иль мы не в родстве ходим? Всегда рядышком, бок о бок по белу свету.
— Ладно, не трандычи, — говорит Смерть нехотя, — будь по-твоему.
Сидит Митяй, шашку чистит. Видит, батюшки мои! К нему Смерть поспешает, а сзади Страх чикиляет. Подходит она к нему и спрашивает:
— Как жизня-то?
— Да житьишко вмоготу, — отвечает Митяй.
— Ну что, казак, пришел черед твой ко мне в гости иттить.
— А я, — говорит Митяй, — не спешу. Я еще обожду.
Зенки свои вытаращил. Желваками заиграл. Вырвал у Смерти косу. Сломал. Нагайку из-за голенища вытащил. Да как ее оттянет. Да раз, да два. Отлупцевал Смерть. Страх видит такое дело. В бега ударился. А за ним Смерть. Грозится, ты, мол, еще у меня наплачешься. Гляди, наведаюсь.
— Приходи, — говорит Митяй. — Нагаечкой проканифолю. Отлегнет тебе маленько.
Много еще геройств Митяй всяких совершил. Записался он охотником во вражеском тылу похозяйничать. Сколько укреплений взорвал, складов сжег, языков в плен забрал — не счесть.
А вскоре замирение вышло. Смерть-то наших не принимает, вражья пуля не берет. Запросил неприятель пощады. И пошла гульба. Приступили казачки шиночки проверять. Пошел с ними Митяй. Увидел шинкарочку. Больно приглядна. Девка, как есть без пороку. Говорит ей:
— У меня, красавица, каждая косточка, каждая жилка, кажись тебе радуется.
А сам думает: «Откуль у него такие слова взялись?» Аж сердце у самого защипало.
— Речи твои медовые, — отвечает ему шинкарочка, — тока у меня другой на примете имеется, ни тебе чета.
— Ладно, — говорит Митяй. — Быть так, коли пометил дьяк.
А сердце еще больше заныло. Глядь, а около него Страх на лавке пристроился, чего-то выжидает. Митяй как уважил его кулачищем между глаз.
— Что щеришься, корявый?
Визг тут поднялся. Весь шинок перебудоражил. Кинулись землячки к Митяю, мол, перепил маленько. Успокойся.
— Ничего, — отвечает Митяй, — я еще посижу.
Вот сидит. Заговорило у него ретивое. Захотел он порешить дело в один прием.
— Проводи меня, раскрасавица, до крыльца, чтой-то я намахорился, проветриться надоть.
Довела шинкарочка его до крыльца. Ухватил ее Митяй. Бросил поперек седла. Гикнул. И был таков. Льет шинкарочка слезы, голосит по отцу-матери, по милому дружку.
— Умру я, девка, в чужедальней стороне, неоплаканная... Ты не жди меня, миленький, в глухую ночь... Ты не жди меня, хорошенький, на белой заре... Чему быть — так верно сбудется...
Не слушает ее Митяй, коня торопит.
— Може, — говорит, — на свое счастье едешь.
Вернулся казак домой с молодой женой. Раскрасавицей. Тока печальной больно да молчаливой.
Вон сколько наград на груди поблескивает, но сторонятся люди Митяя, дружбу не водят, даже годки, и те поспешали при встрече обойти стороной. Митяю это не в тягость. «Квелый народец пошел, — думает, — завидки их берут. Вот и гузынятся». А сам за собой ничего не видит. Слова ему поперек не скажи. Если сам что скажет — как отрежет, все по его будет. Пытались старики его урезонить. Да где там, гордыня через край хлещет.
Жена принесла ему двойню: мальчика и девочку. Подошел он к сыну. Тот плачет-заливается. Махнул рукой — не в его породу, а на дочку и смотреть не стал.
Потомился он еще малость дома и засобирался в дальние края.
— Хочу, — говорит, — себе ровню найти.
Мать к нему.
— Мы-то с отцом старые. Как же детишки без кормильца?
— Ничего, перемогите. Мне, — говорит, — здесь тошно за плугом ходить да косой махать. Чтоб я на это жизню положил? У меня другое предназначение.
И уехал.
Лет десять, а може и поболе того, не было Митяя в родных местах. В каких краях его носило, где пути-дороги его лежали, одному ему ведомо.
Видят люди, едет Митяй, едет. Сам черт ему не брат. Годы его не берут. Какой был, такой и остался. Значит, не припало ему себе ровню найти. Сидит в седле, как влитой. Та же стать, та же сила из него идет. Подъехал он к своему подворью. А оно крапивой да лебедой заросло. На том месте, где курень стоял, ямы да колдобины. Рассказали ему соседи, что, мол, умерли старики сразу же после его отъезда, а за ними и женка убралась.
— А дети, — спрашивает, — где?
— Дети по людям пошли. И пропал их след.
Глядит на Митяя народ, хотя бы слезинку проронил иль слово какое сказал. Вот твердокаменный! Сел Митяй на коня.
И в галоп его пустил.
Загнал Митяй коня до смерти. Бросил. Пошел дальше пешки. Идет, себя не помнит. Подошел к омуту. «Эх, жизнь пустая. Ничего в ней не нашел».
И в омут — головой. А из омута сила неведомая его на берег выпихнула. По воде пузыри пошли. Вынырнул Водяной и говорит сердито:
— Я тя знаю. Ты Митяй — казак бесстрашный. Ты мне здесь такой не нужон.
Отошел Митяй от омута подале. Упал на лугу. Трясет его тело. Водит. Судорогами бьет. То в жар, то в холод бросает. Забылся на час. Через сколько очнулся, не помнит. Ладонью по лицу провел. А оно мокрое. От слез-то, мокрое. С мальства не плакал. И вот тебе! Сердце размякло. На душе потеплело.
Лежит Митяй, голубым небом любуется, каждой травиночке, каждой букашечке радуется. Хряснула ветка. Вздрогнул Митяй. «Никак, испугался». Обрадовался. «Теперь как все люди заживу, — думает, — детишек сыщу. Прощения попрошу. Авось примут». Сомнение в себе появилось. Думы одолевают. Родителей, жену вспомнил. Закручинился. На душе засаднило. Раскаяние Митяя за сердце взяло. Привстал казак с травы. Смотрит. Глазам своим верить не хочет. Над ним Страх сидит. Лыбится, довольный. А за ним Смерть стоит молча, свой черед ждет.
Повело Митяя, передернуло. Лицом белый стал, как мел. Колени перед ними преклонил.
— Погодите, — говорит, — дайте детишек найтить. На ноги поставить. А потом сам к вам приду.
— Нам годить не досуг, — говорит Страх. — Я тебя столько годов ждал, когда ты меня позовешь.
— Что ж, — говорит Митяй. С земли встал. — Бери, косая.
И к Смерти обращается. А она ему в ответ:
— Должен ты страдание в этой жизни принять. Без этого я тебя к себе не возьму. И отвернулась. Говорит Страх:
— Вот я тебя по лесам, по долам повожу. Примешь переживания, что тебе отведены, а там Смерть тобой займется.
И повел Страх Митяя над пропастями глубокими, по мосточкам шатким, по болотам топким, по пустыням жарким... Побелел Митяй, как лунь, руки-ноги скорчились, дрожат. Пришел черед Смерти. Стала она у него жизнь по капле отнимать, приговаривать:
— Не видать тебе, Митяй, своих детушек. Некому тебя будет хоронить, никому ты ненужный.
Натешилась Смерть над Митяем досыта. Бросила у дороги. Лежит Митяй, последняя капля жизни в нем еле-еле теплится.
А по дороге едут дети с сенокоса, брат да сестра. Увидели, человек лежит, а над ним вороны кружат. Лошадей остановили. К нему кинулись. Ворон распугали. Уложили на телегу. Улыбнулся Митяй напоследки и умер. Привезли его на хутор, обмыли тело. Похоронили. Поплакали вдосталь.
То и были дети Митяя, сын да дочь. Узнал их, видно, перед смертью отец.
По книге "Казачьи сказки"
Волгоград, "Ведо", 1992



Метки: казачьи сказки казаки казачество |
ЗАБАВЫ ПАЛАЧЕЙ ИЛИ УНИЯ |
Дневник |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. За други своя или все о казачестве
ЗАБАВЫ ПАЛАЧЕЙ ИЛИ УНИЯ
Почему княжество Литовское сделалось великим. Брак Ягайло и Ядвиги - начало падения Речи Посполитой.
Двойной гнет украинских крестьян. Стражи южных границ.
Летопись деяний украинских гетманов. Уния и начало священной войны с поработителями. Как Хмельницкий оказался во главе восставших.
Победы и поражения казаков. Выборы или Рада 1654 года.
- Будьте здоровы, сынки... Дай же Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтоб бусурманов били, и турков бы били, и татарву били бы, когда и ляхи начнут что, против веры нашей, то и ляхов били бы! Ну подставляй свою чарку...
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
И испокон веку литовцы жили по обоим берегам Немана и Вилии, в лесах среди болот. Жили они бедно, и под управлением своих князьков и жрецов поклонялись идолам, в то время, когда Русь была уже крещена. Были они столь бедны, что платили дань русским князьям вениками и лыком. С Запада на них наступали крестоносцы, насильно обращавшие их в латинскую веру. Славяне (восточные) теснили их с другой стороны, облагая данью. Однако в отличие от немцев славяне не навязывали литовцам насильно православной веры - те приняли ее добровольно. (В летописном повествовании о Малой России читаем: «Во дни же оные, как то от 1330 года, Литовское Княжество начало просвещаться святою верою Православною, когда Ольгерд князь взял в жену христианку, Марию, дочь Тверского князя, Михаила Александровича, ее же ради и крестился. С сего времени стала быть Литва вся Закона грекороссийского”.
Слово «ляхи» означает людей "ляцкого", т.е. латинского вероисповедания.)
Со временем Литва стала постепенно освобождаться от сильного влияния Руси. Этому способствовало то обстоятельство, что Русь после нашествия монголов была обескровлена и обессилена. Литовцы же, пользуясь болотистой местностью и непроходимыми чащами своей родины, сумели избежать опустошения кочевников. В бою они действовали малыми отрядами и, уходя от открытого боя, нападали всегда внезапно, используя различные засады. На возвышенных местах вдоль своей границы они держали подготовленными костры. При подходе неприятеля костры вспыхивали один за другим. Извещенное таким образом об опасности население пряталось в рубленные городки, располагавшиеся в окружении топких болот и непроходимых лесов. Здесь они отсиживались пока грозила опасность, а в случае осады незаметно уходили из окруженных городков через тайные подземные ходы.
С разорением Руси в Литву хлынул уцелевший православна русский люд. Они несли с собой своим соседям религию, культуру более совершенное искусство ведения военных действий. Великий Князь Гедемин, сын его Ольгерд, внуки Витовт и Ягайло, крестившись в православную веру, переняли у русских систему судопроизводства и законы. Самый язык русский в тогдашней Литве был языком государственным. Многие родовитые и благородные русские князья и бояре, спасаясь от монгольского ига, добровольно приходли в Литву, и служили верой и правдой литовскому государству Литовские православные князья подати брали небольшие, всячески способствовали развитию ремесел и торговли, так что страна эта поначалу была родной как для славян, так и для литовцев. Вот почему через сто лет после опустошительных Батыевых нашествий большое число исконно русских земель (Киевское, Волынское, Черниговское, Новгород-Северское княжества) стали называться Вели¬ким Княжеством Литовским. И все бы было хорошо, и как знать как бы сложилась судьба Литвы, если б не роковой поступок князя Ягайло, перечеркнувший перед литовским государством перспективу великого будущего. Ягайло, соблазнившись красотой польской королевы Ядвиги, женился на ней и, под влиянием жены объединив Литву и Польшу под общим названием Речь Посполитая, изменил вере отца и принял католичество.
Брак Ягайло и Ядвиги принес несчастье и полякам и литовцам, а больше всего поселившимся на землях княжества русским. Дело в том, что Польша к XIV веку была по преимуществу "шляхетским государством". Шляхта (т.е. Польское дворянство) издавала в своих владениях собственные законы, имела право строить крепости, лить пушки. Каждый шляхтич у себя в поместье был абсолютным властителем, мог грабить своих крестьян и делать все, что ему заблагорассудится, вплоть до осуждения их на смертную казнь и исполнения приговора. Жаловаться на него крестьянам, или как их в Польше называли, посполитым, было некому, так как сам король не имел права вмешиваться во внутренние дела шляхтичей. К тому же шляхта выбирала королем кого хотела из своей же среды. Но и выбранному законному государю своему, она могла сопротивляться не только на словах, но и на деле, то есть с помощью собственных войск. Как правило, никто из польских дворян не думал об укреплении отечества и центральной государственной власти. Каждый помышлял о своих собственных интересах и жертвовать ими ради общего дела считалось зазорно и глупо. Большую часть времен шляхтичи проводили в пирах и забавах, они купались в роскоши строили великолепные дворцы для себя и просторные дома для своих собак.
Разумеется, для этого требовалось огромное количество денег, и они бессовестно обирали своих холопов-крестьян, так что последние часто завидовали тому, как живут собаки их хозяев. В большинстве своем ленивые и нелюбопытные, шляхтичи считали для себя низостью заниматься хозяйством, и, чтобы не возиться с грязными холопами, а главное выжать из своих крестьян побольше денег, они стали сдавать свои поместья купцам-евреям, которые давали им золото вперед, а затем были вольны выбивать его из крестьян сколько захотят и любыми средствами. Постепенно еврейские ростовщики опутали своими щупальцами всю Польшу и имели огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику этого государствa. Когда Литва и Польша объединились, короли Речи Посполитой стали награждать литовских и русских родовитых людей правами шляхетства, особенно тех, кто в угоду ксендзам принимал католическую веру. Многие потомки русских князей и бояр изменили вере отцов, научились говорить по-польски, усвоили шляхетские порядки и обычаи. Но простой народ был тверд в своей вере, жил по старому и не желал поступаться ничем.
Защита пограничного края Речи Посполитой в основном лежала на вольных русских людях, которых, как мы уже говорили, называли казаками, что и означало "вольный человек". Дружины этих бесстрашных людей отбивали набеги татар, промышляли на берегах, Днепра, Дона, заходили на Волгу, а также Черное и Каспийское моря. Их набеги на мусульманские суда и города были всегда внезапными и неотразимыми. ( из древних летописей читаем: "казаки... были настоящие морские)
Короли Речи Посполитой, понимая огромное значение военного искусства казаков как силы, способной защитить страну от набегов кочевников, поддерживали их провиантом и боеприпасами и всячески заручиться их доверием. Постепенно им удалось добиться того, чтобы гетманов (т.е. начальников казацких дружин) назначали они сами.
Летопись русского украинского казачества на службе Речи Посполитой ведется с начала XIV в. с гетмана Дмитрия Вишневецкого (По происхождению русского князя). Это было в то время, когда Речь Посполитая еще уважала русских людей и их православную веру, щедро награждая их за службу всему государству. Дмитрий Вещневецкий славился не только своим бранным мужеством, но и мудрым правлением. Он строил на Украине города, замки, наблюдал в судах справедливость, поддерживал торговлю, ремесла, промыслы, энергично заселял опустошенный татарами степной край.
Сдавши гетманство на Украине князю Евстафию Ружинскому, Вишневецкий перешел в братство запорожских казаков, о котором мы подробно расскажем в следующей главе. Он помог устроить за¬порожцам на острове Кодаке неприступную по тем временам крепость, в которой они выдержали осаду татарских полчищ. Затем князь Дмитрий на некоторое время перешел на службу к московскому царю Ивану Грозному. Сам факт говорит о том, что виднейшие представители украинского казачества, даже находясь на службе у Польши, не считали себя чужими московитянам, едино¬родным им как по крови, так и по духу - православной вере.
Во время крымских походов князь Дмитрий попал в плен, и турецкий султан приказал повесить своего злейшего врага на крюк. И повис над пропастью, захваченный под ребро, седой русский богатырь. Несмотря на страшные муки, он славил Христа, проклиная Магомета. Рассказывают, что когда он испустил дух, турки выреза¬ли его сердце, поделили и съели, в надежде усвоить бесстрашие Вишневецкого.
Гетман Ружинский дал Украинскому казацкому войску новое устройство. Он разделил его на 20 полков, каждый в 2 тыс. человек. Эти полки получили название городов Украины: Киевский, Каневский, Черкасский, Лубенский и т.д. Полки в свою очередь делились на сотни, которым присваивалось название местечек. При Ружинском был возобновлен старинный казачий обычай самим из своей среды выбирать полковников, сотников и всю казацкую старшину - есаула, судью, писаря, скарбничего. Записанные в списки казаки стали называться реестровыми, в отличие от прочих. Половина их была конная, половина пешая; первая берегла границу, а вторая стояла по городам в качестве гарнизона. Одежду и вооружение реестровые казаки обязаны были иметь свои, но во время походов польское правительство платило им жалованье: простому казаку - один дукат в год и на два года кожух, т.е. овчинный тулупчик. Сотники получали вдвое больше, полковники и вся войсковая старшина - вчетверо. В атаку казаки, как и прежде, ходили "лавой", т.е. в одну шеренгу, обхватывая противника с флангов и стремясь зайти в тыл. Часто приходилось казакам отбиваться от превосходящих сил, тогда они укладывали лошадей попарно, в две шеренги в форме равностороннего треугольника. Это издревле называлось у них -"батоваться".
В 1516 году при очередном набеге на украинские земли крымцы окружили с трех сторон казацкий табор, осыпали его стрелами и понеслись в атаку. Дружным залпом встретили их сидевшие за возами казаки. Татары отхлынули ж пошли во вторую атаку. Но и на этот раз казаки зря пороху не тратили, их меткий огонь вновь рассыпал ряды татар. Гетман Ружинский отдал приказ, чтобы ни один казак под страхом смерти не вздумал пускаться в погоню. К ночи татары, «вздумавшие взять казаков измором, расположились на ночлег вокруг казачьего табора. Перед рассветом гетман велел выступать. Татары беспечно спали; возле каждого всадника стоял привязанный к руке конь. Десяток спущенных казаками ракет испугал степных животных, и они понесли распластанных на земле сонных всадников. Казаки не стали дожидаться, пока татары придут в себя и наносили ли удары направо и налево; к обеду от татарской орды не осталось и следа. Весь богатый обоз достался в награду православным войнам.
К слову сказать, многие поляки, которые еще не утратили природной славянской чести и не развратились в безделье, пиршествах и дамском угодничестве, прослышав о всегдашней готовности казаков сражаться с неверными и об их беспримерной храбрости и благородстве, записывали себя и своих детей в казацкие полки. Некоторые из них даже крестились в православную веру.
Добрая слава о казаках стала распространяться по всему миру, их стремились пригласить на службу и французские короли, и германские курфюсты, но особенно соседние православные народы. 1574 году молдавский господарь Иван прислал к гетману Свирговскому, преемнику Ружинского, просить помощь против турок. В ТАКОМ деле единоверным братьям, конечно, отказу быть не могло. Сверговский выступил в Молдавию с небольшим отрядом, в 1,5 тыс. казаков. Сам господарь с боярами выехал навстречу гетману, в знак радости молдаване палили из пушек. После знатного угощения казацким старшинам поднесли серебряные миски, полные червонцев, при чем было сказано: "После дальнего пути вам нужны деньги на баню". Но казаки не захотели принимать гостинцев: "Мы пришли к вам, волохи, не за деньгами, не для жалованья, а единственно за тем, чтоб доказать вам нашу доблесть и сразиться с неверными, коли к тому будет случай", - отвечали они озадаченным молдаванам. Со слезами на глазах Иван благодарил казаков за их намерение: «Хотя вас, други мои, и немного, - говорил он, - но один ваш вид так ободрил меня, как будто вас пришло 20 тысяч. Сами можете уразуметь, как мое сердце лежит к вам, а что нам пошлет Господь БОГ, то все разделим с вами пополам». На это гетман отвечал: «Не станем толковать о плате; плату мы считаем последним делом. Желаем сразиться с коварным и свирепым врагом христианства. НАМ не страшны силы турок, с Божьей помощью мы смело двинемся на них, лишь бы выручить твои владения».
Медленно, короткими переходами продвигались турки к берегам Дуная. Их вел опытный Капуд-паша, твердо усвоивший приказ султана разметать христиан, а мятежной» господаря доставить в Стамбул живьем. Владения Ивана были уже обещаны валахскому (Валахскому - румынскому, так как Румыния в старину называлась Валахией.) господарю, который поклялся платить двойную дань против прежней, если султан отдаст ему Молдавию.
Наконец, весть о приближении врагов достигла союзников, стоявших лагерем под Браиловым. Иван отобрал 12 тысяч лучших воинов и поручил их своему старому другу, хорвату по национальности, Иеремии Чарнавичу. Чарнавич должен был наблюдать за передвижением врага и доносить о нем господарю. На прощание Иван поцеловал своего друга, а тот, в ответ, встав на колени, поклялся ему в верности.
Прибывши к Дунаю, Чарнавич увидел на другом берегу огромную турецкую армию, насчитывающую до 260 тыс. воинов со множеством пушек. Несколько раз турки пытались начать переправу, но везде их встречал храбрый сподвижник молдавского господаря. Тогда паша послал Чарнавичу 30 тыс. цехинов, приглашал его к себе на тайный разговор. И Иеремия не устоял, заслышав звон серебра. Он снял сторожевые посты, притворно отступил, а когда турки перешли Дунай, отправился к ничего не подозревавшему Ивану. Бедный господарь поверил, что турок не больше 15 тыс., не сообраив того, как это Чарнавич с 12 тыс. отборных бойцов позволил им переправиться через Дунай. Казаки сразу почуяли, что здесь что-то неладно. "Волохи часто продают свою землю, - говорили между собой сичевики, - они по природе изменчивы, а Иеремия совсем ненадежен. Как это он не сдержал турок? Это нам подозрительно! " Потолковавши так, они пошли к господарю: "Удивляемся мы тебе, Иван, как ты хочешь принять битву, не ведая ни сил, ни намерения турок? Мы готовы биться за тебя, однако не хотим попасть в засаду, как стадо овец!" Господарь уверял их, что Чарнавич - самый преданный его друг и что он первый встретит турок. "Нечего бояться, - говорил он, - я знаю, кому верить".
Союзники установили обоз над озером, недалеко от Дуная, хотя пехоты было у них до 30 тыс., но это было не войско, а простые, плохо вооруженные крестьяне, 12 тыс. конницы были под началом Чарнавича. Господарь расставил свою пехоту в обозе, фронт ее прикрыл каменными пушками. Казаки стали отдельно. Устроивши табор, Иван поднялся на одну из ближайших высот и увидел перед со¬бой огромную турецкую армию. Измена Чарнавича была очевидна. Он крикнул, чтобы к нему позвали Иеремию, но посланные вернулись и передали, что Иеремия уже пошел в битву за своего господаря. Действительно, на глазах Ивана его конница двинулась вперед; после первого же удара знамена опустились, мечи и копья полетели наземь. Между тем в обозе раздались крики, что все пропало, что надо бежать. С трудом унял их храбрый господарь, и началась битва. Турки, наступая, прикрыли свой фронт волохами бросившими оружие. Грянули молдавские пушки и почти все изменники полегли перед своим же обозом.
Свирговский с казаками ударил на турок сбоку; неверные побежали, опытный гетман удержал своих от преследования. Турки опять перешли в наступление. Пыль и дым закрывали солнце, пушкари не знали, куда им стрелять. Иван громко подавал команду: его лихой аргамак носился по всему обозу, своим примером господарь воодушевлял молдаван. Еще немного - и приступ будет отбит. Но вдруг небо заволокло тучами, грянул гром и пошел сильный ливень. Дело христиан пропало. Дождь подмочил порох, стрелять больше было нечем. Турки густой толпой врезались в ряды молдаван и те побежали. Казаки несмотря ни на что сохраняли спокойствие и мужественно погибали в неравной схватке. В тот день их пало больше тысячи. Остальные, видя, что отступление неизбежно, сошли с коней и принялись спасать пушки. Несколько десятков пушек успели стащить, одну самую большую, которую не могли сдвинуть 12 человек, стащил сам господарь. Остальные забили.
К вечеру молдаване заняли пепелище обгорелой деревни, их еще оставалось 20 тысяч. Господарь приказал окопаться, а на следующее утро, когда турки уже заняли все окрестные высоты, оказалось, что в лагере нет ни капли воды. Прошло три дня нестерпимой жажды. Видя отчаянное положение христиан, турки прислали сказать, что если те сдадутся, их пощадят. Господарь видел, что гибель отряда неизбежна, и нет страшнее смерти, чем от жажды и голода. Он потребовал от турок, чтобы казакам дали свободный пропуск на родину, а молдаванам не чинили насилий, а его самого отвезли на суд Султана Селима. "И пусть, - прибавил Иван, - паши семикратно подтвердят присягою на Коране мои условия". Паши семь раз поклялись в присутствии молдавских послов. Затем они приблизились и потребовали выдачи господаря. В это время Иван прощался с казаками, раздавая им свое оружие, золото и драгоценности: "Возьмите их, верные товарищи, в награду за вашу любовь. Вечно сохраню в своем сердце благодарность, в чем клянусь Творцом Богом", - говорил он со слезами на глазах.
Раздавши все, Иван отправился в турецкий лагерь. Его привез к Капуд-паше. Во время разговора Иван не выдержал и обругал мусульманина. Тот ударил безоружного господаря мечом, а бросившиеся со всех сторон янычары отрубили ему голову. Свирепые турки мочили в крови Ивана свои сабли и давали лизать их лошадям, надеясь, что через это они сами получат силу и мужество героя, а их лошади - его бодрость и живость. Покончивши с Иваном, они бросились на беззащитных молдаван и начали сечь их как капусту. Убедившись, чего стоят клятвы турок, казаки встали в тесный треугольник, и много врагов полегло вокруг них прежде чем турки истребили их. Осталось только 12 самых отважных казаков вместе с гетманом. Турки, восхищенные мужеством этих чудо-воинов, не хотели их убивать. Они обещали им почет, большие деньги, если они согласятся надеть чалму и славить "пророка" Магомета. На эти уговоры оставшиеся в живых казаки твердо отвечали, что лучше быть изрубленными в куски, чем погубить свою душу.
Когда горестная весть дошла до Украины, певцы сложили песню про своего гетмана. В этой песне вся Украина спрашивает: "Куда же вы подевали нашего гетмана?" - ни ветры буйные, ни орлы встречные не могли дать ответа, и только жаворонки, кружась в воздухе, печально отвечали:
В глубокой могиле
Близ города Килии,
На турецкой линии
Свирговского заменил Федор Богдан, которого казаки называли попросту "Богданком". По просьбе короля Стефана Батория казаки под предводительством Богданка отправились в поход на Крым. Украинскому гетману пришли на помощь и запорожцы. Пять тысяч последних под начальством есаула Нечая вышли на своих лодках-чайках в море и заперли турецкую гавань Кафа (нынешняя Феодосия) и встали там, ожидая прихода Богданка с войском, который шел в Крым степью. Ему пыталась преградить дорогу татарская орда, но казаки сумели рассеять ее, затем заняли Пере¬коп и Кафу. Дальше они хотели идти на Бахчисарай, но явились ханские послы с богатыми подарками, умоляли заключить мир. По условиям этого мира все христианские пленники в Крыму получили свободу, после чего Богданко с честью и славой вернулся на Украину.
Но ненадолго. Вскоре началась война с турками и снова Украинскому гетману пришли на помощь запорожцы. Пока он двигался на Дон, с Дона на Кубань, затем через Кавказ в Армению и Анатолию, низовые казаки с моря обложили Трапезонт, совместными усилиями опустошили весь азиатский берег, приблизились к проливу против Царьграда, и, как это проделывал в древности отец равноапостольного князя Владимира князь Святослав, выжгли его предместья, переправились в европейскую Турцию, прошли Болтало и напали на Килию. Она была взята штурмом, все турки и армянe были перебиты без пощады, а сам город разрушен до основами. Так казаки помянули погибших здесь своих товарищей. Подвиги Богданка, как и его сподвижника атамана Нечая, были воспеты бандуристами.
Хотя Стефан Баторий и наградил Богданка, прислав ему знамя Изображением Белого орла, он стал косо поглядывать на победоносное православное воинство, опасаясь его усиления в будущем. Нагому он решает вместо прежних 20 полков оставить только шесть, и отдает приказ особым чиновникам, чтобы поселяне самовольно не переходили в ряды казаков. Однако, ни сам Богданко, ни его преемники гетман Подкова, Шах и другие не думали подчиняться новым порядкам, да и не могли бы эти честные воины изменить своим сородичам, ибо только в казачестве украинский русский народ и спасался от панщины и непосильных поборов. Особенно потребовалось поселянам покровительство казаков, когда при Сигизмунде Третьем в Речи Посполитой пришли к власти "отцы"-иезуиты, сумевшие разжечь в короле ненависть к православным, которых стали презрительно называть "схизматиками". Чтобы обмануть народ, иезуиты придумали так называемую Унию, т.е. соединение православной и католической церкви под властью Римского Папы.
Этo была хитрая ловушка, но народ обмануть невозможно, и он скоро понял коварство иезуитов и в большинстве своем украинцы захотели изменить чистоте своей веры и подчиниться якобы "непогрешимому" Папе. Тогда иезуиты начали гонение на православную церковь, в городах православным запретили торговать, записываться в ремесленные цехи, их больше нельзя было выбирать на ответственные должности. Католики дошли до того, что запретили хранившим чистоту веры священникам хоронить по православному обряду и посещать больных со святыми дарами. Буйные толпы католиков, науськиваемые иезуитами и с благословения Папы врываясь в церкви, монастыри, нападали на крестные ходы, при этом они побивали камнями православных монахов и священников, растаскивали богослужебные книги, церковную утварь. Даже в Киеве, в исконно православном городе, большая часть церквей была обращена в униатские, в том числе София и Выдубицкий монастырь. Златоверхий Михайловский монастырь после шабаша католиков долго оставался в запустении. Почти все церковные богатства были захвачены иезуитами, и православные батюшки вынуждены были скитаться.
Иудеи, фактически державшие все финансы Польши в своих руках, сообразили, что они, при желании, могут нажиться на горе православных, оставшихся безо всякой защиты. Вместе с панскою землею и угодьями они стали брать на откуп у поляков и православные храмы. Они стали держать у себя церковные ключи и за всякую требу сдирали с православных три шкуры. При этом они еще чванились и насмехались над людьми и их верой. Если священник, не вы-держав тягот, покидал свой приход, его приписывали к униатской церкви, а священная утварь и одежды переходили к арендаторам-евреям.
Иезуиты думали, что такими мерами они заставят православных окатоличиться или хотя бы перейти в Унию. Но они не учли того, что казаки - эти бесстрашные рыцари православия - не пожалеют даже своей жизни для спасения Матери-Церкви. Восстания казаков стали регулярными и, хотя, как правило, правительственным войскам удавалось расправиться с мятежными казаками, превратить этих свободных людей в рабов было невозможно. Казни ожесточали православных все больше' и больше. Ненависть их копилась долго, десятки лет, пока не началось всенародное восстание Богдана Хмельницкого, освободившее православных от католического засилья. В результате некогда сильное государство Речь Посполитая начало постепенно угасать, пока не превратилось в совершенное ничтожество в XIX веке.
Шляхтичи на Украинских землях королевства, где проживали в основном православные русские люди, год от году вели себя все более вызывающе. Вместе со своим войском они заходили в украинские местечки и села и хозяйничали там, как хотели, если поблизости не было казаков: грабили, насиловали женщин, убивали. Они даже не стеснялись соперничать между собой в таком гнусном деле. Ибо разорять и всячески притеснять "схизматиков", как они называли оставшихся верными православию, считалось у них доблестью.
Однажды распоясавшийся шляхтич Чаплинский сделал наезд на родовой хутор войскового писаря малороссийского казацкого войска Богдана Хмельницкого. Во время своего "отважного" набега он разорил на хуторе пасеку, сжег мельницу, избил до смерти сына и увез с собой жену Хмельницкого. Зиновий Богдан Хмельницкий по матери был внуком славного казацкого гетмана Богданка и, ес¬тественно, рыцарская дедовская кровь в нем закипела. Но вначале он не хотел проливать христианской крови и поехал в Варшаву на прием к королю Владиславу. Тому самому королю, который был сыном Сигизмунда III и чуть было не сделался московским царем в Смутное время. Владислава наверняка бы избрали на московский престол, если бы он согласился в свое время принять православную
веру, необходимое условие, которое поставили перед ним выборные русские люди. В отличие от отца, одураченного иезуитами, Владислав с сочувствием относился к своим подданным православным и вернул им многие церкви и монастыри, отнятые у них униатами при Сигизмунде. Казакам он тоже симпатизировал, помня воинские подвиги Сагайдачного. С их помощью он надеялся отнять у Турции захваченные в Европе земли. Но шляхта с басурманами воевать не хотела, ей больше нравилось грабить мирных украинских поселян, и потому она противилась королю в его планах, не давала ему воли, а главное, не давала денег, необходимых военных приготовлений против Порты. Король принял Хмельницкого ласково и сказал ему: «Знаю об утеснениях казаков, но помочь вам не в силах. У вас есть сабли, кто вам запрещает постоять за себя?!»
По возвращении на Украину Хмельницкий собрал знатнейших казаков в лесу и подробно описал, что видел в Варшаве и пересказал ответ короля и затем открыто обратился к ним с такими словами: "Соединимся братья! Восстанем за церковь и веру православную. Призывайте казаков и всех ваших земляков. Я вас поведу. Возложим упование на Всевышнего: Он нам поможет". - "Умрем друг за друга! - крикнули казаки. - Отомстим за обиды наши, освободим от ярма братьев наших. Да поможет нам Бог!" Так началось восстание, расколовшее, а в конце и погубившее Речь Посполитую.
В конце 1647 года Хмельницкий отправился в Крым. Татарским ханом в то время был воинственный Ислам-Гирей. Он заставил Хмельницкого присягнуть на своей сабле, после чего позволил пригласить в поход перекопского мурзу Тугай-Бея. Его орда дожна была выступать в поход со своим предводителем весной 1648 года. После удачных переговоров с татарами Хмельницкий поехал к запорожцам.
В Сечи его ждала теплая встреча. Запорожцы разом воспламенились, когда кошевой описал им бесчинства, которые творят паны с единоверцами на Украине. Они одобрили планы Хмельницкого начать беспощадную войну против польской шляхты и выразили свою готовность помогать ему. Перед бурей Украина глухо волновалась. Православные передавали друг другу весть о готовящейся войне, запасались оружием и продовольствием. Одни лишь польские военачальники не верили в близость войны, они полагали, что войсковой писарь в лучшем случае выступит против них с разным сбродом степных бродяг, которых они без труда рассеют.
На всякий случай, 6 тыс. казаков, состоявших на службе короля были отправлены на лодках вниз по Днепру; столько же жолнеров и драгун направлены были туда степью под началом молодого Потоцкого, сына коронного гетмана. 22 апреля 1648 года Хмельницкий выступил из Запорожья, обошел крепость Кодак, где сидел польский гарнизон, и стал табором у Желтых Вод. Татары притаились в отдалении. В то же время вдоль Днепра по распоряжению Хмельницкого была расставлена стража, которая переманивала на сторону украинского гетмана плывших на лодках казаков. Польские драгуны были набраны из тех же казаков и могли перейти на сторону своих в любую минуту.
Потоцкий понял, что недооценил сил казаков, но было уже поздно. В отчаянии, послал он к отцу гонца за подмогой, но гонец был перехвачен запорожцами. Перед битвой в канун Николиного дня Хмельницкий обратился к своим воинам с такой речью: "Рыца¬ри-молодцы, славное казачество! Пришел час, постоять за веру православную. Да не устрашат Вас перья на шапках ляхов, не убоитесь кож леопардовых. Разве отцы наши не били их?! Вспомните славу дедов, что разнеслась по всему свету. Вы одного с ними древа ветки! Кто за Бога, за того Бог!" После такой речи казаки пошли в атаку на табор поляков, сзади на них ударил со своей ордой Тугай-Бей. На третьи сутки все было кончено. Когда Потоцкий узнал о столь страшном избиении своего передового отряда и гибели сына, руки у него опустились. "О, сын мой! - причитал старик. - На то ли я дал тебе начальство, чтобы ты выменял булаву на заступ!" И не было старику утешения.
После разгрома у Желтых Вод у поляков осталось всего 10 тысяч воинов. Они окопались на берегу Роси, у города Корсунь (Ныне: Корсунь-Шевченковский.). Войско Хмельницкого расположилось на ближних высотах в виде полумесяца. Казак Галаган был послан в польский обоз. Под пыткой он показал панам, что силы Хмельницкого несметны, что сам крымский хан пришел ему на помощь. После такого известия у панов опустились руки. Потоцкий приказал отступать, и польский табор в боевом порядке двинулся на запад. Галаган показывал дорогу. За поляками неотступно следовали казаки и татары. Вскоре Галаган завел шляхтичей в такую чащу, что казаки без особого труда отбили у них большую часть обоза. Но это было только началом их злоключений. На выходе из густого леса польские повозки попадали на крутой спуск. Внизу дорогу казаки заблаговременно перекопали и стояли наготове с заряженными пушками, сзади напирали основные силы. Полякам деваться было некуда, и покатились кубарем вниз люди, лошади, пушки! Мало кто из ляхов остался тогда в живых в этой жуткой мясорубке.
После столь убедительной победы казаки разделились на небольшие отряды и разошлись по всей Украине, начав разорять шляхетские усадьбы, замки, города. Жестоко мстили казаки не только панам , но и евреям-арендаторам. Их вешали, рубили, топили, кидали с кручи, и лишь немногие сумели избежать народного гнева. Выписал Гоголь, такое жестокое время тогда было.
На защиту шляхетства и католической веры поднялся богатый польский магнат Иеремия Вишневецкий. Потомок православных русских князей, отличавшийся природным умом и отвагой, он получил образование в иезуитском колледже, там перешел в католичество и, как все вероотступники, превратился в религиозного фанатика. Жестоко угнетая православных, Вишневецкий употреблял свои несметные богатства на постройку костелов и каплиц (католических часовен). На войне он отличался беспримерной храбростью и упорством, был безжалостен к врагам, изобретал самые мучительные казни для пленных. Разрозненные группы казаков побаивались в одиночку нападать на Ярему, как они называли Вишневецго. И только один бесстрашный Кривонос искал с ним встречи. Выбери поляки Вишневецкого своим коронным гетманом, т.е. главным военачальником, туго бы пришлось казакам, которые после победы под Корсунем начали утрачивать военную дисциплину, занялись разгулом и грабежом.
Но, к счастью, поляки не вручили булаву Иеремии, считая его человеком гордым и надменным, что оскорбляло их спесь. Начальствовать над войском, собранным против казаков, они поручили трем предводителям: Заславскому, Конецпольскому и Остророгу. Первого Хмельницкий за изнеженность называл в насмешку "периною", второго за молодость - "детиною", а третьего за книжную Леность - "латиною". Обидевшись тем, что его снова обошли, Вишневецкий сначала было хотел сражаться отдельно, но потом, смирившись, присоединился к коронным войскам. На этот раз перед лицом смертельной угрозы шляхта собралась со всей Литвы и Польши и насчитывала в своих рядах около 50 тысяч прекрасно вооруженных воинов, не считая слуг-оруженосцев, которых было втрое больше.
Коронное войско явилось на войну как на пир. Шляхтичи щеголяли друг перед другом бархатными кунтушами и оружием. В шелковых шатрах стояли столы с дорогим фарфором и разными питиями и явствами. За столом они хвастали: "Эту сволочь, казаков, мы плетьми разгоним!" Другие еще более заносчивые говорили: "Боже, не помогай ни нам, ни казакам, а только смотри, как мы с ними разделаемся". Однако не зря говорится: "Не хвались едучи на брань, а хвались едучи с брани". Когда начались боевые действия, предводители шляхты вдруг увидели, что лагерь их стоит в самом неудобном месте: вокруг яры, болота, а в тылу, заблаговременно занятая казаками равнина. Спешно сдали начальство Иеремии три предводителя и ночью бросили лагерь. Вслед за ними бежала и большая часть "непобедимого" шляхетского войска. Казаки бросились за ними в погоню и вскоре захватили славную добычу, которая составляла 120 возов с лошадьми, 80 пушек и всяких драгоценностей на 10 миллионов золотых, не говоря уже о собольих шубах и дорогих сукнах и материях, а также заморских винах и редкостных закусках. В четыре дня казаки выпили столько меду, что его могло бы хватить полякам на месяц, хотя последних и было в два раза больше.
Пока казаки пировали, Хмельницкий размышлял, что делать дальше. Пред ним лежала беззащитная Польша, которую он мог при желании подчинить себе и окончательно освободить украинский православный народ. Однако вместо этого он осадил несколько богатых польских городов и стал ждать, чем кончится варшавский съезд панов, на котором они должны были избрать нового короля. Шляхта, желая успокоить Хмельницкого и притупить его бди¬тельность, избрала королем родного брата покойного Владислава -Яна Казимира. Новый король послал казакам милостивое послание и те, как послушные дети, тотчас оставили польские границы, вернувшись к себе на Украину.
В Киеве были устроены торжества по случаю победы православного воинства Хмельницкого. У стен святой Софии его приветствовало православное духовенство во главе с Иерусалимским Патриархом Паисием. В город, вновь ставшим православным, съехались послы Крыма, Турции, Молдавии, прибыл и московский посол с подарками от государя Алексея Михайловича. Последними приехали послы Яна Казимира, они поднесли гетману королевскую грамоту, булаву и красное знамя с изображением белого орла. Однако в сладких речах не было мира. Гетман требовал, чтобы казаки подчинялись только королю, минуя шляхту, чтоб унии, костелам и засилью евреев-арендаторов был положен конец и еще, чтобы Иеремии Вишневецкому не давали возможность начальствовать в коронном войске. Поляки такие условия сочли предерзостными, ибо они считали, что поселяне для того и созданы, чтобы служить им в холопстве, а предназначение казаков - идти на смертный бой по первому требованию шляхты, дабы охранять ее покой и не мешать ее забавам. Оскорбленная в своем достоинстве Польша пришла в движение: "Не допустим, чтобы презренные холопы указывали нам", - разносилось повсюду. Во главе войска встал сам король, он собрал 50 полков со всех концов Речи Посполитой и еще нанял немецкую пехоту в 12 тысяч человек. Разоривши и выжегши дотла окрестные села, паны встали под Збаражем, что в Галиции. На горе стоял Збаражский замок, внизу - город, возле которого расположилось войско. Поляки сделали сразу большую ошибку, начав окапываться очень широко.
Вся Украина встала для отпора кичливой шляхты. Крестьяне начали спешно перековывать плуги, косы и серпы в оружие. Запустели хутора, села. Дома остались лишь калеки, да старые бабы – все, кто мог носить оружие, ушли в Чигирин в войско Богдана Хмельницкого. Гетман расписал всех по полкам и сотням (хотя в иных сотнях" было и по тысяче человек и более) и всех полков набралось 30. На помощь к Хмельницкому пришли и донские казаки, и пятигорские черкесы. Присоединился к его войску и крымский хан Ислам-Гирей со своей многочисленной ордой.
Украинцы выступили в конце мая 1649 года и скоро были под Збаражем. Паны, застигнутые врасплох, побросали незаконченные окопы. Скорее, всего, они бы побежали, как делали это неоднократно, но было уже поздно - все пути к отступлению Хмельницкий им отрезал. Всю ночь поляки провели в молитве.
На утро казацкий полковник Бурлей повел свой полк на венгерскую пехоту короля, она была смята и бросилась назад. Татары на ее плечах ворвались в обоз. Казалось, все погибло, полякам впору сдаваться, но отважный Иеремия Вишневецкий сумел развернуть венгерцев и повел их в отчаянную контратаку. Много славных рубак Бурлеева полка полегло в той сече, пал и сам Бурлей. На выручку своему товарищу бросился Морозенко, которого поляки боялись пуще мороза", но и его полк ничего не смог сделать. Стойко стояли ляхи, ободряемые Вишневецким. Тогда казаки насыпали за ночь вокруг польского обоза высокий вал, втащили на него пушки и начали палить. На другую ночь поляки выкопали себе вал потеснее и только успели перейти на него, как казаки стали возводить себе следующий, еще выше. Когда он был закончен, полякам уже некуда было деться от стрел и картечи, тогда каждый пан стал окапывать себя и свою лошадь. В конце концов, они оказались в норах, как кроты.
Тогда Хмельницкий отдал приказ рыть подкопы, чтобы заложенными в них минами разорвать кольцо польской обороны. Но припертые шляхтичи придумали противоядие: они ставили на землю миски с водой, а сверху прикрывали их бубном. Как только вода колыхнется, бубен зазвенит. Так поляки узнавали где, в каком месте казаки роют подкоп и тут же начинали копать свой – для встречной мины. Через два месяца у поляков стал кончаться порох и свинец, вышли все съестные припасы, и они, поевши конину, стали ловить для жаркого кошек и мышей. Положение становилось отчаянным. Однако Ислам-Гирей больше тоже не хотел ждать, он по-требовал от Хмельницкого, чтобы замок был взят, иначе он начнет войну против него самого: Русским пришлось идти на штурм, впе¬реди они гнали пленников, связанных шестами; на груди у них висели мешки с землей, вслед за ними катили гуляй-городыни, т.е. крепко сбитые щиты на колесах с небольшими отверстиями для стрельбы из луков и пищалей.
Увидев перед собой городыни, поляки дрогнули и побежали. И снова их остановил бесстрашный князь "Ярема". "Кто сделает шаг назад, тот будет изрублен. Вперед!" - закричал он и, выскочив из окопов, врезался в ряды казаков и, положив многих на месте, поджег городыни. После этого приступ захлебнулся.
В это время Ян Казимир сидел в Варшаве, находящееся в его распоряжении войско было малочисленным, а ополчение прибывало медленно, так как многие местности были заняты казаками. Наконец, ему удалось собрать до 13 тысяч рекрутов, король принялся энергично обучать их стрельбе, маршировке, умению стоять в караулах. Сам ходил по ночам, проверял посты. Наконец, он с войском двинулся на подмогу панам.
По обычаю того времени у каждого шляхтича имелась в обозе своя пароконная буда, в которой хранилась ветчина, сухари, горох, овес, водка, запасное оружие, котелок для варки пищи, лопата, то¬пор и лукошко для земляных работ. Понятно, что огромный обоз сильно растянулся и тормозил движение, начавшиеся проливные дожди также не способствовали его скорости. Когда король уже находился недалеко от Зборова, он все еще не знал, где неприятель: посылаемые в разведку разъезды пропадали бесследно, а местные жители молчали, не выдавая своих ни единым словом, Хмельниц¬кому же сообщали о каждом шаге короля. Оставивши в окопах против Збаража пеших казаков, он ночью вместе с татарской конницей выступил навстречу Яну Казимиру. Не доходя до Зборова, люди Хмельницкого расположились у дороги за лесом в засаде. Гетман обратился к воинам с такой речью: "Души замученных молят о мщении, поруганная церковь взывает к вам, сынам своим, постоять за нее. Но не дерзайте поднять руки на короля, ибо он - помазанник Божий. Мы воюем против панов, которые подвигли его на нас".
Когда поляки начали переправляться через реку, гетман сидел на дереве и первым это заметил. Он тут же выслал казаков к переправе, и началась сеча. Плохо обученные польские крестьяне, из которых в основном состояло королевское войско, валились под ударами казацких шашек, как снопы. Но и шляхтичам пришлось не сладко - более 5 тысяч полегло их тогда возле речки Стрипы, так погиб цвет польского рыцарства. Многие замки и палацы в тот день осиротели.
Между тем король строил свое войско к битве у другого моста, когда на горизонте показалась черная лента. Вдруг она разом свернулась в клубок - это были татары. Они остановились перед правым флангом и стали вызывать королевские войска на себя. Поляки стояли неподвижно, тогда татары повернули направо, вихрем пронеслись перед фронтом польского войска и врубились в их левый фланг. Крики "Алла! Алла!" перемешались с криками «Иисус! Мария!». Темнота от стрел была такая, что поляки не различали своих от чужих. Полковник Лузовский, у которого стрела прошла сквозь обе щеки, прискакал к королю, и Ян Казимир с обнаженной саблей поспешил на левый фланг, громким голосом воодушевляя растерявшихся своих воинов. На какой-то момент поляки, устыдившись своего малодушия, остановились, но не надолго, в конце-концов они были смяты и новая волна татарской конницы поглотила их бесследно. Сумерки прекратили битву, оставшиеся в живых поляки собрались возле своего обоза, вокруг них плотным кольцом расположились татары и казаки.
Утром казаки повели атаку с фронта, а татары бросились полякам в тыл. Вокруг короля столпились его последние хоругви. Дружно ворвались казаки в центр, рассеяли стражу и уже приближались к Яну Казимиру, когда раздалась команда гетмана: "Згода!"
Хмельницкий не хотел, чтобы христианский монарх попал в неволю к 6усурманам. Сеча стала утихать.
На другой день начались переговоры. Ханский визирь отрезал: «Помиримся, если заплатят нам деньги, а казакам простят их вину». И пришлось полякам заплатить татарам 200 тысяч золотых, да еще дать обещание платить ежегодно по 90 тыс. Гетман приказал положить к ногам короля следующие условия:
а) чтобы церковь православная пользовалась в Речи Посполитой теми же правами, что и католическая;
б) чтобы киевский митрополит заседал в польском сенате наравне с другими сенаторами;
в) чтобы число реестровых казаков, т.е. тех, кто находится на содержании короля, было умножено до 40 тыс. человек.
Долго паны спорили, но деваться было некуда и они согласись принять условия Хмельницкого. Наконец, они подписали договор известный под именем Зборовского трактата. По условиям этого трактата именем короля объявлялось забвение всего прошлого и прощение казацкому войску. После его подписания гетман вернулся под Збараж, где польские жолнеры все еще сидели в своих окопах. Когда их отрыли, они были настолько слабы, что не могли держаться на ногах.
Поляки стали грубо нарушать условия мирного трактата и по¬тому мира в Речи Посполитой быть не могло. Крестьяне наотрез отказывались служить панам, которые вернулись в свои поместья. "Разве мы не были казаками, - говорили они, - где же обещания гетмана?" И панам приходилось бежать обратно в Польшу. Там же, где шляхтичи пытались водвориться с помощью военной силы, крестьяне разбегались. Одни уходили за Днепр и расселялись в нынешних Полтавской и Харьковской областях у границы Московского государства; другие бежали в леса и начинали грабить и разбойничать; третьи шли к гетману и требовали, чтобы он записывал их в войско.
Но Хмельницкий и без того уже вписал вдвое больше, чем сле¬довало по договору. Он было попробовал усмирить поселян силой, но этим только навредил себе. Тогда он направил в Варшаву послов с требованием, чтобы уния была уничтожена и чтобы имущество униатских монастырей было передано православным. В ответ на это паны снова объявили Украине войну. Все взрослые поляки записы¬вались в войско, дома остались только ксендзы, старики и дети. Римский папа отправил посла в Люблин, который привез отпущение грехов всем призванным в поход. Среди поляков было такое одушевление, точно они готовились пролить не христианскую кровь, а собирались в поход против неверных.
Увы, среди казаков единодушия в то время уже не было. Многие казацкие старшины, получив то, чего они добивались, забыли законы товарищества, начали жить по принципу "моя хата с краю". Но главное даже не это - огромное число простых казаков утратило первоначальную святость своей борьбы.
Многие запачкали свою совесть разбоем и насилием, нарушив устои православия. Огромная масса казачества утратила свою внутреннюю цельность, развратилась, потеряла чистоту веры, ради ко¬торой и начиналась борьба. Вот основная причина вялости казаков и грубых просчетов, которые были допущены ими уже с самого начала военных действий.
Каковы же были эти ошибки. Во-первых, Хмельницкий позво¬лил соединиться разрозненным силам поляков, во-вторых, упустил случай разбить их, когда они проходили узкими прогалинами меж¬ду болот. Наконец, когда при переправе через Стырь поляки пере- ссорились с немцами и многие порывались бросить войско, казаки вместо того, чтобы воспользоваться таким удобным случаем для нападения, беспечно пировали в лагере Ислам-Гирея. Наконец, 30 июня 1651 года на равнине перед селом Берестечко, что на Волыни, состоялось генеральное сражение. Число поляков простиралось до 300 тыс. человек, казаков было не более 80 тыс., плюс татарская орда из 120 тыс. конников. Рассеялся утренний туман, солнце осветило равнину, и стало видно, как на одной стороне поблескивают панцири и колышутся перья, а на другой чернеют казацкие свитки и белеет знамя повелителя крымских татар.
Битву начал храбрый князь Вишневецкий, он врезался с левого фланга в скованный цепями казачий табор и неожиданно рассек его пополам. Как потом оказалось, в среде казаков были изменники, подкупленные Яремою. Однако на какое-то время верные казаки сумели вновь сплотить свой табор и Вишневецкому пришлось отступить с большими потерями. Но тут грянули разом 40 польских орудий и татары, бросившиеся было на выручку казакам, вдруг разом побежали в непонятном страхе обратно. Они кидали седла, бурки, торбы, лишь бы облегчить своих коней. Бог на этот раз был явно стороне поляков, ибо не что иное как грозный лик Царицы Небесной до смерти напугал мусульман. Казаки за то, что не сумели сохранить в чистоте заветы Православия, должны были искупить общий грех своей пролитой кровью.
К вечеру от казачьего войска осталось едва ли половина. Помраченные Божьим гневом, казаки палили друг в друга. За ночь казачий табор покинули все, кто стоял нетвердо в своей вере. Увы, их было большинство. Осталось 3.тысячи самых отважных воинов. Окруженные со всех сторон, они дрались подобно львам и почти все пали геройской смертью. Остался небольшой отряд в несколько сот бойцов, храбрейших из храбрых. С ними поляки ничего не могли поделать. Потоцкий, жалея свои таявшие полки, послал сказать что, если казаки сдадутся, то останутся живы. В ответ же казаки побросали в воду все свое золото и серебро и прокричали: "Знайте, ляхи, что казаку всего дороже свобода!" Тогда гетман бросил против них два свежих полка. Казаки прочли молитву, обняли друг друга и бросились в сечу. Почти весь Радзивиллов полк погиб, прежде чем перебили русских. Остался один из той горстки храбрейших. Он спрыгнул в лодку и отмахивался косой. 14 пуль выпустили в него, но он продолжал держаться на ногах. Король, бывший Владетелем его отваги, приказал сказать казаку, что он преклоняется перед его храбростью и дарует ему жизнь. - "Я гнушаюсь жизнью, видев смерть своих товарищей, и хочу умереть как казак!" - растил на это последний боец под Берестечком. Тогда недруги вошли в воду и проткнули его копьями с разных сторон.
Прошло еще три года тяжкой войны. Украина обеднела, обезлюдела. Лучшие казачьи силы полегли в битвах, поселяне уходили за Днепр на новые земли. Несмотря на жестокость, Польша была бессильна смирить восставший православный русский народ, однако казаки были слишком малочисленны, чтобы устоять без посторонней помощи. И тогда гетман Хмельницкий обратился к единоверной Москве, где в то время царствовал отец будущего императо¬ра России Петра I - Алексей Михайлович. Патриарх Никон и все русские люди просили царя пойти на этот рискованный шаг, ибо с принятием Украины под свое покровительство становилась неизбежной война с Польшей. И только тогда, когда московские ратные люди дали обещание идти биться с королем польским, не щадя своих голов, царь послал на Украину двух именитых бояр.
На третий день Крещенья 1654 года была назначена большая Рада в Переяславле. На рассвете ударили довбыши, и площадь стала заполняться народом. В 11 часов вышел Гетман и вся старшина казацкого войска. Хмельницкий предложил народу выбрать себе государя, одного из четырех кого захочет: или турецкого султана, или крымского хана, или короля польского, или царя православного.
Сказавши о каждом, что было нужно, гетман прибавил от себя, про царя восточного. "Этот великий царь склонил к нам свое милостивое сердце и прислал бояр с милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме его царской руки, мы не найдем благотишнейшего пристанища". Тысячи голосов отвечали: "Волим под царя восточного!" После этого полковник Тетеря обходил площадь и спрашивал: "Чи вci так соизволяете?" "Bci! - кричал народ единогласно. Тогда гетман возгласил: "Буди так! Да укрепит Господь крепкою рукою!" Народ отвечал: "Боже, утверди! Боже, укрепи, щоб на виси всi були единi!" И только после этого начался священный обряд присяги.
Еще три года прослужил гетман на своем посту. Прослужил бы может быть и больше, если б заезжий шляхтич не опоил его отравленной водкой. Он стал сохнуть, болеть и в Успенье 1657 года скончался в Чигорине.

Метки: казачество русские традиции казаков |
Крестный ход разгоняли ОМОНом, но мы выстояли! |
Дневник |
Аноним ( KAZAKI) все записи автора
Крестный ход разгоняли ОМОНОМ, внутренними войсками и ряжеными казаками - но он всё-таки состоялся и завершился. Поражает милость Божия к нам, грешным, в этот день творились чудесные случаи!
KAZAKI) все записи автора
Крестный ход разгоняли ОМОНОМ, внутренними войсками и ряжеными казаками - но он всё-таки состоялся и завершился. Поражает милость Божия к нам, грешным, в этот день творились чудесные случаи!
Как всё происходило. В 14-00 на Пушкинской площади начался молебен, люди выдвинулись и пошли крестных ходом по Бульварному кольцу - всего было около 400 человек; никаких политических знамён и лозунгов, только иконы и хоругви. Буквально через 300 метров выстроился кордон из ОМОНА, пара мгновений, и ещё кордон из внутренних войск.
Власти решили разогнать прежде разрешённое мероприятие православных, руководили беспределом негодяев непосредственно полковник Епифанцев (он присутствовал и лично отдавал приказы) и генерал-майор Козлов (это фамилия, он отдал распоряжение). Больше часа мы стояли и молились, молились коленопреклонно, перед иконой Казанской Божией матери.
На сторону милиции встали ряженые казаки - "для предотвращения провокаций".
Затем, по нерешительности организатора хода Г.Сальникова и под напором левоохранителей, люд стал возвращаться к метро…
Но это лишь начало!
Внегласно было решено встретиться на площади Никитские Ворота и продолжить крестный ход - ведь какая нечисть посмеет запретить молитвенное шествие в величайший праздник!?
Так и произошло! Собралось человек 50, - ну, с Богом! Мы прошли до Кропотнинской, обогнули Храм Христа Спасителя, уже шли по Кремлёвской набережной!
И тут подъезжает КРАЗ и ПАЗик содомитов (ОМОН), и вновь преграда!
Приказ всех скручивать и задерживать!
По Божией милости осталось нас на свободе шесть человек, простых мирян. Остальных увезла в неизвестном направлении еврейская вооружённая прислуга!
Не отчаиваясь, мы решили завершить начатое!
Ведь мы свободны, а значит не имеем права прекратить крестный ход!
И, воспевая в молитвах пресвятую владычицу нашу Богородицу, мы продолжили..
И, просто чудо…
Около Чистых прудов мы встречаем троих единоверцев, шедших с Хоругвью и поющих Богородице дево радуйся!, шедших с этого же запрещённого, ненавистного известной национальностью, крестного хода!
Воссоединившись с ними, славя Христа и Марию деву, мы проследовали дальше. И мы дошли до конца, по великой Божией милости к нам!
На пути нам 2 раза встречались воинствующие содомиты, деловито выходившие из своих КРАЗов и пытающиеся остановить и задержать нас.
Но по какому-то Божественному заступничеству мы проходили сквозь бандитов уже невредимые.
На Пушкинской площади все шедшие миряне торжественно пропели Достойно есть, тропарь праздника и помолились о задержанных братиях и сестрах. Каждый, с благоговением приложился к освященной Хоругви Богородицы и отправился восвояси.
Слава Христу! Слава пречистой Богородице! Слава всему небесному воинству!
Спаси Господи, всех!
Андрей
Как всё происходило. В 14-00 на Пушкинской площади начался молебен, люди выдвинулись и пошли крестных ходом по Бульварному кольцу - всего было около 400 человек; никаких политических знамён и лозунгов, только иконы и хоругви. Буквально через 300 метров выстроился кордон из ОМОНА, пара мгновений, и ещё кордон из внутренних войск.
Власти решили разогнать прежде разрешённое мероприятие православных, руководили беспределом негодяев непосредственно полковник Епифанцев (он присутствовал и лично отдавал приказы) и генерал-майор Козлов (это фамилия, он отдал распоряжение). Больше часа мы стояли и молились, молились коленопреклонно, перед иконой Казанской Божией матери.
На сторону милиции встали ряженые казаки - "для предотвращения провокаций".
Затем, по нерешительности организатора хода Г.Сальникова и под напором левоохранителей, люд стал возвращаться к метро…
Но это лишь начало!
Внегласно было решено встретиться на площади Никитские Ворота и продолжить крестный ход - ведь какая нечисть посмеет запретить молитвенное шествие в величайший праздник!?
Так и произошло! Собралось человек 50, - ну, с Богом! Мы прошли до Кропотнинской, обогнули Храм Христа Спасителя, уже шли по Кремлёвской набережной!
И тут подъезжает КРАЗ и ПАЗик содомитов (ОМОН), и вновь преграда!
Приказ всех скручивать и задерживать!
По Божией милости осталось нас на свободе шесть человек, простых мирян. Остальных увезла в неизвестном направлении еврейская вооружённая прислуга!
Не отчаиваясь, мы решили завершить начатое!
Ведь мы свободны, а значит не имеем права прекратить крестный ход!
И, воспевая в молитвах пресвятую владычицу нашу Богородицу, мы продолжили..
И, просто чудо…
Около Чистых прудов мы встречаем троих единоверцев, шедших с Хоругвью и поющих Богородице дево радуйся!, шедших с этого же запрещённого, ненавистного известной национальностью, крестного хода!
Воссоединившись с ними, славя Христа и Марию деву, мы проследовали дальше. И мы дошли до конца, по великой Божией милости к нам!
На пути нам 2 раза встречались воинствующие содомиты, деловито выходившие из своих КРАЗов и пытающиеся остановить и задержать нас.
Но по какому-то Божественному заступничеству мы проходили сквозь бандитов уже невредимые.
На Пушкинской площади все шедшие миряне торжественно пропели Достойно есть, тропарь праздника и помолились о задержанных братиях и сестрах. Каждый, с благоговением приложился к освященной Хоругви Богородицы и отправился восвояси.
Слава Христу! Слава пречистой Богородице! Слава всему небесному воинству!
Спаси Господи, всех!
Андрей
Метки: православие казаки крестный ход |
Легко ли быть казаком? |
Дневник |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. За други своя или все о казачестве
Легко ли быть казаком?
Скрываясь в разных тернах, чагарниках и буераках, казаки царапали себе колючками руки, кололи ноги, сдирали цепкими ветками кожу. Забираясь в звериные норы, в густые камыши и болотистые плавни, они встречались со змеями, черными пауками "мармуками", тарантулами, не говоря уже о мошке, комарах и слепнях. В открытой сухой, сожженной солнцем или пожарищем степи, испытывали они страшные мучения от голода и жажды, и тут часто с предсмертными их стонами сливался вой волков, которые, растерзав тело человека и не насытив-шись им, "квылили - проквиляли, похороны по казацкому телу справляли". В непролазных топких плавнях казаки болели, особенно в период цветения камыша, и горячкой и лихорадкой. Набегая на Крым или на турецкие владения, заносили они оттуда "черную хворобу", или чуму, и умирали в дороге вдали от родины, от друзей, без последнего утешения.
По балкам, по днепровским островам, по темным пещерам, а то и просто в степи, валялись непогребенными тела их, обмываемые дождем, обвеваемые ветром, палимые солнцем, лежали до тех пор пока вместо тела не останется голый скелет, да промеж костей, в отверстия глаз не пробьется высокий бурьян.
Надо ли говорить, что в таких условиях могли выжить только самые крепкие, самые смелые, самые мудрые и изворотливые. Замешанный на такой закваске, казацкий характер был подобен кремню, который с годами только отшлифовывался. Нет, не хрупкими людьми были казаки. Иначе как бы смогли они отстоять Русь, а в конечном счете, всю Европу от беспощадных турецких полчищ и хищных татар, стотысячные набеги которых наводили ужас на все христианское население от берегов Черного моря до моря Балтийского. Еще сложнее было противостоять братьям по крови (но отнюдь не по духу!) полякам-католикам, время от времени посягавшим на за
вещанную славными предками святую веру. Все можно было стер¬петь, но последним никак нельзя было поступиться, ибо казачий народ пуще очей своих оберегал чистоту своего православия.
В одной из казацких дум прямо говорится о причине непрестанных войн запорожцев с Речью Посполитой:
Як у свитый день, божественный вивторок,
Гетьман казакив до ехид сонце у поход выряжав,
И стыха словами промовляв:
Гей, козаки вы, диты-друзи!
Прошу вас, добре вы дбайте, от сна вставайте.
Святый Отче-наш читайте,
Виры своей хрестианской у поругу не дайте!
Казаки называли себя рыцарями Православия, борцами за чистоту веры и пострадать в борьбе с еретиками они считали для себя превыше всякой чести, знаком Божественного благоволения. Сердцевина казачьей натуры и вместе с тем символ веры этого бесстрашного воинства сконцентрированы в том воинском клике, с которым обращались они к отважным и честным сынам своего племени: "Кто хочет за веру христианскую быть посажен на кол, кто хочет быть четвертован, кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, кто не боится смерти - приставай к нам. Не надо бояться смерти - от нее не убережешься. Такова казацкая жизнь".
И умирали казаки, "не скыгляча и не скаржичись", т.е. не воя и не жалуясь, а всегда с достоинством, со стоическим презрением к своим мучителям. Приговоренный к сдиранию с живого кожи, казак уже во время казни заявлял своим палачам, что и такая казнь ему не казнь, а чистый смех, что от сдирания с тела кожи он не испытывает ни малейшей боли, а только чувствует на теле мурашки: "От казалы, що воно боляче, аж воно мов комашня кусае...". Известны случаи, когда осужденные на виселицу казаки просили заменить им эту легкую казнь сидением на столбе с острым железным спицем на верху, чтобы умереть потомственною столбовою смер-тию. При этом обычно говорилось: "Так умирав мий дидусь - Царство ему Небесное! Так умер мой батько - нехай вин царствуе на том свити! Так и я хочу умерти". И казак умирал, сидя на ост-ром спицу. И как умирал! Точно потешаясь над своими палачами, он просил дать ему люльку, чтобы в последний раз повеселить себя тютюнцом и с весельем закрыть свои очи.
В былое время никто не сомневался, что казак умирает настоящею подлинною смертью не после первой, не после второй, не после третьей, а аж после четвертой смертельной раны.
Уходя в степи, казаки отрекались от семья по слову Иисуса Христа "нет никого, кто оставил бы братьев, или сестер, или отца,или мать, или жену, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной." (от Марка, 10, 29-30). Отрекались казаки от всех радостей земных, от семейной жизни, от благоустроенного человеческого жилья и селились, поначалу, прямо под открытым небом. Питались, когда рыбой, когда птицей, а когда и просто отваром из рогов валявшихся в степи диких козлов да ржаным толокном, утешая себя тем, что от такой пищи человек делается легче и чище. Про них не зря говорили: "Казаки як малые дети: дай богато все съедят, дай мало – довольны будут".
Чтобы застать неприятеля врасплох, казаки нередко терпели крайние лишения: они не разводили огнище, чтобы согреться зимой, не запаляли люльку, которая помогала им бодрствовать, даже 96 позволяли ржать своим лошадям. Часто сидели они на одном месте по нескольку часов без движения, без единого слова, выжидая единственного необходимого для победы мгновения.
Вынужденные избегать встречи с многочисленными врагами, нередко прятались они в высокой, скрывавшей всадника с головой траве, и блукали по ней по целым дням и по целым неделям, а чтобы сбить с толку своих преследователей, они неподражаемо выли волками, лаяли лисицами, кричали пугачами, да так натурально, что даже чуткое ухо татарина не могло отличить эти звуки от истинных.
Застигнутые в одиночку в голой, выжженной солнцем или опаленной огнем степи, они бросались в озера и лиманы, потом подолгу сидели в непролазных камышах, пережидая врагов, или же бросались в воду и прятались в илистом дне, часами дыша через камышинку. Путь свой днем они "правили" по солнцу да по курганам, а ночью - по звездам, по течению рек и по направлению ветра, который называли то "москалем", то "донцом", то "ляхом", то "бусурманом".
И все-таки в чем же было, есть и будет сущность казацкого характера и каковы его основные черты?
Как правило, написаны они были на челе, и уже по внешнему облику казака можно было судить о его натуре. Просторные, не стесняющие движений одежды, удобные и в бою, и на пиру, и в обыденной жизни; открытый ясный взгляд, уважающий и в себе и в других человеческое достоинство. Плечистые, статные, смуглые от степной жары и в то же время по большей части полнолицые. Почти всегда на темени лихо заломленная барашковая шапка и вечная люлька в зубах. Они излучали спокойствие, силу, уверенность в себе, происходившие из глубокого убеждения, что ежели Бог не выдаст - свинья, ну никак, не съест.
Посторонних казаки поначалу встречали неприветливо, исподволь приглядываясь, изучая человека. На вопросы отвечали весьма неохотно и любили больше послушать, что скажет приезжий. И только убедившись, что пожаловавший к ним свой по духу и вере, они мало по малу смягчались» лица их принимали веселый вид, и живые глаза начинали искриться удальством и неподражаемым юмором.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, щедры, гостеприимны. Страннолюбие их распространялось не только на приятелей и знакомых, но и на посторонних захожих людей. Об этом свидетельствуют воспоминания современников, хранящиеся ныне в архиве. Вот одно из них: "Я служил два года в Бериславе (ныне Херсонская Область), а оттуда недалеко были казачьи рыбные заводы. Бывало придешь на завод, а тебя даже не спросят, что ты за человек, а тотчас:
- Дайте-ка поесть казаку и чаркой водки попотчуйте; может быть, он пришел издалека и устал.
А когда поешь, еще и предложат лечь отдохнуть, а потом только спросят:
- Кто таков? Не ищешь ли работы? Ну скажешь:
-Ищу.
- Так у нас есть работа, приставай к нам. Пристанешь, бывало, и иной раз в месяц рублей 20 заработаешь"(В те времена человек на 2 рубля мог кормиться в течении года).
Наравне с гостеприимством казаки отличались необыкновенной честностью. Как свидетельствует католический священник Китович, в Сечи "можно было оставить на улице свои деньги, не опаса¬ясь, что они могут быть похищены".
Ян Собесский в своих знаменитых записках о Хотинской битве особо подчеркивает, что казаки имели глубокое уважение к старым и заслуженным воинам и вообще к "военным степеням". Это говорит о том, что анархию и безначалие они не считали для себя при- емлемым образом жизни, а иерархия личностных ценностей, осно¬ванная на истинных заслугах, была у них достаточно прочной.
Одна из замечательных черт казаков - способность к искренней дружбе. Часто среди них бывало, когда два казака, совсем чужие один другому, шли к священнику и давали в его присутствии такое "завещательное" слово: "Мы, нижеподписавшиеся, даем от себя сие завещание перед Богом о том, что мы - братии, и тот, кто нарушит братство нашего союза, тот перед Богом ответ даст, перед нелицемерным Судиею нашим Спасителем. Вышеписанное наше обещание вышеписанных Федоров (два брата Федор и Федор) есть:
дабы друг друга любить, невзирая на напасти со стороны наших либо приятелей, либо неприятелей, но взирая на миродателя Бога". После чего побратимы делали собственноручные значки на завеща¬тельном слове, слушали молитву или подходящее случаю место из Евангелия, дарили один другого крестами и иконами, троекратно целовались и выходили из церкви как бы родными братьями-до конца жизни.
В домашнем быту казаки были просты, умеренны и необыкновенно изобретательны. От лихорадки они пили водку с ружейным порохом, на раны прикладывали растертую со слюной землю, а при отсутствии металлической посуды ухитрялись варить себе пищу в деревянных ковшах, подкладывая туда один за другим раскаленные в костре камни, пока вода не закипит. Они добывали себе пропитание в основном охотой и рыболовством и больше всего ценили хлеб в самых его разнообразных формах: от каши до выпечки. Между прочим, это исконно славянская черта.
На войне казаки отличались изобретательностью и исключительной маневренностью. Они умели в любом положении "выиграть у неприятеля выгоды, скоропостижно на него напасть и нечаянно заманить". Однако главной военной хитростью казаков была их беспримерная отвага и вера в победу. Не раз бывало на виду изумленных турок казацкие чайки окружали многопушечный корабль неверных и, словно стая комаров, бесстрашно бросались со всех сторон на огромное тучное "животное". Взяв судно на абардаж, они в полчаса вырезали всю команду и пускали его на дно вместе со всем, что не могли забрать с собою. Не случайно при одном виде казаков бледнели кровожадные мусульмане, в ярости скреже¬тали зубами католики.
Будучи в душе поэтами и мечтателями, казаки всегда выбирали для своих жилищ, как временных, так и вечных самые живописные места. Они влезали на высокие скалы, уединялись в лесные пущи, поднимались на степные курганы и с высоты птичьего полета любовались ландшафтами, предаваясь тихим думам и возвышенным размышлениям. Любили они послушать и своих певцов-баянов или и сами складывали песни и думы, беря в руки пузатенькую с кружочком посередине кобзу. Кобза, по по-нятиям казаков, была выдумана святыми людьми. Для скитающе¬гося по безлюдным степям рыцаря она была истинною подругою, дружиною верною, которой он поверял свои думы, разгонял мрачную тугу.
Разумеется, были в характере казаков и недостатки, большей частью унаследованные ими от древних предков. К примеру, не могли они удержаться, чтобы не побалагурить, послушать рас-сказы других, да и самим рассказать о подвигах товарищей, держа при этом в зубах люльки-носогрейки. Бывало, что в рассказах этих они и прихвастнут и прибавят чего от себя. Любили казаки, вернувшись из заморского похода, шикнуть своим нарядом и убранством. Отличались они и беспечностью и ленью. Не отказывали себе и в питии. Вот что писал о них француз Боплан: "В пьянстве и бражничестве они старались превзойти друг друга, и едва ли найдутся во всей христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие, и нет на свете народа, который мог бы сравниться в пьянстве с казаками". Однако во время похода объявлялся строжайший су-хой закон, отважившегося напиться немедленно казнили. Но и в мирное время быть с водкою запанибрата могли только рядовые казаки, для "начальных людей", для тех, кто, по существу, руководил казачеством, пьянство считалось серьезным недостатком. Среди атаманов всех уровней пьяниц не было, да и быть не могло. Ибо им тут же отказали бы в доверии.
В основе характера казака, как и вообще русского человека, были какая-то двойственность: то он очень весел, шутлив, забавен, то необыкновенно грустен, молчалив, недоступен. С одной стороны это объясняется тем, что казаки, постоянно глядя в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их долю короткую радость, с другой стороны - философы и поэты в душе - они часто размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе из этой жизни.
Метки: казачество русские традиции казаков |
УКАЗ О АТАМАНЕХ И О КАЗАКЕХ |
Дневник |
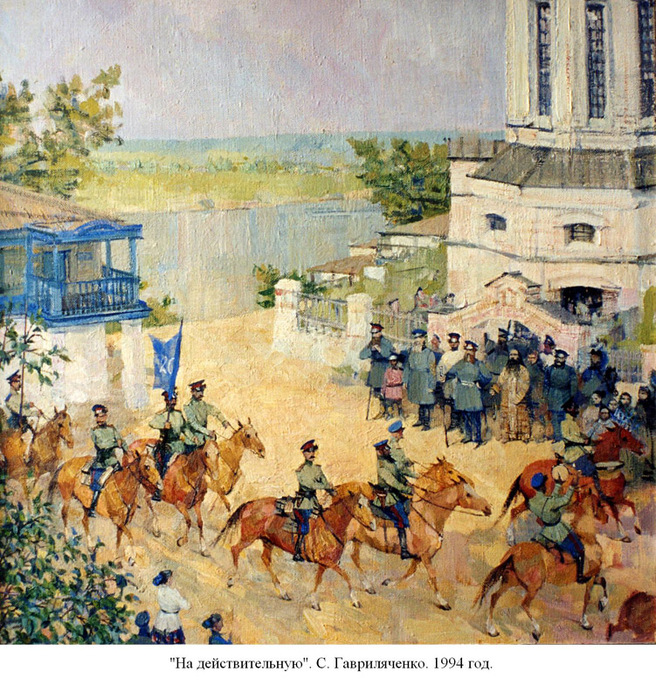
Соборное Уложение 1647 года
УКАЗ О АТАМАНЕХ И О КАЗАКЕХ
а в ней 3 статьи
1. А на ком учнут искать, или кому отвечать атаманы и казаки, и им в судных и во всяких управных делех чинити указ, по суду, и по крепостям и по сыску, до чего доведется. А государевых пошлин на виноватом не имать з двунатцати рублев, а что будет иску сверх двунатцати рублев, и с того иску государевы пошлины с атаманов и с казаков имати по указу. А за бесчестья атаманом и казаком, кто их чем обесчестит, правити против их денежных окладов, а которым идет корм, и тем за бесчестья править по пяти рублев.
2. А кузнецким старостам самопалнаго дела бесчестья правити по пяти же рублев, а рядовым самопальным кузнецом за бесчестья правити по четыре рубли.
3. А чему в и(ы)сковых челобитных цены будет не написано, и тому цена положити по сему указу. Конь восмь рублев. Кобыла нагайская шесть рублев. Жеребенок нагайской три рубли. Мерин четыре рубли. Кобыла русская три рубли. Жеребенок русской трех лет полтора рубли. Кобыла русская же трех лет полтора рубли. Корова два рубли. Бык два рубли. Теленок годовой дватцать алтын. Свинья или боров кормленой дватцать алтын. Поросенок однолетней пять алтын. Овца шесть алтын четыре денги. Боран пять алтын. Боран молодой три алтына. Козел четырех, или пяти лет полтина. Козел трех лет тринатцать алтын две денги. Козел годовик восмь алтын две денги. Коза восмь алтын две денги. Козленок молодой три алтына. А хлебу всякому цену класти, как в котором году хлеб учнут в торгу купити. Гусь живой три алтына две деньги. Гусь битой два алтына. Утка живая два алтына. Утка битая восмь денег. Куря индейское шесть алтын четыре денги. Курица русская восмь денег.

Метки: казачество русские традиции казаков |
«Что с бою взято, то-свято» |
Дневник |

Существовал ставший анекдотом диалог казаков с армейским генералом, который ахнул, узнав, что у казаков нет ни обозов с фуражом, ни обозов вообще.
- Да как же вы без обозов воюете? ~ По привычке, вашбродь.
-Да чем же вы питаетесь?!
- Стараемся, вашбродь!
- И хватает?
- Ишо и остается!
- А остатки куда деваете?
- Съедаем, вашбродь!
Казаки испокон веков вооружались, кормились, снаряжались и фуражировались за счет противника, на ком висели, как собаки на медведе.
Что же касается военной добычи, благодаря которой казачьи полки и кормились, И жили, по крайней мере на войне, то действовали они неукоснительно, по правительственному предписанию.
В 1808, в 1834 и 1859 году «правительство санкционировало старое обычное право казаков на добычу и ее дележ, по которому всякая военная добыча составляла частное достояние добытчиков, поэтому правила, установив, что под военною добычею разумеется всякая «собственность вооруженного неприятеля, отнятая в бою», определяют: «добытое целым полком - принадлежит всему полку, добытое отдельной партией - только этой партии, отбитое же отдельным лицом - составляет собственность этого лица.
Особенно отличившиеся в бою офицеры и нижние чины при дележе добычи получают двойную часть против своих товарищей, а не бывшие в бою не пользуются и долей в добыче, за исключением командированных по службе. Уличенные трусы не только не имели своей доли в общей добыче, но у них отбиралось даже и то, что они иногда успевали присвоить, а затем они подвергались еще и телесному наказанию перед лицом своих товарищей».
Особое значение для кавалерии имел «ремонт», В точном переводе с латыни - обмен лошадей.
«Отбитые же у неприятеля лошади, по инструкции, не составляли, в общепринятом смысле, добычи. Так как по некоторым другим причинам, и главным образом «по свойству казачьей службы, приобретение лошадей от неприятеля в добычу для донских полков всегда удобно и не подвержено ни малейшему сомнению, говорит пункт § 300-го инструкции, то поэтому производившийся от казны денежный отпуск за убитых в бою лошадей - прекращен, и такая убыль должна была пополняться из военной добычи. Этот взгляд и это правило были применены ко всем казачьим войскам еще особым законодательным актом 7 октября 1851 года.
По инструкции все лошади, кем бы то ни было отбитые у неприятеля, составляли собственность полка (у сибиряков - отряда) и обращались, прежде всего, на пополнение всякой убыли строевых, вьючных и обозных лошадей, после чего выделялся запас по три на сотню и уже затем только излишек мог быть продан, а вырученные деньги делились, как добыча. Но при этом добытчикам лошадей не запрещалось по их собственному почину обменивать своих худших лошадей на отбитых лучших».
Вот так по инструкции! Казаки ничего недозволенного не делали!
И если бы г-н Давыдов сунул нос даже не в казачью историю, а в Устав Российской армии времен войны 1812 года, то многое бы для себя интересное открыл.
Я не стану специально останавливаться на правилах казачьего «дувана», то есть дележа военной добычи, замечу только, что многолетние французские войны привели к такому упадку хозяйства казаков, к такой потере кормильцев, что любой трофей, а особенно кони, скот и деньги были жизненной необходимостью, позволивший нашему народу выжить.
Что же касается православных святынь, то церкви грабили французы. Они обдирали золотые и серебряные оклады с икон и волокли сотни пудов драгоценных металлов в обозах, а казаки эти обозы отбивали. И церковную утварь, и книги, и оклады отправляли на Дон, прежде всего для сохранности, потому что возвращать их в России было некуда. За отступающей французской армией дымились развалины храмов и монастырей.
Когда государь и Платов отбыли в Лондон, русские войска собрались из города «Парыжу» домой. Вот теперь казаки двигались, обремененные громадными обозами с добычей. Что и побудило правительственных чиновников к требованию - трофеи сдать в казну, ну хотя бы золотые и серебряные деньги. Вот здесь и возникло то, что позднейшие историки называют «недоумение».
Казаки «на голубом глазу», как говорится, ответствовали, что они «сие заслужили и взяли мечом ...»
- Надобно совесть знать! - укоряли их. - Не по чину берете!
- Интересно ... - ухмыльнулись «казачьи военные чиновники», как звали тогда на Дону, по старой памяти, офицеров, - а воевали мы за что? За что живота не щадили и кровь проливали?
- Воевали вы за родину. Освобождали ее от свирепого супротивника Бонапарте!
- За каку таку родину?! - вскипал герой Иловайский 12-й, тот самый «недюжинный». Тот самый, вечный шеф Донского NQ 8 полка. Мы воевали в России и за Россию! И в Европе! А на нашей родине, в казачьих землях, ни одного француза и Бонапарта, слава, Богу, не было! - Да вы, басурмане, что ж, наемники?!
- Вот уж вам никак нет, чтобы басурмане! Потому и воевали за матушку Россию, что она держава Православная. Но за труды воинские и потери понесенные, с нами расплатиться следует! И это не у нас совести нет, а у вас, крапивное семя! Небось, во фронте вас не видать! Стал - быть, по-нашему: мы - воевали, вам - платить! Победили - расплатись! Тем более что мы с вас ничего сверху не требуем, а только добыча наша. Уж как ни крути!
По воспоминаниям современников, которые говорят об этом как о досадной неловкости и дикости казаков, конфликты с отъемом добычи у казаков происходил и повсеместно. И повсеместно же казаки добычи не отдавали и не отдали! Говорили, что только полки Иловайских привезли на Дон 2,5 миллиона в серебряной монете.
Вероятно, информация о том, что казаки не считают Россию родиной, но сопредельным государством, обсуждалось в правительстве и в высшем офицерстве. Во всяком случае, бывший разведчик генерал Чернышев о них знал. Как знал и то, что на Дон к казакам в 1806 и в 1811 году посылались люди от Наполеона и уговаривали казаков отделиться от России. Доносили также, что казаки посланцев русской контрразведке не сдали и сами не повесили, но отправили ни с чем, говоря, что будут с православной Россией, а не с латынской, да еще недавно революционной Францией. Тон задавали казаки-старообрядцы. К русским старообрядцам от Наполеона ездили отдельно и тоже ничего не добились. Назад отправили, но властям не выдали. С Дона выдачи нет!
Эти известия привели к мысли государя и Чернышева, что с казаками пора разобраться и привести их, так сказать, к общему знаменателю.
Из книги Б. Алмазова «Военная история КАЗАЧЕСТВА»
Метки: казачество русские традиции казаков |
«Поехал казак во чужбину далеко…» |
Дневник |

Казаки вырастали с мыслью, что придется не просто служить, а служить далеко от дома. Особенно остро это чувствовалось, когда казак становился малолетком, то есть в соответствии с положением 1874 года все казаки (станичники), за исключением находящихся в высших и средних учебных заведениях и прогимназиях, записывались в малолетки и несли повинности отставного караула.
Начиналось с медицинского осмотра: сначала проходил он в «истопке» - в бане, где собирались мужчины: родственники и кто-нибудь из стариков. Обставлялось это как веселое празднество, как особый вид «гулевания» С шутками-прибаутками, но обиняком парня осматривали, расспрашивали и, в случае положительного решения стариков, отправляли к «фершалу», военному медику, как мы сейчас говорим, - на медкомиссию.
Я знал одного из таких станичных фельдшеров, которому в пору моей молодости было за 90 лет. Он обладал удивительной профессиональной памятью, помнил, казалось, всех своих пациентов, пользуя их из поколения в поколение. Имея за спиной всего-навсего школу военных фельдшеров, он обладал колоссальным опытом и прекрасно владел всеми приемами народной казачьей медицины.
Вот такие фельдшера, являясь как бы мостом между станичными травознаями и костоправами и научной медициной, ставили свой диагноз - годен или не годен. Как правило, они давали и частные peкомендации: «Ты (Гришка или Антипа), того, аккуратно ешь, у вас в роду желудки слабые. Утром встанешь - кружку воды выпивай, а уж опосля через полчасика чего ешь ... » или «Табе, Ерема, надоть горло закалять. Давай каждый вечер ноги холодной водой мой! А зимой по снегу босой бегай по полчаса».
По воскресеньям малолетки испытывались на силу и ловкость -шли постоянные состязания, но, кроме этого, казачонка-малолетка начинали учить службе. Пока еще мягко, по-домашности, но ежедневно, без поблажек. Если и раньше у казачонка было много обязанностей по дому, то сейчас их прибавлялось, причем работа эта становилась все тяжелей и тяжелей. Носить воду, месить кизяки и caманы, доить овец, ходить за скотиной - это все обязанности малолетка. Потому вставать приходилось раньше всех и ложиться позже всех. Малолеток был занят с утра до вечера.
- Вот оно и дело! - одобряли строгих родителей старики. - Штоб значить, ня охнуть, ня вздохнуть ... Штоб химеры разны, шкоды да соблазны в башку ня лезли. Штоб по девкам не шастал и не мечтал ... А то зараз расти перестанет.
Роздых в работе бывал у малолеток, когда приходилось держать караулы. Это занятие любили и в караулы ходили охотно. Несколько малолетков под водительством казаков последнего служилого возраста, так называемых отставных, дежурили по станице, охраняли сады и посевы, стояли в разъездах и кордонах в случае объявления «сполоха».
Но самой главной обязанностью малолетка было выращивание коня. Исправная казачья семья, готовя сына к службе в период его пребывания в малолетках, старалась высмотреть, сговорить или высчитать у хорошего казака или заводчика жеребенка. Выбор его была заботой всей семьи и всей родни. Длинными вечерами обсуждали мужчины достоинства известных им лошадей с тем, чтобы получить, от них жеребенка для малолетка.
Бывало, что жеребят дарили дедушки, крестные, ДЯДЬЯ ... Бывало, то малолеток выращивал не одного, а двоих-троих жеребят. Но такое могло быть только в очень большом и старом, состоятельном оду, где родство берегли, сохраняли и были достаточны для приема гостей, знакомых, близких на бесконечных гулеваньях-гостеваньях.
Среднего достатка казачья семья ехала в табуны и там выбирала жеребенка ... Это было громадное событие в жизни казака, которое помнил всю жизнь, сколько бы коней под ним потом ни ходило.
Разговоры о конях, о статях, о пороках и леченье всю жизнь сопровождали казака: от детской мечты о собственном скакуне до того дряхлого, застуженного, что поведут за его гробом в старости. Десятки, если не сотни коней ПРОХОДИЛИ у него перед глазами, на половине из которых он обязательно хоть версту, а скакал, поэтому все казаки без исключения знали лошадей досконально.
И такой истории, что произошла со Щукарем из «Поднятой целины», С казаком быть не могло. Настоящего, коренного казака-кавалериста ни цыган, ни сам сатана при выборе и покупке коня обмануть не мог. Вообще казаки, хотя и ценили знание коня цыганами, калмыками и другими народами и уважали их как хороших лошадников, однако никогда ни в какое сравнение не ставили их с казачьими знатоками (которыми, скажем, были все казачьи офицеры). Характерно, что вахмистры и урядники, сами того не подозревая, точно подмечали особенности национальной посадки и езды.
- Куды с места в карьер! Ты бы еще на свечку коня поставил! Ты что, цыган?! Ему - продавать-барышничать, табе - ездить-служить! Не смей уродовать!
Или:
- Не болтай ногами! Не татарин поди ...
Однако выборы жеребенка все-таки были риском. С одной стороны, жеребенок, конечно, стоил дешевле, чем строевой конь, но его еще нужно было вырастить ... А это всегда лотерея - неизвестно, что выпадет!
Три-четыре года казак работал с конем, чтобы в 21 год пойти на нем служить срочную службу.
Мир коня - это уже совершенно отдельный, замкнутый и тщательно оберегаемый от посторонних мир мужчины. И хотя иные казачки умели обращаться с конем и ездили верхом не хуже мужчин, дело это было мужское и такая женщина считалась исключением (не всегда одобряемым); всеобщим же мнением было, что «баба коня портит».
Поэтому В некоторых семьях женщины в конюшню и не входили, как не входили в кунацкую. Работа с конем: выпаивание его молоком, выхаживание по росным травам и песчаным бережкам, как в древних былинах, - это занимало все время и все помыслы малолетка. Поэтому и конь вырастал с какой-то необыкновенной собачьей преданностью к хозяину, понимал его с полуслова, почти как человек, и составлял неотъемлемую часть понятия «казак».
С конем связывались тысячи примет, наговоров. Например, считалось, что если на казака насылают порчу, а он при коне, то к человеку порча не пристанет - конь отведет. По поведению коня угадывали порчу, по коню же загадывали и на судьбу. Конь был с казаком неразлучен. И в краткие минуты, когда занятый без отдыха работой малолеток мог выйти на улицу с база, там встретиться, переглянуться, а при случае поздороваться, а уж если страшно повезет, перемолвиться с соседской девушкой -минуты, опять-таки связанные с конем, либо водопои, либо купание, либо ночное. Поэтому во МНОГИХ любовных казачьих песнях влюбленные - это не случайно не пара, а троица - казак, девушка и ведомый в поводу конь.
Из книги Б. Алмазова «Военная история КАЗАЧЕСТВА»
Метки: казачество русские традиции казаков |
Есаул Давид Иванович Ливкин |
Дневник |

Уральский казак Давид Иванович Ливкин родился в городе Гурьеве на берегу Каспийского моря в 1863 году. Здесь пересекались многие торговые караванные и морские пути чуть ли не всей Средней Азии. Сюда по Уралу везли товары из Центральной России и Сибири, по Каспию - из Астрахани и с Кавказа, поэтому полноправные хозяева здешних мест - уральские казаки с малолетства были поощряемы старшими к изучению иностранных языков и языков окрестных азиатских народов.
Самое богатое и прекрасно организованное Уральское казачье войско не жалело средств на обучение станичников. Поэтому когда есаулу Ливкину было предложено принять участие в разведывательной операции в Афганистане и Индии в 1898 году, З5-летний казак имел блистательное образование и огромный опыт общения с азиатскими народами, среди которых жил с детства.
Он окончил военное училище и сверх того трехгодичные курсы восточных языков для офицеров при учебном отделении Азиатского департамента Министерства иностранных дел России. На курсах досконально изучали арабский, персидский, турецкий и французский (как международный язык дипломатии) языки, международное и мусульманское право. Кроме языков, освоенных на курсах, Ливкин, как большинство уральских казаков того времени, знал с детства татарский и киргизский. Английский язык он выучил самостоятельно.
К моменту проведения индийской операции есаул Ливкин неоднократно проявил себя как опытный и смелый офицер-разведчик при выполнении заданий за границей.
Есаула Ливкина вызвали к начальнику 3акаспийской области генералу Туманову в Самарканд, где уральский казак встретился с руководителем русской разведки принцем Ольденбургским. Принц разъяснил есаулу главную задачу: выяснить эпидемиологическую обстановку по ту сторону российской границы - в Афганистане и в Индии, чтобы знать, какое количество войск необходимо содержать вблизи границы, дабы не допустить эпидемию чумы в российские пределы. Действовать надлежало с чрезвычайной острожн6стью не только из-за опасности заразиться в очаге эпидемии или быть убитыми местными мусульманскими фанатиками, но более всего из-за английской разведки, которая защищала в этом районе интересы Соединенного королевства - Великобритании.
Весьма характерно, что руководство русской разведки не особенно доверяло казаку, не принадлежащему к высшему сословию империи. Его предложения о проведении операции под видом купца отклонили и рекомендовали действовать под видом личного адвоката полковника князя Орбелиани, который отправлялся в Индию, якобы отыскивать права на наследство после смерти родственника.
Ливкину пришлось подчиниться. Единственное, что удалось ему отстоять из своего варианта операции, продуманного во всех подробностях, - это приглашение в экспедицию своего надежного агента - персидского купца Мирзы: Мехти, который торговал в России, в Персии и в Египте и обладал широчайшими связями в мусульманском мире.
Двигаться напрямую через афганскую границу означало сразу привлечь к себе внимание английской разведки. Поэтому был выбран окольный путь через Европу, Суэцкий канал в Индию, а оттуда в Афганистан. 29 октября Ливкин и Орбелиани выехали в Вену.
И в пути, и в Вене Ливкин убедился, что Орбелиани не имеет ни малейшего представления о работе разведчика, что никаких родственников в Индии у него нет, а значит его «легенда» распадается, к тому же князь был болтлив, и уже через день после приезда вся венская гостиница знала, что Орбелиани едет в Индию. Кроме того, объективно оценивая и свои возможности, есаул все более убеждался, что он сам не подходит для роли адвоката. Давид Иванович решает осуществить собственный вариант операции.
Планировалось, что Орбелиани будет обеспечивать связь с разведывательной группы с Россией, но князь, нарушая весь план, не стал задерживаться в Египте, а отправился в Индию на свой страх и риск, сразу поставив под удар всех.
Ливкина выручил Мирза-Мехти. Он добыл документы персидского купца, которые вполне годились Ливкину, прекрасно владевшему персидским языком, свел его с Хаджи-Ниязом, торговавшим драгоценными камнями, и вместе они выехали в Индию после того, как есаул установил надежный канал связи через дипломатическую миссию в Порт-Саиде.
Осторожный и дальновидный разведчик, Ливкин отравился сначала не в Индию, а на Цейлон, где досконально изучил рынок драгоценностей, завел широкие связи в индийских торговых кругах, приобрел небольшую партию драгоценностей и только тогда рискнул прибыть в Хайдарабад. Туда же прибыл завербованный Ливкиным в Египте купец Худа Бахш, торговавший в Афганистане и живший в Лахоре. Худа Бахш привел двух новых помощников - кашмирца Шамседдина и афганца Абдуллу-хана, надежных, образованных, грамотных людей, что по тем временам было большой редкостью.
Ливкин отыскал князя Орбелиани в Бомбее, не вступая с ним в контакт, выяснил, что как разведчик князь полностью провалился: его «надежно опекает» английская колониальная полиция. При поисках князя был задержан Мирза-Мехти и допрошен в полиции.
Агенты Ливкина собрали обширную информацию, откуда следоовало, что в Афганистане чумы нет, но Ливкин расширил свою зада и решил обследовать северные районы Индии. Он с новым агент Ибрагим-беем отправился в Карачи, где в это время свирепствовала чума (до 34 случаев в день). Вспыхнула эпидемия и в Дели. Ливкин проделал настоящую научно исследовательскую работу и выявил, чума завезена из Карачи. Не исключалась возможность занос эпидемии и в Среднюю Азию. Однако разведчик не спешил с выводами. Собирая и анализируя новую информацию, он пришел к любопытным выводам: после открытия Суэцкого канала поток товаров по старым караванным дорогам, шедшим через Среднюю Азию, почти прекратился. Одновременно возникли напряженные отношения между мусульманами Афганистана и Индии и мусульманами шиитского толка в российских пределах, и контакты через эту часть границы прекратились.
Проникновение инфекции возможно было Только через Кашмир и верхнюю часть долины Инда, где и следовало усилить пограничный контроль и закрыть границу с Россией. Предложения Ливкина, изложенные принцу Ольденбургскому по возвращении в 1899 году, были полностью приняты и выполнены.
Кроме того, выдающийся разведчик привез бесценный анализ внутриполитической обстановки в Индии и Афганистане, предсказав с большой точностью начало антианглийских выступлений населения. Он разработал методику сбора и анализа информации разведкой. Его опыт и знания были бесценны для русской разведывательной школы.
Но он был всего-навсего казак - черная кость. Незнатность происхождения сыграли в судьбе этого талантливейшего человека роковую роль. Он был прикомандирован к Главному штабу, а с началом Русско-японской войны отправлен на фронт в Маньчжурию. Ливкин сумел проявить себя как разведчики там, завязав контакты с командующим китайской армией генералом Ма, что позволило высвободить русские войска для действий против японцев. Но под Мукеденом он получил тяжелую контузию - потерял дар речи и не мог самостоятельно двигаться. Он был уволен в отставку в чине полковника, за время службу был награжден золотым оружием и орденом Св. Владимира с мечами и бантом. Умер Д. И. Ливкин в 1913 году.
В последние годы жизни бывший лучший русский разведчик сильно бедствовал- из-за бюрократических волокит он положенную ему, как инвалиду войны, пенсию не получал и не имел возможности даже лечиться. Архивы хранят его прошение на имя царя от 15 октября 1912 года. Удовлетворено оно было или нет - неизвестно.
Из книги Б.Алмазова «ВОЕННАЯ ИСТОИЯ КАЗАЧЕСТВА»
Ливкин Давид Иванович:
1863 - 1912 гг.
Русский военный разведчик. Есаул. Родился в городе Гурьев (Казахстан). Окончил военное училище и трехгодичные курсы восточных языков для офицеров при учебном отделении Азиатского департамента МИД России. Служил в Уральском казачьем войске. Военный агент в Индии с 1898 года (был направлен туда под прикрытием адвоката полковника князя Орбелиани. Ехал с паспортом на имя купца Магомета Гасанова). В июне 1899 года возвратился в Петербург. После отличного выполнения задания, был прикомандирован к Главному штабу, совершил несколько инспекторских поездок в войска, а с началом русско-японской войны - в действующей армии в Маньчжурии (командир разведдивизиона при главнокомандующем русскими войсками). Выполнял секретную миссию в Китае. В бою под Мукденом был тяжело контужен и потерял дар речи. Был уволен в отставку в чине полковника. Награжден золотым оружием, орденом Св. Владимира с мечами и бантом. В последние годы жизни находился в бедственном положении. В 1912 году обратился с личной просьбой к царю о помощи, но вскоре скончался.
|
АНТИБОЛЬШЕВИЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СЕМИРЕЧЕНСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ |
Дневник |

М.Ивлев: Гибель Семиреченского казачьего войска (1917-20 гг.). Страницы истории
АНТИБОЛЬШЕВИЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СЕМИРЕЧЕНСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
История сопротивления Семиреченского казачьего войска большевикам отражена в исторической литературе чрезвычайно фрагментарно и еще ждет своего исследователя, подобного автору фундаментальной "Истории Семиреченского казачьего войска" (Верный, 1909) Н.В. Леденеву. В настоящем очерке предпринята попытка показать основные вехи борьбы семиреченского казачества с большевизмом в период Гражданской войны в России в 1917-1922 гг.
1917 г. в жизни семиреченского казачества был очень сложным годом. Помимо крайнего напряжения на Кавказском и Европейском фронтах Мировой войны, где находились основные силы войска, казаки-семиреки вынуждены были ликвидировать последствия кровавого киргизского мятежа 1916 г. в самом Семиречье. Практически все войско находилось "под ружьем". В Семиреченской области находились в то время 3 Семиреченский казачий полк, 1-я, 2-я и 3-я Семиреченские особые казачьи сотни, 1, 2, 3 и 4 Семиреченские ополченские казачьи сотни, а также Запасная сотня 3 Семиреченского казачьего полка. Кроме этого, на границе с Китаем, был расположен 6-й Оренбургский казачий атамана Углецкого полк и несколько пехотных и артиллерийских частей по области. В июле-августе 1917 г. казачьим отрядам пришлось подавлять революционные беспорядки в крае, устроенные в этот раз русским неказачьим населением. Вдобавок ко всему, семиреченскому казачеству никак не удавалось легитимно провести выборы Войскового атамана и сосредоточить всю власть в одних твердых руках. Наказной атаман генерал-лейтенант М.А. Фольбаум (Соколов-Соколинский) неожиданно скончался еще в октябре 1916 г., после него сменилось двое временно исполнявших должность атамана, пока, наконец, 14 (27) июля Временным правительством не был назначен новый атаман Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Иванович Кияшко (кубанский казак по происхождению, бывший Наказной атаман Забайкальского казачьего войска). Он прибыл в Верный как раз, в дни заседания 2 Семиреченского казачьего съезда, и после обсуждения его кандидатуры, 5 (18 ) августа был признан семиреченским казачеством Наказным атаманом, "впредь до созыва Войскового Круга".
На этом же съезде был образован Войсковой Совет и избран его председатель, которым стал хорунжий А.М. Астраханцев. Этот съезд высказался за поддержку Временного правительства и укрепление связей с другими казачьими войсками.
Генерал Кияшко, назначенный также командующим войсками области, попытался установить твердый порядок в Семиречье и принял меры к расформированию большевицки настроенных пехотных и артиллерийских частей и аресту зачинщиков беспорядков, но революционный вал неудержимо накатывался на регион.
В период с 28 октября (10 ноября) по 1 (14) ноября, вслед за Петроградом, произошло вооруженное выступление большевиков в Ташкенте, после которого семиреченское казачество открыто выступило против Советской власти. Уже 1 (14) ноября было образовано Войсковое правительство (в лице Войскового атамана и Войскового правления), которое вместе с Войсковым Советом заявило о своем непризнании власти большевиков, установившейся в Петрограде и Ташкенте и о взятии Семиреченским казачьим войском всей полноты власти в области со 2 ноября 1917 г. Было объявлено военное положение и начато формирование во всех станицах и выселках добровольческих конных и пеших сотен из всех, способных носить оружие казаков, с целью поддержания порядка и пресечения "большевицко-хулиганских выступлений в области, откуда бы они не исходили". В конце ноября Войсковым правительством было издано распоряжение об отзыве из Действующей армии всех семиреченских казачьих частей, в лице которых, оно надеялось обрести надежную силу для поддержания порядка, а также принята попытка присоединиться к образованному в Екатеринодаре Юго-Восточному Союзу, через своих делегатов в Новочеркасске.
В то же время в области продолжал действовать Совет солдатских депутатов, проводивший обширную большевицкую агитацию среди населения и официально распущенный только 26 декабря (8 января). Совдеп и представители либералов в Верном развернули настоящую травлю против пожилого и больного генерала Кияшко, обвиняя его в издевательствах над заключенными нерчинской каторги, служении царизму и т.п. В конце ноября Кияшко вынужден был передать свои полномочия председателю Войскового правления полковнику Н.С. Щербакову и выехать с семьей в Ташкент, откуда он собирался добраться до Кубани по железной дороге. В столицу Туркестана тут же полетели телеграммы из Верного, на станции Перовск Кияшко был арестован, доставлен в Ташкент, а вскоре зверски убит. 30 ноября (13 декабря) Советская власть установилась в Омске, 4 (17) февраля 1918 г. в Семипалатинске, в результате чего Семиречье оказалось в изоляции. Подвоз продуктов извне был прекращен, почта и телеграф прерваны.
2 Семиреченский казачий полк прибыл в Верный из Персии 31 января (13 февраля) 1918 г. Еще в пути, при движении через охваченные большевизмом районы, полк оказался распропагандированным большевиками и частично сдал оружие Самаркандскому Совету. 13 (26) февраля 1918 г. на Войсковом Круге, состоялись выборы Войскового атамана, и на этот пост был избран командир 2 Семиреченского казачьего полка полковник Генерального штаба Александр Михайлович Ионов, а уже в ночь со 2 на 3 марта (н.ст.) в Верном произошло восстание большевиков с участием революционно настроенных казаков 2-го полка, в результате чего органы Временного правительства и Войсковой Круг были разогнаны. Некоторое время Войсковой Совет и Войсковое правительство еще пытались наладить отношения с образовавшимся после переворота Военно-революционным комитетом, тем более, что в марте у них появилась более надежная опора чем 2-й полк - из Действующей армии в Семиречье возвратились 1-й Семиреченский казачий генерала Колпаковского полк, Семиреченский взвод Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего полка и 2-я Семиреченская отдельная казачья сотня. Но, почувствовав свою силу, Семиреченский ВРК арестовал Войскового атамана и распустил Войсковой Совет. Казаки-фронтовики, частично сдав оружие совдепу, разъехались по домам.
В середине апреля в станицы Верненского уезда был отправлен красногвардейский отряд под командованием Щукина с артиллерией и пулеметами. Его задачей была реквизиция хлеба и разоружение казаков. Это быстро отрезвило многих. 16 апреля щукинский отряд был наголову разбит казаками станиц Софийской (Талгар), Надеждинской (Иссык) и Малой Алматинской, с участием казаков 1 и 3 полков. Это послужило сигналом к началу восстания пяти южных станиц Семиречья, в результате которого казаками был осажден Верный. Казаки Надеждинской станицы во главе с сотником Бортниковым совершили налет на город и освободили из тюрьмы Войскового атамана Ионова. Обе стороны - казачья и большевицкая, встали на окраинах Верного - казаки не решались войти в город, а красные - выйти за его пределы и разгромить повстанцев. Бои ограничивались мелкими стычками в предместьях.
Видя, что своими силами справиться с казачьим восстанием не удается, и желая выиграть время необходимое для мобилизации сил в Семиречье и подхода помощи из Ташкента, Совнарком пошел на мирные переговоры с казачеством восставших станиц и 24 апреля был заключен "мирный договор". Но 11 мая, из-за несоблюдения большевиками условий договора, бои вокруг Верного возобновились, а к середине месяца к городу подошел красногвардейский отряд Мураева из Ташкента в количестве 600 штыков с пулеметами. Он сразу же вступил в бой у станицы Любовинской (Каскелен) и вскоре взял ее. После соединения отряда Мураева с местными большевицкими силами, 21 мая была взята Малая Алматинская станица, затем станицы Софийская и Надеждинская, выселок Илийский и развернут беспощадный террор против казачества, офицеров и интеллигенции. Отрядом Мураева в станицах принародно, на площадях, производились расстрелы и рубки казаков, реквизировалось казачье имущество, скот и инвентарь. Расстрелы производились и в тюрьмах города Верного. Это было лишь началом массового антиказачьего террора, проводившегося в Семиречье еще задолго до печально известного циркулярного письма-директивы Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 г. о расказачивании.
В начале июня 1918 г. выходит серия декретов Советской власти Семиречья по казачеству (2 июня - приказ большевицкого командующего войсками области Л.П. Емелева об упразднении Войскового Правления и всех станичных правлений СмКВ; 3 июня - декрет №1 Семиреченского облисполкома об аннулировании навсегда сословия казаков, должности Войскового атамана, Войскового правления и прочих казачьих учреждений и должностных лиц, конфискации принадлежащего им имущества, инвентаря и денежных сумм; 6 июня - постановление Семиреченского облисполкома о конфискации пенсионных земель казачества и лишении казачества избирательных прав). Отряды разбитых и отчаявшихся семиреков, во главе с атаманом А.М. Ионовым, отходили тем временем в сторону китайской границы и в Северное Семиречье. По пути они очистили от большевиков приграничный город Джаркент, села Хоргос и Басканчи и удерживали их до 15 июня, когда к Джаркенту подошел карательный красный отряд Н.Н. Затыльникова из Верного и казакам пришлось уходить за границу.
В Кульдже, центре Илийского округа Синьцзянской провинции действовало Российское консульство, и консул В.Ф. Люба помог казакам Ионова продовольствием и разместил их в окрестностях города. Полковник Ионов переформировал отряд, установил телеграфную связь с русским посланником в Пекине князем Н.А. Кудашевым, послами Великобритании, США и Японии, а также связался с белыми властями в Омске и Семипалатинске, ходатайствуя перед ними о присылке помощи в Семиречье, чтобы спасти войско от поголовного истребления. Делегаты от Семиреченского войска Данченко и Шарапов пробрались из Северного Семиречья в Семипалатинск и Омск, где выступили на 4-м Войсковом Круге Сибирского казачьего войска. Они рассказали о событиях в Семиречье, запросили помощи у братьев-сибирцев в борьбе с большевиками и собрали крупные пожертвования от сибирских станиц для "младших братьев-семиреков".
Тем временем в Семиречье начинала разгораться крупномасштабная Гражданская война. С целью уничтожить "белогвардейские гнезда" на севере Семиречья, из Верного туда был направлен красногвардейский отряд под командованием И.Е. Мамонтова в количестве 500 штыков при двух орудиях и четырех пулеметах. Продвигаясь на север, отряд Мамонтова пополнялся в пути местными крестьянами-новоселами, проводил массовый террор в казачьих станицах и налагал контрибуции на их жителей. Слухи о жестокостях красных опережали продвижение отряда и казаки быстро самоорганизовывались. В станице Урджарской был образован Комитет спасения, арестован районный совет и сформирован вооруженный отряд. Этот отряд вышел навстречу мамонтовским карателям и 4 июля дал бой у селения Рыбачье на озере Алаколь, но видя, что силы неравны, отступил на Урджар.
Российский консул в Чугучаке (Синьцзян) В.В. Долбежев, хорошо зная местную обстановку, телеграфировал белому командованию в Омск и Семипалатинск, прося "сделать все возможное, чтобы отряды из Семипалатинска выступили возможно скорее на Сергиополь". Одновременно он просит Комитет спасения удержать укрепление Бахты на границе, с тем, чтобы беженцы из Семиречья могли уходить в китайские пределы. При приближении Мамонтова к Урджару, 8 июля казаки без боя оставили станицу, и, перевалив хребет Тарбагатай, ушли в станицу Кокпектинскую Сибирского казачьего войска, а частью - на Чугучак. 9 июля Мамонтов занял Бахты.
К этому времени, со стороны Семипалатинска, к самой северной станице войска Сергиопольской (ныне - Аягуз), уже приближался авангард формируемого в Западно-Сибирской армии Семиреченского отряда. Это был конный отряд подъесаула Сибирского казачьего войска Г.П. Люсилина в составе партизанской сотни, сводной сотни 3-го Сибирского казачьего полка и офицерской пулеметной команды (всего более 100 шашек при двух пулеметах). 16 июля этот отряд ворвался на улицы Сергиополя, но не смог взять крепость и казармы, где закрепились красноармейцы, и отошел от города. Люсилин решил подождать подхода основных сил Семиреченского отряда, возглавлять который был назначен старый семирек полковник Федор Гаврилович Ярушин. На следующий день в помощь сергиопольским большевикам подошел сильный отряд под командованием Иванова, в количестве 400 человек с орудием.
20 июля, дождавшись подкрепления из Семипалатинска (автомобильный отряд капитана Н.Д. Виноградова, а также семиреченские и сибирские казаки Урджарской, Кокпектинской и Буконской станиц), белые перешли в наступление и 21-го числа освободили Сергиополь. Гарнизон красных был частично перебит, а частично разбежался, причем первым, бросив на произвол судьбы своих бойцов, бежал сам командир Иванов (впоследствии он был арестован и расстрелян по распоряжению командования красных в Верном).
Освобождение Сергиополя от коммунистов вдохнуло надежды в семиреченских казаков и дало мощный толчок к борьбе против большевизма по всему Семиречью. Уже 23 июля вспыхнуло восстание семиреков в станицах Сарканской, Лепсинской, Копальской, Аксуйской, Абакумовской, Арасанской и Тополевской. 25 июля казаками-повстанцами был совершен налет на самый южный город Семиреченской области - Пржевальск. Местами к казакам стали присоединяться киргизы (казахи) и крестьяне-старожилы. Захват белыми северных районов области поставил советскую власть Семиречья под угрозу. 22 июля 1918 г. Семиреченский облисполком вынес решение об объединении командования советскими отрядами оперирующими в северной части области, и о создании штаба войск Семиреченского Северного фронта, чем было положено начало образования Семиреченского фронта. Командующим большевицкими войсками области был назначен областной военный комиссар Л.П. Емелев.
Капитан Виноградов, взяв Сергиополь и оставив там часть отряда, с другой его частью стал продвигаться по тракту на Урджар - Маканчи - Бахты. Он быстро занял Урджарскую, затем Маканчи, но утром 29 июля погиб во время неожиданного столкновения с мамонтовцами. В этом же бою был убит и каратель Иван Мамонтов. Руководство его отрядом взял на себя его брат - П. Мамонтов, а затем Д. Кихтенко. Красные снова заняли Урджар и Маканчи, но вскоре оказались зажатыми с двух сторон белыми - отрядом Ярушина со стороны Сергиополя и семиреченскими казаками полковника Вяткина и войскового старшины Бычкова, подошедшими из Китая и занявшими Бахты. После нескольких боевых столкновений отряд Мамонтова - Кихтенко вынужден был оставить тракт Сергиополь - Бахты и уходить на юг к Уч-Аралу, а затем к Саркану. Белые отряды полковников Ярушина и Вяткина, соединившись в районе Урджарской и выбив оттуда красных, продолжили наступление на юг области, спеша помочь восставшим станицам.
В Сергиополь тем временем подтягивались войска из Степной Сибири. В конце июля, для развития наступления вглубь Семиречья, туда прибывает даже 1-й Сибирский авиаотряд войскового старшины С.К. Шебалина, приданный 2-му Степному Сибирскому корпусу. Вскоре сюда же перебралось из Синьцзяна Войсковое правительство Семиреченского казачьего войска во главе с атаманом А.М. Ионовым и отрядом семиреченских казаков. Деморализованное после подавления весеннего верненского восстания и разгрома своих станиц семиреченское казачество начинает восстанавливать и сплачивать свои силы. Можно сказать, что именно из Сергиополя началось возрождение войска. Полные решимости освободить свою родину от большевиков, казаки-семиреки сформировали в освобожденных станицах самоохранные сотни, стали вооружаться и готовиться к решительному броску на юг для освобождения остальной части войска.
Славная страница борьбы семиреков против красных - героическая оборона станицы Сарканской в августе 1918 г. К этому времени большевиками уже были подавлены восстания казаков в Копале, Лепсинске, Абакумовке и Тополевке. Для этой цели был сформирован Верненский сводный отряд под командованием помощника областного комиссара А.Я. Петренко. 8 августа после соединения в Абакумовке с отрядом Кихтенко, отступившим от Уч-Арала и Саркана, объединенный красный отряд под командованием Петренко насчитывал в своих рядах около 1000 штыков и 500 сабель, при 6 орудиях и нескольких пулеметах. С этими силами Петренко подступил к мятежной станице Сарканской и осадил ее. В Саркане находилось 520 казаков из Сарканской и Копальской станиц. Руководили обороной станицы урядник Василий Королев, выбранный начальником обороны и бывший офицер 2 Сибирского казачьего полка войсковой старшина Н.Д. Кольц, фактически являвшийся военным руководителем. Станица была не просто окружена, но наполовину захвачена красными. Противников разделяла только улица. Несмотря на численное превосходство красных, белые оказывали отчаянное сопротивление. При дефиците воды и боеприпасов, на солнцепеке, среди духоты и вони от разлагавшихся трупов, которые лежали между противоборствующими сторонами, они держались под жестоким артиллерийским и пулеметным огнем, отбивали яростные атаки, делали ночные вылазки и надеялись на помощь сибиряков из Сергиополя. К концу обороны люди начали слабеть, а с другой стороны улицы, красные кричали им, что никакого Временного Сибирского правительства не существует и они напрасно ждут помощи, предлагали сдаваться и выдать или прикончить своих руководителей.
28 августа, после очередного штурма, войсковой старшина Кольц записал в своем дневнике: "У казаков замечается упадок духа, устойчивости, ибо надеются теперь на чужую помощь, а не на себя. Расход патронов за эту ночь не менее 4000. Еще один такой бешеный натиск - и труды, жертвы двухнедельной борьбы сведутся к нулю. Запас патронов ничтожный. Народ нервничает". Казаков, защитников станицы могло спасти только чудо, но вот 29 августа с окраины станицы затрещал пулемет, красные прекратили орудийную канонаду станицы и ринулись туда, а вскоре стали поспешно отходить в сторону Абакумовки - на помощь осажденным подошло одно из подразделений 3-го Сибирского казачьего полка из Семиреченскоro отряда полковника Ярушина, уже взявшего Лепсинск. Не было слов, описать ту радость, с какой встретили сарканцы своих спасителей "братьев-сибирцев". Потом, уже зимой 1918, в память о спасителях-сибиряках, сарканское общество решило переименовать свою станицу в Сарканско-Сибирскую. Приговор станичного общества утвердил в приказе по Семиреченскому казачьему войску №70 от 19 декабря 1918 г. семиреченский атаман генерал-майор А.М. Ионов.
24 августа, когда казалось, что войска Семиреченского отряда полковника Ф.Г. Ярушина вот-вот завершат освобождение Северного Семиречья, командир 2-го Степного корпуса генерал П.П. Иванов-Ринов приказал начать операции по овладению Илийским краем и городом Верным. Задача освобождения всего Семиречья возлагалась на 2-ю Степную стрелковую дивизию (26 августа переименована в 5-ю Сибирскую стрелковую дивизию) под командованием полковника (затем генерал-майора) В.П. Гулидова. Однако полностью очистить от большевиков Лепсинский и Копальский уезды так и не удалось.
Действовавший в этом направлении отряд капитана Ушакова в количестве 600 штыков при 2 орудиях и 4 пулеметах, еще 28 августа взял Лепсинск. Красный гарнизон города ушел в село Покатиловское. Отряд Ушакова, усилив свои ряды казаками Лепсинской и Сарканской станиц, 31 августа осадил Покатиловку и начал бои за ее овладение, но 4 сентября, после подхода к красным сводного отряда Петренко, вынужден был снять осаду и отойти к Саркану. В этих боях был убит организатор обороны Саркана урядник В. Королев. 6 сентября белые были вынуждены оставить Лепсинск, но 10 сентября вновь освободили его, а красные части из города ушли к большому селу Черкасскому, занимавшему центральное положение среди селений крестьян-переселенцев Лепсинского уезда. И хотя на следующий же день Верненский сводный отряд Петренко ушел из Черкасского на Гавриловку (ныне Талды-Курган), было положено начало образованию крестьянского повстанческого района в тылу белых - так называемой Черкасской обороны. В Черкасском и соседних с ним селах Лепсинского уезда - Петропавловском, Осиновском, Колпаковском, Андреевском, Успенском и Глинковском проживало в ту пору около тридцати тысяч крестьян, по большей части новоселов, в основной своей массе настроенных пробольшевицки и резко антиказачьи. Уходя, отряд Петренко оставил им два пулемета, несколько десятков винтовок и несколько тысяч патронов. Надо отдать должное мужеству черкассцев - несмотря на почти полную изоляцию от основных сил большевиков, они еще более года успешно действовали в тылу белых, оттягивая на себя их силы и не позволяя ударить на Верный. Возглавляли Черкасскую оборону бывшие солдаты, прапорщики и унтер-офицеры прошедшие Первую мировую войну - А.Н. Дьяченко, П.Ф. Корниенко, Ф.А. Крива, Т.Г. Горбатов, С.С. Подшивалов, П.И. Тузов. Им удалось организовать правильную оборону, начать собственное производство оружия и боеприпасов, а также наладить эпизодическую доставку вооружения с Северного Семиреченского фронта.
Осенью 1918 г. Семиреченский фронт стабилизировался по линии песков Сымбыл-Кум - Аксу - Абакумовка - Копал. Сплошной линии фронта не было, воинские части, как с той, так и с другой стороны стояли в населенных пунктах, высылая в наиболее важные места заставы и конные разъезды. В 100 километрах севернее линии фронта находился осажденный белыми район Черкасской обороны.
Небольшая передышка между боями позволила семиреченским казакам вооружиться и переформироваться в правильные воинские части. Вместо стихийно возникших повстанческих станичных сотен создаются милиционные отряды и самоохранные сотни (одной из первых были созданы Сергиопольская самоохранная сотня и Атаманская сотня), а в сентябре был воссоздан 1 Семиреченский казачий полк, который придали 5 Сибирской стрелковой дивизии. Ввиду нехватки собственно семиреченских офицеров, в него была командирована группа офицеров-сибирцев во главе с есаулом А.А. Асановым, назначенным командиром полка. К 13 октября 1918 г. в боевом составе полка было 29 офицеров, 910 шашек и 4 пулемета. Впоследствии 1 Семиреченский казачий полк был переименован в 1 конный Алатавский полк Семиреченского казачьего войска, были созданы еще два полка, которые позже вошли в состав Отдельной Семиреченской казачьей бригады, начальником которой с 14 мая 1919 г. стал Войсковой атаман генерал-майор А.М. Ионов. В октябре месяце 1 Семиреченский казачий полк, вместе с 2 сотней 3 Сибирского казачьего полка и стрелковой ротой принял участие в отражении атак красных, стремившихся прорвать фронт и соединиться с черкассцами. Тогда большевики опрокинули казачьи заслоны и взяли Абакумовку, которую после нескольких атак удалось отбить обратно только 2 декабря, после чего на фронте наступило временное затишье.
В декабре 1918 г. в Семиречье стали прибывать из Семипалатинска части Партизанской дивизии атамана Б.В. Анненкова в количестве 1800 штыков и 1770 сабель при 6 орудиях. Белым командованием Анненкову была поставлена задача уничтожить повстанческий очаг вокруг Черкасского, а затем, действуя совместно с находившимися в Семиречье частями 5 Сибирской стрелковой дивизии и семиреченскими казаками, развернуть наступление вглубь области и в конечном итоге овладеть городом Верным. Анненковцы уже в январе 1919 г. попытались сходу взять одно из повстанческих сел - Андреевку, но увязли в боях и фактически оставались в Черкасском районе до середины октября, когда удалось сломить сопротивление противника и ликвидировать группировку красных повстанцев.
Партизанская дивизия атамана Анненкова постоянно пополнялась в составе, как жителями Семиречья, так и соседних регионов, где действовали ее штабы пополнения, набирая добровольцев и мобилизованных. Семиреченские казаки тоже служили в анненковских частях, в основном в Лейб-Атаманском полку, но возможно попадали и в другие части. Позже, при формировании Киргизской конной бригады (командир - полковник Н.Д. Кольц), командный состав которой был частично из русских офицеров, семиреченские казачьи офицеры попали в ее ряды.
Отношения полковника Б.В. Анненкова с выборным семиреченским атаманом генералом Ионовым не сложились. Они были знакомы уже давно - со времен службы Анненкова в 1 Сибирском казачьем Ермака Тимофеева полку, который в мирное время стоял в семиреченском городе Джаркенте. Капитан Ионов служил тогда старшим адъютантом штаба войск Семиреченской области и во время инспекционных поездок часто посещал Джаркент и полк Анненкова. Трудно сказать, какие были у них отношения в то время, но в 1919 г. они обострились до предела, что, конечно, вредило общему делу борьбы с большевизмом.
Еще в конце 1918 г. генерал-майор Ионов решил "оказачить" все население Семиреченской области. По его мысли оказачивание семиреченских крестьян необходимо было провести, чтобы сгладить противоречия между ними и казаками, создать сильное и хорошо управляемое войско, с которым можно было бы искоренить большевизм в Семиречье. Часть крестьян-старожилов и в самом деле записалась в казаки, вызвав тем самым ответную ненависть новоселов. Анненков был резко против искусственного оказачивания населения, за что осуждал Войскового атамана семиреков. Конфликты между двумя атаманами возникали и по другим причинам. Некоторое представление о характере их взаимоотношений дает приказ Ионова по Семиреченскому казачьему войску от 7 августа 1919 г. и реакция на него Анненкова: "15 июля с.г. я подъезжал к Сергиопольской станице вместе с членом войсковой управы есаулом Ушаковым и ординарцем урядником Гражданцевым обычным способом, т.е. без конвоя, которого я, дорожа каждым бойцом на фронте, никогда с собой не беру. За несколько верст до станицы на меня сделала нападение сотня партизан и, внезапно окружив меня, увезли в Уч-Арал. Прапорщик Волков, командовавший этой сотней, объявил, что я, по распоряжению полковника Анненкова, считаюсь арестованным. Продержав меня в Уч-Арале несколько дней, полковник Анненков приказал меня освободить. Во всю свою жизнь, начиная со школьной скамьи, я не был арестован. Только в период большевизма я дважды удостоился этой чести. Первый раз был лишен свободы большевиками, второй раз - партизанами. Это совпадение наводит на мысль, что и тем и другим я, как войсковой атаман, одинаково загораживаю путь. Причины того и другого ареста мне неизвестны, но цели вполне ясны: и в том, и в другом случае было несомненное стремление уронить меня в глазах Семиреченского казачества. Ничто в личной моей жизни не изменилось, я еду туда, куда был назначен распоряжением Главнокомандующего Восточным фронтом еще 10 июля. Семиреченское казачество благодаря этому случаю получит возможность еще более ясно разобраться в той запутанности отношений и сложности обстановки, которая царит ныне в области. Ионов".
5 сентября, доводя до сведения войск этот приказ семиреченского атамана, Анненков счел нужным внести несколько поправок и язвительных пояснений к нему в своем приказе: "Свой приказ генерал Ионов заканчивает, будто едет туда, куда его назначил главнокомандующий. Будем твердо надеяться, что главнокомандующий назначил генерала Ионова согласно... указаний психиатра в какой-либо город, чтобы излечиться от недуга. В заключение скажу, что "неустрашимый" генерал Ионов ехал на фронт под фамилией Ефремова, а обратно с фронта, "дорожа каждым бойцом", кроме конвоя взял с собой пулемет".
Побывавший в Семиречье с инспекционной поездкой летом 1919 г. генерал-майор Николай Петрович Щербаков, сам семиреченский казак, в докладе Совету министров в Омске положительно оценил деятельность полковника Анненкова в крае. Отрицательно отзывался о деятельности генерала Ионова на посту Войскового атамана и уполномоченного командира Второго Степного корпуса по охране порядка в Семиреченской области в своих письмах в Министерство внутренних дел в Омске гражданский управляющий Семиреченской областью Балабанов. В конце концов, адмирал Колчак в октябре 1919 г. решил отозвать Ионова в Омск, а вскоре направил во Владивосток на должность начальника штаба при Инспекторе формирований стратегического резерва генерале Б.Р. Хрещатицком. Вместо него заместителем Войскового атамана Колчак назначил генерал-майора Н.П. Щербакова, который, по-видимому, смог найти общий язык с Анненковым.
Боевые действия в Семиречье в летние месяцы 1919 г. свелись в основном к боям вокруг района Черкасской обороны (в июле белые взяли большую часть ее территории с селами Константиновским, Надеждинским, Глинковским, Колпаковским, Осиновским и Андреевским), а также к отражению красных войск Северного Семиреченского фронта, стремившихся прорвать фронт и соединиться с черкасскими повстанцами. В это время анненковцы предприняли даже несколько "психических" атак на позиции красных.
В то же время белым командованием были сделаны попытки нанести удар во фланг большевикам, в районы Джаркента, Кольджата и Пржевальска из китайского Синьцзяна. Формированием белых отрядов в Западном Китае руководил прибывший в Кульджу личный представитель Верховного правителя адмирала Колчака генерал-лейтенант Карцев из Омска и полковник Брянцев со штабными офицерами II Степного корпуса. Активную помощь им оказывали русские консулы в Кульдже (Люба) и Урумчах (Дьяков). Представителем Анненкова в Кульдже с весны 1919 г. был бывший офицер 3 Сибирского казачьего полка и один из организаторов свержения власти большевиков в Семипалатинской области полковник Павел Иванович Сидоров. Ему удалось сколотить два мобильных партизанских отряда по 400-500 человек каждый из семиреченских казаков, алашей (киргизов) и таранчей. Сидорову подчинялись также отряды есаула Сапожникова и капитана Бредихина. Полковнику Брянцеву удалось сформировать Отдельную Стрелковую бригаду из двух полков (Текесского кавалерийского и Кольджатского или Семиреченского пластунского казачьего полка).
В течение июля-сентября 1919 г. отряды Сидорова и Карцева неоднократно прорывались из Китая на советскую территорию, уничтожали мелкие большевицкие части, осаждали Пржевальск и Джаркент, прикрывали отход в Китай восставших казаков и крестьян Пржевальского уезда и оттягивали на себя красные силы Северного Семиреченского фронта. После падения Черкасской обороны, 14-15 ноября 1919 г., отряды полковников Сидорова и Брянцева предприняли большое наступление на красное Семиречье по трем направлениям: 1) на Джаркент со стороны Хоргоса, 2) на Дубун и Подгорное со стороны Кольджата и 3) на Пржевальск со стороны Нарынкола. Казаки Сидорова прочно закрепились тогда в Хоргосе, Басканчах и Тышкане, а Брянцев занял Дубун, Подгорное и Чунджу, которые удерживал до конца января 1920 г. Несмотря на то, что взять Джаркент и Пржевальск так и не удалось, действия белых отрядов в этом районе сковывали значительные силы красных и постоянно угрожали основным силам большевиков Северного Семиреченского фронта фланговым ударом.
К концу 1919 г. положение белых в Сибири резко ухудшилось. Под напором превосходящих сил красных войска адмирала А.В. Колчака откатываются на восток и оставляют Омск. В декабре 1919 г. Колчак отдает приказ о сведении всех войск, действующих на Семиреченском фронте в Отдельную Семиреченскую армию, командующим которой назначается генерал-майор Анненков. С падением Семипалатинска в декабре 1919 г. Семиреченская армия оказалась отрезанной от основных сил белых. Мало помощи принесла и подошедшая через Атбасар, Акмолинск и Каркаралинск к Сергиополю Отдельная Оренбургская армия под командованием Войскового атамана Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта А.И. Дутова. Проделав труднейший поход в сильные морозы через Голодную степь, преследуемые красными частями, оренбуржцы в двадцатых числах декабря хлынули в Семиречье. Это были уже разлагающиеся остатки армии, голодные, обмороженные, тифозные и деморализованные. За исключением нескольких частей боевой силы они уже не представляли, да вдобавок ко всему, у них тут же начались конфликты с местными семиреченскими казаками, так что вскоре Дутову пришлось объясняться по этому поводу с Войсковым правительством семиреков. Прокормить еще 25 тысяч человек в итак испытывающем недостаток продовольствия и блокированном Семиречье было крайне проблематично. Тем не менее, Анненков решил сопротивляться и попытался закрепиться в Семиречье до лучших времен. 2 января 1920 г. состоялось совещание высших начальников обеих армий, на котором было принято решение о том, что Анненков берет на себя командование всеми вооруженными силами, а Дутов принимает на себя высшее гражданское управление Семиреченским краем. После этого Дутов во главе отряда в 600 сабель, составлявших его личный конвой и отдельную сотню, отбыл в город Лепсинск, ставший его временной резиденцией.
Анненков переформировал имевшиеся у него части и разделил их на три группы - Северную, Центральную (Западную) и Южную. Северная группа, которую возглавил генерал А.С. Бакич, состояла из остатков Оренбургской армии, сведенных в Оренбургский отряд и имела в своем составе около 12,5 тысяч бойцов. Кроме того, у ней в тылу находилось до 13 тысяч беженцев и множество эвакуированных оренбургских учреждений. Центральной, или Западной группой командовал непосредственно атаман Анненков. В ней было около 9 тысяч человек, в основном из Партизанской дивизии.
Командующим войсками Южной группы был назначен генерал-майор Н.П. Щербаков. Она состояла из 5-й Сибирской стрелковой дивизии, Алатавского и Приилийского казачьих полков, 1 конного алашского полка, Семиреченского стрелкового полка, Самоохранного полка, Семиреченского конного алайского полка и четырех батарей. При ней же находился и Оренбургский атаман А.И. Дутов со своим отрядом. Генералу Щербакову подчинялся и отряд семиреченских казаков под началом полковника Сидорова, действовавший в Джаркентском районе и отделенный от основных сил горами Джунгарского Алатау. С Южной группой связаны и последние успехи белых на Семиреченском фронте. Так еще 7 декабря 1919 г. казаками был отбит Копал и фронт передвинулся на линию Ак-Ичке - Карабулак. 15 января 1920 г. было предпринято местное наступление на Гавриловку, через Ак-Ичке и село Солдатское, но после двухдневного боя белые опять отошли на Копал.
12 января большевицкие войска Кокчетавской группы 5-й Красной армии, сломив сопротивление белых, взяли самую северную станицу семиреков - Сергиопольскую, после чего на фронте установилось затишье. Обе стороны использовали его для отдыха, перегруппировки сил и мобилизации ресурсов. Семиреченская армия была в полном окружении - с севера, запада и юга были красные, а в тылу на востоке - китайская граница. С наступлением более теплой погоды, в марте месяце, боевые действия возобновились. К этому времени у семиреков почти истощились запасы боеприпасов, ощущалась нехватка продовольствия, а реквизиции у местного населения приводили к волнениям среди жителей и недовольству внутри. армии, т.к. многие части состояли из местных крестьян и казаков. Становилось ясно, что удерживать фронт более невозможно и надо уходить в Китай или капитулировать.
Красные активизировались сначала на Южном участке фронта и повели наступление на Копал. 4 и 5 марта они дважды пытались овладеть городом, но оба наступления закончились неудачей. 22 марта наступление возобновилось, и к 24 марта большевикам удалось перерезать дорогу, соединяющую Копал с тылом. Генерал Щербаков с казачьим отрядом силой до 300 сабель, при 1 орудии попытался пробиться на выручку копальцам со стороны станицы Арасан, но был остановлен красной кавалерийской бригадой, окружен и только благодаря разыгравшейся горной метели смог вырваться из кольца и уйти обратно в Арасан. Развивая наступление, красные части подошли к Арасанской и 28 марта после трехчасового боя взяли станицу. Там было захвачено 200 пленных, 8 пулеметов и 250 винтовок. Генералу Щербакову, преследуемому красной кавалерией, удалось уйти на Абакумовскую, а затем на Сарканд. Копальский гарнизон во главе с заместителем командующего Южной группой, командиром Приилийского казачьего полка войсковым старшиной Семеном Емельяновичем Бойко, несмотря на полное окружение еще держался.
Одновременно с Туркестанской группировкой красных наступательные операции повела и Сергиопольская группа. 22 марта после упорных боев она заняла станицу Урджарскую, а затем, преследуя отступающие части Оренбургского отряда, стала продвигаться по Чугучакскому тракту. Бакич отступил с арьегардными боями, успев эвакуировать в Китай все обозы, госпитали и учреждения. 27 марта, оставив последний населенный пункт на русской земле - Бахты, он перешел границу. С ним было еще свыше 10 тысяч бойцов, не считая беженцев. Вместе с оренбуржцами, не желая оставаться под коммунистической властью, в Тарбагатайский округ Синьцзяна ушло и много семиреченских казаков из Сергиопольской и Урджарской станиц.
Части 105 стрелковой бригады красных после взятия Урджара и Маканчей, 25 марта начали наступление на поселок Рыбачье, а оттуда на Уч-Арал (Степановское), где располагался штаб Анненкова. Сюда же двинулись 71 и 75 кавалерийские полки. Через Джуз-Агач и Романовское они совершили рейд к Уч-Аралу с запада. 25 марта Анненкову удалось отбить Уч-Арал, но, видя, что сопротивление бесполезно, Семиреченский командарм отдал приказ начать отход за границу. При этом Анненков передал командование тыловыми частями своей группы начальнику снабжения Семиреченской армии полковнику А.А. Асанову (бывший командир 1 Семиреченского казачьего полка), который должен был стянуть все части к Лепсинску и вместе с Дутовым отходить к границе. Асанов не выполнил приказ Анненкова, и, более того, 27 марта издал приказ о капитуляции остатков армии. 29 марта, после заключения особого договора с большевиками о гарантиях безопасности и недопущении расправ, капитулировал Копал. В общей сложности в Копале сдалось 1185 офицеров и казаков, в том числе Приилийский и Алатавский казачьи полки из состава Семиреченской казачьей бригады. В этот же день красными войсками была взята станица Абакумовская. Всего по Семиречью сдалось в плен около 6 тысяч казаков и солдат. Все они, для дальнейшего разбора их судьбы, были отправлены в Верный.
Дутов со своим отрядом в 600 человек вышел из Лепсинска 29 марта, и пройдя Покатиловку углубился в горы Джунгарского (Семиреченского) Алатау, направившись в так называемую Сарканскую щель и намереваясь уйти в китайские пределы по единственно возможному для него маршруту. Сюда же направился и Семиреченский атаман Щербаков от станицы Сарканско-Сибирской. С большим трудом их отрядам удалось преодолеть труднопроходимый перевал Кара-Сарык и выйти долину реки Бороталы, где они были интернированы китайцами и размещены в районе селения Джимпань. Там Дутов и Щербаков простояли до начала мая, после чего были переведены ближе к Кульдже, центру Илийского округа. Дутов со штабом и отрядом оренбуржцев разместился в казармах русского консульства в крепости Суйдун, близлежащих деревнях Мазар и Чимпанцзы, а Щербаков - в Кульдже.
Последней из России ушла Центральная группа Семиреченской армии под началом самого командарма - генерал-майора Б.В. Анненкова. Его колонна в количестве около 6 тысяч бойцов двинулась от Уч-Арала в сторону села Глинковского (Глиновского). В составе колонны были Лейб-Атаманский, 1 Оренбургский казачий имени атамана Дутова, Кирасирский, Драгунский, Конно-инженерный, Киргизско-калмыцкий конный полки, а также личный конвой Анненкова с оркестром и хором трубачей, часть Маньчжурского Конно-егерского полка, эскадрон полка Черных гусар, одна артбатарея, 1-я запасная сотня, жандармский эскадрон и остатки ряда других частей с беженцами.
В районе села Глинковского Анненков остановил колонну, построил все части, объехал их и объявил, что желающие продолжить борьбу уходят в горы, а затем в Китай, те же, кто устал, не хочет, или не может этого, могут оставаться на Родине и сдаваться на милость большевиков. Он предупредил, что с его стороны не будет никакого принуждения к эмиграции. В результате этого, около 1500-2000 человек решили остаться, сдали оружие уходящим партизанам и стали прощаться. Затем колонны разделились, и повернув в разные стороны пошли своим путем. Что произошло далее, не ясно до сих пор. Однако впоследствии в урочище Ан-Агач было найдено около 900 трупов, а на озере Алаколь - еще 600. Советские власти утверждали, что это были анненковцы, не пожелавшие уходить за кордон, порубленные и пострелянные по приказу самого атамана. Но никаких убедительных доказательств не приводилось. В различных советских материалах содержатся очень путаные и противоречивые данные об этих событиях. Сам Анненков никогда не признавал своей вины в этой трагедии, и на суде в 1927 г. категорически отрицал факт уничтожения им своих чинов, не пожелавших уходить за границу. Закрадывается мысль - а не перебили ли анненковцев опьяненные победой большевики, встретившие возвращавшихся белых и не пожелавшие обременять себя пленными, тем более, что местность была дикая и свидетелей трагедии не было!? Во всяком случае, на сегодняшний день, этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего изучения.
С оставшимися у него частями, Анненков углубился в дикие горы хребта Джунгарского Алатау, и не доходя до границы, расположился лагерем у перевала Сельке. Здесь, в местности прозванной партизанами Орлиным Гнездом, отряд простоял еще около двух месяцев, пока шли переговоры с китайскими властями об условиях перехода. После трагического инцидента с семьями нескольких оренбургских офицеров, в котором были повинны старые анненковские партизаны, от Анненкова отделился 1 Оренбургский казачий полк и в количестве 500 человек ушел в Китай, к атаману Дутову. Сам Анненков перешел границу 27 мая 1920 г. с отрядом в 4200 человек, спустился в долину Бороталы и расположился лагерем близ Джимпани, откуда к тому времени уже ушли со своими людьми Дутов и Щербаков. При переходе границы пришлось разоружиться и сдать часть оружия китайцам. Часть оружия партизаны все же припрятали, надеясь воспользоваться им в будущем. Партизаны назвали свой новый лагерь "Веселым", поставили палатки, юрты и шалаши и стали получать небольшое довольствие от китайцев, за сданное вооружение. Здесь Анненков не удерживал более своих бойцов и отряд понемногу распылялся - к июлю 1920 г., перед отходом на Урумчи, в отряде оставалось 670 человек.
Отряды полковников Сидорова и Брянцева, действовавшие отдельно от основных сил Семиреченской армии на Джаркентско-Пржевальском направлении, изначально опирались на район Кульджи, и отход их на китайскую территорию прошел более-менее организованно и безболезненно. Отряд П.И. Сидорова сохранил значительную часть своего оружия, базы на территории Илийского округа и нисколько не потерял боеспособность и волю к продолжению борьбы.
С уходом в Китай одних и капитуляцией других частей Отдельной Семиреченской армии, белая борьба в Семиречье не закончилась - она просто приняла другие масштабы и формы. Конечно, теперь уже не было крупномасштабных сражений и долговременных осад городов, сел и станиц - действия свелись к вылазкам небольших повстанческих и партизанских отрядов и подпольной работе офицерских и казачьих групп в захваченных коммунистами уездах области.
Уже к середине 1920 г., в Семиречье возникло несколько тайных офицерских организаций, ставивших своей целью свержение Советской власти в крае. Сейчас уже трудно определить, какие из этих групп действительно занимались подготовкой к восстанию, а какие были искусственно созданы Семиреченской облчека, с целью спровоцировать, а затем уничтожить ненадежные для новых властей элементы. Возможно, что многих из таких групп вообще не существовало, а легенды о них были выдуманы чекистами, после массовых репрессий против казаков в станицах, в целях оправдания своих действий. Первая офицерская подпольная группа, о которой имеются сведения - это организация бывшего комбрига Семиреченской армии полковника Л.В. Молоствова в Джаркентском и Верненском уездах. Эта группа была быстро раскрыта чекистами, а ее участники расстреляны.
Пожалуй, что действительно существовала подпольная организация войскового старшины С.Е. Бойко, служившего в областном военкомате, вместе с группой офицеров. Офицер-семирек, Бойко когда-то командовал сотней во 2-м Семиреченском казачьем полку в Персии, уходил в Китай с атаманом Ионовым в 1918 г., а в Северном Семиречье командовал Приилийским казачьим полком. Сдавшись на милость победителей в Копале, Бойко в числе других офицеров был амнистирован, и как хороший специалист направлен на работу в облвоенкомат. Разъезжая по делам службы по станицам области, Бойко видел последствия разрушительной работы большевиков и назревавшее недовольство Советской властью не только среди казаков, но и среди прочего русского населения, в том числе и среди солдат-красноармейцев. Дело в том, что новая власть после разгрома белых на Северном Семиреченском фронте, решила привлечь на свою сторону инородцев из числа из числа киргизов (казахов), таранчей (уйгуров) и дунган. Заигрывая с ними и делая опору на национальные кадры, она конфисковывала земли у русского населения, как у "колонизаторов" и передавала "угнетенным при царском режиме" инородцам. Многие из них стали вступать в РКП(б) и занимать руководящие посты в области, более всего насторожила крестьян попытка создания национальных частей из мусульманского населения. При непрекращающихся реквизициях хлеба, теперь уже в переселенческих селах, это послужило поводом к мятежу Верненского гарнизона в июне 1920 г. И хотя он был подавлен, с помощью тех же мусульманских частей, брожение среди русского населения не прекращалось.
В этих условиях Бойко смог сколотить крепкую подпольную организацию, численность которой по некоторым оценкам доходила до 660 человек. Отделения организации действовали в станицах Надеждинской, Софийской, Большой Алматинской и Джаланашской, а также в некоторых крестьянских селах. В самом Верном, наряду с Бойко ее возглавлял и бывший капитан анненковского полка Черных гусар Александров, капитан Кувшинов, штабс-капитан Воронов, поручики Покровский и Сергейчук. Им удалось связаться с находившимся в Китае Дутовым и разработать детальный план восстания в Верном, Джаркенте и южных станицах. Одновременно Дутов должен был вторгнуться из Синьцзяна и совместно с повстанцами очистить область от большевиков.
Деятельность бывших анненковцев не осталась незамеченной для ЧК. В группу Бойко был внедрен тайный агент большевиков, и осенью 1920 г., накануне намечавшегося выступления, Бойко и его штаб были арестованы. По станицам прокатилась очередная волна террора, в ходе которого было репрессировано 1800 человек. Кое- какие станичные дружины сумели оказать сопротивление большевикам, но силы были неравны и казакам пришлось уйти в горы, или, соединившись с прорвавшимся из-за кордона отрядом полковника Сидорова, отходить за границу. Зачистка станиц продолжалась до апреля следующего года. Бойко же, и его соратники были увезены в Ташкент и расстреляны в июне 1921 г.
В ноябре 1920 г. в Нарынском укреплении произошел мятеж красноармейского гарнизона, возглавлявшийся амнистированными офицерами Демченко и Кирьяновым. Им удалось ликвидировать в Нарыне Советскую власть и начать наступление на Пишпек, но столкнувшись с советским полком особого назначения повстанцы вынуждены были отойти обратно в Нарын, а потом и в Китай. Тогда же, в ноябре 1920 г., областная ЧК сообщила о раскрытии еще одной подпольной организации полковника Нилова в районе озера Балхаш.
Среди ушедших в эмиграцию казаков, наибольшую активность в борьбе с большевиками проявлял Оренбургский атаман генерал-лейтенант А.И. Дутов и командир партизанского отряда семиреков полковник П.И. Сидоров. Дутов, обосновавшийся в Суйдуне, и, благодаря денежным переводам с Дальнего Востока, устроивший более-менее сносную жизнь своего отряда, наладил хорошие отношения с джен-шеу-ши (военным губернатором) Илийского округа Синьцзяна, установил связи с подпольными организациями Семиречья, послал связных в Фергану к басмаческому командиру Иргашу, и попытался объединить под своим началом все белые силы в Западном Китае. Конечной целью его было собрать достаточно сильный отряд в районе Кульджи, хоть как-то вооружить его и ударить на Джаркент, одновременно подняв восстание в Семиречье. В том, что это возможно, его убеждали произошедшие мятежи красноармейских гарнизонов в Верном и Нарыне. И кто знает, как бы сложились обстоятельства, если бы не траги ческая гибель его от рук красных террористов, устроивших покушение на Войскового атамана оренбургского казачества 6 февраля 1921 г.
После смерти Дутова командование над его отрядами в Суйдуне, Мазаре и Чимпанцзах взял на себя полковник Ткачев, вскоре его сменил полковник Гербов. Но ни тот, ни другой не смогли удержать отряды от распыления - часть казаков ушла к Бакичу в Чугучак, часть - на Дальний Восток, а над оставшимися в Синьцзяне людьми, взял руководство начальник штаба Дутова полковник Павел Петрович Папенгут. Последнему впоследствии, уже в начале 1930-х гг., довелось сыграть выдающуюся роль в политической истории Синьцзяна и белой эмиграции и тоже трагически погибнуть на своем посту.
Полковник Павел Иванович Сидоров, формально подчинявшийся Анненкову, оказавшись в одном районе с Дутовым, установил с ним хорошие деловые отношения. Располагая мобильным, боеспособным и организованным отрядом из семиреченских казаков, превосходно знавших местность и имевших тесные связи с местным населением, он наводил ужас на советские власти в приграничных районах. Неожиданно появившись с гор, или из зарослей вдоль реки Или, сидоровцы уничтожали советские учреждения в селах и станицах, нападали на продотряды и команды красноармейцев и столь же неожиданно исчезали, прежде чем противник успевал опомниться и организовать преследование.
Когда осенью 1920 г. чекисты начали масштабную чистку в семиреченских станицах, после разгрома бойковской организации, и в Китае появились новые беженцы, Сидоров решил, что его час пробил, и настала пора действовать. В конце 1920 г. он возглавил рейд на территорию РСФСР и, прорвавшись через пограничные заслоны, вышел к казачьим станицам. Против его отряда красные выслали свою самую маневренную и надежную часть - дунганский полк Магаза Масанчи. В районе Джаланаша произошел бой. Коммунисты бросили в помощь кавполку Масанчи дополнительные силы, и полковнику пришлось отойти. На Аккентской дороге близ Джаркента большевики попытались окружить и уничтожить отряд, но казаки прорвались и ушли на китайскую территорию. Несмотря на то, что поход окончился неудачей, и раздуть пламя восстания в Семиречье не удалось, воинственный полковник и не думал складывать оружия.
В 1921 г. положение белоэмигрантов в Китае значительно ухудшилось. Так как китайцы перестали признавать старых российских консулов, в мае 1920 г. из Кульджи на восток отбыл так много сделавший для белых консул В.Ф. Люба, а в ноябре того же года - чугучакский консул В.В. Долбежев, и русским беженцам уже не к кому было обращаться за защитой. В 1921 г., в городах Синьцзяна, в т.ч. в Кульдже, открылись торговые представительства РСФСР, а под их вывеской обосновались агенты ЧК. В связи с захватом Урги, и изгнанием оттуда китайцев генерал-лейтенантом бароном Р.Ф. Унгерном, китайские власти стали очень подозрительно относиться к русским белым и в Синьцзяне. Теперь партизанам, чтобы избежать ареста, приходилось скрываться и от китайских властей и от советских агентов.
Как представляется, первоначально Сидоров входил в подчинение преемнику Дутова полковнику Гербову, пока тот пытался координировать действия нескольких белых отрядов из казаков и алашей на территории Семиречья и в районе русско-китайской границы. Под общим командованием Гербова весной 1921 г. было около 3050 сабель. На территории Лепсинского уезда, в районе перевалов Сельке и Чулак действовал круп ный и хорошо подготовленный отряд под командованием полковника Белянина, уроженца Уч-Арала, хорошо знавшего эти места. В этом отряде, численностью по различным оценкам от 500 до 1000 человек, в основном были местные киргизы (казахи), под руководством русских офицеров. В свое время еще Дутов возлагал большие надежды на алашский отряд Белянина. Он предполагал двинуть в помощь Белянину Атаманский полк оренбуржцев под командой полковника Е.Д. Савина из Чугучака, совместно выйти к станицам и поднять восстание среди казаков Лепсинского уезда, закрепиться и ждать подхода основных сил Бакича из Чугучака и Дутова из Суйдуна. По разным причинам, Савин не соединился тогда с Беляниным, оставшись в Чугучаке. В долине реки Боротала, ориентируясь на советскую территорию, находился отряд капитана Козлова в 500 сабель. Полковник Белянин во время похода по Семиречью был выкраден чекистами, вместе с несколькими своими офицерами, а его отряд к маю 1921 г. разбит и частично ушел в Китай. Сам Белянин погиб в красном плену. В течение всего 1921 г. совершали набеги на русскую сторону небольшие отряды есаула Остроухова, Мартемьянова и Аверьянова. Они прощупывали советское приграничье, вели разведку и пытались достать спрятанное во время отхода за кордон полковое имущество и оружие.
Решив покончить с остававшимися на территории Синьцзяна белыми частями и сибирскими повстанцами из Народной дивизии, которые прорвались в Тарбагатайский округ с территории РСФСР, советские власти, по договоренности с китайцами, двинули на Чугучак в мае 1921 г., части Красной армии под командованием В.Г. Клементьева. И хотя основным силам генерал-лейтенанта А.С. Бакича удалось тогда уйти на северо-восток, в Алтайский округ, в районе Чугучака в плен красным попало около 1200 белогвардейцев и беженцев, в том числе два бывших комбрига - генерал-майор Ф.Г. Ярушин и полковник П.И. Виноградский. Все они были уведены на советскую территорию, и дальнейшая судьба их неизвестна, но, вероятно, многие были расстреляны. По всей видимости, среди этих несчастных было немало семиреченских казаков.
После убийства Дутова (февраль 1921), отъезда на восток, а затем ареста китайцами Анненкова (март 1921), разгрома Бакича (осень 1921), полковник Сидоров остался единственным крупным белым вождем в Западном Китае, который пытался активно бороться с красными (Щербаков держался пассивно). В целях конспирации он распустил слухи о своей гибели и перешел на нелегальное положение. Под чужим именем полковник стал работать в небольшой кузнице в Кульдже. Эта кузница стала подпольным штабом не смирившихся с новой властью белогвардейцев.
Полковник Сидоров стал разрабатывать детальный план вторжения на советскую территорию из района Кульджи и поднятия там восстания из казаков и крестьян. Обстановка в Семиречье внушала ему надежду на успех, и, хотя к концу 1921 г. крестьянские волнения в стране пошли на убыль, сильное недовольство политикой советских властей сохранялось. Как отмечалось выше, особенное возмущение вызывала советская политика опоры на местные национальные кадры в противовес русским, и как следствие, усиленное политическое и экономическое давление на последних. В 1921 г., в угоду инородцам, был переименован даже центр области, который из Верного превратился в Алма-Ату.
План похода в Советскую Россию окончательно созрел у Сидорова к середине 1922 г. Он предполагал участие в этой операции китайского генерала И Тайджу - бывшего командира Маньчжурской бригады Семиреченской армии. И Тайджу, бывший к тому времени комендантом крепости Куре, согласился участвовать в этой операции, и вроде бы даже согласовал ее план с Анненковым, посетив его в тюрьме города Урумчи. По сигналу Сидорова И Тайджу должен был со своими людьми разоружить китайский гарнизон Куре, завладеть местным арсеналом, в котором хранилось все изъятое оружие анненковских и дутовских частей (несколько орудий, 80 пулеметов, 8 тысяч винтовок и др.), а затем вооружить им казаков Сидорова. Вместе они должны были перейти границу и взять Джаркент, гарнизон которого по сведениям разведки был на тот момент слаб. Превратив город в базу повстанческой армии, предполагалось начать боевые действия в Семиречье, подняв на борьбу местных казаков и крестьян. Общая численность отряда на первоначальном этапе предполагалась примерно в 10 тысяч человек.
Однако, как уже не раз бывало, белые недооценили работу советских спецслужб. Втершийся в доверие к полковнику бывший прапорщик его отряда Касымхан Мухамедов, дезертировавший и завербованный ЧК еще в 1920 г., сумел организовать покушение на него. Он дезинформировал Сидорова о прибытии в Кульджу посланцев от басмаческого вожака Курширмата из Ферганы, которых давно ждал полковник. На первую встречу Сидоров пришел с охраной, и Мухамедов не осмелился ничего предпринять. Отсутствие связных от Курширмата он объяснил тем, что, увидев в доме много людей, они побоялись войти, и потребовал новой встречи, уже без охраны. К несчастью Сидоров слишком доверял своему бывшему прапорщику, и, согласившись на новую встречу, был зарезан в доме Мухамедова в ночь с 15 на 16 августа 1922 г. Мухамедов и другой агент - Эрса Юсуфходжаев, удостоверившись в кончине полковника, вскочили в седла и поскакали к границе. Попытка группы казаков настигнуть убийц, не увенчалась успехом. Перейдя границу и проникнув в Джаркент, они уже не нашли там Мухамедова, который был спешно отправлен ГПУ вглубь советской территории.
Так, не дожив до сорока лет, погиб один из наиболее выдающихся и доблестных казачьих командиров, пытавшийся, несмотря ни на что, бороться с захватившими страну коммунистами. И хотя П.И. Сидоров не был казаком по рождению (он происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии), именно он смог объединить и организовать семиреченских казаков на последнем этапе борьбы с большевиками, вдохнуть в них силы и веру в победу и стать их бесспорным военным лидером. После его гибели идея организации большого похода в Россию фактически сошла на нет. Видя, что Синьцзян наводнен агентами ГПУ, и не став ждать судьбы Дутова и Сидорова, двинул на восток с небольшим отрядом казаков семиреченский атаман генерал-майор Н,П. Щербаков. Пересекая пустыню Гоби, он заболел пятнистым тифом и умер в городе Сюй-Джоу 15 сентября 1922 г. Часть казаков его отряда добралась до Шанхая, где впоследствии была небольшая Семиреченская казачья станица.
Говоря об участии семиреченских казаков в Гражданской войне, южно упомянуть еще о части Лейб-Атаманского полка Анненкова, которой удалось повоевать в Белом Приморье в 1922 г. Вероятно, среди атаманцев было немало семиреченцев. Этот отряд под командованием полковника П.Д. Иларьева, пройдя весь Китай, прибыл в апреле 1922 г. в Приморье, где бился с красными под названием Анненковского дивизиона до ноября месяца. 2 ноября 1922 г. дивизион пересек русско-китайскую границу вместе с основными силами Земской рати и был интернирован близ города Хунчун. Численность отряда к 1 сентября 1922 г. была небольшой - 287 штыков. Кроме того, во Владивостоке, у бывшего однополчанина Анненкова по 1 Сибирскому казачьему полку генерала Ф.Л. Глебова, было еще 35 анненковцев, но трудно сказать, были ли среди них семиреки.
Твердо вставшая на ноги Советская власть в Семиречье после ликвидации всех своих врагов в начале 1920-х немного "отпустила вожжи", а затем, к началу коллективизации вновь свирепо принялась уничтожать своих потенциальных противников, явных и мнимых. В 1928 г. по Джетысуйской губернии (бывшая Семиреченская область) прокатились волнения в казачьих станицах, связанные с вывозом хлеба. Снова начались аресты тех, кого не добрали в Гражданскую. В период коллективизации были раскулачены и высланы со своей родины уже не только казаки, но и массы русских крестьян, бывших непримиримых врагов казачества. Тогда из Семиречья и соседних областей был еще один исход в Синьцзян, кое-где снова были попытки поднять знамя повстанческой войны. Последняя известная нам попытка вооруженной борьбы с коммунистами в восточном Казахстане - это нападение из-за кордона на пограничную Матвеевскую заставу на Алтае, в апреле 1932 г. В этой акции приняли участие некоторые бывшие чины Оренбургского корпуса генерала Бакича. Сейчас неизвестно, были ли это оренбуржцы, сибирцы, семиреки или просто русские крестьяне, осознавшие всю губительность нового строя.
Советская власть методично, годами уничтожала даже память о казачьем Семиречье, стирая с географических карт исконные наименования станиц, поселков и городов. В 1968 г. с карты Семиречья исчезло последнее казачье поселение, носившее официальное название "станица" - Иссыкская, ставшее городом Иссык. Нынешние власти Казахстана, продолжая политику коммунистов, искажая исторические факты, также вытравливают из памяти народа все, связанное не только с казачеством, но уже и с пребыванием русских на этой земле. Современное Семиречье полностью изменило свой этнический облик - в бывших станицах звучит другая речь, и все меньше в них встречается не только казаков, но и просто русских людей.
Использованные источники:
1) Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.). Летопись событий. Под общей редакцией С. Джусупбекова, Алма-Ата, 1949.
2) А.Г. К аресту ген. Кияшко //Туркестанский Вестник. Ташкент. 1917. 12 декабря. №23.
3) Белая Россия. Альбом №1. Нью-Йорк, 1937.
4) Брайнин С., Шафиро Ш. Первые шаги советов в Семиречье. Алма-Ата-Москва, 1934.
5) Василенко С.Ю. Казачество в борьбе против большевиков в Семиречье и Синьцзяне в 1920-1922 годах. Нижний Новгород, 1998 (на правах рукописи).
6) Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб-М., 2002.
7) Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1975.
8) Елагин А.С. Из истории героической борьбы партизан Семиречья. Алма-Ата, 1957.
9) Жантуаров С.Б. Гражданская война в Киргизии. Фрунзе, 1963.
10) Заика Л.М., Бобренев В.А. Атаман Анненков //Военно-исторический журнал. М., 1990. №10. С. 66-72; 1991. №3. С. 68-77; №6. С. 77-84.
11) Ивлев М. Атаман Анненков //Веди. Алматы. 1998. №1-2(16). С. 28-32.
12) Он же. Атаманы Семиреченского казачьего войска //Семиреченский Казачий Вестник. Алма-Ата. 1998. №5(8). С. 9-10.
13) Он же. Последний год генерала Кияшко //Семиреченский Казачий Вестник. Алма-Ата. 2000. №2(15). С. 6-7; №3(16). С. 19.
14) Ивлев Н., Ивлев М. Вступление к главам из книги П. Краснова "На рубеже Китая" //Простор. Алма-Ата. 1998. №4. С. 114-116.
15) Ионов А.М. Сибирскому казаку //Часовой. Брюссель, 1957. №2(373). Февраль. С. 12-16.
16) Краснов П.Н. На рубеже Китая. Париж, 1939.
17) Лямин Н. Операции красной армии против белых на территории Китайской республики с 17 мая по 17 июня 1921г. //Военная мысль. Ташкент, 1921. №3. С. 89-107.
18) Мартьянов С., Мартьянова М. Дело Анненкова //Простор. Алма-Ата, 1970. №10. С. 87-109, №11. С. 89-115.
19) Митропольская Т.Б. Из истории семиреченского казачества. Алматы, 1997.
20) Мы из ЧК. Сборник. Алма-Ата, 1974.
21) Незабытые могилы. Ген. А.М. Ионов //Часовой. Брюссель, 1950. №8(300). 01.09.
22) Незримый фронт. Сборник. Алма-Ата, 1967.
23) Огаров О. Агония белых в Синцзянской провинции //Военная мысль. Ташкент, 1921. №2. С. 327-330.
24) Павловский П.И. Анненковщина. По материалам судебного процесса в Семипалатинске 25/7 - 12/8 1927 г. М.-Л., 1928.
25) Петров В.И. Мятежное сердце Азии. Синьцзян: краткая история народных движений и воспоминания. М., 2003.
26) Петрович П. Ликвидация армии атамана Анненкова //Красная конница. 1933. №1. С. 18-30.
27) Покровский С.И. Победа Советской власти в Семиречье. Алма-Ата, 1961.
28) Понькин Ю. Путь отца. Россия - Китай - Австралия. Сидней, 1997.
29) Серебренников И.И. Великий отход. Рассеяние по Азии Белых русских армий. 1919-1923. Харбин, 1936.
30) Список Генерального штаба. На 1-е мая 1913 г. СПб, 1913.
31) Тулекеева К. Черкасская оборона. Алма-Ата, 1957.
32) Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 2. Мятеж. М., 1960.
33) Чекисты Казахстана. Сборник. Алма-Ата, 1971.
34) Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. Т.1. 1917-1920. Т.2. 1920-1922. М., 2004.
35) Алматинский областной архив. Ф. 772. Оп. 1. Д. 35. Л. 13, 24, 25.
36) РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 17. Л. 323.
37) РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 20. Л. 83.
38) Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 46. Оп. 1. Д. 288. Л. 20об.
39) ЦГА РК. Ф. 1897. Оп. 1. Д. 448. Л. 116-117, 82, 125.
***
М. Н. Ивлев
(Альманах "Белая гвардия", №8. Казачество России в Белом движении. М., "Посев", стр. 225-235)
Источник - a-pesni.golosa.info
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1201613700
Метки: казачество русские традиции казаков |
Россия и Китай в Центральной Азии |
Дневник |

В. А. Моисеев.
Россия и Китай в Центральной Азии
Глава 5. ОККУПАЦИЯ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ИЛИЙСКОГО КРАЯ В 1871 г.
http://new.hist.asu.ru/biblio/ruskit/05.html
Весной 1871 г. отношения между Кульджой и Верным обострились. Таранчами в кенте (поселении) Дубун были захва-чены заблудившиеся русские крестьяне, а затем арестованы и посланные на их поиски два казака. Этот и подобные инциденты, а также слухи о военных приготовлениях султана, о будто бы заключенном им с Якуб-беком антирусском военном союзе, будоражили казахское и киргизское население Семиречья. Некоторые из родоправитетелей решили бежать в Илийский край и присоединиться к своим единоверцам. 19 апреля свыше тысячи семей казахов Старшего жуза во главе со старшиной (прапорщиком русской службы) Тазабеком Бусурмановым бежали из Верненского уезда в Илийский край, разграбив по пути аулы других родов и угнав большое количество скота. Пытавшийся воспрепятствовать их откочевке казачий конвой под командованием есаула Герасимова был смят беглецами. Семиреченский губернатор Г.А. Колпаковский в письменной форме обратился к правителю Таранчинского ханства султану Абиль-оглы с требованием выдворить беглецов обратно, предупредив, что если султан не даст положительного ответа, то он "будет принужден двинуть отряд для преследования бежавших". Казаки, доставившие это письмо в приграничное уйгурское селение Мазар, "подверглись там всевозможным оскорблениям, соединенным с насилием". Султан Абиль-оглы не только не ответил на обращение Колпаковского, но приказал своим пограничным начальникам изгнать русские войска, если они действительно попытаются силой возвратить Тазабека и его людей.
Семиреченские власти, получив известие о том, что беглецы скрываются за Кетменьским перевалом на левом берегу р. Или, немедленно снарядили погоню. При этом командирам русских отрядов Колпаковский приказал
"ни в каком случае не начинать первыми враждебных действий против таранчей, а извещать их начальников при всякой встрече о цели нашего движения, заключающейся единственно в возврате наших откочевавших волостей" 1.
На границе российских владений с Кульджинским ханством в узком проходе Кетменьского перевала русский отряд, состоявший из одной роты пехоты и полторы сотни казаков при двух орудиях под командованием подполковника Елинского, был неожиданно атакован объе-диненными силами таранчей и киргизов. Лишь получив подкрепление, русские войска заставили неприятеля отступить2. Чрезвычайно крутой спуск с Кетменьского перевала, затрудненный устроенными таранчами завалами, сильный снегопад, отсутствие кормов и начавшийся падеж лошадей и верблюдов не позволили отряду продолжать преследование. После совещания с прибывшим на помощь во главе Тянь-Шанского отряда подполковником Ждан-Пушкиным, Елинский повернул обратно и повел войска в долину реки Шалкады-Су.
Расценив возвращение русского отряда как отступление и получив подкрепление, таранчи и киргизы, численностью более трех тысяч человек, бросились в погоню. 14 мая 1871 г. русский отряд, находясь уже на территории Российской империи, был окружен превосходящими силами неприятеля. Сильным артиллерийским огнем нападавшие были отбиты и, понеся большие потери, ушли за Кетменьский
перевал 3. Эти столкновения стали непосредственным поводом вооруженного конфликта между Россией и Кульджинским султанатом.
Срок, назначенный Колпаковским султану Абиль-оглы для ответа на письмо по поводу выдачи Тазабека, истекал 3 мая. Не получив ответа и узнав об оскорблениях и издевательстствах над посланными им в Кульджу казаками, нападений таранчинских войск на русские посты и сражении на Кетменьском перевале, он обратился к туркестанскому г-г К.П. Кауфману за приказом на военное вторжение в Илийский край.
"Бездействие наше, - доказывал он Кауфману, - в настоящем случае может вредно повлиять на умы наших киргиз, уважающих только силу и решительность и дать время нашему сомнительному соседу Якуб-беку подать руку помощи Кульдже: Отдельные же экспедиции: как, например, разорение Кетменя и Дубуна, хотя и полезно, но служит слишком малым возмездием за нападение на русские войска и объявление войны России инсургентом, называющим себя Султаном Илийским". Кауфман предписал военному губернатору Семиречья "наказать "таранчей, но поход в Кульджу, выполняя распоряжение правительства, отложить до осени4.
Однако ситуация на границе с Кульджинским ханством складывалась таким образом, что откладывать экспедицию до осени было невозможно. Ход пограничных событий, убеждал Колпаковский Кауфмана, диктует необходимость захвата Кульджи не ожидая осеннего времени и ответа китайского правительства о совместных военных действиях против инсургентов. Разгром главных сил таранчей и ликвидация Илийского султаната необходимо осуществить немедленно, "как для спокойствия пограничной полосы и кочевого населения, так и потому, что это (промедление - В.М.) дает таранчам время собраться с силами и призвать на помощь войска Якуб-бека, между тем как вверенные мне войска, имевшие несколько дел с таранчами, находятся накануне выступления против Кульджи". Хотя русские посты и преграждают Якуб-беку проход в Илийскую долину через Музартское ущелье, он может провести свои войска кружным путем через Урумчи и Манас или через проходы в верховьях р. Юлдуз. Тогда занятие Кульджи "будет стоить несравненно больше крови, чем теперь" 5. Туркестанский губернатор, докладывало Военное министерство императору Александру II, "оценив действительное положение дел и получив в это время высочайшее повеление от 27 апреля о предполагавшейся осенью экспедиции в китайские пределы", разрешил военному губернатору Семиречья "двинуться с самостоятельным отрядом на Кульджу для примерного наказания таранчей". Кауфман направил ему из Сырдарьинской области в качестве подкрепления сотню казаков Семиреченского полка, а в Токмакский уезд на усиление Нарынского и Каракольского укреплений 1-й Туркестанский линейный батальон. На проведение военной кампании против Кульджинского султаната из средств Туркестанского губернаторства было выделено 65 тыс. руб. 6.
Для отвлечения сил таранчей от отряда Елинского с русского военного поста Борохудзир к ближайшему таранчинскому укреплению Мазар был выдвинут небольшой отряд в составе одной роты пехоты, 20 казаков и двух орудий под командованием майора Балицкого. После непродолжительного сражения русские войска заняли укрепление Мазар и разрушили его. Однако местное уйгурское население прилегающих к этому укреплению деревень перекрыло текущие к Мазару арыки и ручьи и оставило русский отряд без воды. В то же время султанские войска окружили отряд и, прервав его сообщение с Борохудзиром, преградили дорогу к отступлению. В такой ситуации Балицкий принял решение двигаться вперед. Осыпаемый градом пуль и стрел, отряд дошел до разрушенного повстанцами китайского города Хоргоса в 12 верстах к востоку от Мазара. С наступлением темноты таранчи, дунгане и калмыки, численность которых доходила до 3 тыс. человек, атаковали русский отряд, но были отбиты сильным ружейно-артил-лерийским огнем. Из Хоргоса Балицкий повернул отряд к Аккенту и отттуда, подвергаясь непрерывным нападениям таранчей, возвратился в Борохудзир, потеряв за время этой экспедиции лишь троих солдат раненными. Таранчами был взят в плен казак, который вез в отряд почту с Борохудзира, без вести пропали два казака, вероятно они были взяты в плен.
Экспедиция отряда майора Балицкого - своеобразная разведка боем - выявила слабость многочисленных, но необученных и плохо вооруженных войск султана Абиль-оглы, значительные силы которого концентрировались по р. Хоргос. Колпаковский спешно формирует на Борохудзире основной, а на Кетменьском перевале вспомогательный отряды. Из Чунджи на помощь находившемуся вблизи Кетменьского перевала отряду подполковника Ждан-Пушкина и подполковника Елинского были направлены дополнительные силы: 2 роты пехоты, 2 сотни казаков, 4 орудия и учебная казачья команда во главе с полковником Михайловским. Соединившись, оба отряда 28 мая (по другим данным 29) спустились с Кетменьского перевала и разгромили оборонявших его таранчей, после чего захватили уйгурское село Кетмень7. На рассвете 31 мая отряд подвергся нападению прибывших с правого берега р. Или новых сил таранчей. Общее число нападавших составляло около 3 тыс. человек. Командовали ими лучшие военачальники султана: Лашкор-бек, Комбер-ахун, Абдулла-гаит, Мерден-шанбеги и др. Сколь важное значение борьбе за господство над Кетменьским перевалом придавали в Кульдже, свидетельствует прибытие к месту сражения самого султана Абиль-оглы.
Кетменьское сражение было одним из самых жестоких и упорных на протяжении всей Илийской компании 1871 г. Упорный бой, нередко переходивший в яростные рукопашные схватки, продолжался почти весь день. В конце концов, русские заставили таранчей отступить, причинив им сильный урон.
"Поражение неприятеля, - отмечалось в журнале политических и военных событий за июнь 1871 г. Канцелярии семиреченского губернатора, - было на этот раз чрезвычайно сильное. Местность сражения была усеяна неприятельскими трупами и множеством оружия" 8.
Потери русских составили 35 человек убитыми и ранеными9.
Потерпев неудачу, султан Абиль-оглы не отказался от мысли разгромить русский отряд, преграждавший вход в Кетменьское ущелье, и перебрасывает туда все новые силы. Зная о том, что главный удар в направлении Кульджи будет наноситься по правому берегу р. Или и опасаясь окружения, Михайловский принимает решение отступить до р. Дардашты. В наиболее узком месте ущелья он оставляет с небольшим отрядом подполковника Елинского, а сам с остальными войсками двигается на Борохудзир, куда и прибывает 5 июня. Ознакомившись с его рапортом, Колпаковский принял решение не оборонять Кетменьский перевал и приказал подполковнику Елинскому направить часть отряда на подкрепление отряду капитана Ветберга, охранявшему выход из Музартского ущелья в Илийскую долину, а самому с остальными силами идти на Борохудзир 10. Колпаковский, уже зная о решении правительства от 27 апреля 1871 г. о подготовке против Кульджи к осени военной экспедиции, решил не медлить, "дабы успокоить умы : киргиз и не дать время Якуб-беку подать руку помощи". Получив разрешение от Кауфмана он деятельно готовит войска к наступлени на Кульджу. 11.
Между тем на правом берегу р. Или между русскими постами и таранчами продолжались военные столкновения. 8 июня в районе Аккента значительные силы таранчей (до 3 тыс. человек) атаковали русские сторожевые части, но были повсеместно отбиты и отошли к р. Хоргос и селению Алимту. 5 июня, накануне решающего наступления, семиреченский губернатор Колпаковский обратился к населению Кульджинского края с воззванием, призывая его не оказывать сопротивления русским войскам, объясняя причины побудившие русское правительство начать военные действия против султана Абиль-оглы.
"Жители Илийского края! Военные силы наши будут употреблены только для уничтожения неприятельских войск и военных средств. - Говорилось в воззвании. - Все мирные люди, которые явятся к войскам нашим с покорностию и дружбою, могут жить спокойно. Никто не обидит их и не лишит принадлежащего им скота и всякого имущества. Русские войска будут действовать только против врагов, но не против мирных жителей: Пусть поймет все население Кульджинской страны без различия племени и вероисповеданий, что войска наши есть истинные их друзья и все неодолимые силы свои употребят не против мирного населения, а против таранчинского правителя, не внявшего предложениям дружбы и безумно решившего вызвать своими ничтожными силами войну с могущественным Русским
государством" 12.
В Борохудзир были стянуты почти все наличные силы, которыми располагала тогда семиреченская администрация: 6,5 рот пехоты, более 8 рот кавалерии и 10 артиллерийских орудий. Рано утром 16 июня 1871 г. сводный отряд русских войск под командованием Колпаковского по правому берегу р. Или выступил в направлении села Хоргос. За Хоргосом русский авангард был атакован большими силами таранчей, численностью свыше 4 тыс. человек под командованием Абдрахмана - газначи. Русские не только успешно отразили этот натиск, но и обратили противника в бегство и преследовали его на протяжении 14 верст, ворвавшись на плечах бегущих в Аккент. Бросая оружие, имущество, раненых таранчи обратились в бегство. Поражение султанских войск под Аккентом было сокрушительным и парализовало боевой дух как таранчей, так и помогавших им дунган и киргизов 13. Кроме того, в сражении против русских войск участвовали на стороне таранчей сибо и калмыки.
На следующий день, 17 июня, отряд выступил в направлении города Чинчахоцзи. Таранчи превратили город в настоящее укрепление. Он был обнесен стеной высотой до 5 и шириной до 4 метров. В окружающих Чинчахоцзи садах была укрыта артиллерия таранчей. Именно ее огонь остановил наступление русских войск. 18 июня, рано утром, русская пехота стремительным броском захватила артиллерийские позиции таранчей и ворвалась вслед за бегущими в город.
"При занятии войсками города, - отмечалось в донесениях командиров, - не было произведено никаких жестокостей и грабежей, обычных в подобных ситуациях. Только пробравшиеся за войсками в крепость волонтеры из китайских эмигрантов успели, пользуясь суматохой, сделать несколько грабежей, но были тотчас же удалены из города" 14.
Русские войска захватили несколько орудий, 40 крепостных ружей, сотни пик, луков, большие запасы пороха, свинца, военного снаряжения и продовольствия. Точных данных о потерях султанских войск обнаружить в документах не удалось, однако только в самом городе после сражения жители похоронили 45 человек.У русских был убит один казак, ранено 12 солдат и капитан А.В.Каульбарс15.
Кульджинский султан Абиль-оглы обратился к Колпаковскому с предложением прекратить боевые действия и приступить к мирным переговорам. Однако русским властям стало известно, что незадолго перед этим обращением Абиль-оглы отправил посольство к правителю Йэттишара Якуб-беку с просьбой о военной помощи. Понимая, что выступив с инициативой начать мирные переговоры, султан стремится выиграть время, необходимое для подхода войск Якуб-бека, семиреченский губернатор не ответил на это предложение 16.
19 июня Колпаковский направил двоих жителей Чинчахоцзи в Суйдун с прокламациями. В них русское командование предлагало населению Суйдуна не оказывать сопротивления войскам, на что большая часть горожан изъявила полную готовность. Когда в тот же день русские подступили к садам, окружающим город, "таранчи обратились в бегство, жители же Суйдуна криками со стен, бросая свое оружие, заявили о своей добровольной покорности". Русская кавалерия преследовала отступающие отряды таранчей на протяжении 30 верст до селения Баяндай, где последние были окончательно рассеяны 17.
Вскоре к расположившимся на отдых в окрестностях Суйдуна русским войскам стали прибывать перебежчики из окружения султана. Одним из первых приехал известный аксакал, бывший ранее посланцем Абиль-оглы в Верном Мир Азизбай, затем военачальник султана Бугири-минбеги и др. Они сообщили Колпаковскому, что главнокомандующий таранчинс-кими войсками Абдрахман-газначи и другие командиры, прибыв в Кульджу, доложили султану "о невозможности сопротивления русским и о своих тщетных усилиях удержать рассеявшееся войско" 18. Вняв их советам, Абиль-оглы направляет к семиреченскому губернатору Колпаковскому посольство с просьбой остановить продвижение русских войск к Кульдже * .
* Положение султана к этому времени осложнилось. После того как пал Суйдун, в ночь с 19 на 20 июня, проживающие в предместье Кульджи китайцы, подняли восстание против таранчей. Поводом для восстания послужил арест султаном Абиль-оглы китайского посольства, прибывшего к нему из Комула (Хами) для ознакомления с положением китайцев Кульджи. После убийства таранчами двух членов посольства его руководитель Ван Тин-чжан призвал китайцев Кульджи к восстанию. "Но собравшиеся по тревоге в значительном числе из крепости таранчи немедленно потушили восстание китайцев и перерезали всех попавшихся с оружием и без него китайцев". Погибло в ходе резни более двухсот китайцев, в том числе все члены посольства и сам Ван Тин-чжан. См.: ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 138-139 об.
Последний в ответ на эту просьбу потребовал немедленной выдачи Тазабека и других беглецов, нашедших укрытие во владениях Абиль-оглы 19.
Когда русские войска продолжили движение на Кульджу, к Колпаковскому прибыло от султана новое посольство, в состав которого входил и 13-летний сын Абиль-оглы, а также авторитетные и уважаемые в Кульдже лица. Посольство доставило русским Тазабека и просило от имени султана остановить войска возле разрушенного в ходе атицинского восстания с. Баяндай, "куда выедет сам султан с почетнейшими людьми всей страны". И действительно, как только русские войска подошли к Баяндаю и стали располагаться на ночлег, из Кульджи прибыл султан Абиль-оглы "с почетнейшими светскими и духовными сановниками" и, встав на колени объявил, что "отдается на волю русского правительства, прося пощады своему народу"20. Колпаковский от имени императора Александра II гарантировал султану личную безопасность, неприкосновенность принадлежащего ему имущества, а населению Кульджи "спокойствие и безопасность имущества".
22 июня 1871 г. русские войска без боя вступили в столицу Илийского края город Кульджу *. (* Свидетель вступления русских войск в Кульджу цинский чиновник Лю Цунь-хань писал впоследствии, что русские "Взяв город, никому не сделали вреда, даже травке, ни одному деревцу, курице или собаке" См.: Потулов В.В. Колонизационное значение Илийского края. Пг., 1917. С. 49.) Султан сдал русским властям 57 медных орудий, 359 больших крепостных ружей, 13 фальконетов и много другого военного имущества и припасов. В день занятия Кульджи к Колпаковскому явились с изъявлением покорности представители почти всех кочевых племен и земледельческих поселений - кентов: сибо, солонов, калмыков, таранчей, кроме казахов племени кызай. Прибыли также главы собственно китайских (ханьских) поселений - Такиянзы, Джинхо и Шихо. Началось повсеместное разоружение населения Кульджи и окрестностей, формирование новой администрации. Через несколько дней после занятия Кульджи русский военный отряд под командованием войскового старшины Гильде был направлен Колпаковским в верховья р.р. Или и Каша в уйгурские кенты для разоружения населения и сбора информации 21.
Итак, русским войскам понадобилась всего одна неделя для занятия территории и ликвидации Таранчинского султаната. Анализируя причины быстрой и почти бескровной победы, чиновники канцелярии семиреченского губернатора подчеркивали:
"Без сомнения, результаты эти достигнуты превосходством и имуществом (оружием - В.М.) наших войск и тем строгим уважением, которое оказывалось личности и имуществу населения".
Помимо такого рода общих были и конкретные причины успеха.
"Слабое сопротивление, оказанное дунганами в Чинчахоцзи, и сдача ими без боя Суйдуна лишила таранчей помощи дунган, почитаемых лучшею и надежнейшею в стране военною силою, китайские пушкари и стрелки из крепостных ружей были или перебиты : на Алимту и под Чинчагози или забраны в плен и потому под Суйдуном таранчи, не умеющие сами обращаться с огнестрельным оружием, уже не могли поддерживать против нас того частого, хотя безвредного огня, который придавал им мужества на Алимту и под Чинчагози. После всего этого таранчам оставалось покориться без дальнейшей бесплодной борьбы"22.
Султанская власть в крае была ликвидирована. Абиль-оглы 17 июля 1871 г. отправлен на жительство в г. Верный, где и провел остаток своей жизни, получая от русского правительства пенсию в пять тысяч рублей23. Несмотря на проигранную войну, его провожали огромные толпы народа. Оккупация русскими войсками Кульджи стабилизировала политическую обстановку в этой части Синьцзяна, позволила приступить к восстановлению торгово-экономических связей с Внутренним Китаем. В то же время ликвидация Кульджинского султаната поставила перед туркестанской администрацией вопрос - как быть дальше? Передавать край под управление китайских властей, как предполагало ранее правительство, или временно вводить русское управление? Поскольку ответа китайского правительства относительно совместных действий в Или все еще не было, неизвестны были силы и средства китайского командования, которые могли быть направлены в Синьцзян, Колпаковский накануне выступления сообщал Кауфману, что он намерен "не объявлять о восстановлении маньчжурской власти" и ограничиться заявлением, что "участь края будет зависеть от воли русского правительства". Объясняя мотивы такого поведения, Колпаковский отмечал, что объявление местному населению о восстановлении китайской власти заставит его поддерживать таранчей. Семиреченский губернатор был также категорически против передачи власти в Кульдже, проживавшим в Семиречье китайским эмигрантам. Эти мелкие чиновники, считал он, не смогут "ни совладать с этой обязанностью, ни охранять порядок и безопасность, необходимые для наших сообщений. - Поэтому я, - писал он Кауфману, - на первое время предоставляю управление покорившимися пунктами и населением их племенному, родовому или выборному начальству: По прибытии же китайских сановников и военных сил управление страной будет им немедленно передано, если не последует иного распоряжения правительства". Управление краем в целом должно осуществляться русской администрацией и власть китайцам будет передана тогда, когда у них будет достаточно войск, чтобы удержать ее 24. Не изменилась позиция Колпаковского и после занятия края. Направляя 28 июня 1871 г. рапорт в Военное министерство туркестанский г-г Кауфман, указывал, что он "вполне разделяет" мнение семиреченского губернатора о нежелательности присутствия в Илийском крае китайских эмигрантов и объявления населению о передаче края Китаю, "до прибытия достаточного для фактического владения краем числа китайских войск и доверенных от Пекинского правительства чинов" 25.
19 июля 1871 г., находясь в Варшаве, император Александр II получил телеграмму от западно-сибирского генерал-губернатора А.П. Хрущова о занятии русскими войсками под командованием генерал-лейтенанта Колпаковского Кульджи. Ознакомившись с текстом, царь написал на бланке: "Очень рад, лишь бы оно не завлекло нас еще далее" 26. Император указал направить в Пекин уведомление о причинах и цели занятия русскими войсками Кульджи и о намерении русского правительства немедленно приступить к переговорам о возвращении края Китаю. Почти одновременно с этим указом из столицы Поднебесной в Петербурге была получена телеграмма от А.Г. Влангали, в которой он сообщал о фактическом отказе Пекина участвовать совместно с Россией в подавлении восстаний в Синьцзяне. Это резко меняло ситуацию и заставило правительство примириться с мыслью, что занятие Илийского края "не может уже иметь безусловною целью восстановление маньчжурских властей". В Петербурге было решено предоставить на усмотрение местной туркестанской администрации ввести в Илийском крае такое управление, "которое послужило бы, - докладывал Александру II начальник Главного штаба Ф.Л.Гейден, - (к) явной выгоде нашим интересам. Кто бы ни был правитель - китаец, таранчи или дунганин, которого по ближайшим соображениям признано будет полезным утвердить в соседней с нами стране, желательно, чтобы он дал нам такие материальные и нравственные гарантии, которые обеспечили бы спокойствие на нашей границе и способствовали свободному развитию нашей торговли: Может быть временное занятие Илийской долины и подействует благотворно на кашгарского правителя (Якуб-бека - В.М.) по отношению к нам"27.
Занятие русскими Кульджи, как показали последующие события, упредило захват края Якуб-беком. Уже в августе 1871 г. войска Якуб-бека в союзе с дунганами разгромили китайских партизан, скрывавшихся в горах Ляньсяня и Сазанза и крепко досаждавших своими нападениями дунганским городам и селениям. Совместные действия Якуб-бека и дунган вызвали обеспокоенность русских властей. К тому же Якуб-бек постоянно наращивал численность своих войск в Северном Синьцзяне 28. Однако союз Якуб-бека с дунганами оказался непрочным и уже весной 1872 г. старший сын Якуб-бека Бек-Кули-бек осадил столицу дунган Урумчи.
30 июля 1871 г. МИД России направил российскому посланнику в Пекине Влангали рекомендации относительно линии поведения в объяснениях с китайским правительством по кульджинским делам. Указав, что фактический отказ маньчжурского двора участвовать в совместных военных действиях против инсургентов Синьцзяна изменил планы российского кабинета, которое, подчеркивалось в инструкции, "скорее всего предпочло бы оставаться в прежнем выжидательном положении до разъяснения обстоятельств и не предпринимать никаких наступательных движений. Но сила обстоятельств заставила нас действовать иначе". Посланнику предлагалось обратить внимание цинского правительства на вынужденный характер занятия русскими войсками Илийского края и ликвидации султаната, так как правитель его Абиль-оглы "перешел в самое последнее время к открытым враждебным действиям и напал на один из наших передовых пикетов в Семиреченской области". Чтобы предупредить дальнейшие беспорядки на границе, наказать султана "за дерзкий его поступок" русские пограничные власти вынуждены были прибегнуть к оружию. Необходимо заверить богдыхана и его сановников, что российское правительство "ни в каком случае не желает присоединить Кульджинский округ к составу империи" и готово вернуть Илийский край Цинской империи, более того готово "содействовать до известных пределов восстановлению китайских властей" в этом крае 29.
Илийский край был временно включен в состав Туркестанского генерал-губернаторства и подчинен военному губернатору Семиреченской области Колпаковскому, при котором в Верном была создана специальная Канцелярия по кульджинским делам, которую возглавлял сначала Н.А. Аристов, затем Н.Н. Пантусов На территории Илийского края площадью в 1400 кв. верст до восстания проживало около 130 тыс. человек. В административном отношении край сначала был поделен на четыре участка во главе с русскими участковыми началь-никами: майором К.Н. Балицким, есаулом И.С. Герасимовым, штабс-капитаном Н. Шнейдером и подпоручиком М. Ляшевским. В 1874 г. третий, а в 1876 г. четвертый участки были упразднены. Территория бывшего султананата была поделена на два участка: Северный (на правом берегу р. Или) и Южный (на левом берегу). Последний, протяженностью с запада на восток около 500 верст от мест Дубун и Губун-Таш до верховий рек Каш и Кунгес. Этот участок делился на восемь волостей: две уйгурских, три казахских и по одной торгоутской, сибоской и калмыцкой с населением свыше 50 тыс. человек, не считая китайцев и русских. Северный участок включал г. Кульджу, уйгурские и дунганские поселения, два китайских села Лауцугун и и Чимпанцзи, кочевья казахских родов суванов, кызаев и байджигитов, сумуны калмыков и солонов, численность населения которых составляла свыше 46 тыс. человек. В поселениях была введена выборная власть. Ежегодно на собраниях каждая волость избирала старшину и помощников, а также народных судей, утверждаемых военным губернатором Семиречья. Волостные управители у казахов назначались Колпаковским сроком на три года. У калмыков и торгоутов управителями остались их прежние угурдаи (волостные старшины) 30. Административным центром стала Старая Кульджа. Расходы на занятие и управление краем русская администрация возложила на "господствовавшие племена" - уйгуров и казахов, "как главных виновников в военном столкновении и как более состоятельную часть населения". Сумма контрибуции в возмещение издержек военной экспедиции составила 53 тыс. рублей. Предполагалось собрать эту сумму к началу августа 1871 г. По предварительным подсчетам семиреченской администрации общая численность населения Илийского края составляла свыше 100 тыс. человек. Из них 38 тыс. уйгуров, 22 тыс. казахов, 5 тыс. дунган, 15 тыс. сибо и солонов, от 5 до 7 тыс. китайцев и около 17 тыс. калмыков. При этом большая часть китайцев, признавших русскую власть, проживала за пределами Кульджинского края. Около 4 тыс. китайцев, признавших русскую власть, жили в Такиянзе, Джинхо, Шихо и Кур Кара-усу 31.
Вместо разнообразных и многочисленных налогов и поборов, существовавших при маньчжурах и в султанате, русская администрация установила единый налог: по три рубля с семьи. Исключение было сделано для разоренных китайцев и калмыков, которые должны были вносить по 1 рублю с семьи. Причем расклад налога осуществляли сами общества, "соразмерно средствам плательщиков". В целом в 1871 г. размер налоговых поступлений должен был составить 64795 руб. К этой сумме затем были добавлены подати с прикочевавших на Кунгес торгоутов32. Калмыки-торгоуты, кочевавшие в районе Кара-шара, во время войны Якуб-бека с дунганами, поддержали бадаулета, но отказались признать над собой его власть. Угроза нападения войск Якуб-бека побудила искать покровительства новых хозяев Кульджи - русских.В августе 1871 г. в Кульджу прибыл калмыцкий посланец. В результате переговоров калмыкам было разрешено поселиться в районе р. Кунгес. Между тем в то время пока шли переговоры торгоуты подверглись нападению кашгарских отрядов и не дожидаясь официального решения двинулись на Кунгес. 29 сентября в Кульджу с этим известием прибыл новый посланец от ханши торгоутов. Русские власти предоставили под кочевья торгоутам долину р. Кунгес и пастбища в близлежащих горах. Эти земли когда-то обещал, но так и не дал им султан Абиль-оглы 33.
На содержание оккупационных войск, чиновников в Кульдже и Канцелярии по Кульджинским делам в Верном из государственных средств не было истрачено ни копейки. При этом доходы района и благосостояние его жителей с каждым годом возрастали. Так, в 1878 г. они составляли 111950 руб. 60 коп.; в 1879 г. - 129693 руб. 25 коп.; в 1880 г. - 146118 руб. 20 коп. В справке, составленной Канцелярией по кульджинским делам уже после оставления русскими края, отмечалось, что
"население не обременялось податями и всегда легко и безнедоимочно вносило подати. До 1879 года оклад подати, включительно с земским сбором существовал 3 руб. 60 коп. с податной единицы для обществ более состоятельных (таранчи, киргизы, сибинцы) и 2 руб. 40 к. и 1 руб. 80 коп. для обществ менее состоятельных, как-то китайцев, калмыков. В 1879 году оклад увеличен - для первых до 4 руб. 60 коп., для вторых до 3 руб."34
Податной единицей считалась семья имеющая самостоятельное хозяйство, а иногда и несколько семей, живущих единым кланом.
Сознавая временный характер владения краем русские власти тем не менее уделяли внимание развитию экономики края и благосостояния населения: строили дороги, мосты, открывали фельдшерские пункты, первые светские школы, заботились о развитии торговли, закладывали сады. Так, на месте бывшего султанского сада и зверинца в 1872 г. был разбит казенный сад, называвшийся Айрам-бак, в котором были высажены фруктовые деревья, разбиты цветники, устроены дорожки. Со временем сад превратился в излюбленное место гуляния горожан. Устраивали сад выпускники Верненского училища садоводства. В саду были также посажены тутовые деревья и начато разведение шелковичных червей для шелководства. Также в Кульдже был заложен еще один казенный сад - Даулет-бак. Третий виноградный сад был отдан под размещение русских войск и по сути погублен.
В Кульдже была открыта городская больница, специальная больница для лечения больных венерическими заболеваниями, кроме того гражданское население принимали на лечение в госпиталь. Планировалось устроить больницу в помещении бывшего султанского дворца на 50-70 коек. Бедняки лечились бесплатно, причем не только в больнице, но и получали медицинскую помощь прямо на квартирах врачей и фельдшеров. Впервые в истории края начато оспопрививание.
В Кульджинской русской школе на 34 учащихся в 1873 г. 25 было уйгурских детей и только 7 русских. Учителями были русский педагог Васильев и уйгур Казы-Калян. Большую роль в создании больниц и школ сыграл подполковник Рейнталь.
Русские власти запретили рабство и работорговлю, жестко пресекали воровство. Объехав в мае-июне 1873 г. край чиновник Кульджинской канцелярии известный впоследствии востоковед Н.А. Аристов в своем отчете подчеркивал, что "Материальное благосостояние населения района всех племен заметно год от года улучшается...", особенно земледелие и скотоводство.
"Политическое настроение мусульманского населения не оставляет желать лучшего, ибо дунгане, таранчи и киргизы весьма довольны нашим управлением. Чувства эти разделяют и буддийские племена, но желание отомстить мусульманам за прошлое и интриги чиновников, желающих восстановления былой своей власти, жалованья и почета, поддерживают в умах некоторой части сибо, китайцев и торгоутов скрытное против нашего владычества недовольство и желание возврата китайской власти" 35.
В августе-сентябре 1874 г. в Кульджинском крае побывали Кауфман, Колпаковский и чиновник по дипломатическим поручениям при Туркестанском г-г Вейнберг. Докладывая о результатах поездки в Семиречье и Кульджу директору Азиатского департамента П.Н. Стремоухову, Вейнберг отмечал, что
"Все население мало-помалу оживает после китайско-дунганской смуты, повсюду видно стремление применить с пользою представленные природою удобства и подспорья, и если это столь естественное движение к новой жизни и тормозится в настоящее время, то единственно вследствие неизвестности и неопределенности положения Кульджинского края:, парализующего все производительные силы края и недопускающего развития торговли и промышленности" 36.
Примечания
1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6889. Л. 12-17
2 ЦГА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5649. Л. 118-119.
3 Там же. Д. 5647. Л. 120об.
4 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6889. Л. 12-17.
5 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6842. Л. 2-2 об.
6 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6839. Л. 42-45.
7 Там же. Д. 5649. Л. 123-126 об.
8 Там же. Д. 5649. Л. 127.
9 Там же. Л. 129.
10 Там же. Л. 128-128 об.
11 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6839. Л. 42-45.
12 ЦГА РК. Ф. 21. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-1 об.
13 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 130.
14 Там же. Л. 131об.-132.
15 Там же. Л. 132-132 об.
16 Там же. Л. 134 об.-135.
17 Там же. Л. 133.
18 Там же. Л. 134.
19 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 135.
20 Там же. Л. 135.См. также: [Дьяков А.] Воспоминания Илийского сибинца о дунганско-таранчинском восстании в 1864-1871 годах в Илийском крае. СПб., 1908.
21 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 140.
22 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 137об.
23 См.: [Дьяков А.] Воспоминания Илийского сибинца :С. 21-23. Примечание В.Л. Котвича.
24 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6842. Л. 2-5.
25 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6842. Ч. 1. Л. 1.
132
26 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6839. Л. 50.
27 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 255. Л. 339-343.
28 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 160, 162 об.
29 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6842. Л. 9-12.
30 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6926. Л. 12-14,21-23. Данные за 1876 г.
31 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 145 об.-146.
32 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5649. Л. 152-153.
33 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1.Д. 5649. Л. 152-153.
34 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 5053. Л. 10-10 об.
35 См.: ЦГА РК. Ф. 21. Оп. 1. Д. 7. Л. 56-79.
36 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1-9. Оп. 8. Д. 21. Л. 96-97. Подробно о политике России в Илийском крае см.: Сутеева К.А. Политика России в Илийском крае в 1871-1881 гг. Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1987.
Метки: казачество русские традиции казаков |
Солдаты неудачи |
Дневник |
Метки: казачество русские |
Солдаты неудачи |
Дневник |
Метки: оружие русские казачество |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 10 |
Дневник |

Переселение запорожцев на Кубань
Мероприятия по освоению и укреплению новых территорий были прерваны войной с Турцией, но правительство не упускало их из виду. В 1788 г. было разрешено «верным черноморцам» селиться на Таманском полуострове, к северу от реки Кубань. Однако основная масса «верных черноморцев» вместе с семьями располагалась между Днестром и Бугом с центром в Слободзее.
После окончания войны бывшие запорожцы, не имея особых прав на заселяемую ими территорию и опасаясь повторения истории с Запорожской Сечью, на Раде приняли решение проситься на Таманский полуостров и на земли к северу от Кубани, подальше от царского правительства. Их делегация во главе с войсковым судьей А. Головатым выехала в Санкт-Петербург. 30 июня 1792 г. черноморцам были пожалованы остров Фанагория и земли между Кубанью и Азовским морем. Сразу же началось переселение казаков на новые земли. 25 августа 1792 г. казачья флотилия высадила на Тамани 3 847 казаков. 2 сентября выступила в поход конница и к концу октября вышла на речку Ея. Весь 1793 г. шло переселение на новые земли семей бывших запорожских, а ныне черноморских казаков. Переселением руководил кошевой атаман Захар Чепига. Чтобы обезопасить переселение от набегов за-кубанских народов, началось строительство 24 кордонов по Кубани, прикрывших границу от устья реки Лабы до Черного моря. В январе 1794 г. верхушка черноморских казаков разработала «Порядок общей пользы», где определялись организационные начала по управлению, землепользованию и расселению на новой территории. Казаки селились куренями по левому берегу Кубани и по речкам к северу от реки. Организационно Черноморское войско пока не входило в единую систему казачьих войск и частей, прикрывающих границу на Северном Кавказе. С 17 июня 1794 г. Войско находилось в ведении правления Таврической губернии. Волнения в Войске Донском. После окончания войны с Турцией командующий войсками на Кавказе граф И.В. Гудович решил укрепить границу в верховьях Кубани строительством там 12 новых станиц, которые хотел заселить волгскими казаками (4 станицы), хоперскими (3 станицы) и донскими (5 станиц). Однако казаки Волгского войска и Хоперского полка уже имели на Северном Кавказе свои поселения, и Гудович счел нужным заселить 12 новых станиц одними донцами. По его предложению 28 февраля 1792 г. вышел указ о переселении с Дона на Кавказ 3 тыс. казачьих семей. Случилось так, что Гудович решил оставить на поселении три полка, отслужившие свой срок на пограничьи, и три полка, идущие им на смену, чтобы они впоследствии забрали к себе в новые станицы семьи с Дона. Каждому новому поселенцу выделялось по 20 рублей и по 500 рублей на каждую станицу для постройки церкви. Отслужившие свой срок на Кавказе донские полки Поздеева, Кошкина и Луковкина, которые Гудович собирался обратить в поселенцев, взбунтовались. Часть казаков явилась в Черкасск и принудила Войсковое правительство выдать им отпускные свидетельства. Группа выборных от полков во главе с казаком Н. Белогороховым направилась в Петербург «искать правду», но была арестована. Еще одна группа во главе с Фокой Сухоруковым отправилась на Верхний Дон и стала «смущать» казаков. Сухоруков и его товарищи тоже были схвачены. Из трех полков, предназначенных идти на Кавказ, выступил один, два были задержаны на Дону из-за опасения волнений. Начались побеги казаков из других полков, расположенных на Кубани и Кавказе. Однако какую-то часть казаков удалось уговорить и вместе с волгскими казаками сформировать новый Кубанский казачий полк, поселенный на линии.В 1794 г. была новая попытка властей переселить донских казаков на Кавказ. Теперь взбунтовались целые станицы. Возмущение удалось потушить силами самого Войскового правительства и регулярных русских полков, вступивших в пределы Войска Донского. Из пяти наиболее беспокойных станиц - Пятиизбянской, Верхне-Чирской, Нижне-Чирской, Кобылянской и Есауловской, власти направили на Кавказ 1 тыс. семей, 2 тыс. казаков были выпороты. Волнения на Дону утихли. Персидский поход. В1796 г. в Кизляре были собраны войска для наступления на персидские владения. Это должно было послужить ответом на нападение персов на Грузию в 1795 г. Приготовления являлись составной частью общего плана похода на Константинополь по обеим сторонам Черного моря. Через Балканы и Дунай должны были двигаться войска А.В. Суворова, а через Кавказ - собранные в Кизляре войска Валериана Зубова. Сама императрица Екатерина замышляла явиться под стены Константинополя во главе Черноморского флота. Кавалерия отряда В. Зубова состояла из четырех казачьих полков: донского полка Машлыкина, гребенского полка Астахова, волгского полка Савельева и чугуевского казачьего полка во главе с М.И. Платовым. Платов был походным атаманом всех этих полков. В апреле передовой отряд Савельева двинулся на Дербент. Русские войска осадили город. После двух штурмов 10 мая 1796 г. он капитулировал. Отворив тем самым «Ворота Кавказа», русские войска пошли на Баку и Шемаху. Казаки переправились через Куру и в короткий срок заняли всю территорию до Гиляна. Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубинское, Ширванское, Карабахское, Шекинское и Ганчжийское ханства признали власть России.
Вслед за казаками Платова из Астрахани в Баку морем были направлены два полка черно-морских казаков, создана Каспийская флотилия, во главе которой стал судья Черноморского войска А. Головатый.
Однако после смерти Екатерины II новый царь Павел I в декабре 1796 г. отозвал русские войска из Закавказья. Поход закончился.
Таким образом, за счет казачества путем создания новых казачьих поселений и целых казачьих войск Россия в короткий срок освоила и закрепила за собой обширные территории, отошедшие к ней на Кавказе и в Причерноморье в результате победоносных войн с Турцией. Заселение и укрепление новых земель вызвало ряд осложнений внутри казачьих войск. Но эти осложнения были быстро погашены и не вызвали масштабных волнений или восстаний.
Казачьи вожди АНТОН АНДРЕЕВИЧ ГОЛОВАТЫЙ
Антон Андреевич Головатый, будучи сыном малороссийского старшины, в 1757 г. ушел в Запорожскую Сечь. Как человек образованный, он вскоре выдвинулся и был выбран куренным атаманом. Должность эта в Запорожье была не столько знатная, сколько почетная. Куренные атаманы имели большой вес. В 1764 г. он получил звание полкового старшины и был избран войсковым писарем.
А.А. Головатый находился в составе депутации от Запорожского войска при коронации Екатерины П. В 1774 г. был командирован в Санкт-Петербург в составе депутации с прошением о восстановлении прав и привилегий войска Запорожского. Там он познакомился с князем Г.А. Потемкиным, который впоследствии оказывал ему особое внимание и доверие.
В русско-турецкую войну 1787-1791 гг. Потемкиным было сформировано войско верных казаков, получившее название Черноморского, в создании которого активное участие принимал Головатый. В этом войске было образовано Войсковое правительство, в котором Головатый занимал должность войскового судьи. Затем Головатый принял под свою команду всю гребную казачью флотилию и все пешие черноморские казачьи полки, с которыми в 1790 г. участвовал в штурме Измаила. Всего в штурме крепости Измаил участвовало 4 тыс. казаков Черноморского казачьего войска, находившихся на судах Дунайской флотилии. Первым десантом командовал Головатый. Этот подвиг предводителя черноморских казачьих полков был настолько славным, что сам главнокомандующий князь Потемкин в донесении Екатерине II писал: «Полковник Головатый с беспредельной храбростью не только побеждал, но и, лично действуя, вышел на берег, вступил с неприятелем в бой и разбил его». После войны Черноморскому казачьему войску предстояло переселиться на полуостров Тамань. Казаками было решено просить царицу дать для заселения всю кубанскую землю. С просьбой был послан Головатый - герой войска черноморских казаков, лично известный при дворе. Головатый так повел дело, что по его ходатайству Екатерина II грамотой от 30 июня 1792 г. не только пожаловала черноморцам землю Таманского полуострова, но еще наградила их большим знаменем.
В 1796 г. Головатый повел два пеших полка в Персидский поход. Пользуясь известной славой в морских походах, он получил в свое командование всю гребную флотилию и десантные войска на Каспийском море. В это время умер кошевой атаман Черноморского войска Чепига. Черноморцы, желая оказать честь Головатому, избрали его своим атаманом. В этом звании он был утвержден Павлом I, однако 29 января 1797 г. скоропостижно умер.
Казаки в царствовании Павла Первого
Создание казачьей гвардии. Царствование императора Павла I было ознаменовано двумя важными событиями в жизни казачества - созданием гвардейских казачьих частей и оформлением казачьего дворянства. В 1775 г. были созданы два казачьих формирования, ставшие впоследствии гвардейскими. 14 февраля на Дону сформировали Особый Войска Донского атаманский полк, личный полк донского атамана, имевший десятисотенный состав, куда отбирались казаки из лучших донских родов. А 20 апреля в казачий Петербургский легион, состоящий из чугуевских казаков, включили лучших донских казаков, затем их переформировали в Придворную донскую казачью команду. Позже, в 1793 г., из донских казаков был сформирован казачий полк Гатчинских войск наследника цесаревича Павла Петровича.
Когда Павел I вступил на престол, казачий полк его Гатчинских войск в 1796 г. соединили с Придворной казачьей командой и с гусарской командой. Таким образом, был создан единый казачий гусарский полк. В 1798 г. казаки были выделены из состава этого полка и составили лейб-гвардии казачий полк. В том же году была сформирована лейб-уральская сотня. В 1811 г. в состав лейб-гвардии казачьего полка была включена Черноморская гвардейская сотня. Гораздо позже, когда в царствование Николая I наследник престола был объявлен атаманом всех казачьих войск, Атаманский полк Войска Донского стал полком наследника и был причислен к гвардии. В его состав стала входить лейб-уральская сотня. Еще позже из казаков с Кубани и Терека был создан личный конвой царя, а из представителей всех других казачьих войск лейб-гвардии сводно-казачий полк. Но начало казачьей гвардии было положено Павлом I, сформировавшим из донцов
Предыстория казачьего дворянства
В XVIII в. русское дворянство окончательно складывается в привилегированное сословие. Похожие процессы проходят и на территории казачьих войск. На Дону в течение XVIII в. казачьи старшины постепенно превращались в крупных и средних землевладельцев, хозяйства которых основывались на применении труда зависимых и наемных людей. В их руках сосредоточивалась гражданская и военная власть. Если раньше старшины сохраняли свое звание до тех пор, пока занимали командные должности, а затем снова записывались рядовыми казаками, то во второй половине XVIII в. они из выборных стали «жалованными», т.е. назначенными или награжденными, и старшинский чин оставался за ними навсегда (указ от 31 декабря 1765 г.). Звание старшины открывало широкие возможности для получения войсковых чинов и укрепляло личное положение старшины в Войске, но не давало привилегий, которыми пользовались русские дворяне. Действие «Табели о рангах», «жалованной грамоты дворянству» на иррегулярные войска, т.е. на казаков, не распространялось. Став надежной опорой царской власти на своих территориях, старшины добивались закрепления за собой дворянских прав и привилегий. Но само русское дворянство долгое время не желало видеть в рядах своего сословия новых членов «неблагородного» происхождения. Оставался «окольный» путь — получить в качестве наград армейский чин или орден и тем самым лично вступить в дворянское сословие. Впервые такой чин получил старшина Иван Краснощеков. На Уложенной комиссии 1767 г. депутаты Войска Донского настойчиво требовали уравнения казачьих чиновников-старшин в правах с великороссийским дворянством. Одной из причин было то, что на Дон усилился приток беглых с Украины, донские старшины заставляли их работать на себя. Но право закрепощать, покупать и продавать крестьян имели только дворяне, сами старшины таких прав не имели. После крестьянской войны 1773-1775 гг. правительство пошло навстречу притязаниям старшин. 14 февраля 1775 г. на Дон был направлен царский указ, по которому все старшины, командовавшие в походах полками, приравнивались к армейским штаб-офицерам. Казачий полковник становился «пониже майора, но повыше капитана» русской армии. Теперь в правах с дворянством уравнивалась значительная группа старшин. Расширение и оформление казачьего дворянства при Павле I. Старшины стремились закрепить права дворянства не только за теми, кто имел высокие чины, но и за всеми казачьими чиновниками. Это произошло в царствование Павла I. Указом от 12 декабря 1796 г. у донских пришлых крестьян была отнята возможность уходить от своих владельцев-старшин. На Дону стало устанавливаться крепостное право. По указу от 22 сентября 1798 г. за «ревность и службу» Войска Донского за всеми донскими чиновниками признавались права великороссийского дворянства, казачий полковник сравнялся с армейским полковником, войсковой старшина - с майором, есаул - с ротмистром, сотник - с поручиком, хорунжий - с корнетом. Фактически каждый донской офицер получал повышение на два чина. В дополнение к этому указу в 1799 г. было установлено выдавать чиновникам Войска Донского при удалении их более, чем на 100 верст от своей области, жалованье такое же, как и чинам армейских полков. А в 1800 г. такой же порядок был введен в отношении провианта и фуража. Признание равных с великороссийским дворянством прав обеспечивало старшинам возможность получить «пожалование» от правительства землей или крестьянами за пределами казачьих областей. Многие старшины такие пожалования получили и стали настоящими русскими помещиками.
Однако полного уравнения старшин в правах с великороссийским дворянством не происходило. Правительство юридически не признало коллективную принадлежность донской старшины к дворянству как к сословию. Дело Е.О. Грузинова. Павел I стремился упорядочить службу казачьих войск и взаимоотношения их с государством. Так, в 1799 г. он уравнял в чинах с русскими офицерами офицеров Уральского войска, свел ослабленное Астраханское вой-, ско в один полк (впоследствии оно снова было развернуто в войско). Еще раньше, в 1797 г., он усилил Сибирское войско, записав в казаки всех солдатских детей Тобольской и Томской губерний. Но больше всего хлопот Павлу I доставляло самое крупное войско - Донское. Особый гнев императора вызывало то, что донская верхушка по-прежнему продолжала укрывать беглых крестьян и записывать их за собой, превращая в своих крепостных. Чтобы пресечь эту практику, Павел I попытался усилить контроль за верхами казачества. 6 июля 1797 г. было объявлено о восстановлении «всех бывших постановлений Войска Донского». Восстанавливался Войсковой круг, который собирался шесть раз в году, но реальной власти он так и не имел. Вместо Гражданского правительства восстанавливалась Войсковая канцелярия, которая отныне подчинялась Сенату, и первым членом ее назначался генерал И. Репин, представитель царя; вместо А.И. Иловайского атаманом был назначен В. Орлов. Генерал Репин и присланный ему в помощь царский адъютант Кожин начали розыск, кто, где и сколько беглых укрывает. Войсковая верхушка была в смятении. Царский указ грозил за укрытие беглых и беспаспортных смертной казнью и сожжением поселков. Во время общего розыска в Черкасске был арестован отставной полковник лейб-гвардии казачьего полка Е.О. Грузинов, у которого нашли проект отвоевания у турок Стамбула и учреждении на месте Османской империи многонационального демократического государства, для чего планировалось собрать двухсоттысячную армию из воинственных народов Причерноморья и идти в поход на турок через Кавказ и Балканы. Себе Е.О. Грузинов оставлял пост начальника нового государства. Все, кто знал о проектах Грузинова, были объявлены заговорщиками. Это и спасло донскую верхушку от розыска беглых крепостных. Опасаясь бороться на два фронта — с заговорщиками-демократами и чиновниками -бегл открывателями, — Павел I повелел прекратить следствие по делу о бег-лоукрывателях, а заговорщиков во главе с Грузи-новым казнить. 5 сентября 1800 г. Е.О. Грузинов был насмерть запорот кнутом. 27 сентября казнили знавших, но не донесших о его проекте казаков. А донские чиновники дали подписку впредь беглых не принимать и отправились «исследовать свои имения», чтобы найти в них и вернуть прежним владельцам беглых крепостных. Однако укрывательство беглых на этом, естественно, не прекратилось. Казаки в Итальянском и Швейцарских походах Суворова и Оренбурском походе.
Метки: казачество русские традиции казаков |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 8 |
Дневник |

Казачество во второй четверти XVIII века
Укрепление границ России. Создание новых казачьих войск. После смерти Петра I продолжалось укрепление границ империи, проходило упорядочение казачьей службы.
На Украине, на левом берегу Днепра (эта часть, отошедшая к России, стала называться Малороссией), казачья служба тоже была упорядочена. Состав Малороссийского войска определен в 10 полков, были упорядочены штаты этих полков.
Более четкую организацию получили чугуевские и бахмутские казаки, переформированные в Чугуевский конный казачий полк (1749 г.) и Бах-мутский конный казачий полк (1748 г.). Однако на Украине (и в Малороссии) наблюдалось падение боеспособности казаков из-за экономических неурядиц. А кроме того, многих казаков из Малороссии правительство переселяло в другие районы страны для образования новых войск. Из «старых» казачьих войск, из остатков стрельцов и городовых казачьих команд правительство стало создавать новые казачьи войска для прикрытия восточных и южных границ. В 1721 г. на Волге стала создаваться «Царицинская линия» из ряда укреплений. В 1731 г. на заселение этой линии были переведены казаки из Малороссии, а через год - более тысячи казачьих семей с Дона. В итоге, в 1732 г. было создано новое Волгское казачье войско. В 1736 г, для прикрытия юго-восточных рубежей от набегов киргизов, татар и волжских калмыков в новый город Оренбург (основан в 1734 г.) были посланы казаки из Сибири, из Яицкого войска, отставные солдаты и крещеные мещеряки. Вскоре на новый форпост прибыли уфимские городовые казаки, самарские, казаки с Исетской линии и даже из Малороссии. В 1748 г. все эти отряды были объединены в Оренбургское нерегулярное войско. На юге, в Астрахани, в 1737 г. из остатков стрельцов, разночинцев и крещеных калмыков была создана Астраханская казачья команда в 300 человек. В 1750 г. она была переформирована в Астраханский казачий конный полк. На Тереке Аграханское казачье войско вымирало от нездорового климата. В 1736 г. остатки его были переведены в новую крепость Кизляр. Бывшие терские казаки в Кизляре стали именоваться Терско-Кизлярским войском, бывшие донцы - Терским семейным. В 1746 г. Терское семейное войско было объединено с Гребенским и приняло его название.
Возвращение запорожцев в пределы России. Ушедшие на турецкую территорию запорожцы недолго пробыли на чужбине. В 1725 г., после смерти Петра I, они стали ходатайствовать о разрешении вернуться в Россию. Российское правительство очень настороженно относилось к этим просьбам. По Адрианопольскому миру с Турцией (1713 г.) Россия обязалась не иметь никаких притязаний на Запорожскую Сечь, и теперь царская власть боялась, что из-за запорожцев обострятся взаимоотношения с Турцией. В 1728 г. запорожцы снова просили разрешить им вернуться на родину. Международная обстановка к тому времени изменилась. Россия готовилась к войне с Турцией, и запорожцам снова отказали, так как планировали дать такое разрешение, когда начнется война, чтобы запорожские казаки ударили по туркам с тыла. В 1733 г. императрица Анна Иоановна послала запорожцам грамоту, в которой прощала их и разрешала вернуться в Россию. Вернувшееся войско расположилось на землях по левому берегу Днепра. Границей между Войском Донским и Запорожским стала речка Кальмиус. В 1750 г. Сечь была подчинена малороссийскому гетману. Участие казаков в войнах России второй четверти XVIII в. Русско-персидская (иранская) война 1722-1731 гг. была толчком к началу кавказских войн, которые тянулись 150 лет. В них было задействовано несколько поколений донских и гребенских казаков. В царствование Екатерины I в Персии Россией содержались в разных крепостях гарнизоны из двадцати батальонов регулярных войск в составе 29 тыс. человек, 8 тыс. донских и терских казаков и части калмыков. В царствование Анны Иоановны велись почти непрерывные войны, в которых казачьи войска принимали самое активное участие. В 1733 г. началась русско-польская война. К польской границе было двинуто 18 полков пехоты и 10 полков конницы, к ним были присоединены 2 тыс. донских казаков под командованием генерала Ласси. Донские казаки принимали участие в осаде крепости Гданьск, в боях у реки Вредны против польской конницы, во взятии Винтершанце. В 1736 г. началась русско-австро-турецкая война. В составе русской армии было 6 тыс. донских казаков с атаманом Фроловым. Важнейшим событием этой войны стал штурм крепости Очаков, в котором принимал участие 10-тысячный казачий корпус атамана Астафьева. Донские казаки первыми ворвались в крепость. Очаков был взят. В 1738 г. началась новая кампания. Генерал Ласси с казаками должен был действовать со стороны Дона. Главная армия переправилась через Прут и заняла Яссы. Донские казаки были посланы в поход по Дунаю. Была одержана блестящая победа у Ставучан и взят Хотин. Генерал Ласси с донскими казаками через Сиваш вторгся в Крым, но с большими потерями должен был отступить в сторону Днепра.
После того, как союзница России Австрия заключила мирный договор с Турцией, донские казаки во главе с атаманом Фроловым оказались отрезанными от главных сил армии и вынуждены были идти в Семиградскую область, где были интернированы и отправлены в Польшу.
В русско-шведской войне 1741-1743 гг. участвовало 6 тыс. казаков. Донские казаки участвовали в боях у мыса Кварибю и Хуедин, в захвате крепости Апьяла, в авангардных боях со шведскими войсками. Таким образом, казачество все активнее втягивается во все войны Российской империи.
Участие в Семилетней войне 1756-1763 годов
Подвиги казаков. Донские казаки приняли активное участие в Семилетней войне. До 16 тыс. казаков и калмыков за 7 лет побывали в пределах Пруссии. Впервые донцы сражались так далеко от родины на землях Западной Европы.
Наиболее отличились в этой войне генерал Федор Иванович Краснощекое и полковник Луковкин. Невозможно перечислить все крупные сражения и мелкие бои, в которых участвовали донские казаки. Они были разведчиками, шли впереди русской армии, в случае неудачи прикрывали ее отступление. В сражении у села Грос-Егорсдорф, когда русская армия, застигнутая врасплох, не успела еще приготовиться к бою, казаки, очень искусно маневрируя, «лавой» сумели заманить знаменитых прусских драгун прямо на русскую артиллерию и полностью уничтожить один эскадрон.
Летом 1758 г. во время осады русскими войсками крепости Кюстрина особенно удачно действовал со своими казаками Ф. Краснощеков. Несмотря на то, что у пруссаков была хорошо организована сторожевая служба, казаки незаметно прошли в район расположения вражеских войск за реку Одер, отбили у пруссаков скот, транспорт с хлебом, подожгли немецкие деревни. В битве при Цорн-дорфе, окончившейся для русских неудачно, казаки все же сумели опрокинуть прусских гусар и захватить у врага 8 пушек. В 1759 г. полковник Луковкин со своими казаками в течение 8 дней опустошил всю Силезию. Здесь он несколько раз разбивал знаменитых «черных» гусар, которые носили название «бессмертных», так как их никогда еще не побеждали. В 1760 г. донские казаки участвовали в штурме Берлина, который капитулировал через 5 дней. Здесь донцы захватили одежду Фридриха Великого (мундир, перчатки и пр.), которая теперь хранится в Историческом музее Петербурга.
Казаки под началом АВ Суворова
В Семилетней войне донские казаки впервые сражались под командой А.В. Суворова. Для борьбы с летучими прусскими отрядами русский главнокомандующий выделил особый легкий конный корпус, в котором служил А. В. Суворов. При наступлении Фридриха II к осажденному русскими городу Кольбергу Суворову было поручено опустошать дороги. Сотня казаков под командованием Суворова за одну ночь прошла 45 верст, внезапно захватила городок Лансберг и разрушила мост, по которому должна была наступать прусская армия. Вскоре под командованием Суворова было уже 7 казачьих полков.
В Семилетнюю войну особенно отличились казачьи полки Ивана Грекова, Абросима Луковкина, Бориса Луковкина, Орлова, Поздеева, Попова, Серебрякова и др.
За боевые подвиги в Семилетней войне Войску Донскому было пожаловано большое белое знамя. В память о донских героях в 1904 г. донской № 6 полк был назван полком Краснощекова.
Казачьи вожди ФЕДОР ИВАНОВИЧ КРАСНОЩЕКОЕ
Генерал-майор Федор Краснощекое начал служить с 1724 г. Умер в 1764 г.
В 1730 г., будучи есаулом, служил в Персии, в Кабарде.
В 1736 г. Краснощеков участвовал в русско-турецкой войне, отличился при взятии Каланчей, при атаке города Азова, будучи командиром, разбил вражеский гарнизон. В этом же году получил звание полковника. Был командирован на Кубань и около города Ачуя взял в плен большое число кубанских татар.
В 1738 г. воевал в Крыму и взял в плен крымского хана и 13 татар.
В 1741 г. под руководством своего отца Ивана Ивановича Краснощекова участвовал в войне со Швецией, где был во многих сражениях.
В 1755 г. за усердную службу Краснощеков был пожалован в бригадиры.
С 1756 г. участвовал в Семилетней войне. Принимал участие во всех крупных сражениях.
В 1762 г. Краснощекову были пожалованы сабля и грамота, а в 1763 г. он получил звание генерал-майора в связи с похвальными отзывами пяти генерал-фельдмаршалов, под начальством которых служил свыше 36 лет.
Казачество в начале царствования Екатерины 2
Новые процессы во внутренней жизни казачьих войск. В начале правления Екатерины II во внутренней жизни казаков происходили изменения. В 1764 г. власть гетмана на Украине снова была уничтожена. Днепровские казаки поступали под управление Малороссийской коллегии под властью генерал-губернатора Румянцева.
На Дону во второй половине XVIII в. происходило дальнейшее падение прежнего значения Войскового круга и сосредоточение управления в руках атамана и канцелярии войсковых дел старшин. Сужение компетенции Войскового круга выразилось прежде всего в том, что он собирался главным образом для выслушивания царских указов и получения жалованья. Кроме того, на Круге избирали должностных лиц. Однако еще при Петре I Круг потерял право избирать войсковых атаманов, в 1732 г. - походных атаманов, а с 1754 г. -войсковых старшин. Сравнительно долго избирались на Круге зимовые станицы, но в XVIII в. они :уже не играли роли представителей Войска Донского при царском дворе. До конца XVIII в. за Кругом сохранилось право избирать других должностных лиц (есаулов, дьяков и т.п.). Однако свобода выборов была ограничена указом 1765 г., а по определению Войскового правительства от 28 марта 1776 г., на военные должности сотников, хорунжих можно было попасть лишь по назначению. Оставались выборными лишь гражданские чиновничьи должности. Реально на Дону правил Совет старшин в составе 15-20 человек и атамана. После установления Петром I Табели о рангах некоторые старшины стали производиться в офицерские чины и выходить из подсудности Войску. Атаман зависел от верховной власти и назначался по установлению свыше. Так, Даниле Ефремову чин войскового атамана был пожаловал пожизненно, а в 1759 г. за участие в Семилетней войне ему пожаловали и чин тайного советника. Одновременно власть атамана была передана сыну Данилы Ефремова - Степану. Таким образом, власть на Дону высочайшими распоряжениями превращалась в наследственную и бесконтрольную. Пользуясь этим, атаман и верхушка стали расхищать войсковую землю.
Придя к власти, Екатерина II постаралась навести порядок на Дону и ограничить власть атамана Ефремова. В 1764 г. она потребовала от атамана сведения, «по каким указам захватили чиновники земли? Сколько доходу войскового и как и куда он употреблялся?». 19 марта 1766 г. был издан указ Екатерины II о размежевании земли Войска Донского от всех соседних земель. Тем же указом было велено отнять земли, захваченные самим атаманом Ефремовым. У всех других старшин и казаков, незаконно владеющих землями, земли изъять и «употребить на пользу общую». Для межевания земли Войска Донского в 1766 г. была послана Межевая комиссия. Так же была назначена комиссия для проверки экономического положения на Дону. Взаимоотношения между верхушкой казачества и центральной властью снова стали обостряться. Опыт войн России XVIII в., особенно опыт Семилетней войны показали сильные и слабые стороны русской армии. Современники отметили малое количество регулярной легкой кавалерии, которая вербовалась русским правительством из сербов и венгров. Сербские и венгерские гусары были профессиональными воинами, но не были так надежны, как русские солдаты, не испытывали к России особых патриотических чувств. В 1765 г. было решено создать регулярные гусарские полки из слободских казачьих полков. Слободские казачьи полки, как мы помним, были составлены из запорожских и украинских казаков, первыми перешедших на сторону России в XVIII в. и расселенных в «слободах» в верховьях Северского Донца. Всего было создано пять гусарских полков - Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Острогожский.
Так было положено начало « регулярству», когда из вольных поселенцев, несущих службу по казачьему обычаю, стали создавать регулярные кавалерийские части, служащие по принципу рекрут-, ского набора. Хотя новые гусарские полки отличались высокой боеспособностью и вскоре прославились на всю Россию, слободское население было недовольно своим новым положением. Волна переселенцев хлынула на Дон и далее на свободные земли. Но донские казаки уже неохотно принимали их в свое сообщество, а донская казачья верхушка видела в пришельцах прежде всего рабочие руки для своих земель и хуторов. Cоздание новых казачьих частей. Переведя часть казачьих полков в «регулярство», правительство пыталось еще более упорядочить службу и организацию других казачьих частей, приблизить ее к регулярной. Так, в 1765 г. власти безуспешно пытаются запретить уральским казакам посылать вместо себя на службу заместителей-наемников. Создаются новые казачьи формирования. Все казаки, служащие по сибирским городам и на Сибирской линии, в 1763 г. объединяются под общим наименованием «Сибирская линия казаков».
Хоперские казаки, возвратившиеся на эту реку после разорения при подавлении Булавинского восстания, объединяются в Хоперский полк (1767 г.). Из переселившихся на Кавказ донских и волгских казаков образуется Моздокский полк (1770 г.); чугуевские казаки, не вошедшие ранее в Чугуевский полк, сводятся в Чугуевскую легкоконную команду (1769 г.). Бахмутский конный казачий полк и вовсе обращается в «регулярство» - переформировывается в Луганский пикинерный полк.
В 1769 г. впервые вводится единообразная форма для отдельных казачьих частей. Первыми ее получают полки, состоящие из донских казаков и расположенные в южных городах, - Азовский, Таганрогский и казачий крепости св. Дмитрия.
Участие казаков в русско-польско-турецкой войне. В начавшейся в 1768 г. новой войне с Турцией, которая была осложнена борьбой с польскими конфедератами, основная тяжесть военных действий легла на донских казаков. 22 тыс. воинов выставило Войско Донское. Ни одно другое казачье войско России не имела таких сил. Кроме того, к началу войны 2 тыс. донских казаков находились в Польше и под руководством А.В. Суворова вели борьбу против конфедератов. Один полк донских казаков находился в крепости св. Дмитрия, часть полков под командованием генерала Медема вместе с калмыками и яицкими казаками действовала на Кавказе. В этой войне особенно отличились казачьи полки Агеева, Бузина, Денисова, Дмитриева, Иловайского, Карпова, Леонова, Мартынова и др. Здесь проявился талант Федора Петровича Денисова, Ивана Федоровича и Матвея Ивановича Платовых. Донские казаки приняли участие в сражении при Ларге и Кагуле, совершили рейд на Измаил, где у стен крепости разбили большой турецкий отряд. Часть казаков в составе 1-й русской армии громила турок у устья Дуная, штурмовала Силистрию. Вторая часть во главе с походным атаманом Себряковым в составе 2-й русской армии выступила в поход на Крым. В этом походе впервые отличился молодой Матвей Платов. Русская пехота начала штурм Перекопа, а казачья конница вброд через залив Сиваш обошла турок и татар и ударила с тыла. За участие в этом сражении Матвей Платов был награжден и в 20 лет стал войсковым старшиной и командиром полка. Крым был занят русскими войсками.
В 1774 г. был заключен Кучук-Кайнарджий-ский мирный договор, по которому Россия получила выход в Черное море между устьями Буга и Днепра.
Во второй половине XVIII в. казаки больше стали проявлять себя не как участники морских набегов, а как легкая конница. Они быстро освоили уникальный боевой порядок - лаву, который использовался в степи еще со скифских времен. На первый взгляд казачья конница была беспорядочно рассыпана, но наметанный глаз мог определить звенья по 10-12 человек из казаков-«односумов», которые знали друг друга с детства и понимали все без слов. По беззвучному знаку командира они могли сомкнуться стеной, рассыпаться, броситься слева или справа на перехват, налететь по очереди звеньями или все сразу. Каждое звено знало своего лучшего рубаку, он бросался первым, а остальные прикрывали ему тыл и бока. Лучшие казаки составляли «крылышки» построения, оберегали лаву от обхода, внезапной атаки, а лучшие из лучших держались сзади, были «маяком» — подвижным резервом, к которому прибегали в самом крайнем случае. В таком боевом порядке казачий полк был непобедим.
Метки: казачество русские традиции казаков |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 7 |
Дневник |

Присяга донцов на верность России
С момента возникновения Войско Донское стремилось сохранить хотя бы формальную независимость от царской власти. Участвуя в войнах России, донские казаки служили за жалованье или из-за совпадения интересов России и Дона. Когда российское правительство пыталось склонить донцов к
принесению присяги на верность, те отказывались, заявляя, что готовы «служить великому государю без крестного целования», т.е. без присяги.
После подавления движения Степана Разина на Дон в 1671 г. прибыл полковник Григорий Косагов. Он привел Войско Донское к присяге на верность царю Алексею Михайловичу. Присяга рассматривалась как гарантия верной службы царю и невмешательства во внутренние дела России, она означала установление более сильной, чем ранее, власти московского правительства над донскими казаками. Однако сношения Дона с Москвой, как и прежде, шли через Посольский приказ, и нигде в грамотах не упоминается, что, приняв присягу, донские казаки «учинились в подданстве» России. Многие казаки считали, что, «поцеловав крест Алексею Михайловичу», они дали присягу на верность непосредственно царю, но не России, и выполняли те распоряжения, что исходили непосредственно от царя, но не от бояр. Переход всего Войска Запорожского на службу России. После заключения Андрусов-ского перемирия между Россией и Польшей общим врагом для обеих стран становится Турция и подвластный ей Крым, которые готовили вторжение на Украину.
Готовясь к отражению вторжения, гетман Демьян Многогрешный создал 5 новых конных полков из «вольных охочих людей» и назвал их «охо--чекомонными», или «компанейскими». В 1670 г. запорожцам было передано, что российские власти предают забвению их «измены». Запорожцы, селившиеся на левом берегу Днепра, подчинились гетману Д. Многогрешному.
С 1671 г. началось нашествие татар и турок на Правобережную Украину, Часть казаков под руководством П. Дорошенко выступила на их стороне, другая часть под руководством гетмана Ханен-ко дралась с ними на стороне польского короля. В 1672 г. польские войска были разбиты и отдали татарам и туркам свою часть Украины.
Россия вступила в военные действия против татар и турок. Донские казаки своими морскими набегами отвлекли турецкие и татарские силы от Украины. В начале 1674 г, верные России казаки с Левобережной Украины и русские войска двинулись в поход против оставленного турками и татарами П. Дорошенко. В марте 1674 г. запорожцы, селившиеся на правом берегу Днепра, переходят в подданство России. Тогда же перешли в русское подданство 10 территориальных реестровых полков Правобережной Украины. Дорошенко со своими приверженцами еще сопротивлялся, но в 1675 г. запорожский атаман Серко и донской атаман Фрол Минаев осадили его и принудили принести присягу русскому царю.
частие казаков в Чигиринских и Крымских походах. В 1676 г. началась открытая война России с Турцией (закончилась в 1681 г.). Турецкий султан, узнав о присяге Дорошенко русскому царю, сделал ставку на Юрия Хмельницкого, который к тому времени снял монашескую рясу и находился в Турции. Ю. Хмельницкий был объявлен «сарматским князем», его войска, состоявшие из татар и кучки запорожцев, двинулись на Украину. Целью их был город Чигирин, ставка украинских гетманов. Первый поход в 1676 г. был отбит. Второй поход совместно отразили в 1678 г. русские войска, украинские казаки гетмана И. Самой-ловича и донские казаки атаманов Михаила Сама-ренина и Фрола Минаева. В результате боев Чигирин - символ гетманской власти на Украине - был полностью разрушен.
В 1686 г. был подписан «вечный» мир России с Польшей, по которому к России отходил город Киев, вся Запорожская Сечь отныне признавалась в подданстве России. Мирный договор предполагал совместные действия России и Польши против Турции и Крыма.
Походы против Крыма проводились в период правления царевны Софьи. Командовал войсками князь В.В. Голицын. Первый поход начался в 1687 г. Донские казаки действовали и самостоятельно, и в составе главной русской армии. Особенно успешно воевал атаман Ф. Минаев, разгромивший крымских татар у речки Овечьи Воды. Но основные войска, в составе которых было 50 тыс. украинских казаков, до Крыма не дошли, им помешал степной пожар, зажженный татарами.
Поползли слухи, что степь зажгли казаки по приказу гетмана Самойловича, который не хотел войны с Крымом. Гетмана свергли, и на его место был избран украинский есаул Иван Мазепа.
Второй поход на Крым в 1689 г. тоже не принес успеха.
Во всех войнах России XVII в. принимали участие российские городовые казаки. В походы они выступали вместе со стрельцами. В середине века их числилось вдвое больше, чем стрельцов. Но ближе к концу столетия, к 1680 г., городовые казаки вообще исчезли. В стране шла постепенная реформа войска, и городовых казаков расписали в солдаты и рейтары, в «полки нового строя». упрочение казаков на южных и восточных рубенсах России. Весь XVII в. шло укрепление южных и восточных рубежей русского государства. Еще в XVI в., в 1587 г. был построен город Тобольск, где на службу были посажены остатки отряда Ермака под названием «Старая сотня». В 1604 г. русские поставили в Сибири город Томск, в 1619 г. - Енисейск, в 1628 г. - Красноярск, в 1632 г. - Якутск, в 1652 г. — Иркутск.
В городах оставлялись стрельцы и «охочие вольные люди», которых записывали в казаки. Так на короткое время появились казаки тобольские, томские, березовские, пелымские, тюменские.
В 1650 г. казак А. Хабаров с отрядом в 170 человек вышел на Амур и столкнулся здесь с маньчжурами, считавшими себя подданными Китая. Хабаров построил Ачинский городок и затребовал подкреплений у якутского воеводы. В 1652 г. под Ачинский городок подступали маньчжурские войска. 200 казаков отбили штурм, сделали вылазку и разгромили противника, причем захватили 2 орудия. Однако сил для закрепления победы было мало, и Амур еще долго оставался спорной территорией и местом постоянных стычек. Продолжалось укрепление границы на Тереке, где казаки «лежали по перевозам». В 1651 г. был построен острог на реке Сунже. Терские казаки постоянно пополнялись казаками с Дона, Волги, из «украинных» городов. Правительство само ссылало сюда преступников. Турецкое и персидское правительства также оспаривали у России эти территории, и столкновения их подданных с казаками происходили довольно часто. Кроме того, казаки с Терека участвовали вместе с донцами в нападениях на крымских татар и ногайцев, были в Чигирин-ских и Крымских походах.
Так же выступали в походы по призыву правительства яицкие казаки. Они дрались с поляками, защищали Смоленск, ходили на крымских татар и турок, сражались под Чигирином, усмиряли башкир.
Таким образом, в конце XVII в. влияние России на казачьи войска значительно возросло. Донские казаки, вопреки обычаю, присягнули на верность русскому царю. То же самое сделали запорожцы. И те и другие активно участвовали на стороне России во всех ее войнах того периода.
Казаки на служке России в царствовании Петра. I Казаки в Азовских походах. Придя к власти, новый царь Петр I твердо намеревался овладеть выходом в Азовское и Черное моря и покончить с турецко-крымскими набегами на южные русские окраины. Первым этапом на пути к этой цели Пе'тр I считал взятие турецкой крепости Азов. К участию в борьбе за Азов привлекались казаки различных войск: донцы, запорожцы, терцы и гре-бенцы, яицкие казаки.
Во время первого похода, состоявшегося в 1695 г., казаки успешно решили важную задачу овладения двумя турецкими башнями на донской протоке Каланча. Эти башни были хорошо укреплены и имели 34 пушки. Первую из башен захватили 200 добровольцев-донцов. Развернув орудие, они открыли огонь по второй башне, и турки покинули ее. Во время первого похода взять Азов не удалось. Сказалось отсутствие флота, что не позволило блокировать город со стороны Дона и моря. Поэтому зимой 1695/96 г. на верфях в Воронеже было организовано грандиозное строительство боевых судов.
В мае 1696 г. Петр I получил сведения о движении к Азову турецкого флота. Против турок были направлены казачьи суда и русские галеры. В морском сражении турки потерпели полное поражение. Они потеряли 9 судов и бежали. Казаки бросились за ними в погоню и захватили еще два коробля и 10 галер. Эта победа позволила блокировать Азов с моря. После этого, 17 июня, начался штурм крепости. Русские силы овладели одним бастионом, а донские казаки атамана Фрола Минаева и запорожцы Якова Лизогуба - другим. После этого положение турок стало безнадежным. 19 июня они сдались. После взятия Азова он стал важным административным центром России, туда был посажен губернатор. Войско Донское за участие во взятии Азова получило от Петра I крепость Лютик на притоке Дона, Мертвом Донце.
Освоение казаками новых земель. Создание новых казачьих войск. В начале царствования Петра I казаки продолжали расширять границы России на востоке. Так, в 1697 г. отряд казаков под начальством пятидесятников Атласова и Морозко покорил Камчатку.
«Прорубая окно в Европу», Петр I не забывал о восточных и южных границах. Создавая иррегулярную армию, он продолжал наборы в регулярные казачьи части и даже создавал новые казачьи войска.
На юге, на территории Украины, в городе Чугуеве в 1700 г. была создана пятисотеняая казачья команда из донских, яицких казаков и из крещеных калмык и татар, положившая начало чугуевским казакам. В 1701 г. неподалеку для охраны Бахмутских соляных копей была создана «Бахмут-екая казачья компания» из бахмутских, торских и маяцских казаков.
На левом берегу Терека из переселившихся сюда гребенских казаков в 1711 г. было создано Гребенское казачье войско, которое в 1720 г. было подчинено астраханскому губернатору. В 1722 г. часть терских казаков была переселена на реку Сулак при слиянии ее с рекой Аграханью, здесь было создано новое войско - Аграханское. В 1722г. сюда же была переселена тысяча семей донских казаков, пополнив новое войско. В 1701 г. власти стали увеличивать количество казаков в Сибири, верстая в казаки детей и родственников казачьих и ссыльных невольников. В 1716 г. по реке Иртышу стала строиться сибирская линия из укрепленных городков. В 1725 г. губернатор Сибири князь Долгорукий составил штат сибирских крепостей. В каждой из них располагалось по 785 казаков. Всего казачьи гарнизоны составили около 8 тыс. бойцов. На службу сюда стали посылаться также яицкие и донские казаки. Казаки в Северной войне. В Северной войне 1700-1721 гг., которую Петр I вел за выход Б Балтийское море против Швеции, активное участие принимали донские, уральские и малороссийские казаки.
Донское войско выставило свыше 10 тыс. казаков. Они принимали участие в неудачных боях у города Нарвы, в боях у местечка Гродно, в стычке у селения Августово с неприятельской конницей, в нападении на главную квартиру шведского короля Карла XII около Гродно.
Особенно активное участие донские казаки под руководством атамана Максима Фролова приняли в знаменитой Полтавской битве 27 июня 1709 г. Они опрокинули шведскую конницу и в кавалерийских боях захватили 14 знамен, один штандарт и сотни пленных. Так же они принимали участие в осаде и взятии Риги, осаде крепости Выборг. В боях у села Лаптю они в составе русского отряда разгромили шведского генерала Аршфельда и захватили местечко Якобиштадт, а в боях у села Наппо нанесли сокрушительное поражение остаткам шведских войск.
В 1719 г. 360 донских казаков принимали участие в десанте русского флота на берега Швеции под предводительством адмирала Апраксина и под командой генерала Ласси. В 1720 г. царь Петр I пожаловал Войску Донскому и атаману Фролу Минаеву грамоту, в которой писал: «Ты, войсковой атаман, был в боях, азовских походах, потом в Польше в Калишском сражении и прочих битвах, в 1717 г. был с 1000 казаками в Финляндии и в генеральном сражении под Азой послужил радетельно. За такую службу тебя, войскового атамана, и Войско Донское пожаловать знаменами милости признали. Тебе, войсковому атаману, послал наш, Царского Величества портрет, алмазами украшенный».
Таким образом, за время тяжелых непрерывных войн заслуга донских казаков была отмечена царем милостивой грамотой и наградой атаману Войска.
Что касается яицких и малороссийских казаков, то их участие в Северной войне было незначительным. В 1701-1704 гг. отряд яицких казаков из 2 100 человек участвовал в боях под Нарвой.
Малороссийское казачество тоже выставило свои реестровые полки на войну, но активно драться они стали только тогда, когда шведские войска вторглись на Украину.
у частие казаков в войнах с Турцией И Персией. Донские казаки принимали так же участие в Прутском походе 1711 г. ив кавалерийских боях с турецкими войсками. 5 тыс. донских казаков входили в войска Казанского округа, на которые возлагалась оборона Азова. Прутский поход закончился поражением русских войск и возвращением Турции Азова и Таганрога. Это ослабило позиции на юге и востоке. Но после окончания Северной войны Петр I обратил внимание на восток. Он задался грандиозным планом - установить через Россию торговые пути из Европы в Азию. Россия должна была стать посредницей в торговле мел-еду европейскими странами и Китаем, Индией и Персией.
Главное внимание Петром I обращалось на Персию, которая мешала этим планам. В начале 1722 г., несмотря на протест Турции, Петр 1 приказал снарядить суда на Волге для перевозки войск по Каспийскому морю. 9 тыс. регулярных войск, 40 тыс. казаков и калмыков и 30 тыс. татар двинулись в направлении Дербента. Так началась русско-персидская война (1722-1731 гг.).
Донское войско выставило 2 тыс. казаков, которые участвовали во взятии крепости Тарки, в устье Терека. Против наместника Дербента Петр I отправил атамана Краснощекова с 1 000 казаков и-4 тыс. калмыков, который разорил и пожег селения горцев и вернулся с добычей. После этого Дербент сдался без сопротивления. Петр I построил крепость Святого Креста на левом берегу реки Кой-сы. Для занятия этой крепости было поручено переселить тысячу донских казаков с их семьями. Донские казаки участвовали во взятии Баку в 1723 г., в экспедиции генерала Кропотова в 1725 г., в отражении нападения численно превосходящих сил противника в урочище Карамык.
Войско Донское было награждено двумя знаменами за войну с персами.
Розыск беглых на Дону
После присоединения Азова к России в 1696 г. стало наглядно проявляться стремление Петра I поставить Войско Донское под свой полный контроль. Особенно большое недовольство царя вызывал прием казаками беглых. Правительство само нуждалось в рабочей силе, в рекрутах, в плательщиках налогов. Поэтому на Дон стали слать распоряжения о выдаче людей, пришедших на Дон после 1696 г., и о запрете впредь принимать беглых.
В сентябре 1707 г. на Дон прибыл крупный отряд полковника князя Юрия Долгорукого. Царь предписал ему проводить сыск беглых в казачьих городках, арестовывать их и отсылать на прежние места жительства, а «воров и забойцрв» отправлять под стражей в Москву или Азов. Сначала Ю. Долгорукий провел розыск в низовых городках и в самом Черкасском городке, затем разделил свои силы. Один отряд двинулся вверх по Дону, другой во главе с самим Долгоруким - вверх по Донцу. Сыск велся очень жестокими методами. Беглых ловили, клеймили, резали им ноздри и уши, заковывали в кандалы. Долгорукий арестовывал не только беглых, но часто и старожилых казаков. Действия карателей вызывали возмущение в казачьих городках. Донская казачья верхушка тоже была недовольна тем, как Долгорукий распоряжался на Дону. Кроме того, у донских казаков были претензии к слободскому украинскому Изюмскому полку из-за соляных варниц на реке Северский Донец. А царское правительство заняло сторону слободских казаков. В итоге, донские казаки решили убить жестокого карателя Долгорукого. Возглавил заговорщиков атаман Кондратий Булавин.
Восстание Кондратия Булавина. В ночь на 9 октября 1707 г. казаки перебили офицеров из отряда Долгорукого и убили самого князя. Петр I выслал против них сильный карательный отряд, который возглавил видный донской старшина Ефрем Петров. Петров разгромил неокрешпие силы повстанцев. Сам Булавин бежал в Запорожскую Сечь, где его укрыли.
Весной 1708 г. Булавин появился в верховых казачьих городках. Он был поддержан значительным большинством казаков. В апреле булавинцы разбили на речке Лисковатке отряд верных царю донских старшин и пришли в Черкасск, который заняли без труда 1 мая. На Войсковом круге были осуждены на казнь войсковой атаман Л. Максимов и царский сторонник Е. Петров. Булавина избрали войсковым атаманом. Булавин, придя к власти, попытался вести переговоры с Петром I и заявлял, что после перемен казаки готовы по-прежнему служить царю. Петр I в переговоры не вступал, а двинул на Дон войска. Булавин разделил силы повстанцев. Отряд атамана Игната Некрасова двинулся вверх по Волге и осадил Саратов. Отряд Семена Драного пошел вверх по Донцу и разбил Сумский слободской полк. Сам Булавин готовился к походу на Азов.
2-3 июля царские войска разбили на Донце казаков Драного, сам атаман погиб. 5-6 июля казаки пытались взять Азов. Пока шло сражение, в Черкасске казачьи старшины организовали заговор против Булавина. 7 июля Булавин был предательски убит, но заговорщики распустили слух о его самоубийстве. Новый круг избрал атаманом Илью Зер-щикова, которому Булавин доверял и который принял участие в заговоре.
На Дон вступили царские карательные войска во главе с князем Василием Долгоруким. В конце июля они заняли Черкасский городок. Верхушка казаков во главе с Зерщиковым выразила им полную покорность. Долгорукий двинулся вверх по Дону, стирая с лица земли восстававшие городки и уничтожая их население. В городках, которые не примкнули к восстанию, казнили каждого десятого. Позже Долгорукий заявил, что истребил 23 500 казаков. Никогда ранее донское казачество не переживало такого разгрома. В сентябре 1708 г. атаман Игнат Некрасов увел своих казаков на Кубань во владения Крымского ханства. Последний отряд повстанцев Никиты Голого был разбит карателями на Верхнем Дону в ноябре. К началу 1709 г. восстание на Дону было подавлено.
Измена гетмана Мазепы. В 1708 г. в день победы под Лесной Петр I узнал об измене украинского гетмана Мазепы, который перешел на сторону шведских войск.
На Украине давно вызревал раскол между основной массой казаков и верхушкой, которая стала захватывать брошенные поляками земли и имения, богатеть и угнетать своих собратьев. Царское правительство было засыпано доносами на казачьих гетманов и полковников. Те в свою очередь боялись перемен, проводимых Петром I, которые могли пресечь их самовластие.
Когда шведские войска Карла XII разгромили союзников Петра I и вышли на территорию Украины, Мазепа решил, что Петр I уже побежден, и перешел на сторону Карла XII и его союзника польского короля Станислава Лещинского.
Вместе с Мазепой ушло очень мало казаков. Большинство остались верны союзу с Россией. Войска Меньшикова взяли Батурин, ставку Мазепы. Вскоре казаки выбрали нового гетмана Скоропад-ского и во главе с ним сражались против шведов. Поддержали Мазепу запорожцы, которые боялись разрастания царской власти в низовьях Днепра и хотели отстоять свою независимость. Но 14 мая 1709 г. Сечь была взята штурмом русскими войсками и срыта до основания. Часть запорожцев во главе с кошевым атаманом К. Гордиенко бежала в турецкие владения и основала в Крыму «Новую Сечь».
После Полтавской победы Петр I подтвердил права и вольности украинских казаков, которые были гарантированы им еще при Богдане Хмельницком. Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкие владения, где вскоре и умер.
Изменение взаимоотношений государства и казачьих войск. Разгром Булавинского восстания позволил русским властям значительно усилить свою власть на Дону. По указу Петра I от 18 декабря 1708 г. земля Войска Донского была включена в состав Азовской губернии. Часть своей территории, преимущественно по Северскому Донцу, казаки потеряли. В апреле 1709 г., когда на Дон прибыл царь, по его приказу были казнены ряд старшин, замешанных в поддержке Булавина, в том числе и Зерщиков, Нового войскового атамана Петра Рамазанова назначил сам Петр I без избрания его Войском Донским. С 1718 г. избрание новых войсковых атаманов стало утверждаться царем, причем без права переизбрания Войсковым кругом. Изменения произошли во взаимоотношениях власти и с другими казачьими войсками. 3 марта 1721 г. все казачьи войска были выведены из подчинения Коллегии иностранных дел, сменившей Посольский приказ, и переподчинены Военной коллегии. Это помимо прочего означало включение казачьих войск в состав российского государства и присоединение их земель к России.
С 1723 г. на Дону временно упразднен пост войскового атамана. Атаман стал называться «наказным» (назначенным по наказу), так как назначался царской властью.
Метки: казачество русские традиции казаков |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 5 |
Дневник |

РОМАНОВА
Взаимоотношения с Москвой донских и яицких казаков. После Смуты русская земля лежала в развалинах. Власть была слаба. Продолжалась война с Польшей. Царское правительство было заинтересовано в поддержке казачества и поначалу шло ему на разные уступки. Царь в своей грамоте обещал им милость навеки и жалованье больше прежнего. Однако жалованье из обнищавшей страны к казакам шло мизерное.
Сами казаки были заинтересованы в сохранении тесных связей с Россией, так как в одиночку не могли устоять против усилившихся кочевников. Поэтому в 1613 г. яицкое казачье войско с присоединившейся к нему разной вольницей подало челобитную о принятии в подданство Московского государства. В 1615 г. войску была послана грамота на владение рекой Яиком.
С донскими казаками у русского правительства взаимоотношения были более сложными. Отныне царь называл донских казаков «Великим Войском Донским, ас сентября 1614 г. сношения с казаками велись не через Разряд, а через Посольский приказ, как с соседним государством. В то же время на .Дон было прислано царское знамя и обещание ре-тулярного жалованья. Тем самым между Москвой и Доном сложились отношения своеобразного сюзеренитета-вассалитета, характерного для средневековья. Такие отношения заключались добровольно, в связи с интересами обеих сторон. Для младшей стороны - вассала - сохранялась вольность. Отношения предполагали взаимную верность, когда вассал должен был нести службу, а сюзерен оказывать ему помощь. Обе стороны были вправе прервать эти отношения. Кроме того, с 1615 г. казаки получили право свободных поездок в русские города и уезды и право беспошлинной торговли.
Для войны с Польшей Москва нуждалась в союзе с турками и татарами. Но донские казаки именно в это время усилили и участили свои набеги на ослабленный междоусобицей Крым, постоянно выходили в Азовское и Черное моря, доходили до Босфора, грабя и разоряя турецкие и татарские владения, чем осложняли русско-турецкие отношения.
С 1625 г. отношения между Доном и Москвой на этой почве ухудшились. Казачье посольство было арестовано. Царь грозил казакам опалой, патриарх - отлучением от церкви. Ничего не помогало. В 1630 г. произошел фактический разрыв отношений, когда казаки на Круге убили царского посла Карамышева. Но такое положение не было выгодно ни одной, ни другой стороне. Поэтому казаки временно прекратили свои походы на море и приняли участие в очередной войне Москвы с поляками, которая началась в 1632 г. Таким образом, в 1632 г. отношения между Доном и Россией были полностью восстановлены. Поход П. Сагайдачного на Москву. Запорожские и украинские казаки в первой половине XVII в. Запорожские и украинские реестровые казаки приняли самое активное участие в русской Смуте на стороне самозванцев и польского короля. Последний их поход на Москву начался в 1617 г. вместе с королевичем Владиславом, претендовавшим на русский престол.
На помощь Владиславу в 1618 г. через южные границы на Москву двинулся во главе украинских казаков гетман Петр Конашевич-Сагайдачный. Донские казаки держали нейтралитет - против России не выступили, но и с украинцами не воевали. Служилые русские казаки стали переходить из лагеря в лагерь либо бежать со службы. В сентябре войска Владислава и 7 тыс. запорожцев Сагайдачного осадили Москву. 1 декабря 1618 г. ценой больших территориальных уступок Москва добилась подписания Деулинского перемирия на 14 лет и 6 месяцев. Война закончилась. После этого один из полков Сагайдачного перешел на службу русскому царю. " Возвратившись из похода, запорожские и украинские казаки приняли участие в жестокой и кровопролитной войне с Турцией. Постоянные морские набеги на турок и татар стали чередоваться с восстаниями против польской шляхты и королевской власти, которая все время стремилась сократить количество реестровых казаков. Происходит обособление Низового Войска Запорожского, которое превращается в самостоятельную республику, и реестрового казачества, верхушка которого смыкается со шляхтой. Но во время восстаний низовые запорожцы и рядовые реестровые казаки почти всегда выступают вместе. Первое мощное выступление происходит в 1625 г., но оно терпит поражение. В 1630 г. выступление запорожцев под руководством Тараса Трясило заставляет поляков увеличить реестр до 8 тыс. казаков. В августе 1635 г. запорожцы атамана Сулимы захватывают королевскую крепость Кодак, но сдают ее реестровым казакам. В 1637-1638 гг. бушует казачье восстание по обеим сторонам Днепра под руководством атаманов Павлюка, Скидана, Острянина и Гуни. После поражения восстания низовцы и многие другие реестровые ушли в Сечь. Правительство сформировало новые реестровые полки под командованием польских шляхтичей. Казаки, не вошедшие в реестр, становились «подданными» польских помещиков. Это еще больше обострило ситуацию на Украине и вскоре вылилось в мощную народную войну.
Изменения во внутренней жизни казачьих войск. В начале XVII в. казачьи войска на Дону и Яике окончательно объединяются в единые военные структуры. Процесс этот был долгим. Так, на Дону первым в конце XVI в. сплотилось низовое казачество, селившееся ниже слияния Донца и Дона, и образовало Низовое Войско Донское (по примеру Низового Войска Запорожского). В него не входили «верховые» казаки, которые были основным пограничным барьером русских земель от набегов крымских татар и ногайцев. В отличие от «низовцев», часто прорывавшихся в Азовское и Черное моря, «верховцы» принимали участие в предприятиях «низовых» казаков.
После Смуты происходит сближение, а затем слияние «верховцев» и «низовцев» в одно войско. Этому способствовала политика российского правительства, которое признало «низовцев» «Великим Войском Донским» и стало выплачивать им жалованье. Новая единая военная структура продолжала носить прежнее название — «войско». Она располагала полнотой власти в пределах своей территории. Москва, как уже говорилось ранее, вела с Великим Войском Донским сношения через Посольский приказ, как с иностранным государством. В качестве самостоятельного государственного образования Великое Войско Донское было признано Запорожьем, Польшей и Ираном.
В Войске был единый центр, где находился войсковой атаман, собирался Круг и войсковой суд. Сначала это был городок Раздоры Донецкие, стоящий при слиянии Донца и Дона. В конце XVI в. центр переместился в низовья Дона, в городок, название которого точно неизвестно, но в грамотах того времени его уклончиво называют «Стыдное имя». В 1613 г. новым центром стал городок Монастырский, расположенный немного ниже городка Черкасского.
Власть Войска на Дону считалась единственной и непререкаемой. Войско пресекало возникновение самостоятельных, независимых поселений. Так, в 1660 г. по решению Войска был разорен городок Рига, самовольно построенный у Донской переволоки и претендовавший на самостоятельность. Войско строго придерживалось системы обычаев и запретов, сложившихся на Дону. Так, под страхом смерти казакам запрещалось пахать землю, что, по мнению Войска, вело к экономическому неравенству и падению боеспособности. В начале XVII в. сложился тип казака - универсального воина, одинаково способного участвовать в морских набегах, сражаться на суше в конном и пешем строю и, как показало недалекое будущее, прекрасно знающего фортификационное, минное и подрывное дело.
За Азовское и Черное моря
„Захват казаками Азова. По мере развития взаимоотношений Дона и Москвы установились устойчивые связи царского правительства и казачьей верхушки. Но значительная часть казачества дорожила независимостью Дона, понимала, что царское жалованье влечет за собой экономическую зависимость от Москвы. Выход виделся в захвате крупнейшего экономического и стратегического центра Причерноморья - города Азова. Опираясь на него, Войско Донское держало бы под контролем Азовское море и другие важные торговые пути.
9 апреля 1637 г. на Войсковом круге донские казаки решили взять Азов, не ставя в известность о том российское правительство. С 21 апреля началась осада, которую возглавил атаман Михаил Татарин. В союзе с донцами были запорожцы. Сперва казаки поставили вблизи стен города плетеные туры, в которые была насыпана земля, и из-за них обстреливали противника. Пока день и ночь шла перестрелка, другие казаки начали подкоп под стены. Руководил работами казак «родом из немецкой земли» Иван Арадов. 16 июля взрыв разрушил часть стены. Казаки бросились в пролом. С другой стороны крепости донцы и запорожцы полезли на стены по лестницам. К концу дня город был взят, турецкий гарнизон перебит. Казаки объявили Азов центром Войска Донского. Царское правительство, чьи взаимоотношения с Турцией сразу же осложнились, выразило казакам свое недовольство. Однако пребывание казаков в Азове, контроль их над бассейном Азовского моря и непосредственная угроза крымским берегам резко сократили татарские набеги на южные русские земли. Поэтому царское правительство не прерывало своих отношений с казаками, а наоборот, снабжало их повышенным жалованьем, хотя в переговорах с турками осуждало казачье предприятие.
Казаки объявили в Азове беспошлинную торговлю. Но для установления устойчивых экономических связей с соседями нужно было время. А турки не могли смириться с потерей своего форпоста в Северном Причерноморье. В 1638 г. их флот нанес серьезное поражение казакам в Адахунском лимане недалеко от Анапы. Готовились войска в ряде провинций, чтобы отбить у казаков Азов.
В самом Азове атаман запорожцев Матьяш пытался бунтовать и требовать для себя особого положения в городе, за что был убит донскими казаками.
Азовское осадное сидение. Турки долго не могли собраться и отвоевать Азов. Сначала им мешала война с Ираном, затем в 1640 г. умер султан Мурад IV. Новый султан Ибрагим I назначил поход на 1641 г. В июне огромное турецкое войско осадило город. Источники говорят, что султан послал под стены Азова 240 тыс. человек, среди них были немцы-наемники и специалисты минного дела из разных европейских стран. Семь с половиной тысяч казаков сели в осаду, отказавшись сдать город. Но это было далеко не все Войско. Часть низовцев отказалась поддерживать осажденных, заявив: «Лучше мы умрем за свои черкасские щепки, чем за ваши азовские камни». Но многие казаки с Верхнего Дона стали прорываться в осажденный Азов, чем оказали большую помощь защитникам.
Первый жестокий штурм был отбит, причем погибли все немцы-наемники. Тогда турки блокировали город и начали минную войну - стали подводить под стены подкопы, чтобы взорвать их. Но казаки превосходили противника в этом искусстве. Против подкопов они вели контрподкопы и подземными взрывами уничтожали вражеских минеров.
Новые попытки штурма, когда осаждающие волнами накатывались на стены день и ночь, тоже были отбиты. Турецкая артиллерия сровняла многие стены с землей, но осажденные зарывались в землю, наделали подземные ходы, совершали вылазки, но не пускали врага в город. Турки пошли на переговоры и предложили казакам сдать город за выкуп. Те ответили: «Не дорого нам серебро и злато, дорога нам слава вечная».
В августе атаки прекратились. Турки уже не имели сил для продолжения осады. Чтобы оправдаться перед султаном, они совершили несколько набегов на близлежащие казачьи городки и 26 сентября сняли осаду с Азова. Войско Донское одержало победу, но досталась она дорогой ценой. Из осажденных уцелело чуть больше тысячи человек. Большая часть донских казаков полегла на азовских стенах.
Уцелевшие понимали, что им не удержать крепость своими силами, и после осады в Москву было послано посольство во главе с Наумом Васильевым, который сначала возглавлял оборону города. Посольство предлагало правительству «принять город под высокую руку русского государя». Предложение было заманчивым. Для решения этого вопроса был созван Земский собор. Собор высказался за принятие Азова, но правительство боялось войны с турками, в то время как отношения с Польшей оставались враждебными. Кроме того, было известно, что крепостные стены полностью разрушены, и удержать город будет трудно. Поэтому в Москве отказались принять Азов у Войска Донского, а казакам посоветовали оставить город. Не имея сил для продолжения борьбы с огромной империей, казаки в мае 1642 г. оставили Азов. Скоро туда вошли турки. Азовское осадное сидение прославило Войско Донское во многих странах Европы и Азии. Оно показало, что донское казачество является серьезной силой в международных отношениях, способной противостоять силам такой грозной империи, как Турецкая.
Усиление московского присутствия на Дону. После возвращения Азова турки и татары пытались вовсе выбить казаков с Нижнего Дона. Но казаки отсиделись в низовом Черкасском городе, а с 1644 г. вообще объявили его своей столицей. Но силы казаков были подорваны, цвет Войска был выбит в Азове. Это давало возможность царскому правительству усилить свое присутствие на Дону.
В 1646 г. московские власти, стремясь укрепить Войско Донское, организовали на юге страны добровольцев из числа вольных людей на пополнение казачества. Часть «новоприборных» казаков не выдержала тягот жизни на Допу и разбежалась, но значительная часть осталась. В результате Войско Донское только за один год было практически на треть разбавлено « новоприборными » казаками.
В 1648 г. вблизи Черкасского города русские власти разместили полк солдат. Такое количество солдат оставалось на Дону до конца XVII в. Показывая силу, правительство потребовало, чтобы за жалованьем казаки являлись в стан к московскому посланнику, когда он прибудет в Черкасский городок, а не принимать его на Войсковом круге, как было раньше. Тем самым посланник ставился как бы выше Войскового круга. Казаки отказались от нового порядка приема жалованья. После долгих препирательств пришли к компромиссу: передача жалованья происходила на нейтральном месте у часовни.
Казаки и национально-освободительная война
Восстание под руководством Богдана Хмельницкого.
Население Украины находилось под тройным гнетом: национальным, феодальным и религиозным. Обстановка была взрывоопасной. Долго тлевший конфликт прорвался в 1648 г., когда гетман Запорожского войска Зиновий Богдан Хмельницкий поднял восстание против поляков. Подавление шло вяло, так как Хмельницкий продолжал сноситься с польским королем и выдавать события за конфликт между верными королю казаками и своевольными польскими магнатами. Между тем войско восставших запорожцев и реестровых казаков пополнялось крестьянами, и вскоре кровавые события распространились по всей Украине. Не имея достаточно сил, чтобы справиться с поляками, Хмельницкий просил помощи у крымских татар, и хан прислал ему войско.
В 1649 г. новый король Польши Ян-Казимир собрал огромное войско и начал поход на Украину, но был разбит в Зборовском лагере и чуть сам не попал в плен. Король вынужден был подписать договор с Хмельницким, по которому Украина становилась федеративным сочленом польско-литовского государства, реестр увеличивался до 40 тыс. казаков, и всем участникам восстания объявлялось прощение. С подписанием договора восстание украинских крестьян против польской шляхты продолжалось, мира на Украине не паступило. Король начал новую войну, в которой Хмельницкий в 1651 г. был разбит под Берестечком из-за измены и ухода с поля боя крымского хана. В результате нового договора реестр сократили, другие достижения казаков тоже были перечеркнуты. Однако Хмельницкий продолжал борьбу.
Обострились отношения между Хмельницким и донскими казаками, которые продолжали нападать на нового союзника Хмельницкого - крымского хана.
Образование слободского казачества
Все время, пока на Украине шли военные действия, с ее территории на русские земли ПЕЛИ переселенцы и расселялись по границе между Россией и Польшей. Из-за «слобод» - населенных пунктов, свободных от помещичьего гнета, где они расселялись и которые сами создавали, - их называли «черна-сами-слобожанами».
В июне 1651 г. из этих переселенцев сформировали Слободские черкасские казачьи полки. Полки получили наименования по населенным пунктам - Сумский, Изюмский, Ахтырский, Харьковский и Острогожский. Впоследствии казаки, расселившиеся на территории этих полков, составили основу регулярной русской кавалерии.
Метки: казачество русские традиции казаков |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА |
Дневник |

Расцвет казачества
Казаки... Одиннадцать казачьих войск. Современники называли их одиннадцатью жемчужинами в блистательной короне Российской империи. Донцы, кубанцы, терцы, уральцы, сибирцы, астраханцы, оренбуржцы, забайкальцы, семиреченцы, амурцы, уссурийцы. У каждого войска была своя история - у одних не менее древняя, чем само Российское государство, у других недолгая, но тоже славная. Каждое войско имело свои традиции, объединенные единым стержнем, пронизанные единым смыслом. У каждого войска были свои герои. А некоторые имели общих героев, таких как Ермак Тимофеевич - личность известная и славная во всей России.
«Они изумляли своей бесстрашной джигитовкой. Они восхищали ловкостью и красотою своего строя, они поражали затейливою игрою заманивающей лавы. Они, по признанию всех иностранцев, видевших их в мирное время, - были единственной в мире, неподражаемой и несравненной конницей. Они были природными конниками.
Красота их мирного полкового быта, с из глубины веков идущими песнями, с лихой пляской, с тесным и дружным товариществом, пленяла. Служить у казаков, служить с казаками было мечтой всех истинно военных людей», - так описывал казаков в начале XX в. один из последних донских атаманов. И объяснял: «Они сами стали такими. Их закалила в боях на границе история». Да, в начале XX в. казаки казались всем, кто их видел, «природными конниками». Но мы помним грозную запорожскую пехоту и перенявших ее традиции бесстрашных кубанских пластунов. А когда казаки на своих легких стругах или «чайках» выходили в море, трепетало побережье султанской Турции и Ирана. И редко галеры и «каторги» могли устоять против казачьих флотилий, доводящих дело до жестокой и беспощадной абордажной схватки.
А когда окруженные многократно превосходящим численно неприятелем казаки садились в осаду, то показывали себя настоящими мастерами минной войны, и об их казачьи хитрости разбивалось искусство иноземных мастеров осадного дела. Сохранились прекрасные описания обороны города Азова, который девять тысяч казаков умудрились почти без потерь захватить, а потом удержать, отбиться от 250-тысячной турецкой армии... Они были не только «природные конники», они были природные воины, и им удавалось все, за что они брались.
Последними во всей России казаки сохранили старинный рыцарский принцип «службы за землю» и собирались за свой счет «конно и оружно». Последние русские рыцари... «Молча, в величайшем сознании своего долга перед Родиной, несли казаки свои тяготы по снаряжению на службу и гордились своим казачьем именем. В них было прирожденное чувство долга», - писал современник. Казаки участвовали во всех войнах России. Когда армии шли вперед, они были впереди армий, «освещали» местность, вели разведку, наводили панику в тылу противника; когда наши войска отступали, казаки прикрывали их отход, раскинув непроницаемую завесу своей казачьей лавы. Они не боялись никого и ничего, кроме Бога. Их мелкие отряды растрепали, растащили, «разворовали» «великую армию» Наполеона, как только она вторглась в Россию. Вместе с А.В. Суворовым они с одними укороченными пиками взлетели на неприступные стены Измаила, вместе с ним перешли снежные Альпы, где грелись лишь дыханием поставленных в кружок лошадей. И в XX в., когда траншеи и колючая проволока опоясали линии фронта, они проявили себя наиболее стойкими, умелыми воинами. Их полки не знали дезертирства, не знали, что такое «попасть в плен». А когда казаки все-таки прорывались в тыл противника и там рейдами и налетами кромсали вражеские коммуникации, то сами пригоняли сотни пленных.
Меньше известна, как бы за кадром остается обыденная тяжелая пограничная служба, которую несли казаки. От вод Ботнического залива до бескрайнего простора Тихого океана держали казачьи заставы границу. Финские снега, болота «западных пределов», опаленная бессарабская степь, пустыня и субтропики Закавказья, пески Средней Азии, бесконечная пограничная линия через всю Сибирь до Амура и по Амуру - все это места казачьей службы, усеянные казачьими костями. Многие великие писатели, поэты, художники, композиторы воспели казаков и казачество. Привлекали их казачья удаль, любовь к Родине, сочетание вольности и воинского долга. И сами казаки вырастили в своей среде знаменитых писателей, поэтов, художников.
В отличных от других условиях жизни зародилась особая, своеобразная культура, впитавшая лучшие достижения соседей и породившая свое, самобытное.
На рубеже XVIII-XIX вв. казаки оформились и на государственном уровне были провозглашены сословием. Вся Россия делилась тогда на сословия и не было ни одного человека вне сословий. Государство строго регламентировало права и обязанности казаков, присущие и вмененные им именно как сословию.
Но в то же время абсолютно объективно, независимо от законодательства или воли правителей, шел процесс складывания на казачьих землях особых сообществ, отличающихся от других стереотипом поведения, выработавших свою самобытную культуру, особенности языка, и - что важно - эти сообщества видели и осознавали эти отличия, у них складывалось осознание себя отдельным, отличным от других народом. Процесс этот был прерывист, в некоторых местах отличия размывались. Но постепенно сложились как субэтносы (зачатки нации) донские казаки, кубанские казаки (хотя у них четко прослеживалось различие между украиноязыч-ными «черноморцами» и русскоязычными «линей-цами»), терские казаки, уральские казаки... Ни один народ не появляется сразу неизвестно откуда и не существует вечно. Всегда и повсеместно идет незримый процесс создания и развития новых народов (этносов), которые вбирают в себя и состоят из малых народов (субэтносов). Отличающиеся по ряду признаков субэтносы, каковыми являются донские казаки, кубанские казаки, терские казаки и др., объединяются в единый этнос -казаки- неотъемлемую часть великого русского народа. Процесс этот далек от завершения, но его нельзя игнорировать. Не случайно проблемами казачества занимается специальный отдел в Министерстве по делам национальностей, который и является заказчиком этого учебного пособия..
Возрождающейся России, конечно же, нужны ее наиболее боеспособные и дисциплинированные сыновья. Безопасность границ Отечества и укрепление обороноспособности страны - важнейшие проблемы современности. И сами казаки, чья малая родина либо граничит с «горячими точками», либо сама стала «горячей точкой», ясно видят и осознают свое единство со всей Россией и только в укреплении России видят выход из напряженной обстановки на местах.
Начавшееся возрождение казачества не прошло мимо внимания государства. Уже тот факт, что данное учебное пособие «История казачества России» издается на государственные деньги, о многом говорит,
История взаимоотношения государства и казачества не была бесконфликтной. Активное участие казаков в Смуте (которое все нее закончилось тем, что казаки изгнали интервентов и приняли деятельное участие в установлении новой династии), восстания Разина, Пугачева, Булавина - все это показывает, что вольница шла на службу России тернистым и сложным путем. Всем известно, что подавляющая часть казаков не восприняла новую российскую власть в лице большевиков и в кровопролитной борьбе понесла непоправимые, невосполнимые потери. Казачьи войска были ликвидированы, цвет казачества погиб, десятки ушли в эмиграцию.
Но непреложным законом является и то, что в трудные для Родины минуты казаки забывали былые трения и конфликты и шли защищать Россию. Как бы больно и несправедливо ни наказывала мать ребенка, но она - мать. И казаки беззаветно любят свою Родину.
В единстве страны - залог процветания ее народа. Казаки, верные сыны России, несути готовы впредь нести службу по охране ее рубежей.
Причерноморье в древности
Причерноморская степь всегда привлекала к себе разные народы. Первые поселения здесь появились задолго до нашей эры. Полноводные, богатые рыбой реки, изобилующая дичью пойма - все это создало благоприятные условия для проживания первобытных охотников и рыболовов. Сочная трава в междуречье Дона и Волги, Донца и Днепра постоянно приковывала взоры кочевников, которые занимались скотоводством. Близость морей, важные торговые пути привели сюда первых переселенцев из античного мира.
В первой половине I тысячелетия до н.э. здесь появилось постоянное население - ираноязычные племена, которые и дали название одной из рек (Дон по-ирански - вода).
Окифы в Причерноморье. В VII в. до н.э. ираноязычный кочевой народ скифы вышли на Дон с востока, перешли его и расселились на правом. берегу. Здесь они прожили до III в. до н.э. Восточ-нее, на левом берегу, поселились савроматы, родственные скифам по языку.
Греческий историк Геродот считал приазовских скифов наиболее воинственными среди всех племен. Геродот сообщает о том, что господствующими среди скифских племен были племена царских скифов, жившие в степях между Днепром и Доном. Существовавший у скифов союз племен постепенно приобретал черты государства во главе с царем. Власть царя была наследственной и обожествлялась, частично ограничивалась советом союза племен и народным собранием.
Основные сведения о жизни и деятельности скифов мы черпаем из письменных источников (греческие и римские историки) и из данных археологии, которые дают возможность представить, как выглядели скифы.
Скифы верили, что после смерти человек попадает в загробный мир и там продолжает вести такой же образ жизни, как и на земле: ест, пьет, ездит верхом. Поэтому в могилы помещали самый разнообразный инвентарь. В зависимости от степени богатства умершего в могилу укладывались те вещи, которыми пользовался человек при жизни. Наиболее богатые погребения сопровождались захоронением умерщвленных жен или наложниц, слуг и лошадей. Знатных воинов хоронили с оружием и в доспехах.
Военная культура скифов. Военная культура составляла основу скифского общества. Скифы считались лучшими конными воинами античного мира. Основу комплекса вооружения скифского воина составляли сложносоставной лук, метательные дротики и копья.
Скифы довольно широко использовали защитное вооружение. Скифские панцири чаще всего были чешуйчатыми, имели кожаную основу, обшитую металлическими, реже бронзовыми чешуйками. Кроме панциря в оборонительный комплекс вооружения скифов входили наножники, набедренники, набрюшники (боевые пояса), которые также были чешуйчатыми. Весьма экзотично выглядели гибкие заспинные чешуйчатые щиты, которые закрывали спину и предплечья всадника. Дополнялись оборонительные доспехи литыми бронзовыми шлемами округлой формы. Иногда использовались детали греческого производства, такие как кнемиды (поножи), шлемы, которые подвергались переделке местными мастерами. Использовали скифы и обычные щиты из толстой кожи, овальные, луновидные (пельты), которые иногда сплошь обшивались металлическими полосами. Существовали у них и кожаные шапки-башлыки, обшитые чешуйками. Бронирование лошади не производилось. Исключение составляют налобные литые бронзовые бляхи.
Скифские луки были небольшого размера (до 70 см), сложносоставные с асимметричными плечами. Лук был составлен из дерева, сухожилий и костяных накладок и склеен костяным или рыбьим клеем. Древки стрел изготовлялись из дерева или тростника, из перьев птиц. Лук и стрелы скифы хранили в специальных кожаных футлярах -горитах, которые красились очень яркими цветами и часто украшались накладными металлическими (золотыми) пластинами. В горите имелось два отделения: одно для лука, другое - для стрел. Из оружия ближнего боя скифами использовались однолезвийные боевые топоры, чеканы и топоры -клевцы, имевшие «клюв» - прямой или изогнутый боек. Мечи и кинжалы, использовавшиеся скифами, были самых различных размеров: длинные мечи доходили от 70 до 100 см, длинные кинжалы (акинаки) - до 70 см. Они имели почковидные, сердцевидные перекрестья (защита для руки). Рукоятки мечей не отличались от рукояток кинжалов. Ножны кинжалов и мечей изготовлялись из дерева и обтягивались кожей; они часто украшались накладными золотыми пластинами. В верхней части ножны имели характерную лопасть, за которую меч подвешивался к поясу. Таким образом, военная культура скифов отличалась большим своеобразием. \гкифо-персидская война. Эта война известна нам по описаниям Геродота и других древних авторов. У ученых нет единого мнения о том, насколько глубоко проникли персы на скифскую
территорию, и в каком именно месте происходило само вторжение. По некоторым данным Страбона и Геродота, можно сделать вывод о том, что персы прошли до района Бердянска (Азовское море). Ски-фо-персидская война дает блестящий образец войны «азиатского» типа, в которой великолепно были использованы преимущества кавалерии и особенности кочевого ведения хозяйства. Далее в истории можно увидеть подражание такому способу ведения войны, ложные отступления станут «классикой» войны кочевых народов, а многие приемы ведения степного боя перекочуют в арсенал казаков.
Дата похода Дария в Скифию вызывает многочисленные споры. Одни ученые называют дату от 520 г. до н.э. до 511 г. до н.э., но большинство придерживаются даты 514 год.
Дарий, желая отомстить скифам за их нападения на персидские территории, задумал окончательно решить «скифскую проблему». И стал готовиться к походу в Скифию. Весть о готовящемся вторжении персов в Скифию быстро разнеслась по всему Северному Причерноморью и другим землям, заселенным скифами. Вожди многих соседних племен и народов собрались вместе со скифами на совещание, чтобы решить, что делать ввиду угрозы вторжения войск царя Дария. Но только часть участников совещания поддержала намерения скифов выступить против персов. Понимая всю опасность открытого сражения с многократно превосходящим по численности и опыту персидским войском, скифами было принято единственно правильное решение - не давать сражение, а, разделившись на два отряда, отступать, заманивая противника вглубь территории. Отступая, скифы уничтожали траву и засыпали колодцы и источники воды. Один из скифских отрядов возглавил царь Скопасис, а второй состоял из двух частей под главенством Иданфирса и Так-сакиса. Отряд под предводительством Скопасиса должен был отступать вдоль озера Меотиды (Азовское море) к реке Танаис (Дон), заманивая персов. Второй отряд выполнял такие же задачи. По сообщениям Геродота, персы, преследуя скифов, перешли Дон и вторглись в земли савроматов, затем снова вернулись в Скифию. Дарий со своими воинами устал гоняться за скифским войском. Он обратился к Иданфирсу с предложением принять бой, если скифы считают себя достаточно сильными. Если же скифы боятся, то они должны подчиниться персам. Ответ Иданфирса был насмешлив: персам предлагалось отыскать в бескрайних степях Скифии могилы скифских предков и разорить их, лишь в этом случае скифы обязательно дадут персам сражение, а при других обстоятельствах скифы будут сражаться, когда им заблагорассудится.
Скопасис, соединившись с Иданфирсом и Таксакисом, решил проводить такую тактику. Отныне скифы нападали на персов при любом удобном случае, и днем и ночью. Особенно доставалось персам, когда они посылали отряды на добычу продовольствия. Скифская конница обращала в бегство персидскую кавалерию, та спешила скрыться за боевыми порядками своей пехоты, которая использовала огромные, в рост человека, плетеные щиты. Скифы изматывали персов постоянными нападениями как «комариными укусами», доводя их до бешенства. Скифы, будучи прекрасными стрелками из лука, буквально засыпали персов дождем стрел. Новый, решающий этап войны был ознаменован получением персами от скифов своеобразного ультиматума. Это было послание, состоявшее из птицы, мыши, лягушки и пяти стрел. Придворные Дария расшифровали это послание как выражение покорности персам. Они сочли, что мышь - это земля, лягушка - вода, птица - небо, а пять стрелпять основных скифских племен. Но приближенный Дария Горбий не согласился с мнением льстивых царедворцев, а расшифровал послание так: если персы не убегут как мыши, не ускачут как лягушки, не улетят как птицы, то скифские стрелы не дадут им пощады.
Но вот, наконец, персам удалось встретиться со скифами для битвы. Войска выстроились друг перед другом. Но вдруг перед строем скифов пробежал заяц. И грозное войско скифов бросилось врассыпную, пытаясь поймать зайца. Персы были поражены таким поведением скифов. Дарий сказал своим приближенным: «Эти люди (скифы) относятся к нам с большим пренебрежением».
Существует несколько версий относительно смысла данного происшествия. По одной версии, заяц был плохой приметой, типа черной кошки, перебегающей дорогу, а по другой - зайца необходимо было убить как залог победы, плодородия и богатства. После этого случая Дарий собрал своих полководцев на совет. Решено было тайно отступить ночью, оставив лагерь, обоз больных и раненых на милость скифов. Скифы не подозревали в течение ночи о бегстве персов, видя горящие в лагере огни и слыша крики вьючных ослов.
Взяв с собой отборное войско, Дарий поспешил к переправе через Истр, начальному пункту своего несчастливого похода. Войско спешно покинуло Скифию. Так закончился скифский поход Дария.
С III в. до н.э. савромато-сарматские племена перешли Дон и постепенно вытеснили скифов на запад. Война несколько раз обострялась. С 189 г. до н.э. сарматы начали войну на истребление и оттеснили остатки скифов в Крым. Древняя легенда. Савроматы и сарматы были практически единым народом. Существует легендарная версия о происхождении савроматов, изложенная Геродотом. Воинственные женщины-амазонки потерпели поражение в битве с греками у р. Териодонт. Греки, захватив в плен оставшихся в живых амазонок, на трех кораблях отправились в обратный путь. В открытом море амазонки подняли бунт, напали на греков и перебили их. Однако выяснилось, что никто из женщин не может управлять кораблем. Дальнейшее путешествие происходило исключительно по воле волн и ветров. Наконец, когда амазонки были окончательно измотаны, на горизонте появился берег. Корабль прибило к северному побережью Меотиды. Амазонки высадились неподалеку от города Кремны, недалеко от р. Тана-ис (Дон). Переправившись через Танаис и продолжив свой путь, через три дня они прибыли на местность, где и поселились.
В дальнейшем амазонки, захватив лошадей, стали совершать дерзкие набеги на скифов. В ответ на это скифы, пораженные мужеством женщин-воительниц, подослали молодых людей с целью познакомиться с амазонками и сделать их своими женами. Скифы решили, что дети от этих браков будут сильными и воинственными. Амазонки не пожелали отправиться со своими мужьями на прежние стойбища скифов. Они ушли на новые земли, где стали жить отдельно от прочих скифов, дав начало новому народу - савроматам (что означает «женоуправляемые»). Женщины этого народа не утратили своих воинственных привычек. Они ездили верхом, ходили на охоту, сражались с соседями. Девушка, не убив врага, не могла рассчитывать выйти замуж. Женщины носили мужскую одежду. Вооружение сарматов. Комплекс вооружения сарматского воина чрезвычайно сложен и разнообразен. На ранних этапах он не сильно разнится от скифского, но в дальнейшем претерпевает существенные изменения. Сарматы-аланы принесли с далекой прародины Притяныпанья систему боя, в которой ведущая роль отводилась атаке кавалерии. Внешне многие детали вооружения сарматских воинов были похожи на парфянские и кушанские.
Наиболее известной деталью вооружения был длинный сарматский меч. Существует даже мнение, что именно длинный меч позволил сарматам вытеснить скифов. Мечи и кинжалы с кольцевым навершием имели длину от 20 до 70 см и больше, наиболее распространенные - 50-60 см. Они вкладывались в ножны, которые чаще всего окрашивались в красный цвет.
Мечи и кинжалы без металлического навершия (с каменным навершием) характерны для позднего периода. Мечи довольно длинные, в среднем от 70 до 112 см. Все мечи были двулеззийные.
Длинный и короткий меч традиционно носили в паре. Короткий меч крепился справа на поясной портупее. Ножны короткого меча имели четыре лопасти-выступа, к которым крепились ремни - два к поясу, а два фиксировали короткий меч к ноге. Длинный меч носился слева и подвешивался с помощью скобы (иногда нефритовой) также на поясной портупее.
И легковооруженные и тяжеловооруженные всадники сарматов пользовались сложносоставными мощными луками, усиленными костяными или роговыми накладками. Подобные луки изготовлялись в течение многих лет и стоили целое состояние. Длина луков колеблется от 120 до 160 см. Дальнобойность луков была очень велика. Стрелы этих луков имели железные черенковые трехлопастные наконечники. Лук и стрелы хранились в специальном кожаном футляре — горите.
Копья среди наступательного оружия сарматов встречаются в захоронениях крайне редко. Предполагается, что это было длинное, до 4 м, копье с большим наконечником.
Кроме того, по письменным источникам известно, что сарматы пользовались арканами.
Из защитного вооружения сарматы могли использовать чешуйчатые доспехи или позаимствованные у римлян кольчуги. Но археологически известны лишь единичные находки оборонительного доспеха. Шлемы также редко встречаются в сарматских захоронениях, хотя они известны но изобразительным источникам. Гаскол сарматов. Аланы. Сарматы господствовали в Причерноморской степи около 700 лет. Подобно скифам, они занимались земледелием и отгонным скотоводством, были полуоседлым населением. Сарматы долго и с выгодой торговали с римлянами хлебом.
В начале нашей эры сарматы раскололись на несколько племенных союзов. Одни - роксаланы,что в переводе означает «блестящие», «сияющие аланы», и языги потрясали границы Римской империи на Дунае. Другие - аланы - господствовали на Дону и Северном Кавказе. Историк Аммиан Мар-целлин писал об аланах: «Постепенно ослабляя соседние племена частыми над ними победами, они стянули их под одно родовое имя».
Аланы занимались скотоводством и земледелием, имели высокий уровень развития ремесла и искусства. Их культура была продолжением старой скифской культуры.
В военном деле они продолжали традиции сарматов и парфян — всадники в чешуйчатой броне с длинными копьями тесным строем бросались на врага и опрокидывали практически любого противника. Легкая конница была вооружена луками. У алан существовал обычай: сдирать кожу убитых врагов и использовать ее в качестве попоны для седла. Как украшение к седлу прикреплялись головы поверженных врагов. В III в. н.э. аланы были оттеснены с правого берега Дона готами.
Ворота в Европу
В I тысячелетие н.э. причерноморская степь стала как бы проходными воротами из Азии в Европу. Ни один народ, влекомый волнами великого переселения, не задержался здесь надолго.
готы. Во II в. готы,германоязычный народ, оставили юг современной Швеции, пересекли Балтийское море и двинулись на юг, покоряя лежащие на их пути территории. В 211 - 217 гг. они достигли Черного моря и стали теснить потомков сарматов - алан. К середине III в. готы закрепились в Причерноморье, оттеснив алан на левый берег Дона.
Готы, выйдя в причерноморские степи, так и не стали настоящими кочевниками. Опираясь на опыт своих предков-скандинавов, они создали на Черном море свой флот, состоящий в основном из кораблей, захваченных у греков и римлян, и морским разбоем опустошили Черноморское побережье.
Однако Дон был лишь пограничной рекой для готов, центр их активности был гораздо западнее. Своего внешнего могущества готы достигли в середине IV в. при короле Германарихе. Созданная Гер-манарихом держава простиралась от Балтийского до Азовского моря, от Дона на востоке до реки Тисы (в Венгрии) - на западе. Во главе державы стояли остроготы, им подчинялись родственные визиготы, гепиды и герулы, которые помогали держать' в подчинении языгов, росоманов, венедов и многие другие народы (всего 13 племен) гунны. В 158 г. на Волге и Нижнем Дону впервые появляются отряды гуннов. Далеко на востоке, у рек Орхона и Селенги, к северу от Китая, их племена были разбиты предками монголов и рассеялись, а наиболее крепкие воины, которых манили степные просторы, военная добыча и почести за подвиги, отправились на запад, прошли тысячи километров и вышли к Дону. В первых столкновениях с аланами гунны были разбиты и отошли обратно в степь за Волгу, где кочевали около 200 лег, набираясь сил и роднясь с другими кочевыми народами.
Окрепнув, они из-за пастбищ вновь вступили в конфликт со своими соседями - аланами. В 360 г. началась гунно-аланская война. Готский историк Иордан писал о гуннах: «Аланов, хотя и равных им в бою, но отличных от них человечностью, образом жизни и наружным видом, они ... подчинили себе, обессилив частыми стычками». К 370 г. аланы проиграли войну. Они отошли в предгорья Кавказа, очистив левобережье Дона, а часть, продолжая сражаться с гуннами, откатилась в Европу и, со временем дошла до современной Испании.
На правом берегу Дона гуннов ждал со всей готской армией Гермаиарих. Но гунны в 371 г. вышли на Таманский полуостров, переправились оттуда в Крым и вышли в тыл готскому войску. Готы были разгромлены. «Одних ловили и избивали вместе с женами и детьми, причем не было предела в( жестокости при их избиении; другие, собравшись вместе, обратились в бегство». Германарих в 375 г, покончил с собой. Часть готов покорилась гуннам, часть продолжала бороться с ними. И те и другие откатились из донских степей на запад. Гунны двинулись дальше на запад, но до 412 г. контролировали степи на правом берегу Дона. Аммиан Марделлин так описал гуннов, появившихся в Европе: «Дикость их нравов безгранична... Они похожи на животных или грубо отесанные чурбаны... Они ловки и лошади у них быстры... Они
как будто приросли к своим некрасивым, но крепним лошадям и делают все свои обыкновенные дела, не слезая с них; день и ночь... сидя верхом, покупают и продают, едят и пьют, даже спят, наклонившись к шее лошади. На общественных собраниях они тоже не слезают с лошадей... Они кочуют как скитальцы на своих телегах; эти телеги - их жилища, там сидят их жены... ткут грубую одежду и держат подле себя детей... Издали они бьются, бросая дротики и пуская стрелы, наконечники которых искусно сделаны из заостренных костей... накидывают на врага арканы и делают его беззащитным...»
В Европе гунны приложили руку к окончательному разгрому Римской империи, объединили под своей властью многие народы, но после смерти своего вождя Аттилы втянулись в междоусобные войны. Многие их воины погибли. Часть гуннов вернулась на правобережье Дона и в низовье Днепра, но здесь они были разбиты сарагурами, оногурами и урогами - предками болгар, кочевниками, пришедшими сюда с востока в 463 г. Остатки гуннов ушли за Днепр, а затем за Дунай. Господство над причер-номорскими степями перешло к болгарам. Ъолгары. Вышедшие из Западной Сибири тюркоязычные болгары не создали в причерноморской степи единого государства. Они разделились на две ветви: восточные болгары - утургуры кочевали по левому берегу Дона, западные болгары-ку-тургуры - по правому берегу, они владели всей степью от Дона до Дуная. Обе ветви враждовали друг с другом. В результате они попали в зависимость от соседних государств.
В 551-560 гг. оседлый народ хионитов, принявший название «авары», был вытеснен соседями из района Сырдарьи и перебрался на Дунай, где на территории современной Венгрии в союзе с некоторыми народами основал новое государство - Аварский каганат. Аварский каганат начал завоевательные войны и покорил западных болгар-кутургуров. Восточная граница Аварского каганата стала проходить по Дону.
В VI в. на склонах Алтая был создан Великий Тюркский каганат во главе с ханом Тумыном. Младший брат Тумына, хан Истеми, во главе войска был послан подчинить западные степи. Он дошел до Дона и берегов Черного моря. В результате войны 558—574 гг. болгары-утургуры, жившие между Доном и Кубанью, признали его власть и вошли в состав каганата. Границей между Аварским и Великим Тюркским каганатами стал Дон. В 627 г., когда авары воевали с Византией, бол-гары-кутургуры восстали против них. Но в 631 г. авары жестоко подавили восстание. Остатки кутургуров ушли за Дон и объединились в 633 г. с утургу-• рами. Но и на левобережье Дона было неспокойно.
В начале VII в. Великий Тюркский каганат распался, левобережье Дона вошло в состав нового Западного Тюркского каганата. В каганате началась борьба за власть между племенными союзами. В 659 г. Западный Тюркский каганат пал под натиском врагов с востока. На его окраинах, особенно в междуречье Волги и Дона, борьба между племенными союзами усилилась. Около 670 г. болгары были разбиты хазарами, раскололись и откочевали - кто на Каму, кто на Дунай, кто в Венгрию. Территорию на донском левобережье взяли под свой контроль хазары.
Хазары. Хазары изначально жили в низовьях Терека и Волги и не были кочевым народом. Они занимались рыбной ловлей, скотоводством и виноградарством. В VI в. хазары попали под власть Великого Тюркского каганата. С 650 по 810 г. в Хазарии правили тюркские ханы из династии Аши-на, опиравшиеся на дружины, состоявшие из тюрок. Когда Западный Тюркский каганат был захвачен и раскололся, хазары и тюрки продолжали жить по соседству в одной стране, подчиняясь одному хану. Образовалась самостоятельная Хазария, границы которой доходили до Дона. Лрабо-хазарские войны. В начале VII в. арабы, стремясь расширить свои владения и распространить новую религию - ислам, вели активные завоевательные походы. К 643 г. они захватили Сасанидский Иран (Персия) и вплотную подошли к хазарским владениям, а затем неожиданно совершили глубокий рейд во владения каганата. Совершив разведку боем, арабы вернулись.
Но в 654 г. арабы начали новое наступление. Часть арабских воинов захватила Армению и Грузию, а другая двинулась во владения Хазарского каганата — к городу Беленджеру. Арабы осадили город, но подоспевшие на помощь «тюрки»-хазары ' атаковали арабов, убив их полководца и 4 тыс, воинов. Натиск арабов был отбит. Учтя урок первой войны, хазары перенесли столицу дальше на север.
Хазары вели активную завоевательную политику. К 684 г. относится одно из наиболее крупных нашествий хазар на Закавказье, где власть халифата стала номинальной. Многочисленные пограничные конфликты с арабами привели к новой войне (722-737 гг.).
Арабский полководец Джеррах получает приказ вторгнуться в пределы каганата. Сын кагана с 40 тыс. человек дал сражение арабам, войско которых насчитывало 25 тыс. человек, но хазары потерпели сокрушительное поражение. Двинувшись дальше, арабы столкнулись с сильным сопротивлением хазар, которые пытались остановить продвижение арабов в полевом сражении с помощью лагеря, окруженного связанными телегами. Но арабам удалось растащить баррикаду и разгромить хазар.Джеррах продолжил поход, насколько возможно, но узнав, что хазары подготовили новую армию, ушел из пределов каганата. В 724 г. Джеррах одолел соседей хазар - алан и обложил их подушной податью. Аланы оставили насиженные места и двинулись подальше от арабов - на север в верховья Северского Донца и Дона. Военные действия между арбами и хазарами велись почти без перерыва. В 727 г. поход в Хаза-рию возглавил арабский полководец Маслама, не знавший поражений. Но он, гоняясь за хазарской армией, так и не смог ее настигнуть. То же повторилось и в 728 г. В ответ на это хазары совершают набеги на арабские владения в 729 г. В 730 г. в Закавказье хазары разгромили арабскую армию и учинили жуткую резню, уничтожив всех мусульман, которые могли носить оружие. Слух об этой ; «победе» хазар разнесся по всей Азии и Византии. Поход арабов на хазар 732 года получил в литературе название «грязный?. Арабский полководец Мерван вынужден был повернуть свои войска обратно, так как лившие почти без перерыва дожди превратили дороги в сплошную грязь. Арабам пришлось отрезать хвосты у своих лошадей, так как они были залеплены грязью и мешали им двигаться. Арабы вернулись, что называется, «не солоно хлебавши». В 737 г. арабы предложили мжр хазарам. Хазары направили послов для его заключения, но Мерван захватил посла и, подготовив армию численностью в 150 тыс. человек, вторгся в Хазаршо двумя путями, объединив затем обе армии на р. Терек. Вторжение арабов было полной неожиданностью для хазар. Каган бежал на север, надеясь там собрать войско для отпора врагу.
Арабы продолжали преследовать хазар и, пройдя внутреннюю Хазарию, дошли до реки Дон. Теперь хазары отходили по одному его берегу, а арабы преследовали их по другому. Арабский полководец Мерван неожиданно по понтонному мосту переправил отряд своих воинов на другой берег, где разведчики напали на хазарский отряд и во время схватки убили хазарского военачальника - Тархана. Это окончательно деморализовало остатки хазарской армии.
Каган, узнав о случившемся, запросил у арабов мира. По условиям мира каган, бывший до этого язычником, должен был принять ислам. Став мусульманином, каган признавал свою зависимость от Арабского халифата.
Арабское войско вернулось в Закавказье. Хазарский каган, побыв какое-то время мусульманином, вновь вернулся к язычеству. Зависимость от халифата оказалась чистой формальностью. Ни у арабов, ни у хазар уже не было сил и ресурсов для продолжения войны. Хазарский каганат восстановил независимость, но силы хазар были подорваны. Хазарский каганат в эпоху его могущества. Чтобы выстоять в борьбе с сильными врагами, Хазария в 773 г. объединилась с Аланией, Таким образом, было создано единое государство. В VIII в. верхушка хазар приняла в качестве религии иудаизм. Она заимствовала его от еврейских купцов, пришедших в Хазарию из Персии и организовавших там крупнейший центр работорговли. Иудаизм распространялся медленно. В 20-х гг. IX в. от Хазарии откололись некоторые племена, которые не захотели менять язычество на новую религию, а также Крым, где была распространена православная религия. В 866 г. иудаизм окончательно стал господствующей религией хазарской верхушки.
Работорговля требовала нового притока «живого товара», и Хазария начала завоевательные войны. В то же время хазары вынуждены были защищаться от кочевых племен, которые совершали набеги на каганат. С севера угрожали мадьяры (угры), с востока - канглы (печенеги) и гузы (тор-ки). В 834 г. византийский инженер Петрона Кама-тир построил для хазар на их западной границе, на берегу Дона, крепость Саркел, как защиту от мадьяр и усиливавшихся на Днепре славян. В городе был поставлен гарнизон из наемников, печенегов или торков.
Во 2-й половине IX в., прикрываясь Саркелом, хазары заселили террасы Нижнего Дона, стали разводить здесь виноград. Хозяйственная деятельность на Дону активизировалась. В 860 г. хазары, жившие здесь, приняли православие. В это же время, опираясь на Саркел, хазарские войска вышли к Днепру ж наложили дань на славянские племена. В IX и X вв. Хазарский каганат вел завоевательные войны, имевшие целью расширение подвластной территории, захват пленных и обращение их в рабство. Однако в 965 г. русский князь Святослав в союзе с печенегами спустился на ладьях вниз по Волге, напал на столицу каганата - город Итиль, разгромил его, перебил хазарскую знать и разогнал работорговцев. Одного удара хватило, чтобы каганат распался. Святослав спустился по Волге в Каспийское море, затем поднялся в верховья Терека, а оттуда через кубанские степи вышел к Дону и захватил Саркел. В городе был оставлен русский гарнизон, и на протяжении конца X в. и весь XI в. течение Дона до Азовского моря контролировалось русскими. Саркел был переименован в Белую Вежу. Степи по берегам Дона временно заняли печенеги.
Печенеги. Печенеги вместе с гузами кочевали в заволжских степях, периодически совершая набеги на хазарскую территорию. Хазары, в свою очередь, натравливали гузов и печенегов друг на друга и на мадьяр, которые в это время вышли в верховья Дона. В 822-826 гг. печенеги по наущению хазар выбили мадьяр с донских берегов и оттеснили к Днепру. В 889 г. гузы, вступив в союз с хазарами, отогнали туда же самих печенегов. Печенеги стали кочевать по правому берегу Дона и продолжали воевать с хазарами и мадьярами. В 897 г., дождавшись, когда мадьяры ушли в набег на Паннонию (современная Венгрия), печенеги напали на их стойбища, перебили их жен, детей и стариков. Вернувшиеся из похода мадьяры не нашли ничего лучше, как отправиться обратно в Паннонию и образовать там в союзе с местным населением (только что разбитым и ограбленным) новое государство. А печенеги распространились от правого берега Дона до Дуная. В 915 г. они впервые вышли к границам русских княжеств.
Выйдя в причерноморские степи, печенеги оказались между тремя сильнейшими государствами -Хазарией, Византией и Русью. Эти государства подкупали печенегов и натравливали их на соседей. Так, в 965 г. в союзе с русским князем Святославом печенеги разгромили хазар, а через некоторое время, после неудачного похода Святослава на Византию, убили Святослава. После развала Хазарского каганата печенеги захватили степи по левому берегу Дона и в течение короткого времени были основным кочевым населением от Волги до Дуная.
Тогда же в X в. раскололись соседи и враги печенегов гузы. Часть из них приняла ислам и стала называться «туркменами», часть прошла верховьями Дона и поступила на службу к русским князьям в качестве вспомогательной конницы и пограничной стражи. В русских летописях они известны под именем «торков» и «берендеев». Вместе с русскими торки отбивали набеги печенегов и ходили в ответные набеги в степь.
Метки: казачество русские традиции казаков |
Особенности казачьей архитектуры |
Дневник |

Особые военно-исторические и природно-климатические условия на Дону выработали у казаков особый тип строительства жилых и хозяйственных построек. Донские казачьи станицы имели архитектурные отличия от других населённых пунктов российской империи. Показательна в этом плане станица Раздорская. Несмотря на тяжёлые социальные потрясения, выпавшие на её долю в советскую эпоху, в станице сохранились казачьи курени, флигели, дома торговых казаков, учебные и административные заведения конца XIX - начала ХХ веков. Они до сих пор хранят в себе дух казачьей старины.
В работе В.Д.Сухорукова «Статистическое описание земли войска Донского, составленное в 1822-1832 гг.» содержатся сведения о станицах Первого Донского округа:
<...>
2. Все дома содержатся в отличной чистоте даже у самых бедных казаков.
3. Большая часть домов покрыта камышом и соломой. Чиновники строят себе дома хотя и маленькие, но всегда красивые, о четырёх, пяти и шести комнатах. Покрывают лубом, тёсом, иногда железом.
4. Каждая станица имеет более или менее исправные пожарные принадлежности.
5. Лучшие станицы сего округа: Раздорская, Кочетовская, Мелиховская, разумеется по устройству домов и чистоте улиц».
С.Номикосов на период конца XIX века так описывает внешний вид и планировочные особенности казачьих построек низовых станиц: «Жилища в казачьем населении Области весьма характерны. Казаки называют свои дома куренями. Это домики городской архитектуры снаружи, с оригинальным внутренним расположением. Казачий дом весьма характерен. Он всегда снабжён рундуком - род навеса на столбах или крытого балкона, по большей части с той стороны дома, где находится входная дверь; если нет рундука, то во всяком разе есть открытое крылечко с перильцами…
Двор казака далеко не всегда содержится с такой чистотою, как дом, и низовые казаки в этом отношении, далеко неряшливее верховых, у которых усадьба выглядит всегда хозяйственнее, домовитее. У казака-земледельца невдалеке от дома находится амбар, один или два смотря по зажиточности; далее следует сарай, в котором помещаются сельскохозяйственные орудия, а затем базы или загоны для скота с особым катухом для свиней и овчарником для овец. Надворные постройки и сама ограда строятся из подручных материалов: камня, лесу, самана, хворосту и т.д.
Самобеднейшие из казаков устраивают свои хижки таким образом: основа из тонкого дерева вершков двух в отрубе заплетается камышом, а затем стены, пол и потолок обмазываются глиной и жилище готово. У таких бедняков, кроме хижки, на дворе обыкновенно никаких более построек не бывает».
Казачий курень
"Мой дом – моя крепость" – казаки с полным основанием могли бы подписаться под этим изречением. Казачье жилище совмещало в себе и место обитания, и оборонное сооружение. Кроме того, в нем явственно прослеживаются черты самобытной древнейшей истории. Казачий курень – еще один довод против теории о происхождении казачества из беглого населения России.
Попытаемся рассмотреть альтернативную ей версию при помощи описания жилища казаков.
На Дону, на Днепре, на Кавказе, на Тереке люди жили с древнейших времен. Самым простым жилищем была полуземлянка, крытая камышом или соломой. Степняки – кочевники жили в "кибитках" (юртах) или в балаганах. Такие шатры – балаганы до сих пор ставят казаки на покосах или на полевых станах. Курень в классическом, древнейшем, забытом уже во времена половцев и неизвестном казакам виде – это шестигранная или восьмиугольная бревенчатая юрта, которая до сих пор встречается в Якутии.
На конструкцию традиционного казачьего жилища, которое они называют куренем, повлияла речная культура Нижнего Дона и Прикавказья, одинаковыми приемами строительства роднящая эти далекие друг от друга места с Дагестаном и Прикаспием.
Первые поселения возникали в плавнях – речных камышовых зарослях, где землянку не выкопаешь – вода близко. Поэтому жилища делали турлучные. Стены плели из двух рядов прутьев или камыша, а пространство между ними для тепла и прочности заполняли землей. Крыша была, безусловно, камышовая, с отверстием для выхода дыма. Но жить в таких сооружениях можно было тоже не везде. Широкие, многокилометровые разливы рек требовали особых построек – свайных. Воспоминания о них сохранилась в названиях. "Чиганаки" – это и есть постройка на сваях. А жили в них люди племени "чигов". Не случайно, видно, верхнедонских казаков дразнят "чигой востропузой".
Черты свайной постройки легко читаются в современном казачьем жилище. Казачий курень – двухэтажный. Скорее всего, это не выросший до второго этажа "подклет", а воспоминание о сваях, на которых когда-то стояли жилища. Древнейшие поселения хазар располагались в низовья рек. Да и совсем недавно еще в Черкасске весной и осенью казаки ездили, друг к другу в гости на лодках, а сам городок в периоды разливов был непреступен.
Современный курень – двухэтажный, "полукаменный", то есть первый этаж – кирпичный (прежде – саманный, из кирпича–сырца), второй - деревянный. Чем дальше на север, тем первый этаж ниже. А на Северском Донце он уже больше похож на подвал, хотя характерные черты казачьей постройки видны и здесь. Первый этаж, как правило, не жилой, а хозяйственный. Считалось, что "жить нужно в дереве, а припасы хранить в камне".
Но уже в начале XX века хозяева куреней спешно убирают верхний этаж. Это было связано с раскулачиванием донских казаков (1929). Такой дом был менее заметным и менее броским. После войны строили дома из деревянных пластин позднее – кирпичные, в которых практически не осталось элементов казачьего куреня.
Название "курень" – монгольское. Слово "куриться", то есть пускать легкий дым, к которому иногда возводят название казачьего жилища, не имеет к нему никакого отношения. Слово "курень" означает "круглый", еще шире – "гармоничный", если попробовать "расчленить" это слово и перевести, то вот, что получится: "куря" – круг, стойбище, расположение комнат в таком доме шло по кругу. Монголы куренем называли кочевья, окруженные телегами. Куренем же называли и отряд, оборонявший этот укрепленный лагерь. В этом значении слово бытовало у запорожцев. Куренем у запорожцев и у кубанцев назывался полк.
Донские историки, занимавшиеся проблемой происхождения куреня, пришли к выводу, что курень – по типу постройки, новгородского происхождения, обычная окраска его в желтый цвет установилась, вероятно, преемственно от новгородцев.
Часто можно услышать высказывания знаменитостей о красоте казачьих станиц, основу которых составляют дома казаков – курени.
Вот, например, что сказал Ф.Крюков о Старочеркасске: "Поблизости к собору он напоминает до некоторой степени город: дома каменные, двухэтажные, довольно красивые. ...Но чем дальше я уходил от собора, тем более Старочеркасск превращался в самую обыкновенную низовую станицу: выкрашенные в желтую краску домики на высоких деревянных фундаментах, или с "низами", т.е. с нижним полуэтажом, с деревянными галерейками ("балясами") кругом, тесно лепились друг к другу, густая зелень маленьких садиков выглядывала на улицу через живописные развалины плетней..."
Путешествуя по Дону, Ф.Крюков не оставил без внимания и другие станицы. "...Мы подъезжали к станице Раздорской. Вид – необычный, небольшие домики, крытые тесом, железом, камышом, неправильно разбросанные по гористому берегу, желтые с белыми ставнями и белые с желтыми..."
А вот как отзывался о донских куренях В. Воронов: "...В палисадниках среди зелени и цветов – голубая диковинная резьба наличников, настоящая русская кружевная вязь, как во владимирских или ярославских деревнях..."
СТРОИТЕЛЬСТВО КУРЕНЯ
Прежде чем рассматривать архитектурные особенности и внутреннее убранство куреня целесообразно ознакомиться с этапами его строительства.
Строительство куреня начиналось с укладки фундамента, основным компонентом которого являлся ракушечник или песчаник. Также незаменимым элементом служила строительная глина, скрепляющая их. Фундамент постепенно переходил в стены первого этажа, то есть низов. Второй этаж был деревянный. Верхняя часть дома рубилась из местного леса: дубового, тополевого, ольхового, но бревенчатые стены встречались чрезвычайно редко: обыкновенно ствол обтесывали с четырех сторон и даже распиливали на толстые пластины; щели забивали глиной, обмазывали глиной снаружи и белили.
Появился тип "круглого дома", в три – четыре окна на улицу, одна стена чаще бывает просто глухая. Непременно особенностью казачьего куреня является балкончик и "галдарея", т.е. забранный досками наружный коридор. Балкончик, которым опоясан весь дом, у казаков называется – балясником. Не случайно, про женщин, которые сплетничали на таком балкончике, говорили, что они "лясы точат". Он служил для того, чтобы удобно было открывать и закрывать ставни. А так же для того, чтобы удобно было гостям, наблюдать в окнах семейные праздники (свадьбу, проводы) и далее вести беседу (сплетничать) о гостеприимстве хозяев. Крытое крылечко – рундук ведет с балясника в галдарею, куда вела внешняя лестница с парадным резным крыльцом с навесом наверху.
Во второй половине XIX столетия на карнизах, фронтонах, стойках крыльца и других деталях появился резной орнамент с очень сложным геометрическим рисунком, основу которого составлял характерный в донском казачьем прикладном искусстве мотив – виноградный ус, виноградная лоза.
Резьбой покрывалась Широкая доска, которая прибивалась на фасаде под свесом крыши. В больших станицах уже в конце XVIII – начале XIX столетия стали строить вместо рундука балкон и крыльцо с резными стойками. Окна делились на две равные части: верхнюю – неподвижную и нижнюю – подвижную, которая по пазам поднималась вверх и закреплялась в нужном положении палочкой. Если посмотреть на казачий курень, то можно увидеть очень много окон, которые придают отличие казачьему куреню от великорусских и малорусских жилищ. Следует отметить, что окна располагались не только на втором этаже, но и на первом, в зависимости от вида куреня. Если первый этаж предполагался быть не жилым, то окна были лишь на втором этаже, а роль окон в низу выполняли небольшие отверстия, которые создавали сквозняк, необходимый для хранения продуктов. Общее количество окон в курене может достигать от 10 до 20. Снаружи окна закрывались одностворчатыми навесными ставнями, для которых так же характерны тонкие декорированные композиции. Окна обычно украшены резными наличниками. Из дерева выпиливали разнообразные фигурки, которые не только украшали, но и выполняли роль оберега (т.к. казаки были суеверны): должны были защищать от злых сил, чар и колдовства недобрых людей. Особо затейливой резьбой декор казачьих куреней, однако, не отличается; казаки не плотники, а наемным плотникам некогда было заниматься тонкими работами.
Крыша куреня была четырехскатная, некрутая – градусов около тридцати. Крышу крыли камышом, чаканом, соломой, а позднее железом. Во избежание пожара, выровненный «под гребешок» или «под щетку» сноп ржаной соломы, перед тем как уложить на крышу, макали в глиняный раствор. «Под гребешок» крыли камышом. И ныне жив этот способ. «Изогнутый похоже на рессору, с крупной чесалкой на выпуклой стороне. В прочесанном им камышовом снопе камышины лежали ровные, как струны, крыли с низу кверху, напуская на треть верхний ряд на нижний, иногда перевязывая снопы и всегда притужая жердями. Такая струнчатая крыша с тысячами камышовых отверстий, любимых ветром и пчелами, придавала дому неповторимый вид. Вершились четыре ската на прорез, как пальцы сквозь пальцы, щегольски.
Итак, дом готов. Готовый дом мазали. По стенам вбивали мелкие колышки: в щели, в трещины – чтобы лучше держалась обмазка. Позднее появилась клинцовка, решетовка – набитый – крест–накрест прутняк, а там и дранка. На обмазку глину замешивали с навозом, но без соломы; навоз был предпочтительный конский – сухой, рассыпчатый. Мазался сразу весь дом, поэтому звали много женщин.
Вымазанный, дом обычно стоял сутки. Затем две-три женщины подмазывали, затирали трещины, выглаживали неровности.
В дальнейшем у доброй хозяйки дом был, как конфетка. Она сама его «мазикала» каждый год жидкой глиной. Со временем обмазка приобрела каменную крепость.
Чердаку (полатям) окна не полагались. Всходили туда по капитальной лестнице из прихожей. Лестница упиралась в оконышко в потолке, закрытое дверкой. Откидывая дверку вверх и на сторону, отворяли дорогу на полати свету. Его вполне хватало, чтобы не перепутать золотое ожерелье лука с цинковой, панучей связкой вяленых лещей. Всё на чердаке распределялось относительно дымохода и трубы, столпа. Сухо пахнувшие кирпичом и глиняной обмазкой горизонтальный дымоход (лежень) и труба венчали собой двухуровневую отопительную систему.
После того как дом был «помазан» - его красили. Три цвета принимала старобытная казачья душа: голубой, синий, желтый.
Синька с мелом давала голубой и синий цвета. Желтая глина – желтый.
Глиной желтили также деревянные стены внутри и деревянные полы - «мосты». Первоначально деревянные полы не красились. Хозяйка «банила» их песком, с кирпичом, а после натирала глинкой. Просохшие, они светились теплой солнечной желтизной. Деревянные стены каркасных и саманных построек красили в белый цвет, а ставни – в желтый. Часто ставни и карнизы делали синими.
Все эти цвета гармонировали с разноцветным степным многотравьем, желтыми головками подсолнухов, белыми облаками на открытом широком просторе голубого донского неба.
Итак, с точки зрения архитектурного строительства курень готов. Но прежде чем перейти к изучению внутреннего убранства, рассмотрим несколько видов куреней. Деление которых, связанно с их архитектурными особенностями.
Архитектор С.И.Куликов, исследуя народное жилище Дона, показал, как постепенно шло развитие жилища от землянки с глинобитными полами, составляющей из одной теплой комнаты – избы, и холодных сеней – чана, - до многокомнатных жилых домов.
Сначала строили курени, состоящие из двух комнат, – прихожки и горницы - разделенных между собой печью. Такой дом получил название «пятистенок», потому что, кроме четырех наружных стен, в нем была внутренняя, разделявшая комнаты. К такому дому примыкали сени, чулан и галдарея.
С разделением первой комнаты на две – прихожку и стряпную – возник трехкомнатный курень, или круглый дом, получивший самое широкое распространение. Сени использовались как кладовка. В прихожке стояли топчан и табурет с ведром воды, над топчаном висела жердочка для полотенца. Такие виды куреней выделил С.И. Куликов, а исследователи донской народной архитектуры выделяют до 5-ти и более типов куреней.
1-й тип: двухэтажная постройка с 2-мя или 4-мя крыльцами, с обходной галереей на уровне 2-го этажа. Дом имел вынос карниза до 1 метра, традиционный декор по деревянным конструкциям в 3-6 рядов, крыльца с декорированными «зонтами», резными стойками и балясинами по маршам лестниц и галерее.
2-й тип: полутораэтажная постройка. Первый этаж – цокольный с хозяйственными помещениями. Обходная галерея в уровне верхнего этажа с глубокой верандой на южном фасаде, 2 или 3 крыльца, одно из них парадное, без лестничного марша к земле. Фасады с различным пластическим решением.
3-й тип: похож на предыдущий. Но отделочный вход в цокольном этаже, обходная галерея и веранда на два фасада, с южной и западной сторон.
4-й тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе. Курень имел узкий обход в уровне пола жилого этажа, бывали варианты без перил. Парадное кольцо без полумарша вниз на уличном фасаде и хозяйственное крыльцо с полумаршем во двор.
5-й тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе без обходной галереи глубокой угловой верандой, на которую выходила дверь и 2 – 3 окна. Веранда имела парадное крыльцо с "зонтом" и полумаршем в уровень земли, ориентированным на улицу.
ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО КУРЕНЯ
Первый этаж куреня традиционно называется низы. В центре низов находится комната без окон, но с небольшими отверстиями в стене. Донские казаки называли эту комнату "холодной". Веками отработанные приемы строительства позволяли так построить "холодную", что в ней постоянно дул сквознячок, остывший в окружающих эту комнату каморах. В прежние времена в холодной легко можно было наблюдать такую картину: сладко пахнут пучки трав, горы яблок, арбузов, развешанный на нитках на сквознячке виноград; вся семья собирается, расстелив кошму на прохладном глиняном полу, пьет "взвар" или ест ледяные шипящие соленые арбузы в полдень, в самую жару, когда над степью плывет в пыльном мареве жары испепеляющее солнце.
Коморы узким коридором окаймляют холодную по периметру при помощи окон – отверстий. Когда-то здесь в нишах хранилось оружие. Узкая единственная дверь (обязательно открывающаяся во внутрь, чтобы легко было подпереть ее бревном или камнем) вела на первый, заглубленный, этаж. Войти сюда можно было только по одному, согнувшись под низкой притолокой, и сразу ухнуть на две ступеньки вниз – мой дом – моя крепость.
А в старину можно было грохнуться и ниже: прямо перед дверью устраивали "ловчий погреб" – яму с колом по середине, закрытую в обычное время деревянным щитом. Враг, ворвавшийся в курень, сразу же попадал туда. Вообще, в эту часть куреня чужие не ходили. Гости обычно поднимались по широким ступеням ("порожкам") на второй этаж и попадали на "балясы" – балкон-галерею, террасу. С террасы, пройдя по узкому коридору, мы попадаем в главную комнату (зала), которая всегда была готова к приему гостей. В переднем углу этой комнаты (левом напротив входа) располагалась божница (полка или киот, т.е. остекленная рама, шкафчик для икон), имевшая несколько икон в богатых серебряных окладах (тонкое металлическое покрытие на иконе, оставляющее открытым только изображение лиц и рук). Перед божницей висела зажженная лампада (небольшой сосуд с фитилем, наполненный деревянным маслом и зажигаемый перед иконой, перед божницей).
По божнице и между самими иконами висели в маленьких пучках засушенные травы и разные украшения из цветной бумаги и колосьев. Здесь же в углу, под святым образом (иконой) стоял стол, накрытый всегда чистой скатертью. Вдоль стен располагались лавки. В домах состоятельных казаков у одной из стен ставили еще несколько стульев, или из обычного дерева, или резные с высокими спинками из ценных пород деревьев.
Все стены залы были увешены оружием и сбруей. Ружья, сабли (шашки), кинжалы, пояса с серебряными пряжками, сафьяновые мешочки для пуль. Богатство парадной сбруи зависело от состоятельности хозяина дома.
В этой комнате стоял поставчик (постав) – шкаф для размещения посуды со стеклянными дверцами, через которые хорошо видна расставленная в порядке "гостевая" посуда. В центре зала всегда стоял стол. Накрытый скатертью и всегда готовый к приему гостей. У фасадной стены в одном простенке стоял цветок, а в другом висело зеркало, и стоял на полу сундук–скрытня, окованный железом. В правом углу размещалась кровать, покрытая байковым или сшитым из лоскутков одеялом. На каждом конце кровати лежали по две взбитые пуховые подушки. На окнах над кроватью вешали ситцевые занавески. Летом такими же занавесками завешивали печь, дверные проемы. Сундук–скрытню покрывали лоскутной постилкой. Украшением комнаты служили рисунки, гравюры с изображением битв, парадов, осад крепостей, а так же семейные фотографии в деревянных резных рамках или портреты лиц царской семьи, казачьих атаманов. На подоконниках и табуретках стояли в горшках комнатные цветы. Особенной любовью казачек пользовались герань, олеандры, кадки с которыми выставлялись на балконе.
Из залы дверь вела в спальню, где стояла большая кровать с горой перин и подушек из приданого хозяйки. Эту комнату казаки называли домушкой. Около кровати висела люлька для младенца, в ней он находился до 4-6 месяцев, а затем ее заменяли на кованную из железа качающуюся люльку.
В правом углу спальни должен стоять сундук, который, как и сундук-скрытня покрыт лоскутной постилкой. В таком сундуке хозяйка дома хранила приданное, одежду, украшения.
В долгие зимние вечера хозяйка пряла пряжу, поэтому неотъемлемой частью спальни является прялка. Стены спальни, как и стены зала, были украшены фотографиями, оружием, на окнах также были цветы.
При любом количестве комнат обязательно выделялась в самостоятельное помещение кухня, или стряпная, где готовили и ели пищу. В кухне, кроме печи для хлеба, размещалась плита для приготовления пищи и полки с домашней утварью. На полках и в шкафах–поставках расставлялись кастрюли и чугунки, миски, деревянные ложки, ведра, казаны и медные объемные кубы для воды. Для приготовления и хранения пищи пользовались также глиняной посудой, которая также располагалась на полочках поставов. Глиняные сосуды имели разнообразные формы и соответственно названия: кубышки (узкогорлые сосуды с широко раздутыми боками), махотки – низкие кувшины с широким горлом без ручек, по-русски – "крынка", макитры – большие широкие горшки, кувшины – вертикально вытянутые бочковатые сосуды с зауженным горлом с ручкой, носиком, иногда с крышкой и т.д. Для придания изделиям нарядного вида их покрывали "поливой": зеленой, синей, коричневой (глазурью из свинцовой слюды и оловянного пепла).
Донские курени отличались чистотой и нарядностью. Выходя из кухни, мы вновь попадем в коридор–галерею. Вот доказательство происхождения слова "курень", то есть расположение комнат по кругу, откуда мы вошли, туда же мы и вернулись.
В коридоре-галерее хозяйка хранила сбор лечебных трав, ближе к выходу стоял сундук, на котором были ведра с водой, над ними висело коромысло, при помощи которого казачки носили воду. Тут же вдоль стен могли стоять лавки, стулья.
Вот так в чистоте и уюте жили казаки в своих куренях.
МЕБЕЛЬ ЗАЖИТОЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ДОМА
Вниманию посетителей музея предлагается интерьер одной из комнат куреня, принадлежавшего зажиточному казаку. Находящуюся в ней мебель мог себе позволить не каждый станичник, а лишь тот, у кого на это были средства. Представленная экспозиция не имела цели воссоздать интерьер богатого дома. Здесь представлены отдельные предметы из обстановки «парадных комнат». Те казаки, которые по роду своей службы бывали в «Европе», получали представление о «красивой» архитектуре и богатом убранстве дома могли позволить себе заказать «красивый» дом и мебель.
Таких в станице Раздорской было немного. На центральной улице сохранилось всего несколько таких домов. Это дом, торгового казака Г.М.Устинова, дом Терпуговых, находящийся сегодня на капитальном ремонте.
Зажиточный станичник мог привезти понравившуюся мебель из-за границы. Перед вами зеркала, среди которых, вполне возможно, присутствуют «заморские» красавицы. При изготовлении рам зеркал применялась резьба. Можно отметить сколько фантазии и любви вложили мастера в изготовление этих великолепных изделий! Каждое из них не только служило для отражения красоты хозяйки дома, оно украшало сам дом. Зеркала были распространены широко. Они были, практически, в каждом доме.
Зеркала в богато декорированных рамах ассоциируются с периодом барокко: сложные профили карнизов; в то же время присутствуют стили орнаментов из других эпох – романский стиль (геометрический орнамент) и готика (лиственный).
Также достаточно широко, распространён был в станице гардероб.
Выдавая девушку замуж, давалось «за ней» приданое. В семьях по беднее это был сундук, а побогаче – гардероб.
Громоздкую мебель везти из-за границы было не только не сподручно и дорого, в этом просто не было необходимости. В станице Раздорской жил местный мастер – краснодеревщик Самойленко Василий Петрович. Буфеты и комод, представленные на экспозиции, изготовлены здесь в 20-е годы прошлого века.
Комод, практически лишённый декора, можно отнести к так называемой «столярной мебели». Такая мебель имеет ясные очертания без подражания архитектурным формам.
Декоры буфетов, напротив, перегружены элементами, относящимися к самым разным стилям мебели. Тимпан, пилястры представляют «ренессанс», акротерионы - это «готика», филёнки – «барокко», геометрический орнамент фризов – «романский стиль».
Кресло с высокой спинкой сделано в традициях классицизма с его строгими формами.
Кресло с гнутой спинкой принадлежит к разряду «венских».
Шкаф – филёнчатые двери (рамочно-филёночная вязка применялась с поздней готики), утраченный тимпан из эпохи Ренессанса, декоративные полуколонны (принадлежность классицизма).
Часы – явно привозные. Вещь в станице достаточно редкая, доступная избранным.
Все перечисленные выше экспонаты представлены в экспозиции и посетителю становится понятно, что хотя перед нами мебель различных стилей, но от этого она не теряет своей прелести и создаёт впечатление изящества и красоты.
ДВОР КАЗАКА
Усадьбы казаков - дворы с амбарами и сараями, скотные дворы-базы содержались в чистоте и порядке.
"Каждый казак – государь с своем дворе" – говорит пословица. Если с юридической точки зрения это было действительно так, и даже атаман не мог войти во двор казака без его разрешения, все же существовали предписания, которые всеми "гражданами станичного государства" выполнялись неукоснительно.
Первым таким требованием-обычаем было: для каждой службы отдельное строение. То есть отдельно конюшня – самое дорогое строение в усадьбе (иной раз дороже куреня), как правило, каменное, кирпичное, саманное или деревянное; отдельно – коровник, курятник, свинарник, сараи, амбары.
Вторым требованием являлось наличие нескольких дворов: перед куренем – баз (тюрк. песчаный), за куренем – лавада, а сам курень – крыльцом на улицу, окнами в поле, точно как казаки ложились спать у костра - лицом в сторону врага. На задах, рядом с куренем, выращивали овощи, почти в каждом дворе – виноградники, оставшееся место обычно было занято картофелем. Площадь, которую занимал двор казака, была очень мала. Дома были расположены очень компактно, расстояние между соседними домами, особенно в центре станицы – несколько метров. Дело в том, что в старину и сейчас станичные земли – пай казаков, находились за Доном. В самой станице огороды, как их теперь называют, были базами, а фрукты и виноград выращивали в так называемых садах, которые находились на склонах бугров (холмов). Вот так казаки экономно и рационально использовали землю. Для того чтобы зимой в доме было тепло, необходимо было сделать запас угля и дров. Хранилище для дров находится за домом, а навес для угля - рядом с домом. Местом для отдыха обычно служит лавочка перед куренем, у забора, или оплетенная виноградная беседка между домом и летней кухней.
Особо нужно сказать о летних кухнях (летницы). Летницы – чисто казачья постройка, и, надо сказать, разумная. В летнице с весны до глубокой осени готовилась еда, и здесь же семья часто и кушала, что освобождало дом от кухонной толчеи и утвари. Но строительство летницы обеспечивало не только удобство в приготовлении пищи, но и уберегало курень от пожара.
Старые станицы очень часто горели. Это было связано с тем, что вся застройка была деревянной, и дома располагались на расстоянии вытянутой руки. Поэтому, стоило загореться одному дому, как от возникшего пожара выгорала целая улица, а иногда и весь населенный пункт. Казаки принимали чрезвычайные меры предосторожности, на лето все печи в домах опечатывались, и готовить можно было только в землянках или летницах. Виновников пожара выселяли из станицы.
Часто рядом с летней кухней можно увидеть небольшую примитивную печку-горнушку (горн) из кирпича под небольшим навесом. Для удобства около печи ставили стол и лавки, за которыми летом обедала семья.
Не менее важной застройкой являлся колодец "журавль" - название напрямую связано с птицей журавль, т.к. внешний вид колодца напоминает эту птицу, стоящую на одной ноге и пьющую воду. У казаков особым уважением пользовались копатели колодцев. Эта работа была сопряжена с невероятно тяжким трудом и смертельной опасностью, поэтому часто колодцы копались "по обету" – людьми, "замаливавшими грех".
Во время рытья колодца копатель не прикасался ни к вину, ни к деньгам, некоторые давали обет молчания. Станичники вскладчину нанимали музыкантов, которые играли постоянно, пока шла работа. Иногда колодезник требовал, чтобы во время работы непрерывно читался Псалтырь.
О чем думал он, пробираясь через меловые и песчаные пласты иногда на глубину 40 метров, и оплетая стенки вокруг себя ветками карагача? Что вспоминал? О ком молился? Появление воды в колодце означало, что обет исполнен и Бог простил грех дававшего обет. Но вода могла быть соленой или горькой. Поэтому каждый степной колодец был бережно хранимым чудом.
Колодцы увенчивали надписи: "Люди добрые, испейтя водицы и казаков, бедных пожалейтя, грехи им проститя и в молитвах помянитя", "Сей колодец выкопал по обету донской казак, раб божий Степан в память матери, рабы божьей, Аграфены. Воды его чисты, как материнская любовь, и бесконечны, как слезы матери моей, пролитые по мне".
Ближе ста сажень от колодца запрещалось поить коней и прогонять скотину, дорогу можно было проложить только в 300 саженях от колодца.
Все подворья казаков огорожены заборами, которые называются "Плетни" – от слова плести. Очень часто казаки сами плели эти заборы, дабы избежать шкоды животных. Их плели из лозы, которую заготавливали ранней весной. Заборы могли быть каменными – из ракушечника, песчаника.
КАЗАЧЬИ КУРЕНИ - САМОЕ ПРАКТИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
12.03.2007 10:16 | Независимая газета
Станица Елизаветинская разметалась на живописном берегу в низовьях Дона. В центре - площадь-майдан. Здесь же, по периметру, построенные задолго до революции атаманская управа, станичная больница, дом священника, женское училище, каменные дома тогдашних богатеев...
Станица Елизаветинская разметалась на живописном берегу в низовьях Дона. В центре - площадь-майдан. Здесь же, по периметру, построенные задолго до революции атаманская управа, станичная больница, дом священника, женское училище, каменные дома тогдашних богатеев... А за ними - деревянные дома-курени на сваях с камышовыми крышами и выкрашенными в голубой и зеленый цвета ставнями.
ДУХ ТУТ ОСОБЫЙ
В старину казаки строили свое жилище, не задумываясь о правильности улиц. Каждый ставил дом где хотел. Вот и перемешались все улочки и переулочки. Именно поэтому найти дорогу к старой казачке Елизавете Федоровне Прошкиной непросто.
В морозный день за окном виден застывший Дон, подвывает ветер, а здесь, в доме у 80-летней хозяйки, тепло и уютно. Жар идет от печи, которую топила еще ее бабушка. Несмотря на то что в дом проведен газ, здесь топят по старинке: считается, что от печки идет "особый дух".
В курене три маленькие комнаты и "зала" (так называет хозяйка самую большую, метров пятнадцать, комнату) с побеленными стенами и скрипучими половицами. Здесь особенно нарядно - сервант с посудой, посредине стол, застеленный вышитой скатертью, и венские стулья вокруг него, в одном углу икона с лампадкой, в другом - телевизор. На стенах повсюду семейные фотографии. Много цветов - герани, олеандры. Они, как пышный сад, растут в больших кастрюлях, аккуратно обвернутых в старые плакаты и газеты.
Вспоминая свое детство, Елизавета Федоровна рассказывает, как во время весеннего половодья заливало всю станицу. Каюки (плоскодонные лодки) сновали между куренями, а рыбу сетками ловили прямо с крыльца. Вот потому и поставили дом на сваи. А чтобы в нем счастливо жилось, при строительстве под углы положили монеты.
Жилище казаков - это курень. Есть различные толкования этого слова. Одни исследователи считают, что название казачьему дому дали "курные избы", в которых первоначально жили казаки. Другие уверены, что слово "курень" связано с казачьим Кругом, который собирался на майдане или в становой избе. А поскольку "круг" по-монгольски - "курень", то и избу, где собирался Круг, казаки тоже называли куренем.
По словам донского историка Галины Астапенко, мы не можем говорить о жилищах казаков в XVII веке как об образцах самобытной донской архитектуры. Поскольку сюда стекались крестьяне со всех уголков России, Украины и других мест, то каждый в строительство своих домов привносил что-то свое: рубили связевые избы, лепили хаты с высокими соломенными крышами. И только постепенно, под влиянием географических, климатических и экономических условий жизни у казаков Дона вырабатывается новый тип постройки - казачий курень.
КУРЕНЬ НАОБОРОТ
Разным районам Дона присущи свои типы домов. На Нижнем Дону, к примеру, курень строился на высоком фундаменте-подклете, ибо во время разливов первый этаж заливало, а второй этаж, жилой, оставался сухим. Дом был опоясан балкончиком, который у казаков называется балясником, он служил для открытия и закрытия ставен. Окна были украшены резными наличниками.
Дом возводили из деревянных пластин (еловых или сосновых). Делали курени и набивными из глины, смешанной с соломой. Как рассказывает Галина Астапенко, обычно казачий курень имел от двух до пяти комнат: столовая, зала и спальни. Первая от входа комната была и передней, и кухней, и столовой. В этой комнате находилась печь, которую топили кизяками или бурьяном.
В каждой комнате висели иконы. В зале стояла горка с праздничной посудой, которая больше служила для украшения. На стенах висели зеркало, семейные фотографии, портреты царей, репродукции и, конечно же, гордость казака - оружие. Стены домов окрашивались в яркие цвета: синий, голубой, красный. Крыши делали четырехскатными и покрывали чаканом (б олотное растение) или камышом, богатые казаки - железом.
Во дворе стояли летняя печь, летняя кухня, баз и баня. Летом строго запрещалось топить печь в доме. В целях противопожарной безопасности все готовили только во дворе. Запрещалось между домами держать скирды, однако, несмотря на это, из-за неосторожного обращения с огнем станицы полыхали, и не раз. К слову, эти традиции строить кухню на Дону сохранились и по сей день. Только сейчас их все чаще называют почему-то флигелем.
"Казачьему роду не будет переводу, пока на Дону будет сохраняться казачий уклад жизни и будут стоять курени", - считает житель станицы Мелиховской Владимир Шевченко. Всю жизнь проработал он учителем истории в станичной школе, теперь, уйдя на пенсию, пишет книги о родном крае.
Со своей семьей Владимир Викторович живет в доме, доставшемся им в наследство от родителей. Построенный более ста лет назад, курень до сих пор прочно стоит на высоком фундаменте. Зимой в нем тепло, а летом прохладно, потому что построен он из дуба, который до этого сушили не один год.
Сегодня Мелиховская не столь уж процветающая станица, как это было в царские времена. На заборах можно увидеть вывеску "продается дом". За 100 тыс. рублей здесь купишь добротный курень. Причина в том, что, несмотря на близость к берегу Дона, здесь проблема с водой. "Был бы тот берег не совсем крутой, - горько шутят казаки, - была бы и вода".
Естественно, что не все казаки жили ровно. И тогда, как и сейчас, на общем фоне вырисовывались курени, больше похожие на крепость. В Старочеркасске сохранилось, увы, только несколько таких домов (первой половины XVIII века): толстые метровые стены, сводчатые потолки, решетки на окнах, железные двери. В одном из таких куреней жил и погиб вождь крестьянской войны 1707-1709 годов, донской атаман Кондратий Булавин.
Казачьи курени плавно вписываются в современную архитектуру донских станиц, и даже особняки "новых" казаков нисколько не ущемляют их достоинства. Потому что, считают казаки, практичнее жилья никто еще не придумал.
Ростов-на-Дону
Метки: казачество русские традиции казаков |
Вероисповедание Донских казаков |
Дневник |

Донские казаки на протяжении многовековой своей истории были глубоко верующими людьми. Большинство жителей станицы Раздорской исповедовали православную христианскую веру. На период 1917 года в юрте станицы имелось 6 церквей. В эпоху строительства социализма, в 1930-60-е годы они были разрушены. Сохранились и действует церкви в хуторах Каныгин, Сусат.
Известно, что ещё в XVII веке в Раздорском городке была часовня. После «переноса» городка с острова на нынешнее месторасположение станицы – первое упоминание о церкви относится к 1726 году. В это время в станице имелся деревянный храм во имя Святого Василия Великого. Кстати, вполне вероятно, что эта дата близка времени переноса Раздор с острова на правый берег Дона.
В 1747 году вместо обветшалой церкви была построена другая, также деревянная, просуществовавшая до 1784 года. В том же году по указанию Войскового Атамана Иловайского в связи с увеличением численности населения в станице была построена новая деревянная церковь Святого Василия Великого с добавлением придела во имя Святой Варвары Великомученицы. В 1804 году к церкви была пристроена каменная колокольня. Церковь эта просуществовала в станице до 1824 года, до постройки новой, кирпичной, и была, затем пожертвована в станицу Мечётинскую.
15 июля 1817 года в Раздорской станице предположительно по проекту донского архитектора Кампиони была заложена кирпичная церковь в честь Донской иконы Божьей Матери (Донская Богородицая церковь). Освящение церкви состоялось в 1824 году.
Донская Богородицая церковь представляла собой великолепное архитектурное сооружение. Это была трёхпрестольная церковь: центральный предел - Донской Божьей Матери; правый - Святого Василия Великого; левый - Святой Варвары Великомученицы. Внутри церкви находился трёхярусный резной иконостас. Стены расписаны живописными фресками. Высота колокольни - 22 метра, купола - 15 метров.
Приходится лишь сожалеть, что этот храм, служивший верой и правдой станичникам и являвшийся украшением станицы (по преданиям, будучи в станице в 1893 году подновление росписи в храме выполнил художник В.И.Суриков) в 1929 году был закрыт. С колокольни сняли и разбили кресты, колокола, уничтожили иконостас с иконами. Храм превратили в склад «Райзаготканторы». Летом 1962 года Донская Богородицкая церковь по указке районных властей и вовсе была изуверски уничтожена - взорвана.
Но память о своей родной церкви не исчезла из сердец станичников. Её история продолжается в ежегодно проводимых с 1992 года 1 сентября престольных праздниках.
В августе 1998 года был рукоположен в священники Рождество - Богородицкой церкви хутора Каныгин отец Валерий Шпаков. До этого он с отличием закончил Ставропольскую духовную семинарию, служил в храмах Мартыновского района.
Вместе со своей супругой, матушкой Татьяной, первые годы жили они в хуторе Каныгин. Но, желая возродить уничтоженный храм в Раздорской в 2000 году, переехали в станицу. В сохранившейся церковной караулке отец Валерий в 2001 году открыл станичный приход. Взял на себя нелёгкие организационные вопросы по воссозданию Донской Богородицкой церкви. Хорошо знают отца Валерия и в Раздорской школе, где он проводит воскресные занятия с детьми. Окромляет словом Божьим он и соседний хутор Пухляковский.
В ноябре 2003 года на храме в хуторе Каныгин благодаря подвижничеству отца Валерия золотом засияли новые купола с крестами. В планах отца Валерия проведение реставрации уникального иконостаса церкви.
Метки: казачество русские традиции казаков |
«История Семиреченского казачьего войска» |
Дневник |

«История Семиреченского казачьего войска»
ЛЕДЕНЕВ Н , 30 МАРТА 1908 ГОД.
Г. ВЕРНЫЙ, СТАНИЦА БОЛЬШАЯ – АЛМАТИНСКАЯ
Лучшим источником рассказывающим о возникновении и истории Семиреченского казачьего войска, является очень редкая и почти не доступная книга «История Семиреченского казачьего войска» автора Н. Леденева написанная в городе Верном, Станица Большая – Алматинская 30 марта 1908 года и изданная в 1909 году. После переизданная в Сибири и вышедшая тиражом 150 экземпляров и быстро разошедшейся по библиотекам и казачьем атаманам и ставшая недоступной простому люду.
Данную книгу постараюсь донести для посетителей моего сайта на разных моих страницах по частям. Заранее прошу прошение за неточное написание слов, так как книга переписана с текста первоисточника 1908 года и я старался донести точное написание и произношение слов того времени не изменяя их.
Глава 4-я
«ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ В СЕМИРЕЧЬЕ И ЗАИЛИЙСКОМ КРАЕ».
Семиреченское казачье войско почином самого русского правительства было выделено из Сибирского, а потому история Сибирских казаков в Семиречье является началом истории Семиреченцев. Темная сторона уклада жизни предков – сибиряков оставили глубокие следы на народном характере Семиреченских казаков, поэтому, прежде чем перейти к очерку заселения нынешней территории Семиреченского войска, необходимо предварительно, хотя в самых кратких чертах, ознакомится как с началом истории Сибирского войска, так и с теми элементами, которые вошли в состав его населения, а затем – в кратких ссылках на свидетельства современников – выяснить ту невыразимую тяжесть более чем двухвековой их службы у себя на родине – в Сибири, явившуюся причиной темных сторон их быта.
Только при условии ознакомления со всеми этим тяжелым прошлым, а точно так-же со способом заселения Сибиряков в Семиречье и с составом переселенцев – будет возможно спокойно и разумно отнестись к тем недостаткам в народном характере Семиреченцев, которые поражают глаз незнакомого с прошлым наблюдателя.
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Сибирское казачье войско не было, подобно Донскому, Яцкому, Запорожскому и части других казачьих войск, теперь уже не существующих, продуктом вольной колонизации окраин Московского государства всякими недовольными тогдашними порядками людьми. Оно образовалось всецело почином самого русского правительства, заселявшего новую обширную страну воинскими людьми принудительно.
Сибирские казаки никогда не были «вольными», а всегда исключительно служилыми,хотя ядром для них и послужила Волжко-Камская вольныца, уцелевшая от знаменитого сибирского похода атамана Ермака Тимофеевича.
Как известно, после разгрома казацкой дружины сибирскими туземцами, единственный из оставшихся в живых атаманов, - сподвижников Ермака – Мещеряк, узнавши о гибели своего предводителя, вместе с царским воеводою Глуховым, сидевшим в Искере, спасаясь от воспрянувших духом татар, кинулись на стругах вниз по реке Иртышу, всего с сотнею или полуторными уцелевших казаков и других служилых людей. Приплывший к этому – же времени с Руси, с сотнею человек, воевода мансуров так-же пустился за Мещеряком и Глуховым по Иртышу и, нагнавши их при устье этой реки, здесь зазимовали.
С наступлением весны 1586 г. соединенный отряд двинулся обратно на Русь, плывя вверх по рекам Кондь, Лозве и Сосве, но здесь он встретился с новым, подошедшим на подмогу, царским отрядом под начальством воевод: Мясного, Сукина и письменного главы Чулкова. Отступившие повернули назад и с подошедшей подмогой, соединенными силами, направились реками Лозвою и Тавдою опять на Искерь, чтобы отбить эту ханскую ставку от завладевших уже ею сородичей сибирского царя Кучума.
Но не достигнув в этот город Искера, вынуждены были зазимовать с 1586 на 1587 год на реке Пурь, при впадении в неё реки Тюмень, заложив здесь первый русский, укрепленный в Сибири пункт – Тюменьский острог. Заложение этого острога следует считать и началом образования как называемых Тюменьских казаков, т.е. началом фактического образования казачества Сибири.
В 1587 году голова Чулков,получив с Руси подкрепление в 500 человек, взял Искеръ и недалеко от него заложил известный впоследствии Тобольск.
С занятием Тобольска Московское правительство, во главе с тогдашним правителем государства Борисом Годуновым, принялось за систематическое занятие и колонизацию Сибири, начав с вытеснения Кучума, его родни и приверженцев. Городок за городком, острожек за острожком возникает в новой стране и насаждается сначала воинскими, а затем уже и всякими другими «тяглыми» и «пахотными» людьми. Недостаток специальных родов оружия восполнялся, насколько возможно, «прибором» в Сибирь, в служилые лиди и казаки, всякого рода «видальцев» и «бывальцев», к воинскому делу «обычных», не только русских «переведенцев» и «гулящих людей», но выезжих и плененных иноземцев: поляков, немцев, французов. Кого только сюда не попало, кого только сюда не ссылали, кого не переселяли!?
Попали в Сибирские казаки сосланные сюда запорожский атаман Михайло Скиба и малорасийский гетман Демьян Многогрешный; в 1770 году в Сибирские линейные казаки обращены 137 запорожцев-гайдамаков партии известных Железняка и Ганты, захваченных в польской украйне после уманской резни; в 1775 и 1776 годах на усиление войска были определенны выпущенные из острогов «ссыльные невольники»; с 1797- го по 1800 год поступило более двух тысяч малолетков-сыновей отставных солдат, живших в Тобольской губернии; в 1847 году были зачислены в Сибирское войско 5380 душ крестьян казенных селений Тобольской и Томской губерний; в 1849 и следующем году сюда-же были вызваны и поселены в числе 3855 душ, малорасийские казаки и крестьяне смежных с Сибирью малоземельных губерний; в войско же зачислены были несколько десятков польских конфедератов, часть пленных великой армии Наполеона, бунтари дона и Урала и т.д., и т.д.
Здесь кстати заметить, что вследствие ссылки и переселения в Сибирь преимущественно мужчин естественно возникал вопрос о недостатке женщин, который к 1855 году, повидимому, обострился на столько, что правительство было вынужденно, наконец, прийти в этом отношении на помощь населению. Указом Правительствующего Сената 11 февраля 1865 года было разрешено в Западной Сибири покупать и выменивать у кочевников девочек, которых, присоединив к православию, размещать на содержание воспитанниц до 15 летнего их возраста хлеб и денежное пособие. В вопросе о замужестве таким девушкам представлялась полная свобода.
Из этого беглого и ещё далеко не полного перечня видим, что правительство употребляло все меры и средства к заселению западной Сибири, не придавая никакого значения тем элементам, какие служили для этой цели, видим что население территории Сибирского войска представляло пеструю смесь племен и наречий, смесь людей по их социальному положению, смесь борцов за свободу с простыми преступниками.
Все вольные и невольные насельники обыкновенно навсегда в казаках и оставались со всем своим потомством; иноземцы принимали православие и меняли фамилии или переделывали их на русский лад. Служба и жизнь вдали от родины, на нейтральной почве, примеряли и нивелировали всех. Да и какая служба и какая жизнь!
Заливши собственной кровью Сибирские степи и «подведя под царскую руку» необьятный край , однако, как сами насельники так и их потомки, до 1861 года несли страшную тяжесть, имевшего вид крепостного государственного военного тягла.
19 августа 1808 года, по этническому представлению главного начальника Сибирских граничных линей генерал-лейтенанта Глазенапа, утверждается первое положение и штаты линейного Сибирского казачьего войска. Это положение, установившее полу-регулярную организацию войск с постоянную «доколе в силах» службою казаков, дало в руки Западно-Сибирской администрации могущественную силу для проведения в местную жизнь – с одной стороны, получивших в то время главенство, начал военных поселений, а с другой – укрепить наше влияние и владычество в киргизкой степи и Средней Азии.
КОЛОНИЗАЦИЯ С ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Укрепится в киргизской степи и в Средне Азии было возможно только при условии колонизации русскими вновь занятых стран. Для этой цели одно мирное крестьянское население было-бы совсем не пригодно, так как здесь среди кочевников, неудержимо преданных грабежам и разбоям, требовалось и русское население привычное к военному делу, требовался воин-пахарь, всегда готовый к отпору. Сибирские казаки в течение более чем двух веков куксившиеся в борьбе именно с таким народом как раз удовлетворяло тем условиям, какие представлялись к первым колонизатором далекого, дикого края.
Несомненно, что при практикующихся способах заселения трудно было ожидать нужное количество охотников-пионеров для поселения в Семиреченский край, поэтому правительство испытав, как мы видели раньше неудачу с заселением охотниками Аягуза, обратились уже прямо к испытанному и для Сибири обычному способу принудительного переселения – по жребию и назначению.
Нигде так ярко не выразился господствующий до 1861 года взгляд на казаков и цель их существования, как в рескрипте Императора Александра II 24 июня 1861 года. на имя командующего войсками Кавказкой линии генерал-адъютанта графа Евдокимова, в котором между прочим сказано так: «Казачье сословие предназначено в государственном быту для того, чтобы оберегать границы империи, прилегающие к враждебным и неблагоприятным племенам и заселять отнимаемые у них земли. Переселение вперед наших линий, конечно, не может не быть тягостным, но это переселение есть жертва приносимая верноподданными для блага отечества».
Исходя из этой точки зрения на казаков регламентированной § 42 м положения о Сибирском войске 1846 г., правительство наметив заселение нынешней Семиреченской области, не задавалось целью привлечь в нее охотников, т.е. людей энергии и труда, для заселения которыми хотя и богатой дарами природы, но совершенно дикой страны нужна была приманка в виде серьёзных привелегий и льгот.
При исключительном руководстве только приведенным взглядом, будущее страны конечно отходило на задний план, упускалось из виду, что и при наличности действительно компенсирующих привилегий даже и охотнику нужно много энергии, решимости и надежд в будущем, чтобы бросить насиженные места, ликвидировать весь тяжелый многолетний труд прошлого. Что-же сказать о подневольном рядовом переселенце?! Полная неизвестности жизни и труда на новых местах, имевшая место при заселении описываемой страны, жизнь среди туземцев, враждебно настроенных к русским, с их известной сибиряку неудержимой склонностью к грабежам и набегам, возводимым на степень подвигов, наконец, необходимость навсегда порвать со всем окружающим с детства столь дорогим для каждого, - могли поколебать решимость и нравственно сильного человека. Как-же должен был чувствовать себя в этом положении переселенец по жребию или назначению?! Этот вопрос встаёт перед нами во всей своей поражающей ясности, если мы в таком положении представим себе забитого, загнанного, не привыкшего к свободному производительному труду человека, каким в действительности и был в чем точно убедимся мы ниже сибирский казак!
Очевидно, что с таким положением без нравственного ущерба для себя и ущерба для дела мог справиться только сильный нравственно и физически закаленный трудом доброволец, увлекаемый неотступной мечтой о лучшем будущем на новых местах. Общество только таких переселенцев везде может быть силою и только такое общество может поставить занятую страну на пути прогресса и развития.
К сожалению, вышеприведенный правительственный взгляд доминировал и эти истины не нашли применения здесь – при заселении территории Семиреченского войска.
КОЛОНИЗАЦИЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО И ЗАИЛИЙСКОГО КРАЯ ДО 1868 Г.
Колонизационный материал, как увидим ниже, слагался из двух элементов – сибирских казаков и сибирских крестьян.
Что-же представляли собою эти элементы и что они могли дать колонизируемой стране?
На эти, всегда и при всякой колонизации жгучие вопросы лучше всего ответят условия быта колонистов у себя на родине и компетентная свидетельства об этом быте современников, особенно ценные, как отзывы лиц правительственных и начальствовавших.
Быт сибирских казаков в конце XVIII века представляется наиболее ясным из донесения генерал-поручика Шпрингера, назначенного в 1763 году начальником всех пограничных войск Сибири.Он в 1765 году доносил Правительственному Сенату, что в то время, как расположенная на линиях регулярная пешая и конная части обязаны были «воинскому артикулу обучатся» и «казенных лошадей Ея Величества береч» от изнурения и длительных посылок, - линейные казаки:
1. «По недостатку на линиях регулярных артиллерийских служителей большею частью определенны в кононирские ученики при магазейнах при крепостных цейхгаузах и к материалам в вахтера, у присмотру солянной продажи, у ветряных и водяных мельниц уставщиками которых без крайней нужды отлучать оттуда невозможно».
2. «Из наличного состояния во всех по линиям, крепостям, форпостам и станциям для содержания почт, развозки писем, определенно в каждом месте по 3 и по 4 человека конных, которые обыкновенно те письма дабы главнокомандующему здесь обо всем нужно скорее известие получить и лучше и неумедлительное, без потеряния времени наставление дать было возможно,возятся в обе стороны в неделю по два раза в учрежденные почтовые дни, а всех онных при той почте и по тем линиям состоит 370 человек.
3. «Где случатся в которое время, наличные казаки,те всегда употребляются в каждодневные разъезды и за проезжающими в конвоевание общее с регулярными: зимним же временем, а особливо на Иртышской линии, почти беспрестанно бывают при сгоне киргиз - кайсацких табунов, которые воровски, ночным временем и в неблагополучные дни, во внутреннюю сторону перепущают».
4. «Как уже обыкновенно случается, что ни одного лета, отправляемые из Тобольска с казенным провиантом, дощенники до зимняго времени в определенные места не доходят, а остаются в заморозке, где зима застигнет, - в таком случае – тому провианту куда надобность требует, чинят перевозку на своих служебных лошадях, обще с казенными, гужем; тем не менее и по вскрытие реки, а особливо в ведомстве Устькаменагорском, погружая тот провиант на прибывшие дощеннки и мелководныя суда, - вверх перевозят водою, в чем и упражняются почти чрез все лето беспрерывно, при каковом взводе тех судов объявленные казаки принужденны всегда идти в лямках и для того нарочно из своего малого жалования покупать дорогою ценою сермяжные и холщевые кафтаны, вместо сапогов крестьянскую обувь – упоки и обутки. В весеннее-же время обыкновенно бывает разлитие вод, при чем бедные казаки, обще с солдатством пребывая в таких взводом дощенников и мелководных судов отягощенных, в лямках, вверх по реке берегами идучи, по большей части великими от воды заливами по пояс и по груди водой, всю собственную свою одежду тесными проходами без остатка издерут и износят и от того приходят платьем в наготу, а сами от холодности вод и не легких многотрудных и отяготительных взводом дощенников впадают в безсилие и тяжкия болезни. А с которых дощенников уже совершенно провиант в надлежащих местах сгрузится, то те порожие дощенники теми-же казаками сплавляются в вниз место от места до Тобольска. Не менее же того, когда весеннее время наступать станет, то имевшее в заморозе в разных местах казенные дощенники, которых каждогодно не менее бывает как ста по два и более,-онные одалбливают и охраняют от идущего вешняго льда».
5. «Каждогодно командируется из наличных для заготовления на крепостныя исправления соснового леса в Долон – Карагайский бор, который принуждены они, вырбя, перевозить на служебных лошадях к берегу, не ближе как верст через 50 великими песками, а по перевозке, сплотя в плоты, спускать в нижния крепости, куда требуется, что исправляют потому-же с великим трудом, а служебным лошадям с крайним отягощением и упадком».
6. «Все находящиеся казаки какия-бы вышеизьясненныя тягости не несли, но только-бы в наличии при крепостях состояли – без изъятия и хлебопахатных, когда сев и прочее минуется, употребляются для укрепления и починки крепостей, фортов и редутов, без чего по непрочности здешних лесов каждогодно обойтиться невозможно и к тому принадлежащий лес за неимением в близости, готовят и перевозят на своих служебных лошадях не ближе 25-ти верст, в чем им, а особливо служебным лошадям от беспрестанных повозок происходит великое отягощение и изнурение».
7. «Как только летнее время наступит, то уже оставя все вышеописанная изнеможения, - те казаки неизьемлено заготавливают на своих служебных лошадях сено, присовокупляя к тому и на отлучных, а зимою по неближнему тех сену заготовлению почти ежевременно чинится перевозка».
8. «Каждогодно для зимняго времени заготовляют на сани и дрова, а к лету на телеги и колеса – принадлежащий лес, из онаго поделка во всех местах происходит для всегдашней перевозки леса, провианта, овса и сена и других беспрестанных развозок, что-бы не потребовалось по крепостным необходимым надобностям; но только оныя сани и телеги по непрочному лесу никогда долговременно не держатся, но чрез краткое время в негодность приходят и затем пости беспристанное оных вновь исправление происходит; конскую же упряжку готовят своим коштомъ – из малого жалования, а как весна наступит, то – же казаки принуждены для крепостных надобностей заготовлять смолу, деготь тож и уголья жечь».
9. «Умалчивая далее о всех трудностях тех нелегулярных войск, чего уже и описать невозможно, еще сии изнеможения и недостатки несут, находясь в степных и от жилья отдаленных местах, не только чтоб доброе довольствие в пропитание себе харчевыми припасами имели, коих здесь по причине дороговизны они покупать не в состоянии, но и указанный провиант, который им из казенных магазинов выдается, за малоимением муки, а особливо на Иртышской, Кузнецкой и Колыванской линиях, получают рожью, которую принужденны по неимению водянных и хороших ветрянных мельниц, для себя всякий казак, не хотя быть голодом, сменясь с часов, или прибыв с работы, или же отпустяся с сенокосу, для взятия хлеба на себя и на товарищей своих и то ручными жерновами молоть принуждены, да и то по ночам, а днем ни кому для того нарочнаго времени не бывает, ибо беспрестанно во всегдашних и ежеминутных работах и всяких интересных исправлениях, которыя выше сего явствуют,- находятся, а когда кому ночью время не допустить данного ему рожью провианта в муку молоть, то принужден для смолотья онаго, дабы с голоду не помереть из своего жалования, хотя за последния деньги, нанимать праздных от работ партикулярного чина людей, то есть драгунских и казачьих жен и их детей и других охотников. отчего по таким приключениям пришли в вящее несостояние и неоплатные долги и убытки, так что некоторым к необходимой в жизни человеческой надобности на свою пищу и соли купить не на что»... . и т.д.
Так как до 19 августа 1808 года законодательных постановлений об организации и порядке управления казаками Сибирской линии издано не было и казаки распределялись в 124-х крепостях и селениях, составлявших Сибирскую линию, то нужно думать, что описанный Шпрингером гнет непосильной службы, разорявшей казаков, несло почти все мужское население войска. В этом особенно убеждает донесение генерала Глазенапа, назначенного в 1808 году главным начальником войск Сибирских пограничных линий, который в докладе своем Правительствующему Сенату о результатах своего обзора казачьих поселений между прочим выразился так: «Их (казаков) всякий, кто хотел без разбора и отчета кому либо, гонял во все стороны». Положение 1808 года, вернее Высочайше утвержденный доклад известного графа Аракчеева, бывшего тогда военным министром, едва ли улучшило положение Сибирских казаков.
Из 6117 человек всех вообще чинов войска 5 тысяч казаков назначалось на постоянную «доколе в силах» службу, а все остальные, вместе с вновь достигающими 18-ти лет детьми казаков, зачислялись в резерв для укомплектования убыли десяти полков и как увидим ниже, несли еще более тяжёлую службу, чем строевая.
Гнет непосильной службы до издания этого положения, почти поголовная служба установленная им и усиленное привлечение резервных казаков к работам на войсковых заведениях и предприятиях, заведенных в войске командиром войска Броневским, - разорили частное хозяйство казаков на столько, что назначенный в 1824 году на должность командира войска полковник Парфацкий отказался принять его в свое ведение, - приводя одним из главных мотивов своего отказа разорение частного хозяйства казаков.
Далее в 30 и 40- вых годах положение Сибирских казаков было лучше. Бывший в то время генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков в своем всеподданейшем докладе говорит «Служба сибирских казаков в составе 10 непременных конных полков и 2-х батарей, каждая в составе 12 орудий, есть бессрочная и, так сказать, поголовная, ибо 8500 семейств постоянно дают на внешнюю и внутреннею, т.е. линейную службу до 10 тысяч человек под названием строевых и резервных казаков». И далее: «Но так как смена степных отрядов не может производится до произрастания подножного корма, а большая часть занимаемых казаками пунктов отстоит от их домов не ближе 500 верст, то и оказывается, что до прибытия возвращаемых в свои места – утрачивается удобное время к производству полевых работ, а иногда даже и сенокошения».
Понятно, что при подобных условиях службы строевой казак почти не мог иметь какое либо значение для своего хозяйства, но вот как описывает и положение резервных казаков командированный в Сибирь по Высочайшему повелению в этот-же период времени генерал-адъютант Анненков в своем на Высочайшее Имя донесении:
«Время, которое Сибирский казак, после выслуги 20-ти лет в строю, проводит в составе резервных команд – есть самое для него трудное».
« На этих людей (т.е. резервных казаков), кроме исполнения разных должностей по внутренней службе, возложены многоразличные занятия на войсковых хозяйственных заведениях и вообще по всем статьям, доставляющим войску доход. они отправляют по линии и в степи почтовую гоньбу взамен ямщиков и подводную (земскую) на собственных лошадях, имеют присмотр и производят работы на войсковой суконной фабрике, кожевенных заводах, пильной мельнице, кирпичном заводе, заготавливают строевой лес, сплавляют его по Иртышу в Омск на расстояния тысячи верст, приготавливают известь, исправляют войсковые и станичные строения, число которых простирается до 600, возводят новые, строят бараки, лодки, заготовляют снасти и все предметы потребные для войскового рыболовства, ловят рыбу в пределах Китая на пространстве 400 верст и доставляют её к складочным местам до самого Омска», и т.д., и т.д. Но в заключении он говорит: «Все эти обязанности трудны тем, что по огромности пространства, занимаемого войском, казакам часто приходится по нарядам на службу проходить весьма значительные расстояния и чрез то удалятся на продолжительное время от своих домов. Следствием всего этого есть отягощение их свыше всякой меры и совершенный упадок их домашнего устройства».
Такое ни с чем не сравнимое. тягостное положение сибирских казаков продолжалось до 1861 года, когда было объявлено, наконец, первое положение, до некоторой степени признавшее за сибирским казаком долю свободы, право гражданства и право на личный труд.
«1861 год», говорит генерал Катанаев в своём официальном кратком историческом очерке службы Сибирского казачьего войска, «В истории Сибирского казачьего войска, как и для 23 миллионов крепостных русских крестьян, был годом освобождения его, носившего вид крепостного, - государственного тягла», а затем далее прибавляет: «По введении в этом году нового положения о войске, оказалось, что по численности своего населения и средствам, оно только при обязательном и почти даровом труде казаков могло содержать столь дорогие учреждения, как суконная фабрика, несколько кожевенных, кирпичных, пильных заводов» и т.д. «Только не справляясь с домашними нуждами казаков, можно было обязать 25 тысячное мужское население войска иметь почти на постоянной службе 10 конных полков и 3 батареи. Пришлось немедленно закрыть все помянутые заведения, а наряд на службу сбавить с 10 тысяч на 1-2 тысячи человек».
Эти краткие выдержки из официальных донесений и отзывов, безусловно компетентных лиц, в связи с господствовавшим воззрением на казаков и узаконениями о них, которая будут рассмотрены в своем месте ниже (См. Быт Сибирских казаков в Семиречье до 1868 г.), приводят к заключению, что население Сибирского казачьего войска представляло в сущности, какое-то крепостное военное сословие, разбросанное в военных поселениях, по режиму своему опередивших самые смелые мечты графа Аракчеева, инициатора военных поселений в Европейской России, и что русское крылатое слово – «вольный казак» - было злой иронией по адресу сибиряков XVIII го и первой половине XIX века.
Печальные результаты подобного положения могут служить лишний раз новым доказательством той несомненной, но, к сожалению, не всегда сознаваемой истины, что только свободный личный труд возвышает человека в собственных глазах, дает твердость характера и вырабатывает самосознание и самосовершенствование. постоянный же подневольный труд, которым, как мы видели, был обязан сибирский казак, - убивает энергию, сознание полезности самого труда, обращает человека в раба со всеми присущими ему недостатками. Продолжение-же такого труда «доколе в силах» и целыми поколениями, как это было у сибиряков, создает и в потомстве людей вполне индифферентных к труду, т.е. утративших всякую веру в реальную для себя полезность труда и потерявших всякую любовь к нему.
Поглощенный службой «доколе в силах» и, получая хоть и скудное, но достаточное, чтоб быть живым и одетым, содержание от казны с двухлетнего возраста (С этого возраста только провиант), сибиряк невольно утратил заботу о завтрашнем дне, невольно и, незаметно для себя, потерял естественное у свободного труженика стремление к наибольшему трудовому заработку для себя и своей семьи, он обленился и знал только труд по принуждению и жизнь на казенный счет.
ТАКО БЫЛ СИБИРЯК – КАЗАК У СЕБЯ НА РОДИНЕ, - ТАКИМ ОН ЯВИЛСЯ И В СЕМИРЕЧЬЕ И ЗАИЛИЙКИЙ КРАЙ.
Но сибирское казачье войско, со своим сравнительно редким населением, - одно не могло колонизировать такую обширную страну, а потому пришлось прибегнуть, в этом отношении к помощи сибирских крестьян – людей, уже «видавших виды».
Каков-же был нравственный и экономический уровень этих крестьян? на этот вопрос нам лучше всего ответят законодательные акты 25 марта 1857 г. и 12 апреля 1859 г., а особенно – отзыв бывшего начальника Алтайского округа генерала Колпаковского.
Высочайше утвержденный положением Сибирского комитета 25 марта 1857 г. генерал-губернатору Западной Сибири, по его ходатайству, было предоставлено право разрешать переселятся по собственному желанию в Семиреченский и Заилийский край, для приселения у пикетов, ссыльно-поселенцам, получившим уже право на свободное водворение в Сибирь и хорошо аттестованным, с привелегиями и льготами, предоставленными переселенцам сибирским крестьянам.
В Высочайше утвержденном 12 апреля 1859 г. положении Сибирского комитета содержатся правила обязательного переселения в киргизскую степь крестьян за неплатеж податных недоимок. Первым параграфом этих правил предписывается: «Переселению подвергать тех крестьян, над которыми будет предварительно выполнены меры побуждения к платежу недоимок после сих побуждений, по лености и нерадению не уплатят состоящий на них недоимки к 1 октября. Подвергать переселению только тех неплательщиков податей, на коих числятся недоимки более годового оклада». Примечание к этому параграфу: «Из определенных мер побуждения – не применять отдачу неплательщиков в заработки, так как по опыту дознано, что в западной Сибири приискать желающих для взятия подобных людей в заработки довольно трудно, почему приведение в исполнение этой меры служило-бы только затруднением и проволочкой».
Генерал Колпаковский до назначения в 1867 году на должность первого, по времени, наказного атамана Семиреченского казачьего войска, был 4 июля 1858 года начальником Алатавского округа, в состав которого входил весь Заилийский край и часть Семиреченского. Он застал ещё переселенческое движение в свой округ, устраивал переселенцев на места их водворения, а потому и имел, что особенно ценно, полную возможность лично и всесторонне ознакомится с ними. Будучи назначен наказным атаманом, генерал Колпаковский в 1868 году доносил Туркестанскому генерал-губернатору следущее: «Первоначальное заселение Семиреченской области производилось вызовом и переселением по жребию. Шли люди бездомные, сомнительного поведения, рассчитывая не на собственный труд, а на пособие от правительства, на готовые пашни и арыки киргизов».
Так как главную массу переселенцев в Заилийский край и отчасти в Семиреченский, как увидим далее, составляли крестьяне сибирских губерний и так как генерал Колпаковский в своем отзыве не выделяет их в особую группу, то очевидно, что этот нелестный отзыв всей своей тяжестью ложится и по адресу крестьян.
Этих трех приведенных фактов. нужно полагать, более чем достаточно для определения общего нравственного и экономического уровня колонистов – крестьян.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ КОЛОНИЗАЦИИ.
Отпустив здесь историю заселения приграничных округов Каркаралинского, Кокчетавскаго и др., как не вошедших в состав Семиреченскаго войска, перейдем прямо к интересующему нас вопросу, - к первоначальному заселению Семиреченского, а потом и Заилийского края.
Первым актом в истории колонизации Семиречья, как мы уже видели, является разрешение данное генерал-губернатором Западной Сибири Вельяминовым 21-го января 1832 года Омскому областному начальнику, поселить во внешнем Аягузском округе до 100 казачьих семейств с их согласия и с предоставлением им двухлетней льготы от службы. Если эта первая попытка поселения казаков в семиречье, повидимому и не представляла ещё выражения государственной идеи колонизации страны, так как делалась с целью: «послужить не малым облегчением казачьему войску, принужденному ныне временными командировками в округи (внешние) значительного числа людей разстраивать их хозяйства на линии», т.е. с чисто экономической, то, во всяком случае оставляя в стороне ея побудительную причину,- эта попытка представляет первый приступ к колонизации страны.
Первый приступ закончился полной неудачей, как потому, что, в силу сложившихся политических обстоятельств – он был сделан еще, повидимому несвоевременно, чем и вызвал в 1836 году необходимостью приостановить переселение казаков во внешние округа, так и потому, что одна только двухлетняя льгота от службы не была достаточной для вознаграждения риска переселения и не привлекала в течении целых 4½ лет ни одной казачьей семьи в Аягуз.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ. АЯГУЗ.
Первыми изъявившими желание поселится в Аягузе были пять семейств нижних чинов 8-го местного линейного батальона, которым 16 апреля 1841 года и было разрешено командиром отдельного Сибирского корпуса поселится там с зачислением в казаки и с отпуском им провиантского довольствия.
Положение 1846 г. регламентирующее право правительства принудительно переселять сибирских казаков по мере движения границы империи вперед, давало в его руки могущественное средство для колонизации Семиречья, вопрос о которой, как государственная идея, к тому времени уже окончательно созрел.
Этим положением территория Сибирского линейного казачьего войска была впервые разделена на девять полковых округов, а затем население девятого округа было избрано первым открыть систематическое мирное наступательное движение русских в глубину Средней Азии.
При окончательном выяснении вопроса о настоятельной необходимости заселения Кокпектов и Аягуза было решено, дать переселенцам казакам – несколько иныя льготы и пособия, чем это было предположено в 1832 году. К двухлетней льготе от службы добавлено: провиант казакам, их женам и детям в течении двух льготных лет и в тот-же период времени деньги на фураж, положенный строевым лошадям. Собственно строевыя войсковая лошади были у переселившихся казаков отобраны и вместо них они получая фуражные деньги, обязаны были в течение двух льготных лет иметь для «экстренных случаев» - собственных. При такой помощи со стороны правительства в 1847 г. переселено в Аягуз по желанию, но главным образом по жребию и назначению несколько более полусотни семей 9 полка, которые и образовали на территории будущего Семиреченского войска первую, самую северную станицу Аягузскую, названную потом Сергиопольской.
СТАНИЦА КАПАЛЬСКАЯ
В предшествующем очерке уже было сказано, что в 1847 году на реке капал, в северных предгорьях Джунгарского Алатау, было заложено Капальское укрепление. Возле этого укрепления и было решено устроить казачье поселение.
С этой целью из состава 9-го полка, отчасти по желанию, но главным образом по жребию. было выделено две сотни казаков с семьями, первая партия которых и двинулась со своего сборного пункта 15 мая 1848 г., а за нею последовали и другие.
В 1849 году возникла мысль об устройстве третьяго поселения, - на реке Каратал, - и уже были сделаны подготовительныя распоряжения, но от этого почему-то отказались и казаки 9-го полка направленные было на Каратал в 1849 и 1850 годах, - попали тоже на Капал, образовав здесь, с поселенными в 1848 году, довольно многолюдную станицу, названную по имени речки, в долине которой она расположена,- Капальской.
Поселенные на Капале казаки получили только те же самыя льготы и пособия, как и выселенные в 1847 году на Аягуз.
На Капале завершился первый акт колонизации Семиречья и государственная граница была перенесена с реки Лепсы на реку Или, где и возник первый барьер, удержавший на время переселенческое движение русских.
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О КОЛОНИЗАЦИИ 1855 И 1856 ГОДОВ.
Первую попытку преодолеть препятствия - является экспедиция Гутковского в 1850 году.
Избалованная в Семиречье неизмененным успехом, высшая администрация Сибири слишком не высоко оценила упругость сопротивления туземцев,- и в результате полный провал экспедиции. Но препятствие нужно было взять и как мы видели выше, Карбышев взял его, очистив подступы и путь за барьером.
Первая мысль,- перебросить русскую переселенческую волну в Заилийский край,- зарождается в военном министерстве. Военный министр испросив Высочайшее разрешение генерал-губернатору Западной Сибири – представить на рассмотрение Государя, в числе других предложений по устройству киргизской степи, и его соображения о переносе нашей передовой линии «на условную государственную границу по реке Чу».
Бывший тогда генерал-губернатором Западной Сибири и командиром отдельного Сибирского корпуса генерал Гасфорд, в феврале 1852 года, донес о настоятельной необходимости занятия Заилийского края. Государь Николай Павлович отклонил, однако, представление Гасфордта, отложил «до времени занятия реки Или».
В декабре 1852 года министр иностранных дел, в ведении которого находились тогда киргизы,предложил на обсуждение Гасфордта предположения им меры «к упрочению нашего влияния на Большую Орду», заключавшиеся: в занятии известного пункта в левобережной части Илийской долины, перенесении туда резиденции пристава киргиз Большой Орды под прикрытием военного отряда и в обложении тамошних киргиз податью. Генерал Гасфордт, исходя из политических и торговых видов на Заилийский край, изложенных в предыдущем очерке наступательного движения, не только совершенно согласился со всеми предложениями министерства иностранных дел,но в ответе своем 4 апреля 1853 года, добавил еще, что «в последствии времени. когда водворится в том крае спокойствие,можно устроить там казачье поселение,которое, подобно Капальскому, при местных удобствах к заведению хлебопашества, значительно сократит издержки по продовольствию войск на сем отдаленном пункте».
Наконец в исходе 1853 года, командиру отдельного Сибирского корпуса удалось получить разрешение на устройство в Заилийском крае укрепления.
Воспользовавшись этим разрешением, генерал Гасфордт снова представил свои предположения о колонизации Семиречья и Заилийскаго края, которые и были представлены Государю военным министром в докладе его 4 февраля 1854 года и заключались в следующем. Поселений предпологалось три: в Заилийском крае на реке Алматы при Заилийском укреплении и в Семиречье на реке Лепсе и Карабулак. Заселение этих пунктов было предположено на следующих основаниях.
1. При переселении казаков предполагалось: единовременно дать пособие – офицерам по 100 руб., а нижним чинам по 55 руб. на семью, в течение же первых трех лет : офицерам усиленные оклады жалования, а казакам и семействам их дачу провианта и всем вообще чинам – льготу от службы и фуражное довольствие для лошадей.
2. Обмундированием и единовременным пособием снабдить казаков на месте, равно как и разными предметами хозяйственного инвентаря, которые за невозможностью заготовить на месте, приобресть на Ирбитской ярмарке и доставить казакам по тем ценам, в какия они обойдутся войску. Зерновой хлеб для посева доставить на место поселения на счет войска и выдать поселенцам с условием возврата в трехлетний срок.
3. Самое переселение произвести следующим порядком: для переселения вызвать желающих, а в случае недостатка охотников, дополнить по жребию из 6,7,8 и 9 полков. Вызов желающих и назначению по жребию произвести не позже весны 1854 г. Переселенцам отправится в путь с первым подножным кормом.
При переселении крестьян предполагалось: 1) назначенных к переселению в Заилийский край перевести в 1855 году из мест их жительства в станицы Сибирскаго войска, с зачислением их в казаки и уже весною 1856 года, с первым подножным кормом,отправить к месту поселения партиями от 50 до 100 семей. 2) Дать следующия льготы и пособия: единовременно по 55 руб. на семью, а затем : а) денежное путевое довольствие от станицы Алабужской до тех станиц, в которых расположатся на зимовку в размере, определенном для путевого довольствия переселенцев от министерства государственных имуществ; б) за время передвижения по степи – выдавать провиант натурой из степных магазинов; в) как и для казаков – заготовить и выдать семенной хлеб, но срок возврата хлебной ссуды назначить четырехлетний и г) дать двухлетнию льготу от службы, считая срок льготы со времени прибытия на место поселения.
Относительно же состава численности и времени заселения каждого из вышеуказанных трех пунктов в отдельности – предположение доклада сводилось к следующему:
На реке Алматы. В течение 1855 и 1856 г. выслать по одной сотне казаков ежегодно и, начиная с 1856 года, переселить 200 крестьянских семей из внутренних губерний России. В это поселение назначить священника.
На реке Лепсе. В то-же время,как и в Заилийский край,- пересилить одну сотню казаков и 200 крестьянских семей тоже из внутренних губерний России.
На реке Карабулак,близь урочища Урджаръ. На предложенном пикетном сообщении этого пункта с Аягузом поселить полусотню казаков и 100 крестьянских семей из внутренних губерний России. Для того-же, чтоб не привлечь к этому пункту особого внимания китайского правительства, заселение здесь предполагалось произвести так: ежегодно высылаемый летом на Урджар отряд из 50 казаков – в 1854 году устроить себе здесь зимние помещения и останется зимовать, а в 1855 году, если только китайцы не будут этим встревожены,- отряд усилить и положить основание поселению. Вообще, сказано в докладе, «от степени внимания китайцев к занятию этого пункта и будет зависить скорость и размеры заселения».
Таким образом предполагалось пересилить в Семиречье и Заилийский край или, как тогда называлось, «на левый фланг» - 3½ сотни казаков с их семьями из 6,7,8, и 9 полков Сибирского войска и 500 крестьянских семей, из которых могли быть сформированы 2½ сотни, т.е. «левый фланг» усиливался целым полком. Во избежании же излишних издержек на содержание нового полка в докладе предположено;- число казаков в Сибирском округе оставить то-же, т.е. 10, но поселениями на Аягуз, Капал и вновь проектируемыми усилить состав 10- го полка. Такое усиление состава этого полка необходимо не столько в целях увеличения численности строевых казаков, сколько всей массы русского населения для развития земледелия, горной и др. промышленности.
Расходы на устройство предположенных трех поселений, за исключением из них издержек. не поддающихся предварительному исчислению: из средств Сибирского казачьего войска и министерства государственных имуществ, а точно так-же издержек на довольствие переселенцев в путь, на провиант и фураж в течение трех льготных лет, расходы эти, выражавшиеся в 86,020 руб. генерал Гасфордт, как сказано в докладе, предполагал покрыть: из разных сумм, частью ему отпущенных или предназначенных к отпуску – 2780 руб.(В этой сумме заключались отпущенные генералу Гасфордту на устройство Заилийского укрепления и пикетного между ним и Капалом сообщения из сумм министерства Иностранных дел 25000 руб. Цитируемый доклад.); из таможенного сбора в киргизской степи и пошлин с золота, там-же добываемого – 9110 руб. и, наконец, испрашивал к специальному отпуску 27500 руб. на единовременное пособие 500-м крестьянских семьям.
К цитируемому докладу военного министра были приложены – мнение по этому поводу министра государственных имуществ графа Киселева, в ведении которого находились государственные крестьяне, и возражение генерала Гасфордта на это мнение.
Граф Киселев полагал, что «вызов крестьян из внутренних губерний для водворения на указанных генералом Гасфордтом местностях, кроме оглашения чрез то самой цели сего переселения, не приведет, вероятно, и к желаемому результату, так как крестьяне внутренних губерний едва-ли согласятся пересилиться в столь отдаленный и мало известный край, с зачислением в казачье войско, об обязанностях и быте которого они не имеют понятия. Было-бы полезнее предоставить генерал-губернатору Западной Сибири – вызвать для поселения на предназначенных им местностях желающих из старожилов и переселенцев, в Западной Сибири находящихся, которые как привыкшие к климату и знакомые со всеми местными отношениями, но только будут более способны для предполагаемой цели но и с удовольствием вступят в казачье войско.
Генерал Гасфордт, возражая на это мнение, заявил, что он, хотя и «не встречает препятствий» к вызову охотников к переселению из сибирских крестьян, но однако, «сомневается, чтобы мера эта была вполне удовлетворительна и чтобы нашлось достаточное число охотников. так как крестьяне Западной Сибири, пользуясь раздольно землями и угодьями, довольно счастливы своим бытом. Причем пришлось-бы старожилам дать те пособия и преимущества, которые дают крестьянам-переселенцам из внутренних малоземельных губерний, а переселенцам, как севшим уже на местах в Сибири, так и тем, которые не водворились еще окончательно, - дать новая льготы и пособия».
К этому генерал Гасфордт добавил что он «полагал бы возможным допустить к переселению в степь и тех желающих ссыльно-переселенцев, которые сосланы в Сибирь без наказания рукою палача...».
Император Николай павлович, рассмотрев этот доклад и приняв во внимание заключение военного министра, что: «при занятии нового края, непосредственное соприкосновение преступников и туземцев может дать сим последним весьма невыгодное мнение о нравственности русского народа» и что «предстоящее с преступниками сообщество может уменьшить или даже вовсе уничтожить охоту других лиц к переселению» - утвердил все финансовые и колонизационные предположения доклада, за исключением вызова для поселения крестьян из внутренних губерний России, оставив в силе этот вызов только на случай недостатка переселенцев из Сибири и решительно отвергнув предложение Гасфордта о переселении ссыльных.
Утвержденная Государем положения доклада 4-го февраля, с добавлением к ним льгот и пособий, установленных инструкций для переселения государственных крестьян, были сообщены военным министром генерал-губернатору Западной Сибири и командиру отдельного Сибирского корпуса генералу Гасфордту 8-го февраля 1854 года (Это повеление,как составляющие в свое время государственную тайну,- во 2-е полн. Собр. Зак. Рос. Имп. не вошло.).
ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 1855-1856 ГОДОВ.
Таким образом, льготы и пособия переселенцам по Высочайшему повелению 8 февраля 1854 года сводятся к следующему:
Метки: казачество русские традиции казаков |









