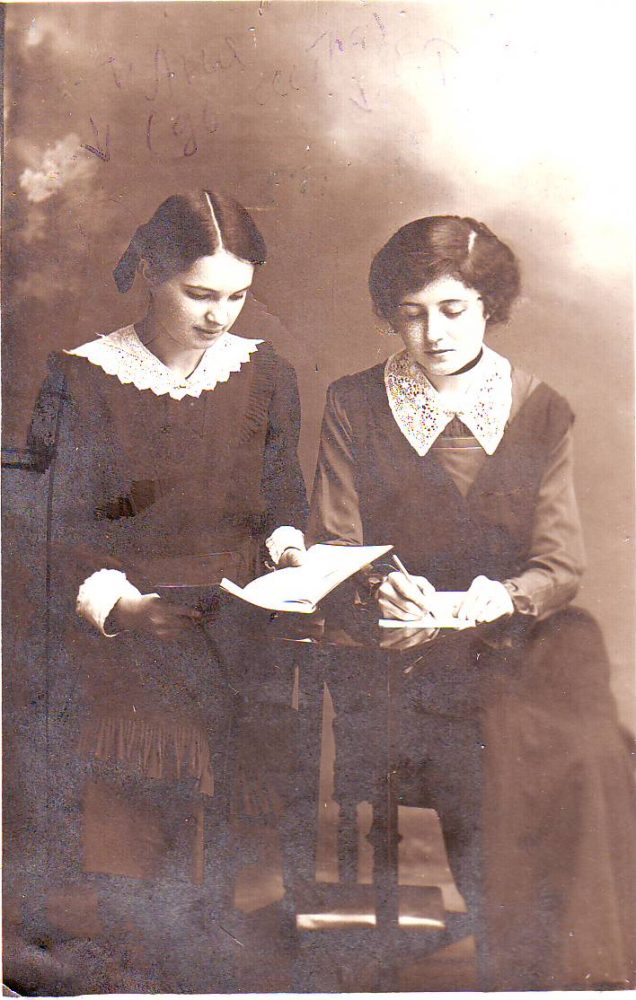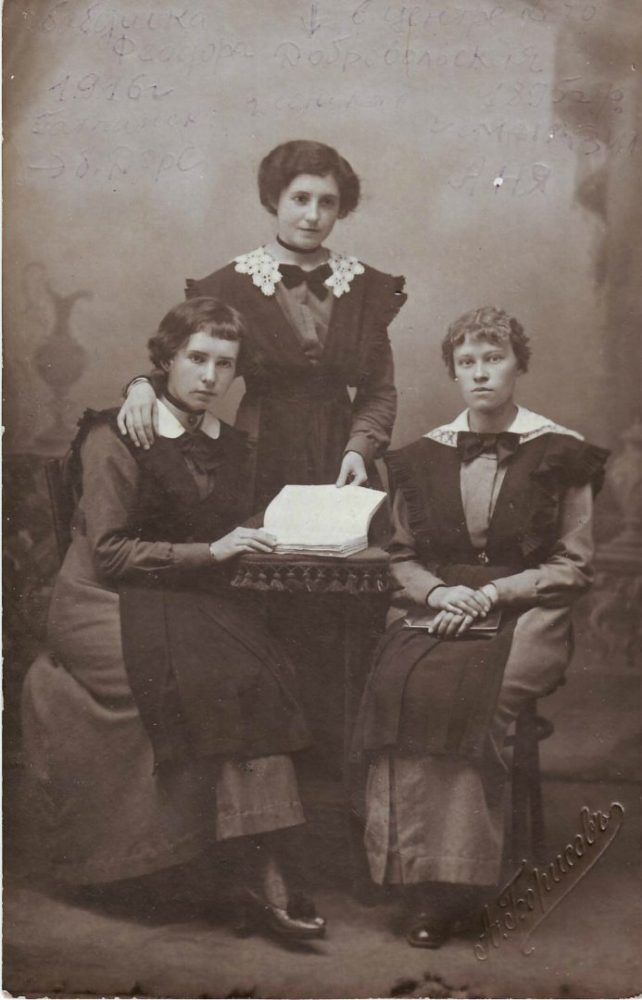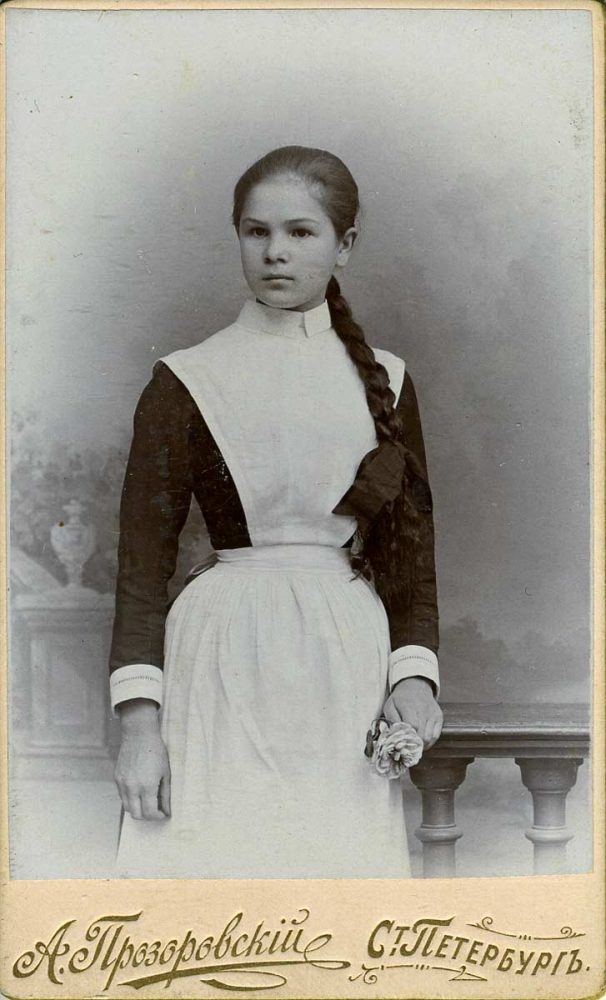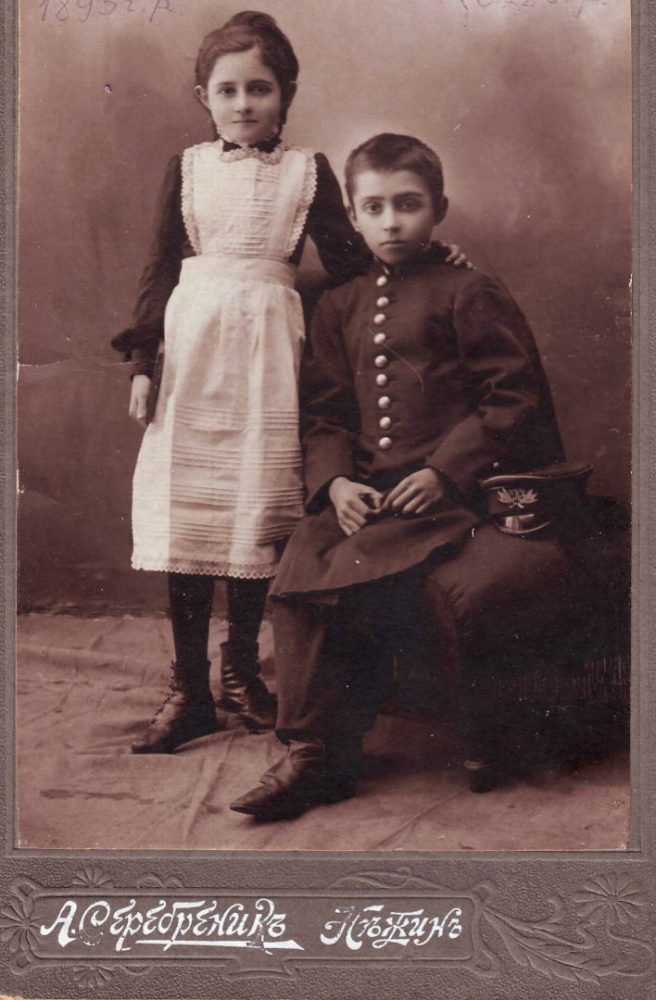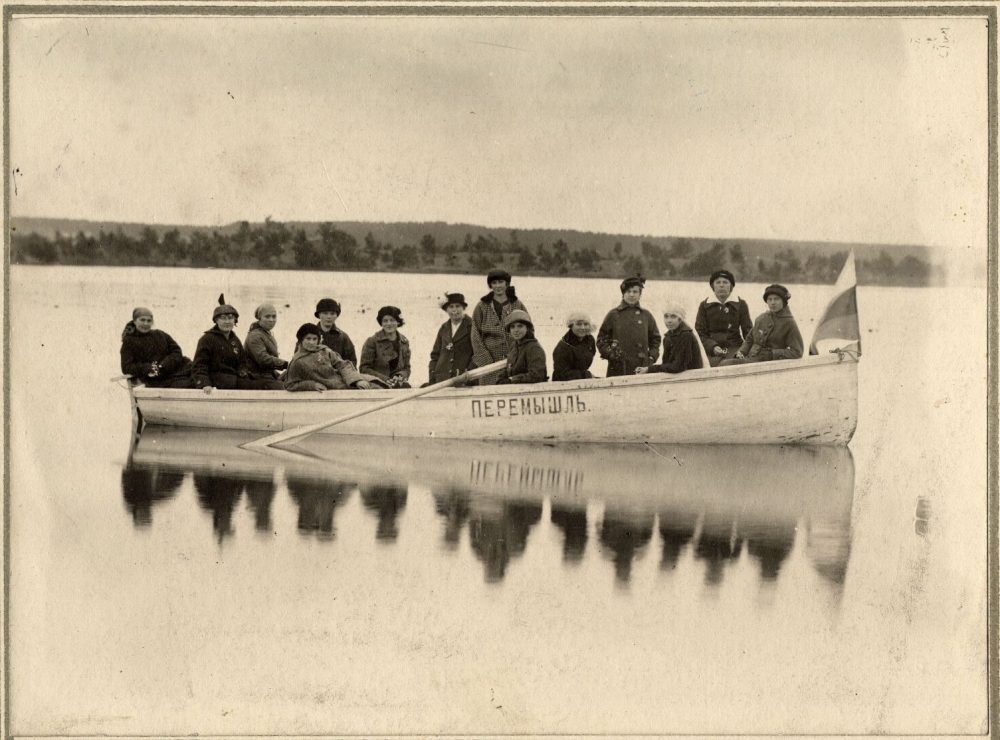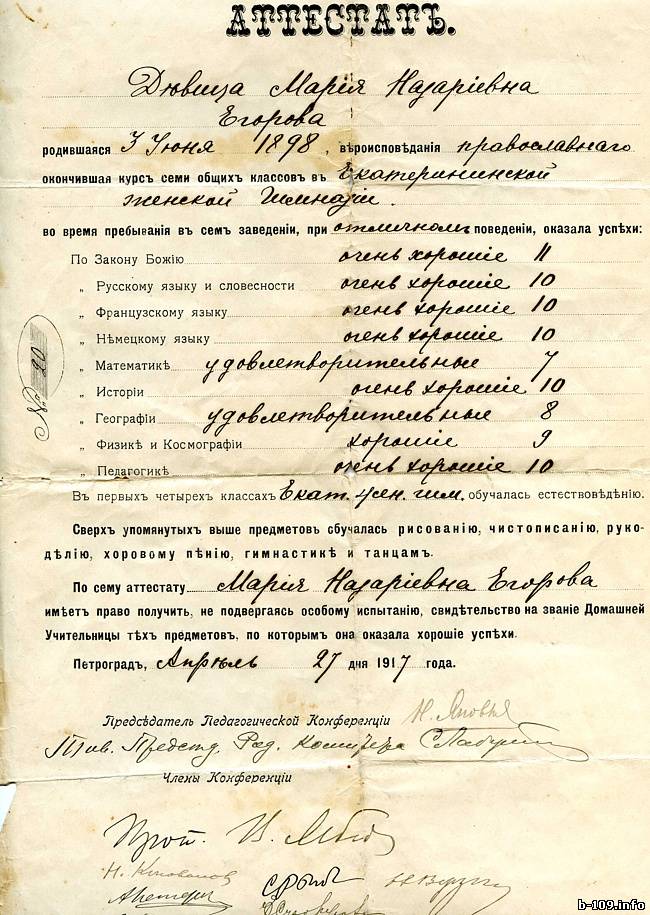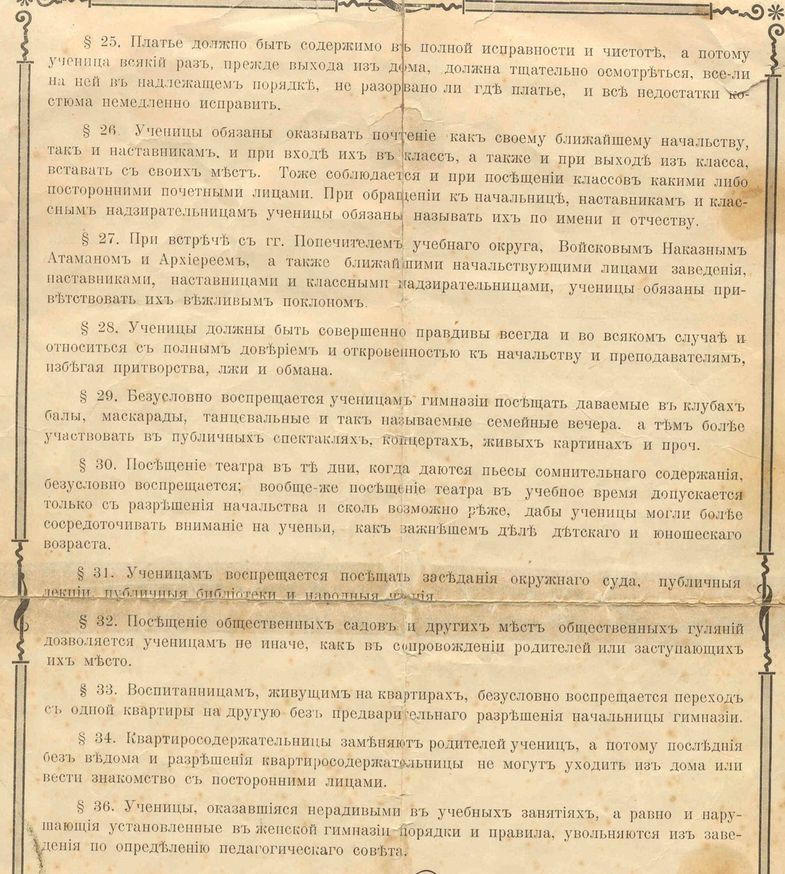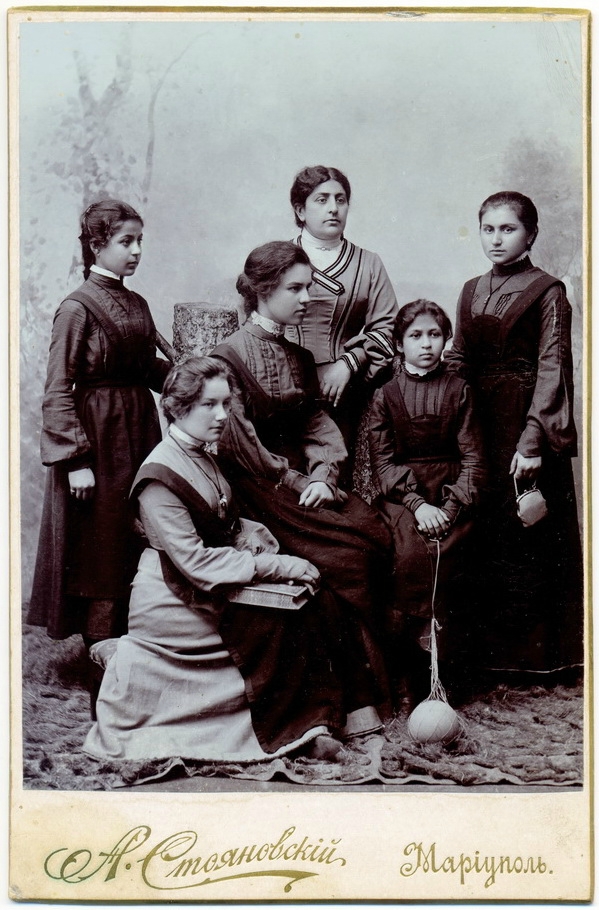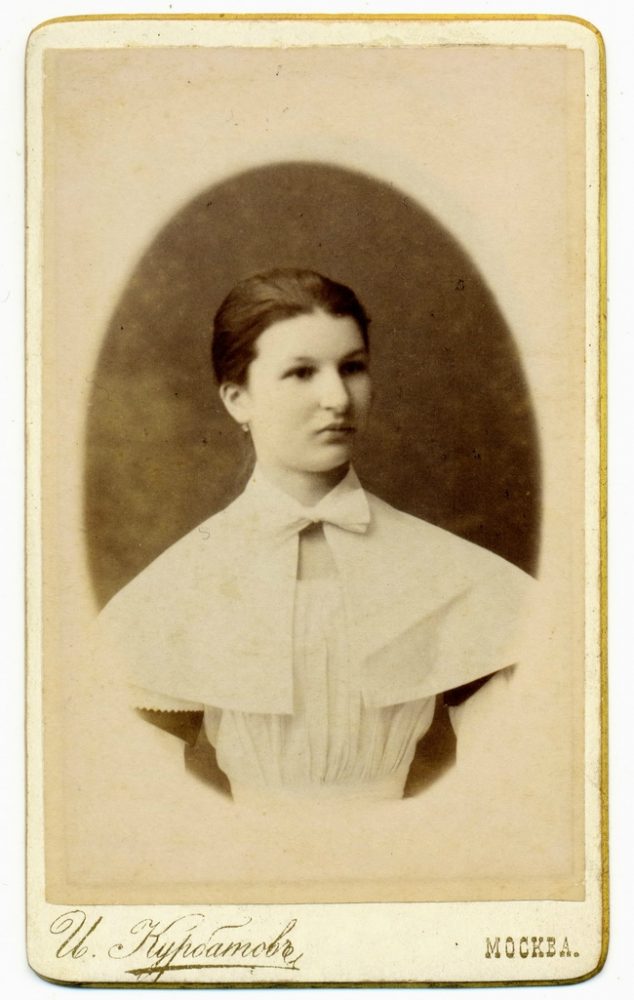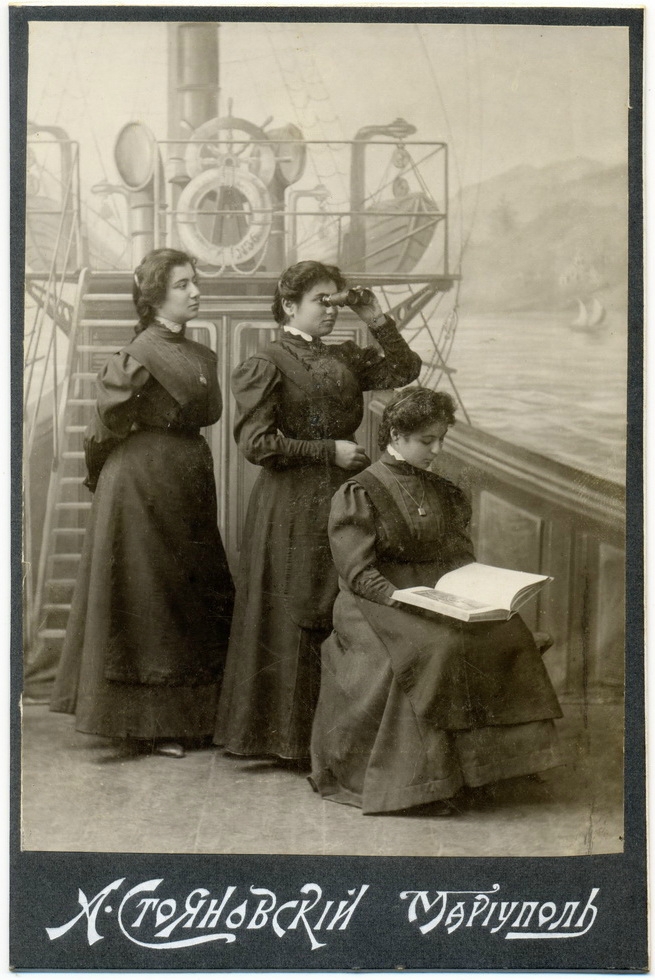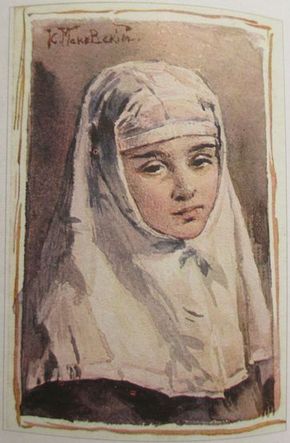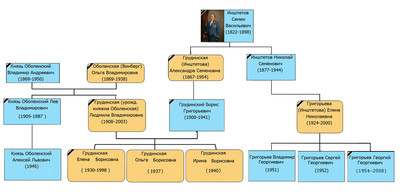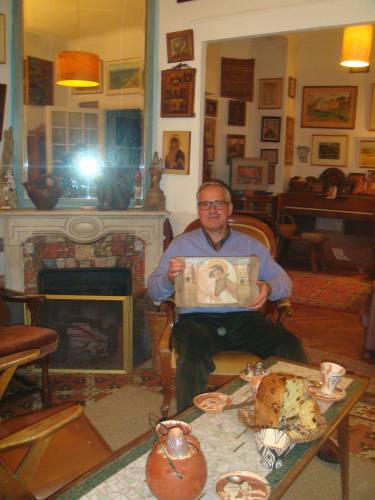Мария Александровна Пушкина - Гартунг |
В стиле ЖЖ
Мария Александровна Пушкина - Гартунг
- Apr. 4th, 2013 at 9:40 PM
портрет кисти И. Макарова
Старшая дочь Пушкина была названа Марией в честь своей прабабки — Марии Алексеевны Ганнибал. Через две недели после рождения дочери Марии Пушкин шутливо писал княгине В. Ф. Вяземской: «Представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы. Я в отчаяньи, несмотря на все мое самомнение». В раннем детстве Маша доставляла много хлопот родителям. Отправив на лето в 1834 году жену с двухлетней дочерью и годовалым сыном в Москву (а затем в калужское имение), к матери Натальи Николаевны и ее сестрам, поэт не переставал беспокоиться о семье. «…Что Машка? — пишет он в Москву, в дом Гончаровых, — чай, куда рада, что может вволю воевать». В одном из последующих писем он просит теток «Машку не баловать, т. е. не слушаться ее слез и крику, а то мне не будет от нее покоя…», «Целую Машку и заочно смеюсь ее затеям», — пишет он тогда же в другом письме. Ольга Сергеевна Павлищева считала своего брата «нежным отцом» и, конечно, не ошибалась в своем мнении.
Самые ранние портреты детей Пушкина находятся в уже упоминавшемся не раз альбоме Н. Н. Пушкиной. Н. И. Фризенгоф зарисовала их всех вместе сидящими за обеденным столом в Михайловском 10 августа 1841 года. В центре группы — спокойная, серьезная и сосредоточенная девятилетняя Маша, справа от нее — самая младшая, Таша, и Александр, годом моложе старшей сестры, слева — шестилетний Гриша. В этом же альбоме находится и другой портрет старшей дочери Пушкина — работы Томаса Райта, относящийся к 1844 году; двенадцатилетняя девочка изображена на нем в профиль, с задорно вздернутым носиком и двумя длинными косичками, на ней ярко-розовое платье.
Получив хорошее домашнее воспитание, Мария Александровна появилась в свете, удивляя окружающих не столько красотою в общепринятом значении этого слова, сколько своеобразным изяществом, оригинальным сочетанием черт отца и матери. В 1852 году Мария Пушкина, так же как и ее младшая сестра, была нарисована Николаем Ланским; рисунок предназначался для уезжающей из России Александры Николаевны Гончаровой-Фризенгоф. Этот скромный, «домашний» портрет двадцатилетней М. А. Пушкиной находится в альбоме А. Н. Фризенгоф.
В том же году, в декабре, Мария Александровна Пушкина «была пожалована» фрейлиной. В то же время фрейлинами по-прежнему были обе сестры Карамзины: Софья и Елизавета Николаевны — Антонина Блудова, а чуть позже — и 23-летняя дочь поэта Тютчева, Анна Федоровна, принятая ко двору в 1853 г., писавшая в своих воспоминаниях: «В то время фрейлинский коридор был очень населен. При императрице Александре Федоровне состояло двенадцать фрейлин, что значительно превышало штатное число их. Некоторых из них выбрала сама императрица, других по своей доброте она позволила навязать себе».
Одной из светских приятельниц-фрейлин М. А. Пушкиной стала дочь А. О. Смирновой (Россет) — Ольга Николаевна, которой она писала: «Мы веселимся здесь так, как еще никогда не развлекались; танцуем, катаемся верхом, делаем прогулки в Красное Село и ведем в высшей степени веселый образ жизни».
Вскоре после свадьбы сестры Маша Пушкина написала своей подруге — фрейлине Ольге Николаевне Смирновой — о своей зимнедворцовой жизни: «Что касается до магнетизма, то все заняты верчением столов. Я не знаю, возможно ли в это верить или нет. Но ответы иногда получаются поистине удивительные. Вызывают мертвых, спрашивают их души. В Москве, говорят, Нащокин вызывал дух моего отца, который ответил ему стихами».
Примерно в это же время писатель С. М. Загоскин отмечал: «Я представился <…> Марии Александровне Пушкиной, к которой влекло меня уже то, что она была сестрою Н. А. Дубельт, т. е. дочерью Ал. Серг. Пушкина. Хотя она и не отличалась никакой красотой и даже не имела ничего схожего с лицом своего отца, но умные, выразительные глаза и простота в обращении со всеми невольно привлекали к ней молодежь».
Примерно в это время ее портрет написал художник Иван Кузьмич Макаров. На портрете И. К. Макарова М. А. Гартунг одновременно похожа на Пушкина, бабушку Надежду Осиповну и тетку Ольгу Сергеевну. Недаром бабушка и тетка любили Машу Пушкину «до безумия». Надежда Осиповна просила Ольгу Сергеевну нарисовать внучку «в виде рафаэлевского ангела», считая ее «очень милой и хорошенькой». Сама Ольга Сергеевна утверждала, что племянница очень похожа на нее. В феврале 1841 года она пишет мужу из Петербурга: «Невестка моя хороша, как никогда. Старшая ее дочь на меня очень похожа и от меня не отходит, когда я прихожу. Я тоже люблю эту девочку и начинаю верить в голос крови».
В апреле 1860 года Мария Александровна вышла замуж за Леонида Николаевича Гартунга, по словам князя Д. Д. Оболенского, «блестящего представителя конной гвардии», человека «вполне честного, но очень беззаботного». Детей в этом браке не было. "…Чем огорчаться, возьми пример с Гартунга, который осеняет себя крестным знамением, говоря, что очень рад, что его жена не делает его отцом, а жена его хохочет", — писала Ольга Павлищева в письме сыну.
Генерал Гартунг имел поместье под Тулой и хорошее служебное положение: он был начальником первого коннозаводского округа. В октябре 1877 года он трагически погиб. Его несправедливо обвинили в хищении денег и других злоупотреблениях. 56-летний Федор Достоевский, потрясенный этим происшествием, записал в «Дневнике писателя…», что Гартунг, не дожидаясь вынесения приговора, «выйдя в другую комнату… сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце».
«При покойном нашли записку следующего содержания: „Клянусь всемогущим богом, я ничего не похитил по настоящему делу. Прощаю своих врагов“, — писал корреспондент газеты „Московские ведомости“. — Похороны генерала Гартунга состоялись при громадном стечении публики. Ему были оказаны большие воинские почести. Тело покойного было перенесено из здания Коннозаводства на Поварской в церковь. На панихиде присутствовала вдова Гартунга, его старушка-мать, родные и близкие, высшие военные и гражданские чины во главе с московским губернатором, и многие другие. Из церкви гроб несли на руках через всю Москву. За ним следовали погребальная колесница, его конь, покрытый траурной попоной, далее большая процессия экипажей и батальон местных войск с оркестром. Похороны состоялись на кладбище Симонова монастыря».
«Вся Москва была возмущена исходом гартунского дела. Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности. Да и высшее правительство не верило в его виновность, не отрешая его от должности, которую он занимал и будучи под судом. Владелец дома, где жил прокурор, который благодаря страстной речи считался главным виновником гибели Гартунга, Н. П. Шипов приказал ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, не желая иметь, как он выразился, у себя убийц. Последствия оправдали всеобщую уверенность в невиновности Гартунга. Один из родственников Занфтлебене был вскоре объявлен несостоятельным должником, да еще злостным, и он-то и оказался виновником гибели невинного Гартунга», — вспоминал позднее князь Д. Д. Оболенский.
«Это был благородный и честнейший человек, — писала А. П. Арапова о Леониде Гартунге, — ставший жертвою новых веяний. Невинная кровь его обрызгала позорную, холодную жестокость тех, кто лицеприятно подтасовывал факты, чтобы <…> посадить его на скамью подсудимых. К счастью матери, она не дожила до этого кроваваго эпизода».
Писала о нелегкой судьбе Марии Александровны и ее племянница Е. Н. Бибикова: «Она вышла замуж уже старой девой за генерала Гартунга. Он последнее время заведовал коннозаводством и жил на казенной квартире на Тверской в Москве. Жили они не дружно, сперва у него в имении, в Тульской губернии, а затем в Туле. Когда дела его пошатнулись, тетя уходила от него, а после известного суда, когда Гартунг застрелился в суде, тетя осталась без средств. Она написала письмо государю Александру II, вспоминая известное письмо Николая Пушкину, что дети Пушкина не будут в нужде, и прося о помощи. Ей назначили пенсию в 200 руб. в месяц, на которую она жила в Москве, на Кисловке в доме Базилевского, снимая меблированную комнату, и жила очень скромно. Лето проходило в деревне у сестер, и это составляло ей экономию на зиму».
Л. Н. Толстой встретил Марию Александровну в Туле в 1868 году в доме генерала Тулубьева. Узнав, что М. А. Гартунг дочь Пушкина, Лев Николаевич чрезвычайно заинтересовался ею. Свояченица Толстого Т. А. Кузминская в своей книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» писала об этом вечере: «…вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру». Великий писатель сразу же заметил в ней общие черты с Пушкиным, особенно удивительные «арапские завитки на затылке». «Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, — продолжает Кузминская, — он сел за чайный стол около нее; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это».
Мария Александровна подолгу жила в Москве, в доме на Поварской (ныне улица Воровского), где у супругов была большая квартира. После гибели мужа она больше не выходила замуж, детей у нее не было. Когда у Александра Александровича умерла жена, М. А. Гартунг, уже в роли «тети Маши», помогала воспитывать его осиротевших детей. Часто гостила Мария Александровна в имении Лашма, у своей сводной сестры Александры Петровны Араповрй, с которой была очень дружна, приезжала к ней также в Петербург. Бывала М. А. Гартунг и в Лопасне — имении близких родственников Ланских — Васильчиковых и в Андреевке, у другой сестры — Елизаветы Петровны. Внучатая племянница старшей дочери Пушкина С. П. Воронцова-Вельяминова вспоминала: «Я хорошо помню тетю Машу на склоне лет, до самой старости она сохранила необычайно легкую походку и манеру прямо держаться. Помню ее маленькие руки, живые блестящие глаза, звонкий молодой голос».
Мария Александровна принимала деятельное участие во всем, что было связано с памятью о ее отце. Москвичи часто видели Марию Александровну сидящей в глубокой задумчивости около памятника великому поэту.М. А. Пушкина прожила долгую жизнь (родилась 19 мая 1832 года — умерла 7 марта 1919 года). Е. Н. Бибикова писала: «Она умерла в 1919 году в нищете, так как ее лишили пенсии, а вещей у нее не было для продажи; а вернули ей пенсию при большевиках, и первый взнос пошел на ее похороны».https://duchesselisa.livejournal.com/171083.html
|
Метки: пушкины |
Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия |
Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия. Часть 2
Интересные факты в жизни российских эмигранток в XIX – первой половине XX столетия. Часть 2
Фаина фон Мессинг, занимавшаяся делами Русской колонии, убедила старшую Бородину увековечить память покойной дочери в виде «русского уголка». Для распоряжения оставленным капиталом 4 июня 1895 г. было учреждено «Благотворительное общество помощи больным» на основании устава, одобренного властями в Инсбруке, капитал Бородиной был передан обществу через ее душеприказчика И. С. Белавина, а уже 8 июня 1895 г. на общем собрании общества было решено строить Русский дом. Приобрели участок, на котором уже велось строительство двух вилл. Было принято решение их достроить, а также возвести храм и разбить сад. Двадцать седьмого сентября 1897 г. здесь были приняты первые гости. Постояльцы прибывали на зимний период, длившийся с 16 сентября до 15 июня. Социальный состав приезжавших отличался разнообразием. Имелось много малоимущих, так как «по завещанию Надежды Бородиной было оставлено 140 000 флоринов на приют для российских подданных». Это были студенты, инженеры, гувернантки, крестьяне, больные дети и подростки.
Приезжали также и представители знатных семейств России: граф А. Канкрин, князь А. Гагарин, сенатор В. Ратьков-Рожнов, графы Клейнмихели, княгини О. Урусова и А. Шаховская, баронесса Врангель, графини В. Горчакова и А. Стенбок, фрейлина А. Ф. Тютчева (дочь поэта), работники дипломатического корпуса. Правила проживания были достаточно строги. Администрация настаивала на православном характере заведения, а потому полякам и евреям в праве пользовании Русским домом отказывали - прибывавшие предъявляли справку о крещении. Имелась библиотека, но политические и религиозные дискуссии запрещались. Доктор фон Мессинг для бедных проводил медицинские консультации бесплатно. Безнадежно больных не принимали в связи с тем, что каждый сезон колония недосчитывалась десятков своих членов, что отрицательно отзывалось на психологическом состоянии курортников. Именно для возможности отправления православного культа и психологической стабилизации больных было принято решение о строительстве православного храма, который освятили в конце 1897 г. Почетной попечительницей стала великая княгиня Екатерина Михайловна. Скончавшихся в последний путь провожал священник. Принадлежавших к аристократическим и зажиточным слоям общества чаще всего увозили погребать в Россию. В связи с Первой мировой войной деятельность санатория остановилась. Но церковную жизнь православной общины в 1920-1930-е гг. продолжал курировать священник И. Лелюхин, ибо курортников начали сменять эмигранты. Процесс же перерастания блистательной эпохи российского «аристократического туризма» в курортно-лечебный период безнадежно больных «туберкулезников», а затем и грустную эмиграционную веху более четко просматривается на примере курортов юга Франции.
Старейший город Сардинского королевства, Ницца, как и его столица - Турин, стал принимать граждан Российской империи уже с конца XVIII столетия, когда Россия начала использовать в военных целях основной порт Сардинского королевства. С XIX же века небольшие приморские городки Ницца и Ментон стали излюбленными местами не только кратковременного отдыха, но и продолжительного проживания семей русской аристократии. Сардинское королевство в этот период сохраняло независимое положение по отношению к Франции и являлось одним из высокоразвитых итальянских государств, что и привлекало высокопоставленных российских путешественников.
На побережье стали селиться такие выдающиеся представители русской аристократии, как Вильегорские, Мещерские, Соллогубы, Смирновы и др. Эта привязанность русских к Ницце дала повод имератрице Александре Федоровне инициировать строительство православной церкви. По официальной статистике, уже «к середине 50-х годовХ1Х века в Ницце проживали 104 семьи иностранцев, из которых русских было... 30 семей, англичан — 19, французов — 24 и прочих национальностей — 21... Русских было много... относительно других иностранцев». В 1860-е гг. число русских семейств, проводивших зиму на Лазурном Берегу, уже достигло двух тысяч, а в зимний период 1881/1882 г. в Ницце постоянно проживало более двух с половиной тысяч россиян. Наиболее обеспеченные из них - князья Апраксины, Лобановы-Ростовские, Кочубеи и другие - начали строить собственные виллы на мысе Антиб и в Ницце. «За первое десятилетие массированного русского присутствия население Ниццы выросло на 83 % (средний показатель по Франции — 6 %), причем до 60 % жителей города составляли русские».
Всего в период с 1859 по 1912 г. на юге Франции было создано четыре культовых места для православных верующих: это церковь Николая Чудотворца в Ницце, открытая в 1859 г.; Архангело-Михайловская церковь, открытая в 1894 г. в Каннах; церковь Иконы Божьей Матери, открытая в том же году в Ментоне, а также Свято Николаевский собор в Ницце, открытый в 1912 г. Нигде на территории итальянских государств не было построено так много русских храмов, как здесь. Этот факт свидетельствовал как о существовании особого имперского интереса к Ривьере и ее популярности среди российского дворянского сословия, так и о лояльном отношении властей Сардинии (а впоследствии и Франции), чем незамедлительно воспользовались появившиеся здесь вслед за аристократами, морскими офицерами и провинциальным полусветом частные предприниматели.
Со временем, в отличие от других курортов (Сан-Ремо, Мерано), сюда стали приезжать не просто недомогающие представители дворянского сословия России - сюда ехали «прожигатели» жизни, о которых «Вестник Русской Ниццы» писал: «Русская Ницца имеет даже своих финансовых тузов, которым принадлежат и доходные дома, и роскошные виллы». В отличие от чопорного Петербурга. расточительность и некоторая распущенность не осуждались и даже одобрялись, а потому большой известностью стали пользоваться такие «нувориши», как «железнодорожные короли» П. Г. фон Дервиз и К. Ф. фон Мекк.

Творческой интеллигенции было меньше, но и ее представители также выделялись на фоне «скучных русских барынь», селившихся в Pension Russe. Так, «славилась в русской колонии Ментона балерина Мариинского театра Ю. Н. Седова. Многие из ее школы попадали в балет. Дягилева».
Местное население, восхищаясь русским искусством в лице «Русского балета» Дягилева, российскую знать, традиционно продолжавшую сорить деньгами «в местах с мягким климатом», не всегда воспринимало как явление благоприятное. Тем не менее в 1892 г. в Ментоне было завершено строительство Русского дома-санатория. Соседство великосветской аристократии с лечившимся здесь провинциальным полусветом очень точно уловил отдыхавший в Ницце в 1897-1898 гг. А. П. Чехов: «Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe, — рожи скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как здесь мы (то есть я и эти барыни), — это препротивный эгоизм».
Помимо золотой и мещанской молодежи сюда стремились попасть и представительницы передовой части российского юного поколения, которые своим неординарным поведением также шокировали местную публику. Олицетворением феминизма молодых россиянок стал образ художницы М. Башкирцевой, прожившей несколько лет во Франции, где она закончила за два года 7-летний курс Академии живописи. Башкирцева скончалась в возрасте 26 лет в 1884 г. Ее «Дневник», пронизанный пафосом стремления к самостоятельной работе и восхищением Италией, превратился в манифест европейского феминизма и гимн женскому творчеству. Занимаясь в частной Академии живописи Рудольфа Жюлиана, Башкирцева находила в искусстве путь к освобождению от установленных правил, готовивших девушку исключительно к замужеству. Со временем художница все более и более дистанцировалась от окружающего мира: «Выйти замуж и детей рожать... Но каждая прачка в состоянии это делать. Чего же хочу я?.. Я хочу славы!». Неудивительно, что личность Башкирцевой была отражена в образе Ирины в пьесе «Три сестры» А. П. Чехова, последние акты которой писатель создавал в Ницце. «Многие монологи Ирины являются парафразами из Башкирцевой. Ирина говорит: ,,И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать”. У Башкирцевой: ,,Я поднимаюсь на крыльях поэзии.”. Страдания Ирины: ,,Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется” - это тоже один из лейтмотивов Башкирцевой. Знаменитые слова Ирины: ,,О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно,.. но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян” - соотносятся с мыслями Башкирцевой: ,,Я вижу в себе такое сокровище, которого никто не достоин”, которое ,,заперто в драгоценный ящичек с золотым ключом”». Даже представления о работе и мечты о любви у Башкирцевой и Прозоровой аналогичны. Труд над собой и совершенствование мастерства дали свои результаты - Башкирцева стала первым русским художником, чьи произведения приобрел Лувр.
Другая талантливая художница-карикатуристка - А. А. Хотинцева - несколько раз приезжала в Русский пансион и гостила у А. П. Чехова, поражая «местных» неординарностью поведения: «Здесь считается неприличным пойти в комнату к мужчине, а я все время сидела у Антона Павловича».
И здесь многие курортники, подобно Башкирцевой и дочери Дервиза, умирали от туберкулеза во цвете лет, отчего расширялась территория местных кладбищ, хотя многие из скончавшихся на Лазурном Берегу желали быть захороненными на Родине. Среди них - многолетний друг и финансовый покровитель П. И. Чайковского Надежда фон Мекк. Обострение туберкулеза сопровождалось тяжелыми душевными переживаниями, вызванными разнообразными слухами по поводу странного заболевания ее кумира. Современные исследователи скорый отъезд Н. фон Мекк на виллу в Ниццу объясняют нежеланием давать разъяснения по поводу «азиатской холеры» великого композитора, вызванной «судом чести» светского Петербурга. Фон Мекк пережила своего «дорогого друга» всего лишь на три месяца. После отпевания в соборе Св. Николая ее тело было отправлено в Россию, так как Надежда Филаретовна не желала быть захороненной на кладбище «Кокад». Оно было организовано на склонах одноименного холма во второй половине XIX века, приобретенного ранее Российской империей ранее для размещения артиллерийской батареи.
Русское кладбище в Ницце очень обширно, и можно долго бродить среди могил, находя известные имена: вторая супруга Александра II княгиня Е. Долгорукая; брат декабристки М. Волконской полковник А. Раевский - друг Пушкина; С. Сазонов - министр иностранных дел России, княгиня Е. Сербская; генерал от инфантерии
Н. Юденич, княгиня Е. Кочубей и др.
Здание музея имени Жюля Шере появилось в Ницце благодаря Е. В. Кочубей (1821-1897). Она начала строить особняк в Ницце в 1878 г. Денег не хватило, недостроенный особняк пришлось продать, и в 1925 г. здание оказалось во владении города. Тремя годами позже здесь был открыт Музей имени Ж. Шере - французского художника, отца афиши и плаката, жившего в Ницце в последние годы своей жизни. Кочубей «можно назвать ,,дважды Кочубеем Российской империи”» - эту фамилию она носила и до замужества. Она была дочерью В. В. Кочубея, полковника, участника Отечественной войны 1812 г., позже стала невесткой светлейшего князя В. П. Кочубея, известного русского государственного деятеля, приятеля императора Александра I, председателя Кабинета министров Российской империи. Этот сановник был многодетен — имел 12 детей, и один из его сыновей и женился осенью 1839 г. на своей троюродной племяннице. Настоящая светская львица, она увлекалась музыкой, сочиняла романсы, некоторые из которых стали популярными.
На каннском кладбище «Гран-Жас» нашли последний приют как представители высокородных аристократических семейств и разбогатевших буржуа, так русская интеллигенция и «богема» - Лобановы-Ростовские, Барятинские, Хованские, Дервизы, Фаберже, Ольга Пикассо. Могилы боевых генералов присоединились к ним после Гражданской войны: Туманов, Церпицкий, Ванновский. Послереволюционная эмиграция устремилась на Лазурный Берег не только по причине мягкого климата, но и потому, что уже в 1913 г. русская колония здесь превратилась в самое большое русскоязычное образование в Западной Европе — она насчитывала 3 300 человек.
На примере курортной жизни мы убеждаемся в том, что присущие русской культуре образы сильной, властной женщины и ее слабой, беспомощной современницы находили параллель и на Апеннинах, где ярко выраженные эмансипе проживали неподалеку от тяжелобольных соотечественниц. Большинство же, пытаясь укрыться от жизненных бурь России, просто пыталось сохранить здесь старомодный «добропорядочный» образ жизни российских обывателей и оставляло память о себе в небольших спокойных городках Италии в качестве благотворительниц и организаторов салонно-курортной жизни (Третьяковы- Боткины, Таллевичи, Мессинги, Сведомские, Ю. Н. Седова и др.). Некоторым из них удавалось удивительным образом совмещать повседневную курортную деятельность с революционной (М. Андреева, Р. Плеханова).
Активно стремясь ассимилироваться с европейским обществом, дворянки сохраняли и традиционно российский образ жизни: совершали семейные прогулки по городу, посещали православные церкви, организовывали салонную жизнь, занимались хозяйством, превращаясь, таким образом, из чужестранок в духовных подвижниц, олицетворявших российскую культуры в Европе. Отсюда в памяти итальянцев остались не только мифы о шикующих русских «светских львицах», но и реальные дела россиянок - вдохновительниц курортного дела. А нас и сегодня волнуют трогательные надписи на захоронениях скоропостижно скончавшихся эмигранток и курортниц - Достоевской, Башкирцевой, фон Дервиз, фон Мекк, Бородиной, Л. Украинки и многих других. Эти неизлечимо больные молодые женщины проявляли на лечебных курортах Италии и Франции свои лучшие морально-этические качества, становясь олицетворением лучших черт женской независимости. Воистину к ним относятся слова великого русского историка Сергея Соловьева: «Те, кто жил в стороне от большого движения истории, больше других создали историю».
Таким образом, после знакомства с историей российских путешественниц и эмигранток не вызывает удивления тот факт, что и сегодня Лазурный Берег Франции остается одним из самых популярных мест отдыха среди россиян.
15 мая 2013 /
Новости » Всё об отдыхе и туризме
Комментарии
https://www.bygeo.ru/novosti/vse-ob-otdyhe-i-tyriz...vine-xx-stoletiya-chast-2.html
|
Метки: русское зарубежье |
Искандер и князь Юрка Голицын |
Искандер и князь Юрка Голицын
15 июня 2012, 23:00 4389

Спроси сегодняшнего выпускника средней школы, кто это такой Герцен, вряд ли услышишь вразумительный ответ. Тем более, если ещё про его псевдоним журналиста-публициста - Искандер - задашь вопрос.
А вот школьника-мичуринца, особенно из старожилов, хотя и жертву ЕГЭ, как тысячи подобных по России (есть достоверная информация: Министерство образования ожидает реформирование, а пресловутый Единый государственный экзамен с нового учебного года будет сдаваться по итогам девятилетки), именем Голицын вряд ли поставишь в тупик. Он, может, чуть поколеблясь, назовёт свой, местный Дом-музей князя Голицына.
Но связь между Герценом и "нашим козловским" Голициным - вот это уже для юного поколения современной России, за редким исключением, настоящий бином Ньютона.
А между тем она не менее интересна, скажем, чем сюжет "Трёх мушкетёров" (книга, конечно, а не одноимённые фильмы) Александра Дюма.
Герцен Александр Иванович родился в Москве 25 марта (старый стиль) - 7 апреля (новый стиль) 1812 года в семье богатого русского помещика И.А. Яковлева и Луизы Гааг. Иван Алексеевич Яковлев, как сказано в биографии младшего из его сыновей Александра, дал ему фамилию "в знак своих сердечных отношений" (от немецкого слова das Herz - сердце) с молодой и красивой женщиной, романтически вывезенной им из Штутгарта и никогда так и не ставшей его "законной" женой".
Александр Герцен закончит физмат Московского университета, станет писателем, вошедшим в обойму классиков русской литературы. Неистовый критик Виссарион Белинский, впрочем, откажет ему в художественном даре, заметив, что у Герцена, "…натуры преимущественно мыслящей, талант и фантазия ушли в ум - ум осердеченный, не привитый и не вычитанный, а присущий самой натуре". Эту же особенность молодого 25-летнего прозаика подчеркнёт и другой критик - Валериан Майков: "…он, несомненно, поражает больше умом, а не талантом".
В мае 1846 года умирает отец Александра Герцена И.А. Яковлев. Сыну остаётся довольно значительное наследство, не подорванное широкой благотворительностью родителя и его родни. Особенно племянника, полного тёзки дяди, оставшегося в истории Москвы за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казённые строения исконной столицы державы, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года. До конца вполне безбедной жизни в эмиграции Герцену-Искандеру хватит, в том числе и на издание "Полярной звезды" с "Колоколом", средств от продажи отцовской недвижимости по всей России.
Ещё в студенческую пору заразившись модным тогда и опасным вольнодумством, в январе 1847 года Александр Герцен вместе с семьёй выезжает за границу, не предполагая, что покидает Россию навсегда. Живёт то в Риме, то в Париже, участвуя лично и своей публицистикой во всех самых острых общественно-политических событиях Западной Европы. Осень 1851 года принесла ему личную трагедию: во время кораблекрушения погибает его мать Луиза Гааг и сын. В мае следующего, 1852-го, умирает жена.
Герцен переезжает в Лондон, где начинает работу над книгой-исповедью "Былое и думы", ставшей вершиной его мастерства писателя и публицистики дворянского революционера. А ещё год спустя основывает знаменитую Вольную русскую типографию, начинает издавать альманах "Полярная звезда", чтобы летом 1857 года приступить вместе со своим другом и единомышленником поэтом Огарёвым к выпуску газеты "Колокол".
Здесь, в Лондоне, и пересекутся пути политического эмигранта Александра Герцена с козловским ссыльным - князем Юрием Голицыным…
Читаю, вернее - перечитываю в который раз повесть одного из самых востребованных наших художников слова времён заката Советской империи Юрия Нагибина "Сильнее всех иных велений, или Князь Юрка Голицын", 1988 года издания. Вот её начало:
"С детства и до седых волос его звали Юрка. Не Юрий, не Georges, как принято было в тех кругах, где он вращался… Юрку Голицына любили и побаивались. У этого колосса с простодушным открытым лицом, рано украсившимся великолепными бакенбардами и подусниками, был живой насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию…".
Сегодняшнему русскому человеку, и за двадцать минувших лет ещё не окончательно притерпевшемуся к положению, когда народом потеряно чувство семьи единой и не слишком вдохновляющим фактом действительности является глубокий социальный разлом, породивший две противоположные России - страну богатых, сверхбогатых и Россию большинства бедных и нищих граждан, трудно вообразить, как непохожи были "лондонский декабрист" середины девятнадцатого века и князь Юрий Николаевич Голицын. Они порождение двух несоприкасающихся социальных корней. Одним уже своим происхождением.
Если Герцен-Яковлев - из семьи удачливых предпринимателей времён царствования Екатерины Второй, то Голицын - потомок древнейшего славянского рода, уступавшего своей родовитостью только Рюриковичам. Он - Гедеминович.
В роду Голицыных перед Юрием Николаевичем числилось двадцать два боярина, три окольничих, два кравчих. Сплошь царедворцы. Он не кичился своей знатностью. За полторы тысячи лет существования России в потомках полулегендарного Гедемина воплотились едва ли не все характеры, воплощённые пером до сих пор неразгаданного до конца Гоголя в "Тарасе Бульбе" и "Мёртвых душах". Музыкант от Бога, композитор, создатель и капельмейстер сперва крепостного хора, а после освобождения крестьян - наёмного хора, с которым объездил пол-России, он, бывало, говаривал: "Мне приходилось позволять мне аплодировать тем, у кого нет предков".
Одним из них станет не имевший знатных предков лондонский сиделец Герцен-Искандер.
Хор князя Юрия Голицына имел невероятный успех не только благодаря великолепному подбору и выучке крепостных певцов, с каждым из которых он занимался лично, но и талантливой музыкальной трактовке исполняемых произведений, тончайшему чувству народного мелоса, голосовых интонаций.
Отмена крепостного права в России Александром Вторым в начале 50-х годов ХIХ века поставила Юрия Голицына перед выбором: либо продать его хористов за скромную плату царскому двору, либо набирать наёмных певцов, для чего нужны были немалые средства. Состояние Юрию Николаевичу досталось от матери - большое торговое село Салтыки в Тамбовской губернии. Но ко времени ссылки в Козлов за сперва в письмах, а потом и личное его общение с "государственным преступником пострашнее декабристов" - Герценом-Искандером от материнского богатства у него, человека семейного, осталось разве что на личное безбедное существование.
Царь отказался от сделки, и Юрию Голицыну ничего не оставалось, как попытаться зарабатывать для себя и своей семьи творчеством хормейстера и композитора. Он раздосадован, он в обиде на царский двор. И без особого раздумья решает снестись с "Колоколом" Герцена своими разоблачениями российской действительности в памфлетном духе. Почему бы и нет? Ведь у него хороший слог, что он доказал попытками оставить после себя мемуары (то, что из этого дошло до нас отрывочно, будет цитировать Юрий Нагибин в своей повести).
А тут его блистательный отец Николай Борисович Голицын, англоман, музыкант и переводчик, воспитанник иезуитского колледжа, вздумал на старости лет некстати разразиться брошюрой о преимуществах католицизма перед православием. И вручил сыну рукопись для герценского "Колокола". Тот, истовый православный, и прихватил её с собой не читая.
Юрка Голицын добросовестно выполнил поручение отца и направил свои стопы в Лондон к Герцену.
Искандер и прежде обращался к личности князя Юрия Голицына. Писал о нём порой сочувственно и добродушно, порой зло, неизменной оставалась только восторженная оценка его как музыканта. "Обломком всея Руси" прозвал его Герцен.
Узнать друг друга ближе они не смогли. Нетерпеливая душа князя погнала его за океан. А по возвращении в Европу он получил строжайший приказ из императорской канцелярии: немедленно ехать в Санкт-Петербург.
Сюрприз был ожидаемый: безымянная брошюра с хулой на православную церковь успела выйти, как и саркастические наблюдения самого Юрия Голицына над современной российской действительностью. Авторы установлены по доносам в секретную службу. Со старого князя что было взять, и весь гнев обратился против его сына. Его лишают камергерского звания, увольняют со службы по ведомству императрицы Марии Александровны и ссылают в Козлов под надзор полиции.
То, что произошло в Козлове, достойно пера бессмертного Гоголя и оставило нам, потомкам, патриотам своего города, незабываемый по своей оригинальности и красоте анекдот. Деятельной натуре Юрки Голицына было не до хлопот о новом хоре. Он разрабатывает план бегства совершенно в духе Хлестакова. Максимально привлекает внимание властей к своей персоне авантюрным решением дать козловской скучающей молодёжи прекрасную зимнюю забаву на кстати подоспевшую широкую Масленицу: горку для катания на санках. Да что там горку - горищу: от своего, отцом для него заботливо построенного, дома на базарной площади и дальше, до самой реки - Лесного Воронежа, чтобы отважных саночников выносило аж на другой берег. Это встанет для него в копеечку, ведь надо проложить трассу, ровно залить её водой и соорудить снеговые борта для безопасности катающихся, но игра стоила свеч.
Сам князь-затейник с дозволения властей перед открытием горки отправляется в Тамбов якобы на свидание с губернатором. И там его ожидало приятное сообщение по телеграфу от городничего: "Гору огородили, ждём ваше высокопревосходительство для торжественного открытия увеселения". На что последовал лаконичный ответ князя: "Городите дальше"…
В незаконченных воспоминаниях Юрия Голицына автор повести о нём Юрий Нагибин нашёл перечень эпизодов-главок о путешествии князя в Англию. "…Австрийская пароходная компания "Ллойд". Сильная качка под Варной. Шквал. Крушение и гибель парохода. Меня чуть не выбросило за борт. Восход солнца. Тишь и вход в Босфор. Константинополь, таможня и покупка фиц-гармоники. Гонят с парохода. Нигде не принимают. Отчаянное положение. Греческий пароход "София" под английским флагом. Опять плывём. Каир. Египетская железная дорога. Река Нил. Рамазан в Каире. Пирамиды. Крокодил…".
И вот перед князем долгожданная встреча с Герценом. Он увидел перед собой человека небольшого роста, плотного, с прекрасной головой, проседью густых волос, закинутых назад без пробора, высоким лбом, живыми умными глазами, энергично оглядывающими Голицына, широким русским носом.
Между тем Герцен от одного только перечня главок небрежных записок своего гостя почувствовал лёгкое головокружение, особенно, когда услышал одиссею Голицына. Он писал в "Былом и думах":
"…Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой…
- Дорого тут у вас в Англии б-берут на таможне, - сказал он, чуть заикаясь, окончив курс своей всеобщей истории… - Я заплатил шиллингов пятнадцать за крок-кодила…
- Да это что такое?
- Как что - да просто крок-кодил.
Я сделал большие глаза и спросил его:
- Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта - стращать жандармов на границах?
- Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок продаёт крокодила. Понравился, я и купил.
- Ну а арабчонка купили?
- Ха, ха - нет"…
Князь подписал тогда, как ему казалось, выгодный контракт, с г. Кардуэлем, содержателем одного из лучших увеселительных салонов Лондона. Концерт происходил в огромном зале, вмещавшем восемь тысяч человек. Он имел бешеный успех, билетов было продано вдвое больше, чем было мест, люди забили проходы, стояли во дворе.
Герцен так отрецензирует уникальные для Лондона этот и другие концерты его нового друга из России: "…Это великолепно. Как Голицын успевает так подготовить хор и оркестр - это его тайна, но концерт был совершенно из ряду вон. Русские песни и молитвы, "Камаринская" и обедня, отрывки из оперы Глинки и из "Евангелия" ("Отче наш") - всё шло прекрасно…". Впрочем, он не был бы самим собою, не добавив перца критика в очень уж своеобразную натуру князя: "…Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой "скипетр" (жезл капельмейстера) из слоновой кости".
Следующий концерт в этом зале не состоялся. Салон, накануне "удачно" застрахованный жуликом хозяином, ночью загорелся. В номере газеты "Экспресс" появилось такое сообщение с места пожара: "Пока мы пишем эти строки, Серейгарденский зал, в котором вчера был концерт под управлением принца Голицына, наполовину уже сгорел".
Голицын прочёл заметку, снял шляпу, перекрестился и сказал: "Да будет воля Твоя".
Голицын придавал своим концертам в Англии политическую окраску. Всякий раз исполнялись либо "Вальс Герцена", либо "кадриль Огарёва", либо "Симфония освобождения".
"Князь запросился в Россию, когда худшие дни его лондонской жизни миновали, положение укрепилось и нужда не стучала в дверь. Искандера покоробило отступничество князя. Но ностальгия не покидала его гостя с самого приезда в Англию. Он задыхался на чужбине, не мог больше без русских песен. Голицыну нужна была русская песня в поле, на завалинке, в курной избе. Песня самого неискусного, хрипатого, сипатого церковного хора, заунывная песня ямщика, солдатская - под шаг. И ему необходима была та обстановка, тот свет, те снега, те дали, те запахи, те болести, в которых зарождаются эти песни. Он страшился, что его искусство захиреет в чужом климате, что без свежего притока оно растворится в общеевропейской стихии…". Так русский художник слова Юрий Нагибин объяснил неизбежность возвращения героя своей повести домой.
По крупицам собрав историю жизни князя Юрия Голицына и оплодотворив её своим воображением, писатель Юрий Нагибин доведёт её до оптимистического конца.
…Вскоре по явлении утихомиренного годами и невзгодами Юрия Николаевича в Россию ему разрешат гастроли, в том числе на великую Нижегородскую ярмарку. Это было почётно: перед тамошней аудиторией дрожали знаменитые артисты. И - выгодно: зал громаден, а билеты, особенно в ложи и первые ряды партера, очень дороги.
Нижегородские газеты посвящали восторженные (и высококвалифицированные) отзывы на первый и последующие концерты Голицына. За Нижним Новгородом последовали другие города. Жизненное пространство хора всё расширялось. Его хотели слышать в больших и малых городах. И наконец настала очередь Москвы, столь любимой князем, с её хлебосольством, умной иронией, раскованностью, неистребимым русским духом.
Это была большая победа, но не решающая.
Но вот дрогнул… Петербург.
Юрка Голицын получил приглашение дать концерт в одном из самых блестящих залов столицы - в Благородном собрании.
Его хор - сотня с лишним мужиков и баб, принаряженных, приглаженных, нарумяненных, - не раскрывал до конца своей тайны. Хор его был настолько хорошо подготовлен, все переходы так обработаны, что плохое пение исключалось.
"Родные, не подведите!.." - беззвучно взмолился князь.
И родные не подвели.
Голицын взмахнул жезлом, зажатым в правой руке, выбросил вперёд левую руку, сразу приглушив звук, оставив одну высокую, медленно истаивающую ноту, а затем дал вступить вторым голосам, призвав из бесконечной дали, выманив, заманив, но не в плен, а в полную свободу.
Это было лучшее за всю его жизнь исполнение, и он наслаждался. Господи, Боже мой, да разве это Ваньки, Яшки, Петьки, Дуньки, Палашки - это небожители, одарившие его высшим счастьем!..
Как всегда, он исполнил "Камаринскую" в своём переложении для хора. Всё было в лихом плясе над бездонным озером тоски: отчаянная удаль, забубённость, хмельной восторг, любовь, слёзный спазм в горле, гибельность. Он пожалел, что любимый им Глинка не слышит его хора.
Когда взмахом жезла он оборвал последнюю ноту, которой, казалось, конца не будет, то услышал тишину за плечами. И вдруг:
- Браво, - негромко, но удивительно отчётливо сказал, именно сказал, не выкрикнул чей-то голос.
- Браво, - сказал другой.
- Би-и-ис! - заорали надсадно где-то в задних рядах.
И вот уже весь зал кричал, захлёбывался, отбивал ладони…
…Два таких разных и таких, каждый по-своему, типичных россиянина.
Александр Герцен - интеллектуал, крупнейший мыслитель, предтеча путей последекабристских социальных преобразований в своей великой стране, которыми она и до сих пор чревата, незадолго перед смертью в 1870 году оставит непонятое и непринятое большевизмом предостережение будущему: "…Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта… ищут слова и понимания - и с недоверием смотрят на людей,.. призывающих к оружию". ("Былое и думы". Письмо третье").
И князь Юрий - Юрка Голицын, могучий человек с характером, порождённым беспредельными пространствами, вьюгами и ветрами, удалью и печалью своего великого народа.
На могиле Александру Ивановичу Герцену-Искандеру за пределами России, в Ницце, высится внушительный памятник.
Князь Юрий Николаевич Голицын похоронен в Санкт-Петербурге. У нас, в Козлове-Мичуринске, благодарная память о нём сохраняется в том самом Доме-музее, у порога которого начиналась легендарная дорога в русское чудо его неповторимой жизни.
Он переживёт на два года своего нечаянного лондонского друга. 2 сентября нынешнего года исполнится 140 лет со дня смерти нашего неугомонного князя.
Виктор Кострикинhttp://www.michpravda.ru/articles/iskander-i-knyaz-
|
Метки: голицыны |
Расстрел царской семьи Романовых: миф или реальная казнь? |
Расстрел царской семьи Романовых: миф или реальная казнь?https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/rasstr...a-kazn-5c3588e9e5e73b00aad0a38
Одна из самых главных загадок российской истории считается та ночь, когда была расстреляна первая и единственная царская семья Николая Александровича Романова. Согласно общепринятой версии в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге состоялась казнь Николая II и его приближенных. Однако это событие таит в себе множество загадок, которые историки пытаются разгадать:
1) была ли на самом деле казнь царской семьи?
2) если да, то удалось ли кому-нибудь спастись?
3) как сложилась дальнейшая судьба, спасенных членов семьи Романовых?
Что же было на самом деле?
Изучив дневники Николая II, было установлено, что ссылка в Екатеринбург была для его семьи настоящим испытанием: охранявшие их большевики постоянно издевались над Романовыми. Был известен один факт, что семья так же готовилась к побегу. Николай получил записку от принимавших присягу офицеров, в которой говорилось о том, чтобы он ждал вызволения из плена. Но побег так и не совершился и некоторые считают, что это была провокация большевиков, которая доказала, что от царя нужно быстрее избавляться.
В ту роковую ночь караульные разбудили семью Императора и заставили спуститься в подвал дома для оглашения приговора. Чекист Янкель Юровский сообщил им, что они сейчас будут убиты. Но не известно кем был организован расстрел Романовых, а так же точный текст приговора. А по поводу найденных останков царской семьи, обнаруженных в 1991 году возле Екатеринбурга, до сих пор ведутся споры.
Из некоторых источников известно, что после расстрела, убитых вывезли за город и сожгли, облив сначала их тела серной кислотой. 17 июля 1998 года останки была захоронены в Санкт-Петербурге. Существует версия, что цесаревича Алексея и княжне Марии удалось бежать в ночь своей казни, эта версия имеет место, поскольку их останки нашли гораздо позднее лишь в 2007 году и в другом месте, но неподалеку от основного места захоронения.
Остался ли кто-нибудь в живых?
Историк Сергей Желенков приводит версию, что царевич Алексей Николаевич Романов все-таки смог спастись и впоследствии стал председателем министра СССР-Алексеем Николаевичем Косыгиным. Так же некоторые считают, что великая княгиня Ольга Николаевна Романова тоже не была расстреляна большевиками, а прожила остаток своей жизни в Ватикане.
Однако ни одна из версий не подтвердилась и с уверенностью сказать нельзя: расстреляна ли была императорская семья или ей удалось спастись от жестокого наказания...
|
Метки: романовы |
Поручика Голицына расстреляли в Киеве, а Галича арестовали в Риге |
Поручика Голицына расстреляли в Киеве, а Галича арестовали в Риге
26.05.2011 15:03:56
Сегодня известно, что автором многие годы считавшейся народной знаменитой песни «Поручик Голицын» является Юрий Галич. Но многим ли известно, что Юрий Галич — это псевдоним русского генерала украинского происхождения, поэта и писателя Георгия Гончаренко?
Георгий Иванович Гончаренко (псевдоним Юрий Галич) (10 июня 1877, Варшава — 12 декабря 1940, Рига) — русский военачальник, генерал–майор Генштаба, публицист, поэт и прозаик.
Родился в семье инспектора средних учебных заведений Ивана Гончаренко. Как вспоминает дочь Юрия Галича, его отец, Иван Юрьевич Гончаренко, был уроженцем бывшей Полтавской губернии, где около станции Котемич у его отца был хутор. У него было 2 брата — Андрей и Владимир. Иван Юрьевич был старшим. Оба старших брата получили высшее образование, а младший, Владимир, остался на хуторе, где хозяйничал. Иван Юрьевич был инспектором средних учебных заведений. Мать Юрия Ивановича — Надежда Николаевна — уроженка г. Волчанска (под Харьковом), ее отец Николай Добровольский — поляк, работал в Волчанске заведующим почтовым отделением. Мать — украинка. У них было 4 детей. Старший сын за революционную деятельность был сослан. Надежда Николаевна училась в Харькове, в институте (закрытое среднее учебное заведение). За год до окончания института Иван Юрьевич Гончаренко приехал, как инспектор, в этот институт. Надежда Николаевна была способной, даже очень талантливой, она прекрасно рисовала и вышивала, к тому же была очень красивой. Она ему очень понравилась, и к окончанию института он приехал в Харьков, сделал ей предложение, которое было принято. У них было 3 детей. Старшая дочь, Валентина, которая умерла от дифтерита 7 — 8 лет, потом Юрий, и младший сын Иван.
Еще в детстве Юрий проявлял гуманитарные способности: писал стихи, хорошо рисовал.
В 1914 году Гончаренко участвовал в Первой мировой войне, именно его армия заняла города Галич и Львов, за что командующий был награжден двумя орденами святого Георгия.
Юрий Иванович Гончаренко был офицером Генерального штаба, начальником штаба кавалерийского дивизиона, корпуса и командиром драгунского полка.
При Временном правительстве получил чин генерала.
Во время гражданской войны служил в Киеве и Одессе, затем в Константинополе.
Судьба его забросила во Владивосток и, совершив кругосветное путешествие, он в 1923 году оказывается в Риге. Прибывает на корабле «Регина», который 9 лет назад, в 1914 году, он, полковник Генерального штаба, задержал при попытке сняться с якоря и уйти в Германию, и приказал переоборудовать его в плавучий госпиталь. И вот, 9 лет спустя, корабль возвратил его, изгнанника, в порт приписки.
С 1900–х годов Юрий Гончаренко начинает писать. Под псевдонимом Юрий Галич генерал написал 14 книг: стихотворения, рассказы, философские этюды, очерки путешествий, воспоминания, романы, где, по словам В. Гадалина, «он в живой и образной форме рисует картины того, чему был свидетелем в жизни» («Правда», Рига, 1941 г., №18). Немирович–Данченко характеризует его как «значительного и яркого» писателя, «очень талантливым» называл его Краснов.
Галич принадлежал к представителям авторов так называемого «второго ряда», другой «второй» прозы. Но творчество именно таких писателей позволяет представить полную литературную карту времени: в центре их внимания то, что забыто, то, что не привлекало в свое время читателя (таковой, как известно, оказались и судьба произведений Михаила Булгакова).
ЗНАКОМСТВО ГАЛИЧА С ГОЛИЦЫНЫМ
В годы Гражданской войны бывший блестящий гвардеец генерал–майор Гончаренко оказался на Украине и, конечно же, служил при гетмане Скоропадском — начальником наградного отдела. Собственно, именно здесь, в Киеве, он и познакомился с прототипом романса — петербуржским поручиком Константином Голициным.
Дело было в январе 1919 года, когда на Украине правила Директория во главе с Петлюрой и Винниченко. Историческая встреча произошла в кутузке Осадного корпуса сечевиков где–то на улице Пушкинской. Гончаренко, снятый с поезда петлюровскими постами под Одессой и опознанный как гетманский генерал, парился на нарах уже несколько дней, когда к нему подселили двух новых соседей: бывшего главбуха киевского Нового банка Беленького и юного Голицына. Первого арестовали за то, что ссужал деньги Скоропадскому, второго — по недоразумению. Его перепутали с престарелым дядей поручика, князем Голицыным, возглавлявшим «Протофис» — организацию, сделавшую в своё время Скоропадского гетманом.
Нельзя сказать, чтобы встреча была радостной, особенно учитывая решётку на окнах, стражу и постоянную опасность быть расстрелянным. И тем не менее генерал в воспоминаниях признавал: «Я очутился в новом обществе, разделившем моё одиночество самым трогательным для меня образом. К бухгалтеру приходила жена, к молодому князю приходила невеста. Обе женщины являлись не только с ласками, не только со словами утешения и надежды, но каждый раз приносили узелки со съестными припасами домашнего изготовления».
В одной камере генерал Гончаренко и будущий герой песни провели целую неделю. На восьмой день начальство решило перевести трёх арестантов в другое место. В качестве охраны к ним приставили старенького сторожа, позвякивающего ключами в одном кармане и пригубленной бутылкой горилки в другом.
Логика у любителя спиртного сильно хромала. Чтобы узники не сбежали, сторож взял в руки их вещи, в которых, на его взгляд, находились ценности. Он почему–то решил, что конвоируемые не решатся бросить вещи ради побега. Когда странная процессия вышла на Крещатик, генерал присел, чтобы завязать шнурок, а банкир и поручик рванули вперёд. Сторож бросился за ними, но на полпути остановился, вспомнив, что за его спиной остался Гончаренко. Георгий Иванович тем временем быстрой походкой шёл в противоположную сторону. Сторож только и смог, что сокрушённо потрясти ключами в спины беглецов.
Судя по всему, эта киевская встреча была первой и последней в судьбе Юрия Галича и князя Голицына. И генерал, и поручик приняли самое активное участие в боях против большевиков.
СУДЬБА ГОЛИЦЫНА
Константин Голицын пробрался на юг, но дальше не поехал, а поступил в белогвардейскую Добровольческую армию генерала Деникина. Здесь, уже в чине штабс–капитана, он командовал сводной ротой, состоящей из бывших стрелков полка Императорской фамилии. Какое–то время вместе с князем служил и ещё один любопытный офицер — Юрий Гладыревский — личный друг Михаила Булгакова, ставший прототипом Шервинского из «Белой гвардии». Тёплым августовским днем 1919 года рота князя Голицына на плечах красных одной из первых ворвалась в Киев. Но, как известно, белые были разгромлены, а Киев остался большевистским ещё на семьдесят лет.
В следующий раз Голицын вернулся в Киев летом 1920 года, но уже не как победитель, а как жалкий и оборванный военнопленный, попавшийся красным под Одессой. В то время шла война с белополяками, РККА остро нуждалась в командных кадрах, и князя быстро переделали в военспеца, вновь отправив на фронт. Так что Гражданскую войну Голицын окончил уже в Красной армии. Он вернулся в Киев, женился, поступил на советскую службу и зажил мирной жизнью, скрывая своё прошлое.
Голицына арестовали морозной январской ночью 1931 года. Следственное дело по обвинению в контрреволюционной деятельности Голицына, бывшего князя, бывшего поручика, бывшего деникинца, управляющего делами Киевглавпроекта, которое около шестидесяти лет хранилось под №1919 в архиве КГБ УССР, называлось весьма безобидно: «Весна». Но это только на первый взгляд. Дело было инспирировано ГПУ для уничтожения в СССР бывших генералов и офицеров царской армии, независимо от их заслуг перед советской властью. Для того чтобы оказаться арестованным, хватало одной неудачно оброненной фразы. Бывших же белых хватали и без этого — сам факт их службы в период Гражданской войны по другую сторону баррикад был и уликой, и обвинением, и приговором. Заставляли признаться только в одном: причастности к контрреволюционной офицерской организации. И подавляющее большинство арестованных, как правило, под пытками, подписывали всё, что им подсовывали следователи. Над арестованными в Киеве почти 600 бывшими генералами и офицерами «трудились» не только сотрудники ГПУ, но и курсанты местной школы милиции, отрабатывавшие на подследственных приёмы рукопашного боя. Как результат — более 95% «признаний», почти 160 вынесенных смертных приговоров. Попал в это число и князь Голицын.
Постановление о расстреле Константина Голицына было вынесено 20 апреля 1931 года. Однако расстреляли его лишь одиннадцатью днями позже вместе с бывшим прапорщиком Левицким и подполковником Белолипским, который в 20–е годы переквалифицировался в актёра и играл первые роли на подмостках киевских театров.
Офицеров, расстрелянных по делу «Весна», закапывали в братских могилах на Лукьяновском кладбище. Там их останки покоятся и до сих пор.
КРАСНЫЙ ХОРОВОД. СУДЬБА ГАЛИЧА.
Трагически сложилась судьба и автора песни «Поручик Голицын» Георгия Гончаренко. После побега из тюрьмы он вскоре всё же добрался до Одессы, откуда, совершив трёхмесячное плавание вокруг всего Евроазиатского континента, приехал в Сибирь — к адмиралу Колчаку. Но там он не задержался и после окончания Гражданской войны каким–то загадочным образом оказался в Риге. В эмиграции он оказался один. По некоторым данным, его жена и двое детей, оставшихся в Советской России, были репрессированы.
По другим данным, в 1919 году он прибыл во Владивосток и в течение трех лет активно публиковался на страницах газет и журналов. В 1922 году выходит книга рассказов «Красный хоровод» и сборник стихов «Орхидея».
Владивосток того времени был Меккой поэтов и литераторов. Здесь творили Давид Бурлюк и Николай Асеев, Арсений Несмелов и Николай Третьяков. И местом литературных встреч поэтов был ресторан «Балаганчик». Кстати, в том же зале, только почти 100 лет спустя, сегодня собираются любители поэзии, чтобы послушать стихи Юрия Галича — «белого генерала с букетом черных орхидей».
После установления в Приморье советской власти генерал вынужден был покинуть Россию. Эмигрировав через Китай в Европу, в 1927 году он обосновался в Латвии, где и продолжил литературную деятельность. В 1927 году в Риге выходит его сборник под тем же названием «Орхидея», дополненный новыми стихами.
В 1940 году, после того как в Ригу вступила Красная армия, НКВД добралось и до генерала. Обстоятельства его гибели доподлинно неизвестны, тем не менее сохранилась очень красивая легенда.
По преданию, генерал Гончаренко, известный своей журналистской деятельностью и непримиримой позицией по отношению к советской власти, был арестован уже в первые часы после вступления в Латвию Красной армии. При аресте у него нашли двенадцать из четырнадцати книг, не хватало только «Красного хоровода». В НКВД хорошо знали, с кем имеют дело, и в сопровождении охраны генерала послали домой — за двухтомником…
Понимая, что для него этот арест равносилен вызову на расстрел, и, дождавшись, когда охранники выйдут из комнаты в коридор, 63–летний генерал покончил с собой. Ещё до прихода в Латвию Красной армии Юрий Галич обещал знакомым, что живым в руки большевиков не дастся. И старый императорский гвардеец выполнил последнее в своей жизни обещание.
БИОГРАФИЯ:
Георгий (Юрий) Иванович Гончаренко родился 10 июня 1877 года в Варшаве.
Окончил Полоцкий кадетский корпус (с отличием).
1 октября 1895 — поступил на военную службу.
1897 — окончил Николаевское кавалерийское училище. Выпущен по 1–му разряду корнетом в лейб–гвардии кирасирский Её величества полк.
20 августа 1900 — зачислен в Николаевскую академию Генерального Штаба.
13 августа 1901 — поручик.
4 июля 1903 — штаб–ротмистр (за отличные успехи в науках).
23 мая 1903 — переименован в капитаны Генштаба.
3 октября 1903 — окончил Николаевскую академию с прикомандированием к штабу войск Гвардии и Петербургского военного округа.
21 октября 1904 — окончил Офицерскую кавалерийскую школу с отличием. Выпущен в лейб–гвардии кирасирский Её величества полк.
5 декабря 1904 — исполняющий должность столоначальника Главного Штаба.
1907 — Издал первый поэтический сборник «Вечерние огни».
19 октября 1907 — обер–офицер для поручений при штабе Виленского Военного Округа.
20 января 1908 — старший адъютант штаба 3–й кавалерийской дивизии.
6 декабря 1908 — подполковник Генштаба.
25 марта 1912 — полковник Генштаба.
29 октября 1915 — командир 19–го драгунского Архангелогородского полка.
2 апреля 1917 — генерал–майор Генштаба. Начальник штаба 2–й кавалерийской дивизии.
12 мая 1917 — начальник штаба Гвардейского кавалерийского корпуса.
Октябрь 1917 — числился по Генштабу в составе РККА.
27 декабря 1918 — уволен со службы по болезни.
12 апреля 1919 — зачислен в резерв чинов при штабе главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России.
28 февраля 1920 — через Константинополь прибыл во Владивосток. Зачислен в резерв сухопутных и морских сил Временного правительства Приамурской земской управы.
29 апреля 1921 — внештатный генерал для поручений при командующем войсками Временного правительства Приамурской земской управы.
1923 — через Китай вернулся в Ригу. Работал кавалерийским инструктором в Военной школе, судьей на ипподроме. Писал в газете «Дни». Постоянный сотрудник газеты «Сегодня».
С 1934 сотрудничал с журналами «Наш Огонек» и «Для Вас».
Покончил с собой после вызова в НКВД 12 декабря 1940 года. Похоронен в Риге на Покровском кладбище.
Подготовил Анатолий БУРЫЙ
по материалам www.cn.com.ua, www.blatata.com, www.laminortv.ru
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.Мелькают Арбатом знакомые лица,
Хмельные цыганки заходят в дома.
Подайте бокалы, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.А где–то уж кони проносятся к яру.
Ну, что загрустили, мой юный корнет?
А в комнатах наших сидят комиссары
И девочек наших ведут в кабинет.Над Доном угрюмым идем эскадроном,
На бой вдохновляет Россия–страна.
Раздайте патроны, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, надеть ордена.
Ведь завтра под утро на красную сволочь
Развернутой лавой пойдет эскадрон.
Спустилась над Родиной черная полночь,
Сверкают лишь звездочки наших погон.За павших друзей, за поруганный кров наш
За все комиссарам отплатим сполна.
Поручик Голицын, к атаке готовьтесь,
Корнет Оболенский, седлайте коня.А воздух отчизны прозрачный и синий
Да горькая пыль деревенских дорог…
Они за Россию, и мы за Россию, —
Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог?Напрасно невесты нас ждут в Петербурге,
И ночи в собраньи, увы, не для нас.
Теперь за спиною окопы и вьюги,
Оставлены нами и Крым и Кавказ.Над нами кружат чёрно–красные птицы,
Три года прошли, как безрадостный сон.
Оставьте надежды, поручик Голицын,
В стволе остаётся последний патрон.Подрублены корни, разграблены гнёзда,
И наших любимых давно уже нет!
Поручик, на Родину мы не вернёмся,
Встаёт над Россией кровавый рассвет.Ах, русское солнце, великое солнце!
Корабль–Император застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся,
Зачем нам, поручик, чужая земля?
Городской романс из так называемого «Белогвардейского цикла». Наиболее распространен текст Михаила Звездинского, есть вариант Жанны Бичевской.
Наталия Гончаренко. О моем отце.
Юрий Иванович Гончаренко родился 10 июня 1877 года в г. Варшаве. По рассказам его двоюродной сестры — дочери сестры его матери — Людмилы Ивановны Сигрист его отец, Иван Юрьевич Гончаренко был уроженцем бывшей Полтавской губернии, где около станции Котемич у его отца был хутор. У него было 2 брата — Андрей и Владимир. Иван Юрьевич был старшим. Оба старших брата получили высшее образование, а младший, Владимир, остался на хуторе, где хозяйничал. Иван Юрьевич был инспектором средних учебных заведений. Мать Юрия Ивановича, моего отца, уроженка г. Волчанска (под Харьковым), ее отец Николай Добровольский был поляк и работал в Волчанске заведующим почтовым отделением. Мать ее была украинкой. У них было 4 детей. Старший сын был революционером и был сослан. Мать Юрия Ивановича —Надежда Николаевна — училась в Харькове, в институте (закрытое среднее учебное заведение). За год до окончания института Иван Юрьевич Гончаренко приехал, как инспектор, в этот институт. Надежда Николаевна была способной, даже очень талантливой, она прекрасно рисовала и вышивала, к тому же была очень красивая. Она ему очень понравилась и к окончанию института он приехал в Харьков, сделал ей предложение, которое было принято. У них было 3 детей. Старшая дочь Валентина, которая умерла от дифтерита 7 — 8 лет. Потом Юрий, мой отец, и младший сын Иван. Чем занимался Иван Юрьевич в Варшаве и с какого года там жил — мне неизвестно. Знаю только, из рассказов отца, что они жили в штабном здании, где имели хорошую казенную квартиру, около Лазенок. Жили в достатке. Надежда Николаевна была и прекрасной хозяйкой и даже сумела сделать некоторые сбережения.
Примерно когда Юрию Ивановичу было 9 лет, неожиданно умер Иван Юрьевич от воспаления почек. Благополучная жизнь кончилась. Сначала Юрий Иванович, а затем Иван Иванович, были отданы в Полоцкий кадетский корпус. Незадолго до его окончания мать Юрия Ивановича была приглашена Андреем Юрьевичем в Петербург, где он к этому времени занимал хорошее положение, имел большую казенную квартиру и предоставил ей 2 комнаты. После отличного окончания отец поступил в Петербургское Николаевское кавалерийское училище. По окончании курса училища по 1-ому разряду произведен в корнеты в лейб-гвардии кирасирский Ее величества полк. В 1900 году августа 20 зачислен в Николаевскую академию Генерального Штаба.
За отличные успехи вышел в полк гвардейских Синих кирасир.
В 1910 году он служил в г.Ковно (Каунас). Пожалуй, с этого года я помню отца. Весной 1910 года мы с моей мамой поехали к отцу. Жили в гостинице и по вечерам, а может в свободные дни, вместе трое ходили гулять. Я была весьма живой девочкой и днем мама меня пускала побегать в широкий коридор гостиницы. Я завела знакомство со старичком-полковником в отставке, который меня приглашал к себе в его комнату, как где мы сидели друг против друга и беседовали, и он угощал меня конфетами. Перед отъездом он подарил мне серебряную чайную ложку, на которой было выгравировано «Наташа».
В 1911 года отец был назначен начальником штаба в крепость Усть-Двинск, где служил до войны 1914 г. Из жизни в крепости у меня ярко сохранились в памяти 3 эпизода, связанные с отцом. В конце декабря 1911 года мы сидели с мамой в папином кабинете (здесь у нас была хорошая 6-тикомнатн. квартира). Это была самая уютная комната. Мама сидела в углу и что-то шила (она хорошо шила), а мы с папой сидели у его письменного стола. Он очень хорошо рисовал и показывал мне свои рисунки. На склеенных нескольких листах были изображены военные верхом на лошадях, а посреди стоял пожилой офицер с длинным кнутом. Себя он изобразил последним, и лошадь у него встала на дыбы, а у него слетела с головы фуражка.
Эти изображения были в красках. И на нем была черная военная гимнастерка, вернее мундир и синие рейтузы. Значит, это было его изображение, когда он служил в кирасирском полку. Прошло с тех пор 67 лет, но у меня перед глазами эти папины рисунки, точно я их видела вчера.
Особенно приятное воспоминание у меня сохранилось о встрече 1914 года. У нас была очень большая гостиная с 4 окнами и очень холодная, зимою мы ею не пользовались. Но по случаю Нового года ее хорошо натопили. У меня была большая елка, украшали мы ее тоже с папой и моей немкой, чрезвычайно молчаливой особой — бабушка говорила: «Не знаю, чему можно у нее научиться». Действительно, жила она у нас 3 года, но я совсем не помню, как я училась немецкому языку, но зато она меня научила 3 видам вязанья. Это мне очень пригодилось в жизни. Под елкой мне и 4 приглашенным детям было положено по коробочке шоколадных конфет и по небольшой игрушке. У папы к этому времени был приобретен граммофон в виде ящика, без трубы, — он нам заводил польки и еще какие-то марши и мы немного потанцевали. А когда дети ушли, папа проиграл пластинки из «Веселой вдовы». Наверное, игралось и другое. А мы с ним отплясывали и так увлеклись, что мама насилу нас вытащила, чтобы мне ложиться спать. Видно этот вечер и ему был памятен и приятен, потому что в одном своем письме 1937 года он тоже мне написал — А помнишь, как мы с тобой отплясывали под Новый год. Я же всю жизнь из оперетт больше всего люблю эти арии.
В Риге жила мамина двоюродная сестра, которая была замужем за весьма состоятельным человеком. Об этом муже маленькой двоюродной сестры он упоминает в рассказе «Бог Саваоф». У него было 2 собственных дорогих лошади, помню, как он их показывал папе, и я с ними ходила в конюшню. В одном из своих рассказов он упоминает о жизни в крепости, что это было самым счастливым временем его жизни.
Наступила война 1914 года. Папа занялся переоборудованием крепости в связи с войной и формированием и обучением войска из призванных на военную службу. Потом он служил на австрийском фронте. Перед отправкой в действующую армию он мне отдал свои детские книги. Это были книги Густава Эмара, Майн Рида, Жюль Верна, Фенимора Купера, Луи Буссенара. Их было не менее 100. Там же я нашла и 6 его рисунков — женские головки, 2 сделаны акварелью. Я часто их вынимала и любовалась ими. Мама очень скучала без отца, у меня была еще 2-летняя сестра, с которой мама возилась, я была предоставлена сама себе и, сделав уроки, зачитывалась книгами отца до такой степени, что у меня начались головные боли и пришлось обратиться к врачу.
Запомнила один приезд отца из действующей армии. Наверно он был недели на 2. Помню только, что был приглашен какой-то пожилой генерал с бородой, расчесанной пополам. Был очень хороший обед, вино, фрукты. Но после обеда меня отправили в свою комнату. Папа мало бывал дома, а иногда вечерами сидел за своим письменным столом и читал. Этот период жизни с октября 1914-го по май 1918-го. Мы жили очень тихо, почти нигде не бывали и у нас бывала изредка мамина сестра — Мария Иосифовна Вольф или бабушка Мария Александровна и мамина подруга по гимназии — Агнесса Лузанова с дочкой Валей, моей первой подругой. Два раза были с мамой в Мариинском театре на балете «Конек-Горбунок» и опере «Князь Серебряный». С 1918 года мы уехали к бабушке на дачу под Лугу, где остались на зиму. Там же жила и тетя с сыном Юрой и приехал и мой папа. Помню, что он ходил на охоту, но дичи приносил не много, много читал. У бабушки были книги, мне запомнились журналы «Нива» и приложение к ним, которое я читала без всякого контроля.
В 1915 или 1916 году папа приезжал с войны в Петербург в отпуск. Мы с ним ходили в цирк, тогда он был Чинизелли. Папу интересовала борьба, особенно до сих пор помню, его лицо: отличился один молодой негр, который одержал верх над какой-то знаменитостью и все о нем говорили. На меня произвели гораздо более сильное впечатление дрессированные лошади.
Почему-то мне запомнилось, как я подстригала отцу волосы. У него была машинка для стрижки волос и с каким наслаждением я его подстригала.
Отца я очень любила, хотя не могу сказать, чтоб он мне уделял много внимания.
Забыла написать, наверное в 1916 году он мне подарил свое старое седло и научил кататься верхом. Была лошадка лет 12, которая была куплена жеребенком, рыжая, с белой полосой на морде и с подстриженной гривой и хвостом, под кличкой «Дружок», вот на ней я и гарцевала. Я выламывала крепкий прут и много ее хлестала, пока, наконец, я дожидалась галопа. Эта быстрая езда мне доставляла большое удовольствие. Ездила в лес, дорога была узкой и ветки деревьев хлестали мне лицо, но это меня не пугало. Ездила по 2 часа почти ежедневно. В выходные дни к нам приходили дачники, жившие по соседству, играли в крокет, заводили граммофон. Осенью поздней папа уехал в Петроград, а к весне уехал к матери в Одессу. До 1922 года о нем мы ничего не знали.
8 марта 1919 года умерла от возвратного тифа моя мама, и меня и бабушку взяла к себе тетя Мария Иосифовна, которая работала в деревне сельской учительницей. Она устроилась в деревне, т. к. время было тяжелое и жить в Петрограде, работая одной с 3 иждивенцами, было бы очень тяжело. В 1922 году осенью мы получили от папы несколько открыток, адресованных маме из Владивостока, Нагасаки, а с апреля 1923 года он начал жить в Риге в семье д-ра Спальвинга, жена которого Эльфрида Карловна в 1913 и 1914 гг. учила меня игре на фортепьяно. В мае 1922 или 1923 г. он узнал о смерти моей мамы и остался жить в Риге, где занимался литературным трудом.
В 1924 года я получила от него письмо, раза три получала от него деньги. Потом до 1927 года я учительствовала в деревне, а с 1927 года я перебралась в Ленинград и до 1931 года папа ежемесячно мне помогал. Я окончила медицинский техникум и с 1930 г. начала работать. В 1936-м я была в плохом состоянии здоровья, т. к. при падении получила сотрясение мозга и 4 раза он мне посылал продуктов, посылки и мы переписывались изредка. Когда в июле 40-го Латвия стала советским государством, я ему написала письмо и через 2 недели получила от него ответ. Это письмо вместе с другими у меня хранится. Как я радовалась этому письму, и как он был рад моему. Я делала ремонт в комнате, дочка моя первый год пошла в школу и я через неделю лишь ответила ему. Письмо мое пришло 13 декабря, а 12 декабря его не стало. О его смерти я узнала от Евгении Петровны Квесит, жившей в Риге со своим отцом. Она знала отца 15 лет. Очень любила его. У меня сохранились все ее письма ко мне. Она подробно описала его смерть, похороны. Писала, что для нее отец был дороже всех. Но папа был верен памяти мамы и не хотел себя ни с кем связывать. Она мне писала, что он говорил — «Я был слишком избалован такой красивой и хорошей женщиной, как моя жена, и другой такой у меня не будет».
Была в Риге некая Гусева, очень богатая купчиха, вдова и очень неглупая. Ее муж умер и она жила с 2 взрослыми сыновьями. Папа у нее бывал, она очень благоволила к нему, устраивала пикники в места, приятные для него, выбранные им. Устраивались партии в преферанс. Но когда кто-то сказал отцу — «Что ж, вы хотите, кажется, жениться?» – он ответил, что смешно в его годы обзаводиться семьей. А эта дама умерла в 1938 году от рака. Звали ее Ольга Константиновна.
Евгения Петровна Квесит была у отца утром в день его смерти. Он был очень мрачно настроен. Когда она спросила, придти ли ей вечером, он ответил, что хочет быть один, а потом добавил, что лучше ей придти, но когда она пришла, он уже был мертвым. Она и хоронила и хлопотала обо всем. Интересно, что когда отец мне написал его последнее письмо от 1 декабря 1940 года, он мне написал о ней и ее адрес: «Кстати, даю тебе адрес моего близкого друга», а ей он отнес свое золотое обручальное кольцо, кольцо с сапфиром, золотые часы и портсигар, который я прекрасно помню — серебряный, с такими вдавленными полосками, на котором были драгоценные камни, монограммы из золота и украшениями. Этот портсигар Евгения Петровна продала и на вырученные деньги его похоронила, остальные вещи обещала отдать при моем приезде, который не состоялся, т. к. мне в проезде отказали, а через неделю началась война 1941 года.
То, что слышала об отце от своих родных.
Моя бабушка, мать мамы — Мария Александровна Гоштовт – очень хорошо отзывалась об отце и любила его. Помню и выражение: «За все 14 лет, что я знала и соприкасалась с Юрием Ивановичем, наши отношения ничем не омрачались, всегда он относился ко мне с большим уважением, был всем доволен, иногда добродушно надо мной подшучивал». Папа нарисовал бабушкину дачу, перед ней был большой круг с посаженными на нем различными цветами. Этим занималась бабушка, как и разведением и уходом за ягодами. Много свободного времени она тратила на сад и огород. Так на этом кругу была изображена и бабушка, склонившаяся к земле и сажавшая цветы. Говорила еще, что мама на свадьбе своей двоюродной сестры, вышедшей замуж за папиного брата Ивана Ивановича, познакомилась с папой и они очень увлеклись друг другом. Маме было всего 16 лет, папа тогда учился в Академии 3-й год, а мама кончила гимназию. Встречались изредка в семье папиного дяди Андрея Юрьевича, где жил папа с своей матерью.
Последний год маминого учения в гимназии они жили на другой квартире, до гимназии было далеко, и мама иногда на занятия ездила на извозчике, а папа верхом ехал около нее. Это мне рассказывала бабушка и все родные очень волновались, как бы этого не узнал мамин дедушка, который был 82 лет, рано овдовел, был ветераном нескольких войн с разными отличиями, очень любил маму и отличался добродетельностью. До женитьбы папа с мамой были знакомы 3 года, и папа сделал маме предложение только после окончания Академии. Мамина троюродная сестра Мария Евгеньевна, которая часто гостила у моей бабушки и которая умерла в 1974 году, считала папу карьеристом. Ее брат кончил 1-ый кадетский корпус и дальше не учился, она, тоже будучи неглупой, училась неважно. Она была сердечной, хорошей, но довольно беспечной, она забывала про то, что у папы не было никаких средств и ему приходилось рассчитывать только на себя, а потому он всюду прекрасно учился, да и просто был весьма любознательным и одаренным. А к рисованию и литературе обладал талантом. Хочу добавить к воспоминаниям о жизни в Риге. В свободные дни под вечер, папа, мама и я ходили гулять к заливу. Там был маяк и около него статуя русалки с носа разбившегося шведского корабля, которая привлекала мое внимание. Когда папа поселился в Риге, после смерти мамы, он как-то встретил мою немку, которая учила меня 3 года немецкому языку, гуляла со мной. Она так обрадовалась встрече с папой, что даже прослезилась. Папа мне об этом писал, что она его растрогала даже. Жилось ей у нас хорошо.
Литературной деятельностью папа начал заниматься после окончания Николаевского кавалерийского уч-ща, примерно в 1897 — 01 гг. С ним вместе училище кончил Вл. Случевский, его отец, известный в то время поэт, редактор Правительственного Вестника Константин Случевский по характеру своего творчества был поэтом-философом. Он считался известной величиной на литературном Олимпе. Бывая в их доме, отец показал свои первые стихи поэту. Тот их одобрил и предложил поместить в журнале «Стрекоза» и написал письмо редактору Ипполиту Василевскому-Букве. Через несколько дней отец был в редакции журнала. Редактор милостиво потрепал отца по плечу и представил издателю Корнфельду. Он отнесся к отцу очень предупредительно, главным образ, благодаря покровительству К. К. Случевского. В журнале появилось его первое стихотворение, потом другое, третье. Потом появились карикатуры и даже рассказы. Через месяц Корнфельд уже отсчитывал ему гонорар. Таким образом папа стал постоянным сотрудником журнала «Стрекоза». Он даже обижался, когда его рукопись правилась чужой рукой. Корнфельд успокаивал его и говорил: — Не обижайтесь, молодой человек! Антошу Чехонте мы тоже правили.
Н. Ю. Гончаренко. О моем отце. Публикация Ю. Абызова // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Т. I. Таллинн: Авенариус [1996]. С. 265 — 276.
http://www.russianresources.lt/archive/Galic/Galic_2.html
|
Метки: голицыны гончаренко |
Тверь. «Морозовский городок» |
Тверь. «Морозовский городок»
14.01.2015Автор: Наталья Бондарева
Городок «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий» («Морозовский городок») (Россия, Тверская область, Тверь, ул. Большевиков, двор фабрики «Пролетарка», № 15, 23, 24, 35,42, 43, 47, 48, 59-61, 70, 80-83, 88, 89, 93-95, 97-103, 105-107, 116-119, 121, 122, 124, 151, 156, 177, 177а и др.)
Казалось, что я хорошо знаю Тверь, в которой бывала много раз и имела возможность познакомиться с её культовым и гражданским зодчеством, но «Морозовский городок» среди архитектурных достопримечательностей стоящий особняком, не сразу мне приглянулся (само собой разумеется, что в моей библиотеке тома СПАМИР занимают в книжном шкафу почетные места, и изучены от корки до корки). В поисках нестандартной натуры вдруг вспомнила про кирпичный ансамбль, и, направляясь в Бежецк, сделала остановку в Пролетарке.
Комплекс формируют множество разнообразных построек, часть из них используется под жильё и подразделяется на вполне благополучные (например, казарма «Париж»), не очень благополучные и обреченные. В квартале хватает брошенных домов, они зияют черными глазницами проемов, ошеломляют прогнившими перекрытиями…
Содержание
- Атмосфера Морозовского городка
- Статья из СПАМИР
- План Морозовского городка
- Персоналии
- Панорама
- Схема проезда
Атмосфера Морозовского городка
Встречаются секции со срезанными чугунными лестницами, что производит весьма шокирующее впечатление… Ажурные марши с чудесными ограждениями вероятно отправились во вторчермет… Без них доступ на верхние этажи стал невозможным.
Население квартала живет более чем скромно, мне было любопытно посмотреть на дома изнутри. Длиннющие коридоры, по сторонам которых размещаются коммуналки, тусклый свет, разноцветные блоки из почтовых ящиков, затхлый застоявшийся запах… и ощущение неподдельной старины, приятное разве что залетному туристу (постоянным жителям можно только посочувствовать). Особенно хорошо в памяти запечатлелся дом с астрономическими башнями на крыше (т. н. казарма «для семейных»), удивительно, для чего обсерватории рабочим?
Антураж городка весьма специфический – промзона и разветвленный железнодорожный узел.
Статья из СПАМИР
Итак — «Морозовский городок» — посл., треть 19 в. — нач. 20 в.
«Расположен в юго-западной части города на обширной ровной территории, пересекаемой в северной части р. Тьмака и ограниченной с севера — просп. Калинина, с запада — железнодорожной веткой. Комплекс городка с жилыми, общественными и промышленными зданиями, а также многочисленными хозяйственными постройками, включает более пятидесяти сооружений.
Появление городка связано с историей «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий». Первая фабрика была основана в 1856-58 гг. московскими купцами С.М. Шибаевым, И.В. Митюшиным, В.И. Брызгалиным, В. Залогиным и Н.И. Каулиным на правом берегу Тьмаки на землях Успенского Жёлтикова монастыря. Каулин, Шибаев и Залогин вскоре вышли из компании. Вместо них в дело вступил Савва Васильевич Морозов (1770—1862) — основатель знаменитой купеческой династии, и его сын Тимофей Саввич (1823—1889), под руководством которого предприятие развивалось до 1872 г. Устав паевого Товарищества с основным капиталом в 600 тыс. руб. был утвержден в мае 1859 г. Первой была открыта прядильная фабрика, давшая продукцию в 1859 г.; вскоре выстроены механическая ткацкая, белильно-красильная и отделочная фабрики. В 1861 г. основной капитал достиг 900 тыс. руб. Собственные лесные дачи, откуда поступало топливо, в 1872 г. составляли 4 561 десятину.
Новый этап в развитии предприятия начался в 1872 г. После раздела фирмы «Саввы Морозова Сын и К°» Тверская мануфактура перешла к внукам Саввы Васильевича — Абраму и Давиду Абрамовичам. Главой дела стал А.А. Морозов (1839—1882), при котором были значительно расширены прядильное и ткацкое отделения, в 1874 г. открыт отделочный корпус, приобретены 32666 десятин леса. Видимо в 1870-е гг. началось и возведение первых капитальных казарм для рабочих. За восемь лет объем производства увеличился втрое: в 1878 г. -212 тыс. пудов.
 Еще при жизни А.А. Морозова делом фактически стала руководить его жена Варвара Алексеевна (дочь известного текстильного фабриканта А.И. Хлудова) — незаурядная предпринимательница и известная благотворительница. В 1883-92 гг. она возглавляла правление Товарищества, являясь опекуншей трех сыновей — Михаила, Ивана и Арсения Абрамовичей. Попечением В.А. Морозовой при фабрике был открыт целый ряд благотворительных общественных заведений: больница, родильный приют, аптека, «санатория», приют для сирот, ясли, богадельня, убежище для хроников, дом призрения, училище, школа рукоделия, библиотека. Из трех сыновей В.А. Морозовой склонность к предпринимательству проявил Иван Абрамович (1871—1921), окончивший политехникум в Цюрихе и в 1890-х гг. переселившийся в Тверь, приняв на себя управление Товариществом. При нем в 1890-е-1900-е гг. продолжилось возведение многоэтажных кирпичных казарм для рабочих и общественных зданий. Значительным событием стало строительство в 1898— 1900 гг. по проекту архит. В.К. Терского Народного театра, который первоначально назывался «чайная и зал для спектаклей».
Еще при жизни А.А. Морозова делом фактически стала руководить его жена Варвара Алексеевна (дочь известного текстильного фабриканта А.И. Хлудова) — незаурядная предпринимательница и известная благотворительница. В 1883-92 гг. она возглавляла правление Товарищества, являясь опекуншей трех сыновей — Михаила, Ивана и Арсения Абрамовичей. Попечением В.А. Морозовой при фабрике был открыт целый ряд благотворительных общественных заведений: больница, родильный приют, аптека, «санатория», приют для сирот, ясли, богадельня, убежище для хроников, дом призрения, училище, школа рукоделия, библиотека. Из трех сыновей В.А. Морозовой склонность к предпринимательству проявил Иван Абрамович (1871—1921), окончивший политехникум в Цюрихе и в 1890-х гг. переселившийся в Тверь, приняв на себя управление Товариществом. При нем в 1890-е-1900-е гг. продолжилось возведение многоэтажных кирпичных казарм для рабочих и общественных зданий. Значительным событием стало строительство в 1898— 1900 гг. по проекту архит. В.К. Терского Народного театра, который первоначально назывался «чайная и зал для спектаклей».
В 1880-е-90-е гг. Тверская мануфактура по объему производства стала одной из крупнейших в России, ее изделия продавались в Москве, на Нижегородской, Ирбитской и Урюпинской ярмарках, на Кавказе, в Крыму, Сибири, Средней Азии. В эти годы осуществлялась значительная модернизация и расширение производства, в кон. 1890-х гг. началось возведение на новой территории, на левом берегу Тьмаки новой ткацкой фабрики (завершено в 1910-е гг.), тогда как на старом месте осталось бумагопрядильное и ситцевое производства. Со 2-й пол. 1890-х гг. эти работы возглавил талантливый инженер и известный общественный деятель Н.Н. Алянчиков, в 1896 г. назначенный директором Тверской мануфактуры (а ранее бывший директором Никольской мануфактуры фирмы «Саввы Морозова Сын и К°»). В 1902 г. многие сооружения фабрик пострадали от сильного пожара. Восстановление предприятия и строительство новых цехов проводилось в 1902-03 гг. по проекту инженера-архитектора фабрики А. Саламбекова. Им же в эти годы построен ряд деревянных общественных зданий в городке для рабочих — в частности, амбулатория. К 1904 г. общий капитал Товарищества составил 3 млн. рублей.
Несмотря на сравнительно хорошие условия труда и жизни рабочих, в кон. 1890-х гг. на Тверской мануфактуре развернулось революционное движение, вылившееся в крупные забастовки (три в 1897, две в 1899). В 1905 г. в здании театра стали проходить собрания Совета рабочих депутатов. После выступлений рабочих театр и библиотека были закрыты, помещение чайной отдано под архив конторы.
В 1910-е гг. И.А. Морозов продолжал развитие производства, строительство прифабричных жилых и общественных сооружений. В 1910 г. был принят план по расширению всех благотворительных заведений мануфактуры, для чего выделено 580 тыс. рублей. В 1910— 12 гг. построена первая очередь центральной электростанции, в 1914 г. завершено строительство новой ткацкой фабрики. Наивысшей точки развития Тверская мануфактура, как и другие текстильные предприятия страны, достигла в годы первой мировой войны. К 1915 г. на предприятиях Товарищества действовало 158 512 прядильных и 10 010 крутильных веретен, 4020 механических ткацких станков. Число рабочих достигло 14 тыс. человек. В результате выполнения военных заказов в 1916 г. прибыли предприятия превысили 9 млн. рублей.
Владелец Тверской мануфактуры И.А. Морозов большую известность в российской истории получил не только как выдающийся предприниматель и благотворитель, но и как один из крупнейших меценатов своего времени. Замечательная коллекция картин французских импрессионистов, насчитывавшая около 250 полотен, была помещена И.А. Морозовым в специально приобретенном московском дворце, куда он переселился в нач. 1900-х гг. (ул. Пречистенка, 21 — ныне здание Российской Академии художеств). В 1918 г. И.А. Морозов стал заместителем директора учрежденного здесь государственного музея, но в конце того же года с семьей покинул Россию и выехал на запад, где в 1921 г. скончался.
Читайте также: Усадьба Знаменское-Раёк
 Одновременно с развитием фабричного комплекса Тверской мануфактуры в 1860-е — 1910-е гг. сложилась застройка городка для рабочих, число которых постоянно возрастало (с 1, 6 тыс. человек в 1865 г. до 5 тыс. человек в 1880-х гг. и 14 тыс. человек в сер. 1910-х). Корпуса фабрик, трех-, пятиэтажных казарм и хозяйственные постройки возводились из собственного красного кирпича, произведенного на заводе Товарищества (открытом еще в 1859 г. в д. Рябьево Никулинской волости Тверской губернии) и имевшего клеймо М.К. (морозовский кирпич). В формировании планировочной структуры и состава построек Морозовского городка можно выделить три периода. В течение первого из них, в 1860-е-80-е гг. развитие комплекса происходило, судя по всему, достаточно хаотично, без четкого плана. Вдоль правого берега реки были сосредоточены фабричные сооружения, южнее их располагались подсобные хозяйственные здания и различные мастерские, чередовавшиеся с группами жилых деревянных домов для служащих, казарм для рабочих и первыми общественными зданиями. Так, в северо-западной части городка, в непосредственной близости от ситцевой фабрики, южнее ее, находилась достаточно большая группа жилых домов – «квартир колеристов», с окружавшим их традиционным набором подсобных хозяйственных построек: сараев, погребов и т.д. Восточнее приюта располагались «Дом для приезжающих» и отдельный достаточно большой «Дом бухгалтера», также с подсобными службами.
Одновременно с развитием фабричного комплекса Тверской мануфактуры в 1860-е — 1910-е гг. сложилась застройка городка для рабочих, число которых постоянно возрастало (с 1, 6 тыс. человек в 1865 г. до 5 тыс. человек в 1880-х гг. и 14 тыс. человек в сер. 1910-х). Корпуса фабрик, трех-, пятиэтажных казарм и хозяйственные постройки возводились из собственного красного кирпича, произведенного на заводе Товарищества (открытом еще в 1859 г. в д. Рябьево Никулинской волости Тверской губернии) и имевшего клеймо М.К. (морозовский кирпич). В формировании планировочной структуры и состава построек Морозовского городка можно выделить три периода. В течение первого из них, в 1860-е-80-е гг. развитие комплекса происходило, судя по всему, достаточно хаотично, без четкого плана. Вдоль правого берега реки были сосредоточены фабричные сооружения, южнее их располагались подсобные хозяйственные здания и различные мастерские, чередовавшиеся с группами жилых деревянных домов для служащих, казарм для рабочих и первыми общественными зданиями. Так, в северо-западной части городка, в непосредственной близости от ситцевой фабрики, южнее ее, находилась достаточно большая группа жилых домов – «квартир колеристов», с окружавшим их традиционным набором подсобных хозяйственных построек: сараев, погребов и т.д. Восточнее приюта располагались «Дом для приезжающих» и отдельный достаточно большой «Дом бухгалтера», также с подсобными службами.
Во время второго периода — в 1890-е- 1900-е гг., когда были возведены основные многоэтажные жилые казармы для рабочих и новые административные и общественные здания, планировка городка стала приобретать более регулярный характер. В это время стала формироваться общественная зона перед бумагопрядильной фабрикой, куда входили общественный сад с прудом и стоящие по их сторонам Народный театр (на плане он назван «чайная для рабочих»), главная фабричная контора, фабричные лавки, хлебопекарня, восточнее последней — училище. В то же время общественная площадь еще не имела прямоугольной формы, а перспектива главной улицы, ориентированной на последнюю гигантскую казарму «Париж», еще не существовала: начало улицы со стороны общественной зоны в то время было закрыто двумя косо поставленными домами для служащих. В кон. 1900-х гг. вся территория комплекса окружалась оградой, в которой с трех сторон были устроены охраняемые и запиравшиеся на ночь ворота: северные, южные и восточные. К 1909 г. городок включал 12 больших зданий казарм и один «барак» для рабочих с окружавшими их многочисленными сараями, погребами и т.д. Всего хозяйственных построек разных типов (включая коровники, птичник, прачечные, харчевые склады) на территории городка насчитывалось более 80 (большинство из них не сохранилось). Самостоятельную группу из десятка зданий составляли конюшни, сараи для карет и экипажей, кузница. В группу общественных сооружений, помимо вышеназванных, входили почтово-телеграфная станция, пожарное депо, амбулатория, комплекс больницы с часовней, кухней и прачечной, мануфактурная и фабричная лавки. На западном конце городка и в его восточной половине располагалось большое число деревянных одно-, двухэтажных жилых домов для служащих: всего таких зданий «квартир служащих» было более 40. С восточной стороны располагались главные кирпичные въездные ворота на территорию городка с надписью на фигурном аттике: «Тверская мануфактура».
Во время третьего этапа развития, в 1910-е гг., в результате возведения новых монументальных зданий — казармы «Париж» на южном конце территории, жилого комплекса для служащих фабрики на ее северном конце, на левом берегу Тьмаки, а также нескольких построек, продолживших восточный фронт застройки общественной площади — композиция городка приобрела значительно более определенный регулярный характер с новыми крупными доминантами.
 Важной частью всего морозовского комплекса в нач. 20 в. стала и еще одна территория, так называемая Красная слобода, располагавшаяся северней Морозовского городка. Здесь на плоской низинной земле на рубеже 1890-х- 1900-х гг. и особенно в 1900-е-1910-е гг. возник поселок из одноэтажных деревянных домов, также преимущественно заселенных рабочими Тверской мануфактуры. В центральной части слободы была возведена Никольская церковь (см. отд. статью). Улицы Красной слободы с деревянной застройкой существовали еще в сер. 1990-х гг., в кон. 1990-х гг. начался их массовый снос и строительство на этой земле нового района многоэтажных домов. «Морозовский городок» — один из наиболее интересных прифабричных комплексов центральной России рубежа 19-20 вв., который выделяется своими значительными размерами, цельностью общей композиции, незаурядной архитектурой многих зданий.
Важной частью всего морозовского комплекса в нач. 20 в. стала и еще одна территория, так называемая Красная слобода, располагавшаяся северней Морозовского городка. Здесь на плоской низинной земле на рубеже 1890-х- 1900-х гг. и особенно в 1900-е-1910-е гг. возник поселок из одноэтажных деревянных домов, также преимущественно заселенных рабочими Тверской мануфактуры. В центральной части слободы была возведена Никольская церковь (см. отд. статью). Улицы Красной слободы с деревянной застройкой существовали еще в сер. 1990-х гг., в кон. 1990-х гг. начался их массовый снос и строительство на этой земле нового района многоэтажных домов. «Морозовский городок» — один из наиболее интересных прифабричных комплексов центральной России рубежа 19-20 вв., который выделяется своими значительными размерами, цельностью общей композиции, незаурядной архитектурой многих зданий.
Читайте также: Усадьба Щербово
Планировка комплекса, сложившаяся к кон. 1910-х гг. и в значительной степени дошедшая до наших дней, отличается известной регулярностью и сравнительно четким зонированием. Прямоугольная вытянутая в направлении север-юг территория разделена протекающей с запада на восток р. Тьмака на два неравных участка. Основное число как промышленных, так и жилых, и общественных сооружений сосредоточено на правом южном берегу реки. На самом берегу Тьмаки в северо-западной части территории расположены здания ситцевой фабрики, которые в 20 в. в значительной степени утратили свой первоначальный облик в результате многочисленных перестроек. Восточнее ее в направлении восток-запад вытянут монументальный пятиэтажный корпус бумагопрядильной фабрики, играющий роль доминанты в общей композиции Морозовского городка. Перед его протяженным южным фасадом расположена обширная площадь со сквером, в северной части которого стоит памятник В.И. Ленину (см. отд. статью), а в западной — Народный театр. Рядом с восточным торцом фабрики начинается главная улица поселка, идущая на юг. Она разделяет территорию на две зоны — большую западную, занятую в основном жилыми зданиями казарм, и восточную, где размещено большинство общественных и хозяйственных сооружений.
В начале главной улицы вдоль ее восточной стороны поставлен длинный, состоящий из нескольких частей корпус главной фабричной конторы и магазинов, обращенных к скверу. За южным торцом этого объема начинается идущая на восток поперечная улица, где расположены училище и небольшие жилые дома для служащих, в том числе дом управляющего. Далее вдоль восточной стороны главной улицы располагается располагается группа лечебных заведений — больница, амбулатория, аптека, а в конце — пожарная часть, конюшня и другие хозяйственные строения.
В западной жилой части городка находятся семь трех-, четырехэтажных корпусов казарм, которые поставлены в два ряда и ориентированы в направлении восток-запад. В первом ряду расположены пять казарм, выходящих торцами на главную улицу. Во втором — две казармы и две большие хозяйственные постройки. Между двумя рядами казарм проходит малая внутренняя улица, параллельная главной и ориентированная на народный театр. На южной границе территории городка стоит громадный пятиэтажный корпус казармы «Париж», замыкающий перспективу главной улицы.
Небольшая обособленная группа из трех многоэтажных жилых домов для служащих предприятия расположена на противоположном левом берегу Тьмаки рядом с просп. Калинина. В эту же группу входят две хозяйственные постройки.
Особенно интересна с художественной точки зрения многоэтажная жилая застройка Морозовского городка, в архитектуре которой соединились разнообразные вариации эклектики, кирпичного стиля, модерна и неоклассицизма. Краснокирпичные казармы, выполненные в лицевой кладке с побеленными декоративными элементами, судя по характеру архитектуры, возводились в три этапа».
Литература:
СПАМИР Тверская область, ч. 1, М., 2006
План Морозовского городка
- бумагопрядильная фабрика
- ткацкая фабрика
- ситцепечатная фабрика
- народный театр
- главная фабричная контора и магазины
- училище
- дом управляющего
- лечебные заведения
- пожарная часть и конюшни
- хозяйственные постройки
- казармы 1870-х-80-х гг.
- казарма 1890-х-1900-х гг.
- казарма «для семейных»
- казарма «Париж»
- ворота
- жилые дома для служащих
- жилой дом для служащих с хозяйственной постройкой
- склад и магазины
- амбар-склад
- памятник В.И. Ленину
Персоналии
 МОРОЗОВА Варвара Алексеевна (1848—1917)
МОРОЗОВА Варвара Алексеевна (1848—1917)
В.А. Хлудова (в замужестве Морозова) родилась 14 (2) ноября 1848 г. в Москве, в семье крупного промышленника и известного коллекционера Алексея Ивановича Хлудова. Несмотря на то что в 6-летнем возрасте маленькая Варя потеряла мать, детство ее было радостным — отца и братьев она обожала и, судя по ее собственным впечатлениям, описанным в дневнике, была любима ими. Однако уже после 16 лет наступает прозрение и понимание истинного отношения к ней отца — замуж Варвару Алексеевну он выдал не по любви, а по материальным соображениям, абсолютно не считаясь с душевным состоянием дочери. Ее мужем стал один из владельцев Тверской мануфактуры — Абрам Абрамович Морозов, приходившийся Варваре Алексеевне двоюродным дядей. Уже в 1871 г. потомственная почетная гражданка В.А. Морозова становится пайщицей товарищества Тверской мануфактуры, получив 5 паев на сумму 20 000 руб. серебром. <...>
Материальное благополучие в семье существовало, но вряд ли Варвара Алексеевна была счастлива в браке. Супруги имели троих сыновей — Михаила, Ивана и Арсения. Спустя 12 лет совместной жизни Абрам Абрамович заболел тяжелой формой прогрессивного паралича. Невзирая на тяжесть психического расстройства, Варвара Алексеевна отказалась поместить его в психиатрическую лечебницу и приняла на себя все заботы по уходу за больным. Абрам Абрамович оставался на ее попечении до последнего часа. После смерти мужа в 1882 г. молодая вдова взяла управление семейным делом — Тверской мануфактурой — в свои крепкие руки и повела дело умело, четко и организованно.
Читайте также: Волговерховье. Ольгин монастырь
<...>Еще при жизни Абрама Абрамовича Варвара Алексеевна построила в Твери, при их мануфактуре, школы для малолетних и взрослых рабочих (1877) и устроила в Москве ремесленное училище для мальчиков. <...>В 1897 г. В.А. Морозова пожертвовала 10 000 руб. на постройку здания для 2-го Рогожского женского начального училища, которое было открыто в 1903 г.
Варвара Алексеевна считала своим долгом помогать не только учащимся, но и обучающим. Так, будучи членом московского благотворительного Общества воспитательниц и учительниц, она участвовала в устроении «Дома призрения» для престарелых и хворых преподавательниц. <...>
Первым большим и очень важным делом благотворения В.А. Морозовой после смерти мужа было устройство на ее средства Психиатрической клиники с условием присвоения ей имени почившего супруга. <...>
Клиника была открыта в 1887 г. Она существует и поныне в начале клинического городка на Девичьем поле, основание которому и положила. (Однако после революции имя А.А. Морозова было предано забвению, и сейчас клиника известна как Психиатрическая клиника им. С.С. Корсакова.) Рядом, на общем, купленном Варварой Алексеевной участке земли, расположилась Клиника нервных болезней с приютом для хронически нервнобольных при ней, созданная также на средства Морозовой (1890).
Большим даром Москве было открытие на Девичьем поле Института им. Морозовых для лечения страдающих опухолями (1903). Этот институт был создан исключительно по инициативе Варвары Алексеевны — в память ее матери, умершей от рака, и для облегчения страданий пораженных этим страшным недугом, о котором Варвара Морозова знала не понаслышке — ей самой пришлось пройти через операцию по поводу онкологии. Институт был первым в России заведением по лечению раковых больных; в нем больных не только пытались лечить, используя новейшие на то время способы, но и изучали эту страшную болезнь. <...>
 С 1805 г. в Москве существует Ботанический сад при Московском университете. В 1882 г. «Потомственные почетные граждане Василий Алексеевич Хлудов и Варвара Алексеевна Морозова на собственные средства в размере 15 000 руб., построили на земле ботанического сада двухэтажный каменный дом, который с согласия совета университета предназначается жертвователями для помещения большого университетского гербария, а также для практических работ студентов и сторонних лиц по морфологии и систематике растений. В этом доме находится большой зал для гербария и занятий по систематике и, кроме того, 7 комнат для практических работ с микроскопом, для квартиры лаборанта и служителя. С постройкою этого здания впервые получается возможность организовать при саде практические занятия в зимнее время...» Впоследствии и Варвара Алексеевна, и Василий Алексеевич жертвовали в Ботанический сад различные растения.
С 1805 г. в Москве существует Ботанический сад при Московском университете. В 1882 г. «Потомственные почетные граждане Василий Алексеевич Хлудов и Варвара Алексеевна Морозова на собственные средства в размере 15 000 руб., построили на земле ботанического сада двухэтажный каменный дом, который с согласия совета университета предназначается жертвователями для помещения большого университетского гербария, а также для практических работ студентов и сторонних лиц по морфологии и систематике растений. В этом доме находится большой зал для гербария и занятий по систематике и, кроме того, 7 комнат для практических работ с микроскопом, для квартиры лаборанта и служителя. С постройкою этого здания впервые получается возможность организовать при саде практические занятия в зимнее время...» Впоследствии и Варвара Алексеевна, и Василий Алексеевич жертвовали в Ботанический сад различные растения.
В 1885 г. в Москве открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. Средства на ее строительство и полное обеспечение дала В.А. Морозова. <...>
В.А.Морозовой была также открыта библиотека в Клину (не ранее 1913 г.).
Благотворительные заведения появлялись благодаря Варваре Алексеевне и в Твери. Умело управляя Тверской мануфактурой, Морозова не забывала о том, что хорошо работать на производстве может тот рабочий, который живет в приличных условиях, имеет возможность отдыха, неплохого питания; чьи заботы о здоровье его самого и членов его семьи приняли на себя специалисты прифабричных больницы и амбулатории; дети которого могут получать образование. Поэтому при фабриках в Твери существовали и школы, и больницы, и ясли, и богадельни, и прекрасные казармы для жилья, построенные на средства В Морозовой, а по инициативе одного из сыновей Варвары Алексеевны — Ивана Абрамовича — было даже возведено здание Народного театра. <...>
Помогали Морозовы и учебным заведениям Твери. Помощь оказывалась Иллюминарской и Мариинской гимназиям, губернской мужской гимназии, школе Максимовича, Тверскому епархиальному, коммерческому, реальному училищам. Выдавались также пособия на обучение детей рабочих и служащих Товарищества.<...>
Состояла Варвара Алексеевна и членом Комитета грамотности — общественной просветительной организации, ставившей своей целью содействие начальному народному образованию. <...>
Основным направлением благотворительной деятельности Варвары Алексеевны Морозовой и в Твери, и в Клинском уезде, и в Москве была просветительская работа — устроение на собственные средства училищ, школ, курсов, участие в организации университетов. <...>
Варвара Алексеевна Морозова прожила долгую, насыщенную событиями жизнь, полностью отдавая себя служению людям. При этом она была и матерью, и женой. У нее было пятеро детей: трое старших сыновей — Михаил, Иван и Арсений, как мы уже говорили, родились в браке с А.А. Морозовым, отцом младших детей — Глеба и Наталии — был В.М. Соболевский. Двоих своих сыновей — Михаила и Арсения Абрамовичей — ей пришлось пережить...
Варвара Алексеевна скончалась 4 сентября 1917 г.
Источник:
Н.А.Круглянская
Варвара Алексеевна Морозова: На благо просвещения Москвы: В 2 т. / Библиотека-читальня имени И.С.Тургенева; Сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Н.А.Круглянской; Текст Н.А.Круглянской и В.Н.Асеева.
|
Метки: купечество тверь морозовы |
Как Александр III на датской принцессе женился |
Как Александр III на датской принцессе женился
Жизнь датской принцессы Дагмар, русской Императрицы Марии Фёдоровны, стала цепью личных трагедий. Её роковая связь с русской династией началась смертью её жениха, Наследника Цесаревича. А закончилась – злодейским убийством её сыновей, внучек и внука.
Помолвка Цесаревича Николая
Старший сын Александра II, Цесаревич Николай Александрович, деятельно готовился к грядущему Царскому служению. В программу воспитания будущего Монарха входила поездка за границу. Августейшие родители связывали с этой поездкой ещё и возможный выбор невесты Наследника. Желательной партией считалась датская принцесса.
Датский королевский дом, со своей стороны, очень хотел породниться с Романовыми, чтобы обрести некоторую опору. Только что Дания была жестоко обижена Пруссией, аннексировавшей Шлезвиг и Гольштейн.
В сентябре 1864 года 21-летний Наследник Цесаревич приехал в Копенгаген и познакомился с 17-летней Дагмар. Между молодыми вспыхнула искренняя сердечная приязнь, вскоре переросшая в неподдельную страсть. Тут же состоялась помолвка, о которой «Никса», как звали Николая Александровича в семье, восторженно писал своему младшему брату Александру.
Мария София Фредерика Дагмар и цесаревич Никоалй Александрович
Начались неспешные приготовления к свадьбе, а Никса продолжил своё турне. Будущее казалось безоблачным. Внезапная трагедия резко оборвала всё…
Невеста по наследству
В Италии Цесаревич почувствовал себя плохо, а в Ницце окончательно слёг. 12 апреля 1865 года его не стало. По заключению тогдашних врачей он умер от болезни почек. Теперь считают, что причиной смерти послужила инфекция спинного мозга. Перед смертью его успели навестить безутешная невеста и брат.
Александр Александрович не готовился к царствованию, однако теперь он становился Наследником престола.
После той роковой встречи у постели умирающего Александр и Дагмар не виделись больше года. Но встреча произвела на 20-летнего Александра неизгладимое впечатление. Датская принцесса была неотразимо прекрасна в своей скорби. В душе у неожиданного ставшего Наследником Цесаревича возникло глубокое сочувствие, а следом пришла и любовь, о которой Александр поведал уже в июне 1865 года – но пока только на страницах своего дневника.
Однако ещё целый год прошёл, прежде, чем Александр и Минни (как называли Дагмар при обоих дворах) увиделись снова.
Молодые Мария Федоровна и Александр III
Судьба
Обе монаршьи семьи по-прежнему считали хорошей партией династический брак между собой. Летом 1866 года уже Александр, готовясь к предстоящему когда-нибудь в будущем царствованию, отправился в Европу. Понятно, он не мог не заехать в Копенгаген к Минни и её родителям.
Принцесса и Цесаревич подолгу говорили о безвременно почившем Никсе, рассматривали фотографии… 11 июня состоялось объяснение, которого все уже давно ожидали. Младшая сестра Дагмар даже заперла на ключ дверь той комнаты, где молодые остались наедине…
8 сентября 1866 года датская принцесса вступила на борт императорской яхты «Штандарт», где её встретил генерал-адъютант контр-адмирал граф Гейден. Будущая Императрица Всероссийская поплыла навстречу страшной судьбе своих потомков...
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/kak-al...ilsia-5c076f7bbfd94d00ada69968
|
Метки: романовы |
Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне (1914-1917 гг.)-2 |
В целях правильного отбора соответствующих контингентов из числа рядового и офицерского состава, проходивших лечение в госпиталях эвакопунктов, в Москве, Харькове, Петрограде, Тифлисе и Саратове учреждаются санаторно-курортные комиссии. Действовавшие лечебницы, увы, имели малую пропускную способность, были, как правило, перегружены и довольно часто не профильными контингентами. У 57,1% всех лечившихся имел место случай смерти пациента.
Немало успело сделать для развития отечественного санитарно-курортного дела и Временное правительство.
Что же касается врачебно-экспертной работы в лечебных учреждениях, то она регламентировалась: приказом № 670 военного министра от 15.10.1914 г., объявившим «Порядок освидетельствования и увольнения больных и раненых нижних чинов и перевода офицеров и нижних чинов, как эвакуированных из действующих армий, так и состоящих на службе в частях вне района военных действий», утвержденными 05.07.1915 г. и «Наставлением для руководства врачебным комиссиям при освидетельствовании эвакуированных из действующей армии офицеров и Расписанием болезней и физических недостатков, не препятствующих эвакуированным офицерам: 1) продолжать строевую службу и 2) продолжать службу на нестроевых или административных должностях».
В этой связи представляется неправомерным мнение, что в рассматриваемом периоде власть предержащие не заботились о пополнении Русской армии за счёт выздоровевших раненых и больных. Документы свидетельствуют об обратном. Уже в 1914 г. проблема своевременного возвращения в армию раненых и больных офицеров и нижних чинов из лечебных учреждений тылового эвакуационного района приобретает для командования особую остроту. Об этом, в частности, свидетельствует содержание директив ГУГШ от 30 ноября и 3 декабря 1914 г., направленных главным начальникам снабжений военных округов по указанию не менее как августейшего Верховного Главнокомандующего. В целях успешного решения указанной проблемы требовалось сформировать в каждом округе подвижные врачебные комиссии для проведения без излишних формальностей освидетельствования выписанных из лечебных учреждений офицеров и нижних чинов и разделения их по степени состояния здоровья на 4 категории. К первой из них должны быть отнесены выздоровевшие и подлежащие направлению в действующую армию, ко второй – не вполне выздоровевшие, но пригодные по выздоровлении для дальнейшей боевой работы; к третьей – поправившиеся от тяжелых поражений и болезней, которые однако по состоянию своего здоровья не могут в дальнейшем нести трудности боевой службы, но вполне годны для выполнения разного рода работы в обстановке мирного времени; к четвертой – совершенно не способные к службе. Офицеры первой категории подлежали незамедлительному отправлению к дежурному генералу штаба при главнокомандующем армиями своего фронта для дальнейшего направления в свои части. Офицеры второй категории подлежали по распоряжению окружного начальства возможно чаще подвергать самому строгому осмотру соответственных комиссий на предмет их немедленного перечисления в случае полного выздоровления в первую категорию. Офицеров третьей категории требовалось тотчас же по мере требования и степени пригодности их к исполнению «того или иного рода мирной службы» привлекать к замещению различных должностей и прежде всего в запасных батальонах и в военно-учебных заведениях. Офицеры, отнесенные к четвёртой категории, увольнялись в отставку. В данной директиве устанавливалось двукратное (к 1 и 15 числам каждого месяца) направление в штаб при Верховном главнокомандующем списков эвакуированных офицеров с разделением их на указанные категории.
В марте 1917 г. созданный Временным правительством Объединенный комитет военно-санитарных организаций предложил возобновить работу по освидетельствованию раненых и больных, подлежащих выписке из лечебных учреждений. Для этих целей рекомендовалось лазаретам, располагавшим достаточным количеством врачей, образовывать комиссии по освидетельствованию под председательством избранного из их состава специалиста. Те же лазареты, где такие возможности отсутствовали, должны были приписываться к соответствующим лечебным учреждениям. Однако проведение в жизнь такого освидетельствования затруднялось наличием устаревших Расписаний болезней и телесных недостатков.
Любопытный документ обнаруживается в фондах Центрального государственного военно-исторического архива, ярко демонстрирующий в какой-то мере уважение верхов по отношению к тем, кто непосредственно умирал в окопах и в атаках. Это – приказ № 1835 Главнокомандующего армиями Западного фронта от 18 августа 1915 г., объявивший повеление Верховного Главнокомандующего, чтобы тех офицеров и нижних чинов, которые были уже дважды эвакуированы по получении ранения, контузии или вследствие отравления удушливыми газами, в случае выбытия из строя по этим причинам в третий раз, не возвращать в ряды строевых частей, а зачислять в кадровый состав запасных батальонов, даже при условии их полной пригодности, за исключением лишь тех, которые заявят о своем желании вернуться в строй. Не следует однако обольщаться – к 1917 г. последних, по всей видимости, было не столь много. Об этом можно косвенно судить по содержанию одного из приказов по Петроградскому военному округу, изданному в сентябре 1917 г. В нем, в частности, констатировалось, что по донесению начальника окружного военно-санитарного управления, многие солдаты, будучи освидетельствованными во врачебных комиссиях и признанными годными к службе, толпами являются к воинским начальникам или в окружное военно-санитарное управление с требованиями нового переосвидетельствования и заявлениями на якобы неправильные и несправедливые действия указанных комиссий. Далее в приказе разъяснялось, что во всех врачебных комиссиях, производящих медицинское освидетельствование, обязательно присутствуют представители солдатских организаций, которые вполне гарантируют интересы свидетельствуемых, и решение этих комиссий являются окончательными.
В случаях инвалидности действовали утвержденные 19 октября 1914 г. «Правила об условиях принятия в покровительство Александровского комитета раненых и тяжелораненых генералов, штаб-офицеров и обер-офицеров и других чинов соответствующих званий и также семейств означенных чинов, убитых и от ран умерших».
С Первой мировой войны берет начало установление в русской армии особых отличительных знаков в виде разных по цвету нашивок на рукаве для возвратившихся в строй после лечения раненых, контуженных, отравленных газами генералов, штаб- и обер-офицеров, нижних чинов и врачей. Положение об этих знаках отличия было введено в приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 9 декабря 1916 г.
Действие этого приказа распространялось на военнообязанных врачей, зауряд-чиновников и санитаров, находившихся на службе в РОКК, а также на всех указанных лиц, которым перевязка была сделана на месте, без их эвакуации в тыл, но имевших соответствующую запись в Перевязочном свидетельстве и в Послужном списке.
Забота об инвалидах войны после февраля 1917 г. была проявлена созданием, взамен Александровского комитета о раненых, «Верховного совета по призрению раненых и увечных воинов и семей лиц, призванных на войну», подведомственных ему Петроградского, Московского и Кавказского комитетов соответствующего предназначения. Постановлением Временного правительства от 21 марта 1917 г. как сам Верховный совет, так и его местные комитеты были переданы в ведение военного министерства. А так как дело учета инвалидов войны, особенно рядового состава с началом войны было изрядно запущено, то еще в январе 1917 г. объявляется всероссийская перепись данной категории жертв войны. Общее руководство этим мероприятием возлагается на особую комиссию Верховного совета, наблюдение же за её правильностью – на постоянных членов этой комиссии на местах. В тех городах и селениях, на которые распространялось действие городового и земского положений, перепись инвалидов войны была возложена на Всероссийские Союз городов и Земский союз, а также на Кавказский комитет, Сибирское и ему подобные Общества помощи раненым и больным воинам. При особой комиссии действовали статистическое отделение и особое статистическое совещание. Каждому инвалиду выдавалась специального содержания книжка, в которой регистрировались все акты по оказанию ему помощи.
14.05.1917 г. Временное правительство постановило указанный выше Верховный совет, а также подведомственные ему комитеты и их местные отделения передать из ведения Военного министерства в недавно созданное Министерство государственного призрения. Вместо Верховного совета здесь учреждается Временный главный комитет помощи военно-увечным. Его первое заседание под председательством министра государственного призрения Д. И. Шаховского состоялось 27 июня. Было принято решение создать Временное бюро помощи военно-увечным в составе 9 чел., а при нем – ряд отделов (медицинский, курортный, призрения, протезирования, учебно-трудовой, трудовой помощи, популяризации, финансово-отчетный, мастерских, артелей и общего делопроизводства). Одновременно принимается решение об образовании врачебно-технической, протезной, психиатрической, санаторно-курортной и учебно-трудовой комиссий.
По всей видимости, несмотря на принимавшиеся меры, дела с организацией всесторонней помощи инвалидам войны обстояли не совсем благополучно. Об этом свидетельствует, в частности, корреспонденция, опубликованная в начале 1917 г. в Вестнике Временного правительства. В ней сообщалось: «Общегосударственный комитет помощи военно-увечным, ввиду поступления к нему заявлений о случаях обращения военно-увечных за подаянием издал по общежитиям военно-увечных приказ, в котором указывалось, что помощь военно-увечным в настоящее время настолько уже организована, что исключает какую бы ни было необходимость снискивать пропитание нищенством. Поэтому комитет, обращая внимание не нетерпимость тунеядства инвалидов, предлагает комитетам общежитий и всем увечным воинам следить за своими товарищами и не допускать попрошайничества». Указывалось, что «уличенные в прошении милостыни будут высылаться на родину».
29 июня1917 г. постановлением Временного правительства при Министерстве государственного призрения учреждается вместо Временного бюро Общегосударственный комитет помощи военно-увечным, а при нем – постоянное бюро. На него была возложена разработка планов помощи военно-учебным и обсуждение мер к повседневному проведению этой помощи в жизнь, ее объединению и согласованию.
Организация помощи военно-увечным на местах была возложена на городские и земские комитеты, исключения, передаются в ведение городского и губернского самоуправления.
В годы Первой мировой войны не были забыты погибшие на фронтах войны. 15 августа 1916 г. создается «Всероссийское общество памяти воинов русской армии, павших в войну с Германией, Австрией и Турцией», в тот же день принятое под августейшее покровительство. Главный совет этого общества вскоре обратился в Святейший Синод с ходатайством об установлении особого дня в году «для поминовения павших, для их общерусского молитвенного воспоминания, дня забот об их могилах, дня благоговейной памяти их подвигов, национального праздника в честь героев». И таким днем назначается 11 мая – «день памяти словенских первоучителей и первых борцов против немецкого засилья Кирилла и Мефодия, дабы дать возможность учащимся устраивать древонасаждения вокруг могил павших воинов».
Вдовы и сироты врачебного персонала, а также сироты обоего пола этих лиц, обучавшихся в высших учебных заведениях, по написании соответствующего содержания прошения в адрес начальника ГВСУ имели право на получение пособия из благотворительного капитала, некогда завещанного бывшим лейб-медиком баронетом Я. В. Виллие и подтвержденного приказом № 542 военного министра от 2 августа 1917 г. По состоянию на 1 января этого года капитал составлял 196 600 рублей. На выдачу пособий ежегодно отчислялось не более половины по капиталу процентов, а оставшаяся половина присоединялась к основному капиталу.
Противоэпидемическое и санитарно-гигиеническое обеспечение войск Санитарно-эпидемическая обстановка, с которой Россия вступила в Первую мировую войну, была явно неблагополучной. В 1913 г. заболеваемость населения инфекционными болезнями (на 10 тыс. чел.) достигала: гриппом – 222, корью – 32.9, дизентерией 31,4, коклюшем – 31,3, дифтерией – 31,1, скарлатиной – 28,3, брюшным тифом и паратифами – 26,6, сыпным тифом -7,3, натуральной оспой -4,4, возвратным тифом – 1,9. Весьма распространенными среди населения страны социальными заболеваниями являлись туберкулез и сифилис. Число больных туберкулезом за период с 1908 г. (на 10 тыс.) населения увеличилось с 25,6 до 53,9, а сифилисом – с 70,0 до 76,8.
Из года в год регистрировалась заболеваемость холерой. Так, в 1910 г. этой особо опасной болезнью заболело 212 тыс. чел., из которых 100 тыс., или почти 50% умерли. В разгар Первой мировой войны эпидемией холеры было охвачено 43 976 человек. Положение усугублялось тем обстоятельством, что профилактические мероприятия в России (кроме противооспенных) носили нерегулярный характер, проводились лишь в экстренных случаях. В результате смертность от инфекционных болезней, даже в наиболее развитой Европейской части России, постоянно держалась на высоком уровне, достигая в 1911 г. – 467, в 1912 г. – 397, а в 1913 г. – 467 чел. на 100 тыс. населения.
Накануне войны в огромнейшей стране имелось всего 373 санитарных врача, 12 микробиологических институтов, 20 санитарно-бактериологических и 60 гигиенических лабораторий, 13 дезинфекционных станций и 56 дезинфекционных пунктов. В противоэпидемической работе господствовала ориентация на лечебную, а не на профилактическую медицину. На медицинских факультетах университетов профилактические дисциплины были представлены только экспериментальной гигиеной. Исключение составляли лишь Московский университет, где еще в 1812 г. Г. Н. Габричевский начал читать самостоятельный курс бактериологии, и Военно-медицинская академия, в которой в июне 1894 г. была учреждена кафедра общего учения о заразных болезнях с практическим и систематическим курсом бактериологии во главе с сыном С. П. Боткина С. С. Боткиным (1859–1910), а с 1898 г. – Н. Я. Чистовичем (1860–1926).
Инфекционная заболеваемость в русской армии на протяжении всего периода между Русско-японской и Первой мировой войнами была высокой. Особенно большое распространение получил брюшной тиф. В период с 1906 г. по 1909 г. брюшнотифозная заболеваемость равнялась 5,5–5,6%, в последующие три года – 5,2–4,9–4,5%. Не меньшей по своим масштабам была и смертность от этой болезни, достигавшая в 1906 г. своего максимума – 0,9%. В последующие годы этот показатель не превышал 0,89% (1910 г.) и 0,64% (1912 г.).
Заболеваемость сыпным тифом в русской армии в 1912 г. составляла 1,13%, а по таким инфекциям, как грипп и дизентерия – 33 и 0,6% соответственно. С таким неблагополучным санитарно-эпидемическим состоянием населения, армии и страны вступила Россия в первую мировую войну.
И все же, как это и ни покажется странным, первые месяцы войны не дали относительного повышения инфекционных заболеваний в армии. Но впоследствии, как писал Л. С. Каминский (1929), «она стала тем очагом, откуда эпидемии перебрались в глубь страны».
Военно-медицинская противоэпидемическая организация русской армии как в мирное, так и военное время, несомненно, находилась в несколько лучшем состоянии, чем соответствующая служба в системе гражданского здравоохранения. Армия была опорой монархии, и о её боеспособности проявлялась особая забота. Здесь консультантами были крупнейшие представители медицинской науки того времени. Возможно, именно поэтому перед началом и в ходе первой мировой войны ГВСУ выпускаются хорошо продуманные руководящие документы по вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями в войсках. В частности, 18 и 25.07.1914 г. вводятся в действие переработанные «Наставление об охранении здоровья войск действующей армии» и «Инструкция для сортировки заразных больных и перевозки их в военно-санитарных поездах», а в 1915 г. – «Инструкция о мероприятиях против развития и распространения заразных болезней в армии».
Особенно ценным был третий документ. Он содержал в себе конкретные научно обоснованные «меры по предохранению от заразных болезней и предотвращению распространения их, а также описание средств и методов дезинфекции». В качестве приложения к Наставлению издаются указания по профилактике, диагностике и лечению дизентерии («О дизентерии»), «Инструкция для производства предохранительных прививок против брюшного тифа», «Описание и правила пользования пароформалиновой дезинфекционной камерой», а также «Инструкция для истребления платяных вшей».
К сожалению, эти официальные документы и содержащиеся в них рекомендации в условиях неблагополучного, а в отдельных губерниях России и чрезвычайного санитарно-эпидемического состояния, отсутствия какого-либо плана проведения в армии противоэпидемических мероприятий в значительной мере оставались не более как благими пожеланиями.
Архивные документы, исследования авторов разных лет, несмотря на разноречивость содержащихся в них цифровых данных, свидетельствуют о неуклонном росте в русской армии инфекционной заболеваемости.
В конце 1914 г. были отмечены вспышки холеры под Варшавой, в Галиции. Они повторились в 1915 г. в связи с беженством. В том же году увеличивается заболеваемость личного состава армии брюшным тифом. Зимние месяцы 1915–1916 гг. дали вспышку возвратного тифа. Нельзя не отметить развитие малярии на Румынском фронте, которой в 1917 г. заболело 42 800 человек. Характерным явилось возрастание в армии числа заболеваний цингой.
Максимальная инфекционная заболеваемость на всех фронтах (особенно на Северном и Кавказском) отмечалась на завершающем этапе войны, что было вполне обоснованным явлением.
По объявлении мобилизации русской армии одновременно с другими учреждениями медицинской службы шло формирование штатных дезинфекционных отрядов. К февралю 1917 г. действующая армия обеспечивалась 57 дезинфекционными отрядами. Весной 1916 г. в каждом корпусе создается по одному санитарно-гигиеническому отряду. Значительную помощь военному ведомству оказали общественные организации, сумевшие к началу июня 1918 г. сформировать и направить на театр военных действий 43 санитарно-гигиенических, 90 дезинфекционных отрядов, 11 бактериологических лабораторий.
Следует отметить, что вообще выполнение преимущественной части мероприятий по противоэпидемическому обеспечению Русской армии взяли на себя общественные организации. Так, в начале августа 1914 г. были объявлены циркуляром Главного управления Российского общества Красного Креста «санитарные мероприятия, обязательные при проведении на путях следования войск и призываемых контингентов».
В марте 1915 г. Всероссийскими Земским союзом и Союзом городов, при основном авторстве Л. А. Тарасевича, А. Н. Сысина, З. П. Соловьева разрабатывается план согласованных и научно обоснованных противоэпидемических мероприятий на фронте и в тылу действующей армии. Однако, ввиду многоведомственных барьеров в системе управления здравоохранением страны, этот план остался нереализованным. Возникшие на фронте и в прифронтовой полосе отдельные вспышки инфекционных болезней своевременно локализованы не были. Беженство гражданского населения еще более усугубляло обстановку, и к началу 1915 г. эпидемические заболевания распространились почти по всем губерниям и областям России.
Развертывание полевых инфекционных госпиталей как штатных средств военным ведомством вовсе не предусматривалось. «Инструкцией о мероприятиях против развития и распространения заразных болезней в армии» для приема инфекционных больных из действующей армии предписывалось всего лишь «открытие известного числа особых заразных лазаретов, выделенных из числа приданных дивизиям, или запасных полевых госпиталей».
В «Инструкции для сортировки заразных больных и перевозки их в военно-санитарных поездах» упоминаются «специальный эпидемический госпиталь, приданный сборному пункту», «изоляционные отделения общих тыловых госпиталей» и «слабосильные команды для заразных». Но это опять же были нештатные формирования.
Изучение архивных источников позволило получить сведения, которыми в свое время не располагало ГВСУ. К середине октября 1915 г. на всех фронтах действовало 192 инфекционных госпиталя всего на 25 162 места. Из указанного числа госпиталей 109 (56%) принадлежали общественным организациям. Кроме того, в тылу Юго-Западного и других фронтов, вне населенных пунктов, были построены так называемые «заразные городки» – группа госпиталей барачного типа каждая на 2-3 тыс. мест. На Юго-Западном фронте насчитывалось 6 таких городков. Эвакуация больных в эти городки велась с головных эвакопунктов, минуя тыловые эвакопункты.
Основные положения об организации эвакуации инфекционных больных были изложены в упоминавшейся выше «Инструкции для сортировки заразных больных и перевозки их в военно-санитарных поездах». Пренебрегая положениями этой инструкции, запрещавшей эвакуацию инфекционных больных в тыл страны, «эвакуаторы» (так называли врачи строевых офицеров, причастных к эвакуационному процессу) закрывали глаза на массовый вывоз с фронтов таких больных.
В 1915 г. для госпитализации инфекционных больных в 44 губерниях и областях России имелось 149 «заразных» госпиталей и лазаретов всего на 169 453 места. Для вывоза инфекционных больных было выделено 26 «заразных» санитарных поездов. Как подчеркивал Е. И. Смирнов, «такой факт можно скорее назвать не борьбой с инфекционной заболеваемостью, а распространением ее по всей территории страны».
С целью уменьшения, а при возможности и прекращения поступления инфекционных больных в лечебные учреждения тыла страны и в войска в апреле 1915 г. по решению Главных комитетов Всероссийских Земского союза и Союза городов, а с ноября того же года уже по приказу Верховного начальника санитарной и эвакуационной части на «путях следования больных по линии распределительных пунктов» (в Проскурове, Бердичеве, Житомире, Вильно, Двинске, Минске, Смоленске, Бродах, Волочинске, Гомеле, Брянске, Киеве, Полтаве, Тифлисе и Баку) впервые в противоэпидемической практике развертываются изоляционно-пропускные пункты и инфекционные («заразные») госпитали-заслоны, а на внутренних водных путях – врачебно-наблюдательные пункты. Однако такие важные документы, как «Правила санитарной службы изоляционно-пропускных пунктов на железной дороге», «Правила для предупреждения разноса заразных заболеваний воинскими командами различных назначений и партиями беженцев, переселенцев, рабочих и военнопленных», «Таблицы сроков выдержки подозреваемых по заразе и заразных лиц» были введены в действие только 21.03 1916 г. До 1916 г. изоляционно-пропускные пункты обслуживали только перевозимых по железной дороге раненых, больных и военнопленных. Однако в связи с распространением заболеваний тифом и холерой на эти пункты возлагается, начиная с 1916 г., также осмотр проходящих воинских эшелонов и даже пассажирских поездов.
К сентябрю 1916 г. на театре военных действий и во внутреннем районе страны действовало около 100 изоляционно-пропускных пунктов всего на 7300 мест.
Большую работу по проведению дезинфекционных мероприятий в полосе отчуждения, в местах размещения эвакопунктов проделали также военные железнодорожные санитарно-дезинфекционные отряды. На своем оснащении они имели химико-гигиеническую, бактериологическую лаборатории и дезинфекционную камеру. К марту 1915 г. работали 11 таких отрядов.
Обнадеживающим было такое важное мероприятие, как вакцинация против брюшного тифа и холеры, начавшая проводиться во всех частях войск, учреждениях и заведениях военного ведомства в военных округах внутреннего района и на основании «высочайшего повеления», последовавшего 14 августа 1915 г., а также приказа военного министра от 17 августа того же года. Первая вакцинация на добровольной основе более 5700 чел. проводится в мае 1914 г. в войсках Туркестанского военного округа. Результаты оказались неплохими. 02.04.1914 г. Военно-санитарный ученый комитет одобрил «Инструкцию для производства предохранительных прививок против брюшного тифа».
Согласно существовавшим в то время положениям, противотифозные прививки рядовому составу, отправлявшемуся на пополнение в действующую армию, должны были проводиться в «местах формирования маршевых рот». Как свидетельствуют документы, «к сожалению, на деле это не соблюдалось». Что же касается вакцинации личного состава действующих войск, то она проводилась по распоряжению главнокомандующих фронтов «лишь при особо благоприятных обстоятельствах во время боевого затишья». По существу, вакцинация проводилась при особо неблагоприятных к тому обстоятельствах, когда появлялась массовая заболеваемость брюшным тифом.
Последующая прививочная работа позволила резко снизить заболеваемость брюшным тифом в русской армии с 16,7% в 1915 г. до 3,13% в 1916 г.
После февраля 1917 г., как было констатировано на одном из заседаний Лабораторной комиссии при Центральном военно-санитарном совете фронтов, отмечалось резкое снижение объема прививочной работы на фронтах в связи «с отказом солдат прививаться». Было принято решение «о возложении на эпидемические, санитарно-гигиенические, дезинфекционные и прививочные отряды содействия в распространении культурно-просветительных мер по борьбе с заразными болезнями в контакте с санитарно-бытовыми комитетами, санитарными советами армий и фронтов и культурно-просветительным комитетом при ГВСУ».
В связи с крайне слабой развитостью технической базы страны русская армия имела самую отсталую в то время полевую санитарную технику. Отсутствие полевых установок по очистке и обеззараживанию воды, недостаток и примитивное оборудование водосборного транспорта, несовершенная конструкция полевых кухонь и хлебопекарен, полное отсутствие портативных комплектов банно-прачечных установок ставили войсковую противоэпидемическую организацию в беспомощное, а подчас и в безвыходное положение.
Именно в Первую мировую войну окончательно осознается необходимость создания подвижных механизированных прачечных. Военное ведомство не имело в своем распоряжении ничего подобного. И здесь на помощь армии пришли общественные организации, наладившие изготовление подвижных горяче-воздушных дезинфекционных камер типа «Гелиос» и пароформалиновых камер. Их же силами было сформировано 1126 банно-прачечных отрядов и бань, 299 механических и ручных прачечных, более 13 банно-прачечных поездов.
Таким образом, в Первой мировой войне наблюдалось увеличение номенклатуры санитарно-гигиенических и противоэпидемических учреждений. В их числе были корпусные санитарно-гигиенические отряды, дезинфекционные отряды дивизий, подвижные лаборатории (в вагонах), банно-прачечные поезда, изоляционно-пропускные пункты, прививочные отряды и др. Однако организация противоэпидемического обеспечения войск оставалась неудовлетворительной, а в ряде вопросов ухудшилась по сравнению с Русско-японской войной. Это выражалось, в частности, в децентрализации управления противоэпидемическими учреждениями, рассредоточении их по дивизиям и корпусам. Недостаток специалистов, технических средств и оборудования (например, дезинфекционных камер) приводили к тому, что предусмотренные штатом противоэпидемические учреждения дивизий и корпусов не были укомплектованы полностью, а в распоряжении начальников санитарных отделов армий и санитарных служб фронтов не было достаточных сил и средств для оперативного использования их по назначению в войсковых соединениях и тыловых учреждениях.
Видный отечественный эпидемиолог К. В. Караффа-Корбутт в своей публикации «Борьба с инфекционными болезнями в действующей армии в условиях текущей кампании» (Пг.,1916), обобщив накопленный опыт противоэпидемической работы в войсках, впервые сформулировал важнейшие принципы военной эпидемиологии: «Санитарные мероприятия в районе военных действий армии должны распространяться и на гражданское население»; для руководства противоэпидемическим делом надо готовить специалистов-эпидемиологов, а для проведения соответствующих мероприятий иметь штатные санитарно-эпидемиологические учреждения; на путях подвоза и эвакуации должны действовать надежные противоэпидемические «фильтры»; выявленные инфекционные больные должны лечиться на месте, без их эвакуации в тыл.
Основные итоги работы медицинской службы
Как писал Е. И. Смирнов (1942), «возвращение в строй раненых и больных есть главная задача военной медицины». Каким же образом она была в конце концов решена в России?
В силу известных военно-политических обстоятельств, сложившихся в стране после 1917 г., санитарно-статистический отчет по Первой мировой войне составлен не был. Существующие в литературе сведения о возвращаемости в строй раненых и больных по выздоровлении во время Первой мировой войны остаются разноречивыми.
А. И. Замятин (1926), ссылаясь на официальные источники, называет следующие цифры возвращаемости раненых и больных в строй. С августа 1914 г. по январь 1916 г. из 2 054 487 раненых и больных в строй направляется 1 160 180 выздоровевших чел., или 56,4% (в среднем по 60 тыс. в месяц). В 1916 г. из 1 775 554 находившихся на лечении раненых и больных выздоровели и пополнили армию 549 756 чел., или 30% (в среднем 45 тыс. в месяц). За период с января по апрель1917 г. из 901 555 раненых и больных в строй было поставлено 288 535 чел., или около 32% их общего числа (в среднем по 57 тыс. в месяц).
Таким образом, из всего числа поступивших на лечение 4 711 596 раненых и больных в строй возвращается 1 998 471 чел., или 42,4%. Однако, ссылаясь на данные В. Г. Абрамова, А. И. Замятин склонен считать этот показатель значительно большим – 62%.
По данным П. В. Абрамова (1948), из лечебных учреждений армий в строй возвратились из числа солдат 46,5% раненых и 44 % больных, а из числа офицеров – 54% и 68% соответственно. Из лечебных учреждений внутреннего района страны по выздоровлении было направлено в действующую армию около 50% раненых и 55% больных солдат, а также около 72% раненых и 70%больных офицеров.
Е. И. Смирнов (1942) на основе изучения архивных материалов и публикаций врачей – участников Первой мировой войны пришел к выводу, что в русской армии процент возвращенных в строй из числа раненых, контуженных и отравленных газами не превышал 50.
Комментируя этот невысокий показатель результатов деятельности медицинской службы «языком абсолютных цифр», Е. И. Смирнов (1940) считал, что эта цифра адекватна потере действующей армией не менее 1,5 млн. раненых и контуженных. В германской армии процент раненых, возвращенных в строй, равнялся 76, а во французской – достигал 75-82.
Итак, по имеющимся на сегодняшний день литературным данным, в русской армии в годы Первой мировой войны 1914 – 1917 гг. в строй было возвращено примерно 40-50% всех раненых и 62% всех больных, а в целом – около 42,4% всего числа раненых и больных.
Мы, таким образом, имели возможность убедиться в крайней сложности условий работы медицинского персонала русской армии во время Первой мировой войны. Однако, несмотря ни на какие трудности, русские врачи, фельдшера, сестры милосердия, санитары и носильщики со свойственным им мужеством выполняли свой долг перед ранеными и больными соотечественниками. «Особенно надлежит отметить о ревностных и самоотверженных трудах, проявленных лицами медицинского персонала при борьбе с заразными болезнями», – подчеркивал в своем отчете Верховный начальник санитарной и эвакуационной части в Империи принц А. П. Ольденбургский.
По сведениям Комиссии, изучавшей санитарные последствия Первой мировой войны общие потери медицинского персонала русской армии составили 6218 человек, в том числе 898 были ранены и поражены отравляющими веществами, 4472 перенесли различные болезни, 848 погибли и умерли. По данным В. М. Тарасонова (1968), общие потери медицинского персонала русской армии составили примерно 5010 чел., в том числе среди врачей – 386, классных фельдшеров – 690, ротных фельдшеров – 434, носильщиков – около 3500 человек.
Столь значительные потери среди русского «медицинского сословия» при недостаточно высокой результативности его труда – яркое свидетельство, с одной стороны, неоправданности этих жертв, а с другой, неспособности тогдашнего бюрократического государственного аппарата России обеспечить эффективную деятельность созданной в ходе войны системы военно-медицинской организации.
Таким образом, из представленного выше материала видно, что медицинская служба русской армии подошла к событиям Октября 1917 г., имея довольно стройную свою организацию в системе оперативных армейских и фронтовых объединений, но, к сожалению, с укоренившейся практикой недопущения военных врачей к руководству лечебно-эвакуационным обеспечением войск. Более того, это обеспечение оказалось рассредоточенным по нескольким ведомствам, работу которых должно было объединить созданное уже в ходе Первой мировой войны Управление Верховного начальника санитарной и эвакуационной части в Империи. Однако оторванное от фронтов, отказавшееся фактически от руководства эвакуационным процессом, оно не внесло существенного улучшения в организацию медицинского обеспечения русской армии. Не дало видимых результатов и создание 29 июня 1917 г. Временным правительством вместо этого управления Центрального военно-санитарного совета фронтов, а также Главного военно-санитарного совета при ГВСУ.
Сложившаяся в рассматриваемом периоде медицинская служба отдельной (частной) армии и фронта, кроме органов управления, включала в свой состав комплект вполне организационно оформившихся штатных медицинских подразделений, частей и учреждений. Именно с этих времен их качественный состав, функциональное предназначение, место в общей схеме построения лечебно-эвакуационного обеспечения Сухопутных войск, принципы развертывания и организации работы стали традиционными для их медицинской службы в послеоктябрьском периоде отечественного военного строительства.
*Был торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул с находившимися на нем ранеными, больными и медицинским персоналом. 4 мая этого же года в связи с этим и другими случаями начала свою деятельность так называемая Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и обычаев войны австрийцами и германскими войсками. Эта проблема обсуждалась также на заседании Международной конференции обществ Красного Креста, проходившей с 28.11 по 1.12 1915 г. в Стокгольме с участием и делегации России.
Гладких П.В.
Военно-историческое наследие Первой мировой войны в Республике Беларусь и Российской Федерации : проблемы изучения, сохранения и использования : сб. науч. ст./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; Ред. коллегия: А.Н. Нечухрин, С.А. Пивоварчик, В.А. Белозорович, С.В. Донских, М.В. Мартен.- Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2016http://uctopuk.info/article/medicinskaya-sluzhba-r...voy-mirovoy-voyne-1914-1917-gg
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне (1914-1917 гг.) |
Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне (1914-1917 гг.)
Опубликовано gecevich on Monday, 4 April 2016
В данной статье мы расскажем лишь о состоянии и деятельности военно-медицинской организации Сухопутных войск Русской армии в ходе Первой мировой войны до событий Октября 1917 г.
Так сложилось, что в предыдущих войнах военные врачи были отстранены от организации такого важного и вынужденного на войне мероприятия, каковым традиционно является дело эвакуации раненых и заболевших из действующей армии в тыл. Этим всегда занимались строевые офицеры и генералы. Врачам, никогда не относившимся к офицерскому корпусу, доверяли только выполнение на известных штатных этапах эвакуации тех или иных лечебных мероприятий, подготовку выбывших из строя контингентов к предстоящей транспортировке и их сопровождение в ходе таковой.
Реорганизация медицинской службы после Русско-японской войны
После Русско-японской войны на протяжении нескольких послевоенных лет вплоть до начала Первой мировой войны 1914–1917 гг. шла непрерывная борьба Главного военно-медицинского (санитарного) управления за право военных врачей на максимальную самостоятельность в руководстве медицинскими силами и средствами, за ликвидацию традиционной многоведомственности в управлении ими. От правильности решения этой проблемы во многом зависела судьба тех преобразований в общей системе военно-медицинской организации русской армии, которые вытекали из опыта минувшей войны.
Особенно ожесточенные споры разгорелись вокруг наиболее наболевшей проблемы – руководство эвакуацией раненых и больных с ТВД в лечебные учреждения, развернутые в тылу действующей армии и во внутреннем районе страны.
Сторонники коренной реформы военно-медицинского дела, учитывавшие опыт прошлой войны, выражали мнение Главного военно-санитарного управления и всеми средствами стремились убедить «верхи» в том, что «рациональное устройство эвакуации возможно лишь при полной самостоятельности военно-санитарного ведомства». С особой силой это мнение прозвучало в диссертационной работе П. П. Потираловского «Тюренчен-Вафангоу-Ляоян в санитарно-тактическом отношении» (1907).
Иного взгляда придерживались всесильные Военное министерство, Генеральный штаб, полагавшие, что организация эвакуации раненых и больных должна прежде всего преследовать цели не медицинского, а сугубо стратегического и морально-этического характера. «В этом отношении стратегические соображения высшего командования без сомнения должны стоять впереди требований гуманности, – писал еще в 1904 г. один из активнейших членов Главного военно-санитарного комитета, представитель Генерального штаба полковник А. Н. Дубовский, – санитарная администрация должна быть подготовлена к той деятельности, которая требуется от неё только по военным взглядам, согласованным с нуждами войск и потому не могут совершенно устранить некоторые доли двоевластия в санитарной службе».
Много лет до того на все лады дебатировался также вопрос о правовом положении военного врача в Русской армии. Это положение было не только ненормальным, но и обидным. Старший врач полка, например, человек с высшим образованием не был членом офицерского собрания и мог посещать его только с особого на то разрешения строевого начальства, он не имел права принимать участие в так называемом «офицерском заёмном капитале» (наподобие кассы взаимопомощи).
По завершении Русско-японской войны 1904–1905 гг. начали свою работу комиссии под председательством генерал-лейтенантов Ф. Ф. Трепова и Д. П. Зуева. Первый из них возглавил деятельность «Особой комиссии по выработке нового положения об управлении санитарной части в армии» и обязан был в сущности довести до логического конца дело соответствующей комиссии, созданной еще накануне Русско-японской войны. В итоге работы Особой комиссии были написаны «Проект Положения о Корпусе военных врачей» и «Расписания должностей Корпуса военных врачей по чинам».
В Проекте положения, в частности, предусматривалось разделение Корпуса военных врачей на врачей-генералов, врачей-штаб-офицеров и врачей-обер-офицеров. И далее утверждалось, пожалуй, главное: «В отношении общих правил, обязанностей и формы одежды Корпус военных врачей приравнивается к Корпусу офицеров армии». Известно, что в России так и не был создан Корпус военных врачей.
Пока работали эти комиссии, готовившие основания для реорганизации военно-медицинского дела в стране, Военным министерством проводятся некоторые изменения организационно-штатного характера в составе руководящих органов медицинской службы русский армии. Главное военно-медицинское управление было переименовано в Главное военно-санитарное управление (ГВСУ). Соответственно переименовываются и окружные управления. Главный военно-санитарный комитет как совещательный орган при Военном совете ликвидируется, а его функции «по устройству и усовершенствованию военно-лечебных заведений» временно передаются ГВСУ. Начальником управления – главным военно-санитарным инспектором армии вместо Н. В. Сперанского стал 23 мая 1906 г. Александр Яковлевич Евдокимов.
Через 4 дня после вступления России в Первую мировую войну, 5 августа1914 г. приказом военного министра объявляется выработанное указанными выше комиссиями новое «Временное положение об эвакуации раненых и больных ».
Общее руководство эвакуацией раненых и больных на ТВД возлагалось на главного начальника санитарной части армий фронтов, а во внутреннем эвакуационном районе – на начальника эвакуационного управления Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) (оба не врачи, а генералы).
В пределах района тыла полевых армий и района главного тыла, составлявших передовой район фронтов, эвакуационным процессом непосредственно руководили дежурный генерал по санитарной части армии через полевого инспектора госпиталей и начальник Эвакуационного отдела управления главного начальника санитарной части армий фронта (все не врачи). Последний, вместе с тем, являлся также начальником всех эвакуационных пунктов фронта, военно-врачебных заведений и учреждений, переданных ему для нужд эвакуации.
Как и в годы Русско-японской войны, важнейшие вопросы, связанные с эвакуацией раненых и больных внутрь страны, должны были рассматриваться на заседаниях специально для того созданного при ГУГШ межведомственного органа – Главной эвакуационной комиссии.
В новом Положении выполнение мероприятий по организации эвакуации раненых и больных в передовом эвакуационном районе возлагалось не на эвакуационные комиссии времён минувшей войны, а на головные (сборные) и тыловые эвакуационные пункты, во внутреннем районе – на распределительные и окружные эвакуационные пункты, которые находились в непосредственном подчинении начальника штаба соответствующего военного округа. Все они располагали госпиталями и эвакуационно-транспортными средствами. В губерниях, по которым рассеивались для лечения раненые и больные, действовали так называемые «губернские попечительные о раненых и больных воинах комитеты» (по одному на губернию). Продолжал действовать под «высочайшим наблюдением» Александровский комитет о раненых (создан после Отечественной войны 1812 г.).
Что же касается деталей организации сортировки эвакуируемых в тыл раненых и больных, порядка их следования в военно-санитарных поездах, то они были изложены несколько раньше, 18 июля 1914 г. в «Инструкции для сортировки раненых и больных и перевозки их в военно-санитарных поездах».
Через 12 дней после объявления Россией о своем вступлении в войну, 13 августа1914 г., приказом № 529 военного министра вводится в действие «Положение о военно-санитарных учреждениях и заведениях военного времени».
На основании этого нормативного документа войсковые лазареты частей во время боя должны были развертывать передовые перевязочные пункты, а в межбоевом периоде принимать больных своих частей с заболеваниями, не требующими длительного лечения.
Передовой перевязочный пункт возглавлялся старшим врачом полка, которому подчинялся весь персонал пункта. Старший врач, по согласованию с командиром части, выбирал место, обычно в 1,5–3 верстах (верста = 1,0668 км) от переднего края, для развертывания перевязочного пункта и его функциональных и других подразделений (приемная, перевязочная, аптека, кухня, помещения для личного состава). Днем перевязочные пункты обозначались флагом Красного Креста, а ночью – красным фонарем. Здесь осуществлялись сортировка и учёт раненых и больных, в необходимых случаях им оказывалась неотложная врачебная помощь, проводилась смена первичной повязки, иммобилизация поврежденных конечностей, а также питание и обогрев. В условиях позиционной войны в 5–6 верстах от передовых перевязочных пунктов размещался в качестве их своеобразного второго эшелона т. н. околоток на 15-20 мест. Затем раненые и больные направлялись на главный перевязочный пункт или в лазарет дивизии.
Для выноса раненых с поля боя старшим врачом «вызывались из строя» полковые носильщики, организационно входившие в команду носильщиков полкового лазарета. В мирное время полагалось иметь не менее 4 носильщиков на роту, а в военное время их число в полку значительно возрастало и составляло 128 чел. (из расчета по 4 чел. на каждые из 32 имевшихся штатных носилок, или по 8 чел. на роту и по 2 на каждый взвод).
Вывоз раненых осуществлялся с помощью санитарного обоза частей и приданного из дивизии санитарного транспорта.
На каждые пехотную, стрелковую дивизии и отдельную бригаду с объявлением мобилизации вместо ранее существовавшего дивизионного лазарета подлежал формированию перевязочный отряд, Положение о котором, его штат и табели санитарного имущества были утверждены 1 июля1914 г.
В бою средствами перевязочного отряда развертывался все тот же главный перевязочный пункт. Включая два отделения, перевязочный отряд мог разделяться на две самостоятельные части. При нём состояла рота носильщиков в 200 чел. и специальный санитарный обоз для перевозки раненых и больных. Заготовка и хранение имущества для отряда осуществлялись в мирное время. Уже в ходе Первой мировой войны, в августе 1916 г. в штат отряда включается зубоврачебный кабинет.
Важным шагом вперед явилось освобождение дивизионного врача от «заведования» перевязочным отрядом (главным перевязочным пунктом) и введение в его штат для этих целей главного врача. Последний был начальником всего личного состава и пользовался дисциплинарной властью командира полка. В результате дивизионный врач, оставаясь прямым начальником перевязочного отряда и лазаретов дивизии и, пользуясь дисциплинарной властью командира не отдельной бригады, впервые получил реальную возможность «всецело посвятить себя санитарно-административной деятельности».
Мобилизационное развёртывание медицинской службы Русской армии
Несколько слов о ходе мобилизационного развёртывания сил и средств медицинской службы военного времени. О мобилизации русской армии объявляется 30 июля 1914 г. В итоге её формируются 24 армейские корпуса, входившие в состав двух фронтов. На начало октября 1914 г. в русской действующей армии насчитывалось 2 281 510 человек.
Медицинская служба имела около 15 суток на то, чтобы развернуть свои силы и средства и подготовиться к обеспечению первых боевых операций. В указанные сроки было сформировано 225 лазаретов дивизии, 191 полевой запасный госпиталь, 70 крепостных госпиталей всего на 265 401 место (койку). В дополнение к ним Российским обществом Красного Креста (РОКК) комплектуются 10 передовых отрядов, 33 подвижных лазарета (на 50 мест каждый) и 40 госпиталей (на 200 мест каждый) всего на 13 100 мест. Таким образом, к концу мобилизации на театре военных действий в госпиталях имелось 278 501 место на 2 281 510 чел. личного состава русских войск, или одно госпитальное место приходилось на 10 человек.
К марту 1917 г. количество этих мест было увеличено, достигнув в июле 837 956. Из них военному ведомству принадлежали лишь 224 720, или 27%. К этому времени одно госпитальное место приходилось на 8 чел. действующих войск. Число свободных госпитальных мест на всех фронтах колебалось от 39 до 55%.
Для госпитализации раненых и больных во внутреннем районе страны по первоначальному плану предусматривалось наличие всего лишь 44 тыс. госпитальных мест, на которые, как ни странно, в мирное время не было заготовлено имущества. Чтобы выйти из создавшего критического положения, ГУГШ принимает решение задержать выдвижение на фронт 150 полевых запасных госпиталей и, соединив их по два, создать таким образом 75 сводных госпиталей всего на 31 400 мест. Ввиду явной недостаточности этого числа госпитальных мест Военное ведомство обратилось за помощью к Всероссийским Земскому союзу и Союзу городов, которые в августе 1914 г. обеспечили развёртывание своих лечебных учреждений на 92 245 мест.
Что касается обеспеченности санитарных формирований медицинскими кадрами. Как свидетельствуют литературные источники, мобилизационная потребность в врачах определялась в 13 263 человека. В составе же врачей кадра числилось 3575 человек. Следовательно, по мобилизации надлежало призвать 9688 врачей. И, следовательно, с объявлением таковой в армию призывается 9202 врача, в том числе 6348 врачей запаса и 2754 врача ополчения старше 45 лет.
В июле 1914 г. состоялся также первый призыв зауряд-врачей 1 разряда – ими стал выпуск врачей российских университетов 1914 г. Они прослушали все предметы 10 семестров врачебного курса, но не сдавали государственные экзамены, намечавшие в своё время на сентябрь. Второй призыв зауряд-врачей 1 разряда, на этот раз уже из числа студентов 5-го курса, имел место в конце декабря того же года. И наконец, последний призыв, но уже зауряд-врачей 2-го разряда из состава студентов 4-го курса был проведён в конце весны 1915 г. Всего, таким образом, в русскую армию мобилизуется 1438 зауряд-врачей, а в целом – 10 540 врачей. Из этого количества было передано Российскому обществу Красного Креста 350 врачей и морскому ведомству – 80 врачей.
В связи с формированием в ходе войны новых медицинских учреждений была учреждена дополнительно к уже отмобилизованным ещё 4131 врачебная должность. Для их замещения призывается в разное время 4308 врачей. На начало сентября 1914 г. из имевшихся в России 28 100 врачей было мобилизовано 17 109, или 60% их общего числа. Если учитывать, что на тот же период полагалось по действующим штатам иметь 17 384 врача и что на каждый данный момент по разным причинам не работало до 500 врачей (по болезни и др.), то их некомплект составлял 775 чел., или 4,4%, к исходу 1916 г. – 2700 чел., а к весне 1917 г. – 3151 (27%).
30 апреля 1917 г. Временное правительство приняло постановление «О призыве на военную службу женщин-врачей». К таковой подлежали и те из них, кто к 1 января 1917 г. не достиг 45 лет и оказался при медицинском освидетельствовании годной к службе, за исключением беременных и имевших детей в возрасте до 3-х лет «как от церковного, так и от гражданского брака». По призыве на службу оставлялись в местах жительства и распределялись по имевшимся там лечебным учреждениям женщины-врачи, имевшие детей в возрасте свыше 3-х и до 16 лет. При этом им «предоставлялись все служебные права и преимущества военных врачей как в отношении назначения на должности, так и производства содержания и прочих видов довольствия». От призыва освобождались женщины-врачи, состоявшие преподавателями на медицинских факультетах, курсах и в институтах.
Что касалось порядка учёта, призыва и распределения женщин-врачей, то это было регламентировано специальной инструкцией, опубликованной в «Вестнике Временного правительства» от 15 июля 1917 г. В соответствии с ней женщины-врачи последнего выпуска проходили медицинскую комиссию на предмет годности к действительной военной службе немедленно, при своём учебном заведении. Все же прочие женщины-врачи, не достигшие 45 лет, обязаны были до 1 июля доставить лично или по почте сведения о себе в губернское по воинской повинности присутствие. При определении годности к службе и тех, и других комиссии руководствовались Расписанием болезней 1907 г., «с принятием во внимание особенностей женского организма». Признанные годными заносились в специальные списки, один экземпляр которых направлялся в ГВСУ, а другой – в окружное военно-санитарное управление. ГВСУ распределяло их на вакантные должности.
С меньшей остротой стоял вопрос об обеспеченности русской армии средним медицинским персоналом. К 9600 кадровым фельдшерам, состоявшим на действительной службе, с объявлением мобилизации прибавилось 16 тыс. «запасных» фельдшеров. До весны 1917 г. на пополнение этой категории медицинского персонала направляется еще 6153 фельдшерских учеников и 344 выпускников военно-фельдшерских школ. Если на отдельных фронтах в различные периоды войны некомплект среди врачей колебался от 18 до 30 %, то среди фельдшеров всего лишь от 10 до 12%. Кроме фельдшеров, на фронтах, в многочисленных формированиях общественных организаций трудились 24 966 сестры милосердия.
По объявлении мобилизации на 127 пехотных дивизий и бригад было сформировано 52 конных военно-санитарных транспорта (планировалось развернуть 90), причем для 8 из них в первое время не оказалось обоза и лошадей. Кроме того, как докладывал А. И. Шингарев на заседании бюджетной комиссии Государственной Думы (декабрь 1915 г.), «к моменту войны лишь очень незначительное количество войсковых частей было снабжено и оборудовано нового типа двуколками (образца 1912 г. – П. Г.), большинство же транспортов оказалось снабженным колымагами по образцу 1877 г. ...Эти транспорты во многих случаях оказались брошенными, и фактически некоторые части остались без всяких транспортных средств». Формирование конных военно-санитарных транспортов продолжалось на протяжении всей войны.
В 1913 г. один из ведущих теоретиков военно-санитарного дела в стране тех лет П. И. Тимофеевский (1878–1943) писал: «В настоящее время не может быть никакого сомнения, что в следующую кампанию автомобилям будет суждено играть очень большую роль как важному транспортному средству вообще и средству для эвакуации раненых в частности».
К началу войны в царской армии имелось всего два санитарных автомобиля и то иностранного производства (!). Ввиду отсутствия в стране автомобильной промышленности Россия была вынуждена закупать автомобили за границей. С началом войны поставки автомобилей иностранными фирмами расширились. Появилась возможность, правда в весьма скромных масштабах, к использованию этого вида транспорта для эвакуации раненых и больных преимущественно в войсковых районах корпусов, от передовых перевязочных пунктов в тыл, а также на эвакуационные пункты.
4.12.1914 г. утверждается представление начальника Генерального штаба о формировании первых четырех «санитарных автомобильных транспортов». 23.04.1916 г. приказом Верховного главнокомандующего автомобильные санитарные транспорты переименовываются в «войсковые санитарно-автомобильные отряды».
В конце 1916 г. и в 1917 г. Россией было заказано в США, Англии и Франции 4667 санитарных автомобилей. Однако большая часть этого заказа выполнена не была. В целом в ходе войны в России изготавливается и закупается за границей 2173 таких автомобиля. К февралю 1917 г. в армии имелось 55 войсковых санитарно-автомобильных отрядов. Определенные усилия в моторизации своих медицинских формирований были затрачены Российским обществом Красного Креста. Как свидетельствует П. В. Абрамов (1946), в целом к июню 1917 г. на фронтах действовало 58 санитарно-автомобильных отрядов, насчитывавших 1154 автомобиля, а также 40 автомобильных санитарных отрядов (колон) общественных организаций (497 автомобилей).
Эвакуация раненых и больных речным и морским транспортом в русской армии значительного развития не получила. Известно, что в апреле 1915 г. два пассажирских парохода «Портюгаль»* и «Эквадор», переданные России французским правительством, были переоборудованы в плавучие госпитали и действовали на Черном море. На санитарном пароходе «Черноморец» и на нескольких санитарных баржах осуществлялась транспортировка раненых и больных по Днестру. На Днепре с теми же целями использовались три, а на Волге два – санитарных парохода.
Основным средством эвакуации раненых и больных во фронтовом и во внутреннем районах страны, как и ранее, оставался железнодорожный транспорт. После объявления мобилизации русской армии в соответствии с «Положением о военно-санитарных поездах» (1912) было сформировано 46 постоянных военно-санитарных поездов (планировалось развернуть 100).
Но вскоре грандиозность развернувшихся военных действий и огромный размер санитарных потерь потребовали сформировать дополнительно к действующим постоянным военно-санитарным поездам 115 временных. Однако этого количества железнодорожного транспорта оказалось недостаточно. Наиболее полно потребность в санитарных поездах определилась к исходу первого года войны. Стремясь удовлетворить её, военное ведомство и частные организации к октябрю 1915 г. ввели в действие 357 военно-санитарных поезда. Из этого числа поездов 214 причислялись к полевым, 111 – к тыловым и 26 – к специальным («заразным»); в действующей армии находилось 290 (81.2%), во внутреннем районе страны – 67 (18,8%). Через год общее число военно-санитарных поездов достигло 370, а к началу 1917 г. – 405. Специалист военно-санитарного дела А. И. Замятин (1926) считал, что военно-санитарных поездов было в избытке, однако в период напряженных боев они подавались на головные эвакуационные пункты несвоевременно или в недостаточном количестве. В результате возникла необходимость использовать в широком масштабе наскоро формируемые временные, теплушечные поезда или просто порожняк железнодорожного транспорта без какой-либо его предварительной для того подготовки.
Замеры потерь Русской армии, особенно санитарных, в Первой мировой войне продолжают оставаться не полными. Война застала медицинскую службу неподготовленной и в отношении статистическом. Система учета потерь и так называемое «справочное дело» о них не были в достаточной мере разработаны. На постановке статистического дела весьма отрицательно сказывалась существовавшая в то время многоведомственность в руководстве медицинской службой. Каждое ведомство имело свою систему учета и отчетности. Данное обстоятельство, равно как и утрата части материалов, привели к тому, что существующие сведения о потерях Русской армии в рассматриваемой войне чрезвычайно противоречивы и, по нашему глубокому убеждению, навсегда останутся приблизительными.
Л. И. Сазонов в статье «Потери России в войну 1914–1918 гг.», помещенной в изданных в 1923 г. «Трудах комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг.», утверждал, что санитарные потери русской армии (за 37 месяцев войны) составили 9 366 553 чел., в том числе 3 730 291 ранеными, 65 158 отравленными газами и 5 571 104 больными (из них 264 197 инфекционными). Л. С. Каминский и С. А. Новосельский (1947) считают, что эти потери равнялись 9 009 920 чел., в том числе 3 940 000 ранеными и отравленными газами и 5 069 920 больными.
Что же касается средних показателей анатомической локализации ранений, то (по данным лазаретов Петроградского городского комитета Всероссийского союза городов) наибольшее число повреждений приходилось на нижние конечности – 31,6%, затем следовали верхние конечности – 29%, живота и таза – 15,1%, область головы и шеи – 9,1%, грудной клетки и спины – 5%. Ранения с множественной локализацией составляли 15,1%.
Преобладающее число повреждений, достигавшее 85,1%, относилось к огнестрельным ранениям, 7,8% составляли контузии, 1,3% поражения «удушливыми» газами. Из огнестрельных ранений 43,8% были пулевыми, 20,6% – от артиллерийского огня, 12,9% – от ручных бомб, минометов, огнеметов и пр., в 22,7 % тип огнестрельного оружия выявить не удалось.
Как же обстояли дела с состоянием регламентированных в начале войны центральных органов, имевших прямое отношение к организации эвакуации раненых и больных?
Вся ответственность за организацию эвакуации раненых и больных в тыл страны, как указывалось выше, до мая 1917 г. лежала на ГУГШ и сосредотачивалась в его Эвакуационном отделе. Работой этого отдела и его делопроизводства руководили, как того требовало соответствующее Положение, офицеры. Таким образом, во главе всего эвакуационного процесса, от успеха которого зависела жизнь миллионов раненых и больных, оказались люди, не представлявшие его специфической, медицинской особенности. Во главу угла здесь ставился сугубо оперативный расчет – «возможно быстрое освобождение действующих войск от утративших боеспособность элементов». Правда, Главное управление пыталось «посоветоваться» по вопросам организации эвакуации с ГВСУ, но из этого по вине последнего ничего не вышло. Как свидетельствует содержание телеграммы ГВСУ от 9 августа 1914 г., это управление, к сожалению, «не имело возможности дать указания об организации эвакуации во внутренних районах Империи, так как это не входило в круг предметов ведения управления». Таким образом, ни Генеральный штаб, ни ГВСУ оказались не подготовленными к организации сложнейшего процесса массовой эвакуации раненых и больных, сопряжённого с их т. н. этапным лечением.
Нельзя с уверенностью сказать, насколько серьезно сложившаяся в области «призрения» раненых и больных, обстановка тревожила правящие круги и она ли стала причиной тому, что 3.09.1914 г. приказом № 568 военного министра объявляется об учреждении особой должности Верховного начальника санитарной и эвакуационной части в Империи в лице члена Государственного Совета, генерал-адъютанта принца Александра Петровича Ольденбургского (1844–1932) с подведомственным ему управлением. Как констатировалось в приказе, он был «довереннейшим помощником Верховного главнокомандующего и императора по санитарной и эвакуационной деятельности как на театре военных действий, так и во внутренних районах страны. Своей особой он объединяет все виды санитарной и эвакуационной деятельности, является высшим начальником всех органов, организаций и частных мер санитарной и эвакуационных служб в государстве. В пределах театра военных действий он подчиняется Верховному главнокомандующему, вне его – непосредственно императору».
Казалось бы, появился орган, которому можно было поручить все дело эвакуации раненых и больных с театра военных действий, если с таковыми не справлялось ГУГШ и если от такового отказывалось ГВСУ. Однако попытка военного министра В. А. Сухомлинова передать в ведение нового управления Эвакуационный отдел ГУГШ не увенчалась успехом. А. П. Ольденбургский решительно отверг это предложение, сославшись на то, что «такая отдельная организационная мера, принятая в обстоятельствах военного времени, только усложнила бы дело и вызвала бы излишние затруднения». Следует признать, что вполне обоснованное стремление скоординировать многоведомственную деятельность по медицинскому обеспечению войск с помощью принципиально нового, но, увы, не связанного с фронтами (располагался в Петрограде) Управления принца А. П. Ольденбургского, не могло достичь желаемой цели, ибо на практике оно оказалось бессильным объединить в единый процесс эвакуацию и лечение миллионов раненых и больных воинов.
После Февральской революции предпринимаются первые практические шаги с целью передачи всего военно-санитарного дела в руки врачей, а именно созданному в Ставке в апреле 1917 г. при штабе Верховного Главнокомандующего Управлению главного полевого санитарного инспектора. Одновременно в составе ГВСУ учреждается Санитарно-статистический совет, а в мае того же года Врачебно-санитарное отделение этого управления реорганизуется в Эвакуационный отдел. Ему-то впервые и вменяется в обязанность «врачебное руководство всем эвакуационным процессом».
Главный полевой санитарный инспектор при Ставке должен был через своё Управление осуществлять общее руководство медицинским, в том числе и лечебно-эвакуационным обеспечением действующей армии, координировать работу медицинской службы фронтов, организовывать наиболее целесообразное использование сил и средств Российского общества Красного Креста, Всероссийских Земского союза, Союза городов и др. Примечателен тот факт, что этот ответственный пост (вместо уволенного Временным правительством в отставку главного военно-санитарного инспектора А. Я. Евдокимова) с 7 марта по 7 апреля1917 г. занимал проф. Николай Нилович Бурденко. 27 мая его сменил проф. Вадим Александрович Юревич.
С приходом к власти Временного правительства основные направления намечавшихся реформ в области военно-медицинского дела окончательно определяются на Чрезвычайном Пироговском съезде, проходившем в Москве 4-8 апреля1917 г.
Общие вопросы лечебно-эвакуационного обеспечения войск в ходе войны упомянутый выше П. И. Тимофеевский, выступая на внеочередном Пироговском съезде (Петроград, 14–18 апреля 1916 г.) с докладом «Организация помощи раненым в настоящую войну», представил его участникам следующую типовую схему медицинского обеспечения войск:
На поле боя раненым оказывалась первая помощь в порядке само- и взаимопомощи, а также санитарами и фельдшерами. Она выражалась в наложении повязки и иммобилизации.
На передовых перевязочных пунктах, размещавшихся, как правило, в 1,5-2 верстах от поля боя, а также медицинским персоналом «летучек» перевязочно-питательных отрядов общественных организаций проводилось исправление первичных, наложение провизорных неподвижных повязок, решался вопрос о дальнейшей эвакуации раненых. Здесь на раненого впервые заполнялось так называемое «перевязочное свидетельство» (свидетельство о ранении), форма которого была утверждена Военным советом 9 июня 1916 г. и объявлена особым циркуляром Главного штаба.
Затем путь раненого (пешком, на носилках или повозках) лежал в главный перевязочный пункт или в подвижный госпиталь, дивизионный лазарет, лазарет общественных организаций, которые дислоцировались вне ружейного и пулеметного и, по возможности, артиллерийского огня. Здесь раненые отделялись от больных. Раненым иногда производились сложные операции. Отсюда не подлежали дальнейшей эвакуации умирающие, нетранспортабельные тяжелораненые, инфекционные больные, а также легкораненые и легкобольные с короткими сроками лечения. Прочие контингенты направлялись или пешком, или с помощью порожних обозов, продовольственных транспортов, конных военно-санитарных и санитарно-автомобильных войсковых отрядов (санитарных автомобильных транспортов) на ближайшую погрузочную станцию железной дороги.
На эвакуационном пути между главным перевязочным пунктом (и другими лечебными учреждениями, развернутыми в войсковом тылу) и станцией погрузки, примерно через каждые 10 верст размещались питательные или чайные пункты, а на грунтовых путях значительной протяженности развертывались, как правило, два полевых госпиталя каждый на 210 мест. Из числа этих госпиталей один оборудовался для приема тяжелобольных, а второй – не менее 1000 легкораненых. Если на данном эвакуационном направлении ежедневно проходило более 1500 чел., то развертывались 3-4 полевых госпиталя. Инфекционные больные госпитализировались в оборудованных силами общественных организаций «заразных» отделениях.
Иногда тысячами накапливаясь на головных станциях погрузки, раненые и больные терпели невероятные лишения из-за отсутствия помещений, нехватки медицинского персонала, продуктов питания и чудовищной антисанитарии. Сюда прибывали (в недостаточном количестве) временные военно-санитарные поезда, «поездные» (санитарные) летучки, на которых раненые и больные без сортировки следовали до головных эвакуационных пунктов.
На головных эвакуационных пунктах, которые оборудовались на наиболее крупных железнодорожных станциях, развертывались госпитали для тяжелораненых и тяжелобольных, инфекционные госпитали, а также питательные и перевязочные отряды, хирургические госпитали для тяжелораненых, эпидемические отряды и психоприёмники общественных организаций. В совокупности здесь насчитывалось от 3 до 4 тыс. госпитальных мест, в том числе не менее 1000 мест выделялось для легкораненых и легкобольных со сроками лечения до трех недель. По прибытии на головной эвакуационный пункт раненые и больные обязательно выгружались из вагонов, подвергались медицинской сортировке, размещались на 2-3 дня в ожидании прибытия полевых военно-санитарных поездов.
Далее раненые и больные со сроком лечения более месяца эвакуировались в лечебные учреждения тылового эвакуационного пункта, дислоцировавшегося в крупном населенном пункте. На пути к нему устраивались изоляционно-пропускные пункты, персонал которых выявлял инфекционных больных, сосредоточивал их в инфекционных отделениях госпиталей или изоляторах, а затем на специальных поездах эвакуировал в особые «заразные городки».
Прочие раненые и больные по прибытии в тыловой эвакуационный пункт проходили полную санитарную обработку, еще раз сортировались. В лечебных учреждениях задерживались лишь те, срок выздоровления которых не превышал 6 недель, а также уроженцы данной местности. Те же раненые и больные, которые нуждались в более продолжительном лечении и в перспективе были непригодны к военной службе, эвакуировались на тыловых военно-санитарных поездах в распределительные эвакуационные пункты. Продолжительность пребывания раненых и больных на этих пунктах первоначально определялась в 10 суток, однако в последующем этот срок сокращается до 3 суток. Затем раненые и больные направлялись в окружные эвакуационные пункты, а оттуда – в лечебные учреждения военного ведомства, общественных организаций, развернутые на средства членов царской семьи и разного рода частных лиц.
П. И. Тимофеевский (1917) справедливо отмечал, что «та работа, которая велась на театре войны «войсковыми и общественными санитарными организациями под огнем, с дезинфекцией окопов, обсервацией целых рот и батальонов, перемыванием и дезинфекцией целых полков, приемом и перевязкой безбрежного потока раненых, поступающих в дни разгара боев, и последующим лечении их в госпиталях тыла, работа эта поистине может быть названа титанической».
В свое время проф. Б. К. Леонардов (1892–1939) – крупный теоретик и практик советской военной медицины – подчеркивал, что «санитарная организация является практическим выражением основной военно-медицинской доктрины». Как известно, последняя в годы Первой мировой войны с легкой руки императорского Генерального штаба основывалась на обязательной, непременной эвакуации по принципу «эвакуации во что бы то ни стало» из действующей армии в тыл большинства раненых и больных.
Интересы организации правильной эвакуации раненых и больных требовали необходимой «осведомленности руководящих эвакуационных органов в ближайших оперативных задачах штаба». Однако эта истина игнорировалась по отношению к медицинской службе армий и фронтов, и она узнавала о них, как пишет очевидец, «почти перед самым их началом, когда уже о более или менее серьезной подготовке к предстоящим работам не могло быть и речи». Почти непреодолимые препятствия вставали на пути эвакуационных отделов управлений санитарной части армий фронтов при сборе необходимой им для планирования своей работы информации о боевом составе, схеме расположения частей и соединений армий, наличии транспортных средств, более того – о движении раненых и больных, дислокации и загрузке армейских лечебных учреждений. Армии жили особой жизнью. Как это и ни покажется странным, организуя такую эвакуацию, армии не имели никакой связи с головными эвакопунктами. Они в буквальном смысле «выбрасывали» на последние без всякого предупреждения тысячи раненых, требовали от эвакопунктов санитарные поезда, но не считали нужным информировать, несмотря на единство интересов, о возможных размерах эвакуации. В свою очередь эвакуационные отделы фронтов не предпринимали никаких мер для налаживания такой связи между головными, тыловыми и распределительными эвакопунктами.
В результате немногочисленные госпитали эвакопунктов быстро заполнялись тяжелоранеными и наводнялись легкоранеными. Те же, кому не хватало места в ожидании прибытия какого-либо транспорта, лежали, «за редким исключением», под открытым небом, на пассажирских и товарных платформах, в пакгаузах, кюветах. Главные врачи эвакопунктов, свидетельствует очевидец, «беспомощно бегали около раненых, стараясь что-либо сделать в отношении более или менее сносного их размещения, оказания первой помощи, организации питания, но ничего существенного сделать не могли». Вместе с тем лечебные учреждения, развернутые в стороне от эвакуационных направлений, пустовали или были недогружены. Все это являлось результатом отсутствия какого-либо плана эвакуации, определенной системы в распределении имевшихся сил и средств, нахождения во главе большинства организаций, отвечавших за эвакуацию лиц, «мало или совершенно не знакомых с существом эвакуации, ее задачами и принципами, без достаточного административно-организационного опыта».
В целом в тыл страны подобным образом вывозится более 3 453 000 раненых, или 87,6% их общего числа, а также 1 477 940 больных.
Как отмечалось выше, основным средством эвакуации был железнодорожный транспорт. По «Положению о военно-санитарных поездах» (1912) по своему месту обращения они разделялись на полевые и тыловые. С точки зрения эксплуатации на театре военных действий все типы военно-санитарных поездов (из состава постоянных и временных), не меняя своего названия и номера, были обезличены. Они эшелонировались как в подготовительном периоде операции, так и в ходе ее в соответствии со специально разрабатываемыми планами, начиная от станций погрузки и кончая станцией выгрузки внутренних районов. В связи с данным обстоятельством поезда всех наименований оказались сравнительно однотипными, что способствовало увеличению их кругооборота и улучшению управления ими. Кроме военных, были сформированы также временные санитарные поезда общественных организаций. Их эксплуатация всецело находилась в руках военно-санитарных эвакуационных органов. Имелись также почти не поддававшиеся никакому управлению так называемые «именные» или «шефские» поезда. При влиятельной поддержке сверху и особенно Верховного начальника санитарной и эвакуационной части их коменданты поначалу делали что хотели. Однако он все же был вынужден издать приказ, рискуя вызвать неудовольствие своих августейших родственников, о воспрещении впредь внеочередного движения таких поездов в ущерб «простым».
С самого начала войны военно-санитарные поезда стали подвергаться нападениям вражеской авиации. Чтобы избежать «случайностей», как классифицировала подобные факты противная сторона, русское командование, следуя положениям Женевской конвенции, решило вначале покрасить крыши военно-санитарных поездов в белый цвет с нанесением на них изображения международного знака Красного Креста. Однако после этого нападения с воздуха на военно-санитарные поезда еще более участились. Наконец, принимается решение перекрасить крыши вагонов в обычный зеленый цвет и окончательно покончить с какими бы то ни было на этот счет иллюзиями. В целом с начала войны до сентября 1915 г. было зарегистрировано 142 воздушных нападения на русские военно-санитарные поезда, в результате которых 48 чел. погибли и 94 получили повторные ранения.
Как и следовало ожидать, наибольшие трудности и максимальное число недостатков в эвакуации раненых и больных отмечались в начальном периоде войны.
Руководимый в общем-то стремлением положить конец имевшимся в эвакуации раненых и больных недостаткам Верховный начальник санитарной и эвакуационной части счёл необходимым в самом начале своей деятельности лично ознакомиться с «постановкой вверенного ему дела на местах». Итоги состоявшейся с этой целью инспекторской поездки были весьма неутешительными. Докладывая о них царю, принц А. П. Ольденбургский в числе причин, лежавших в основе увиденных им безобразий, назвал «чрезмерное многоначалие, сводившееся фактически к безначалию, формализм и склонность к межведомственным и личным трениям», а также «присвоение врачами командного начальствования и военно-административного управления». По его собственному заключению «вся эта система от высших военно-санитарных организаций до малых лазаретов показала свою несостоятельность».
Регулирование движения военно-санитарных поездов на каждом из фронтов, при условии своевременной подачи подвижного состава к головным эвакуационным пунктам, возлагалось на специальное Бюро при начальнике военных сообщений фронта.
Приказом № 273 военного министра от мая 1917 г. ответственность за организацию эвакуации раненых и больных в районе театра военных действий «по линию распределительных эвакуационных пунктов» возлагается на Штаб Верховного Главнокомандующего, штабы фронтов и фронтовые эвакуационные совещания. Во внутреннем районе эта работа поручается Центральному эвакуационному комитету (коллегиальный орган, включавший в себя представителей ГУГШ и Московского межведомственного эвакуационного совещания), а также эвакуационным совещаниям городов, в которых имелись распределительные эвакопункты. Для поддержания связи с фронтовыми эвакуационными совещаниями этот комитет имел своих представителей в Ставке и при начальниках санитарной части армий фронтов.
Принятые меры улучшили условия организации железнодорожной эвакуации раненых и больных. Общие показатели объема этой эвакуации военно-санитарными поездами представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Количество раненых и больных воинов русской армии, эвакуированных в Первой мировой войне военно-санитарными поездами
|
Годы |
Раненые |
Больные |
|
В абсолютных числах |
В абсолютных числах |
|
|
1914 |
429 153 |
93 106 |
|
1915 |
1 010 352 |
521 876 |
|
1916 |
1 016 120 |
756 434 |
|
1917 |
338 695 |
1 340 308 |
|
ИТОГО |
2 794 320 |
2 711 724 |
Большим злом в эвакуационном процессе в начальные годы войны был безудержный вывоз во внутренний район страны подавляющего числа легкораненых и легкобольных, удельный вес которых среди эвакуированных достигал 54–61%.
В сентябре 1914 г. ГУГШ потребовало от главных начальников снабжения армий фронтов принять «самые серьезные меры к пресечению вывоза легкораненых и легкобольных во внутрь Империи». В приказах по частям объявляется, что легкораненые, самовольно уехавшие в тыл, минуя эвакуационные пункты, «будут считаться в бегах» и предаваться военно-полевому суду.
Для долечивания легкораненых и легкобольных, как и в годы Русско-японской войны, предусматривалось создание слабосильных команд на основании «Временного штата слабосильной команды, формируемой при эвакуационном пункте» и «Приложения о слабосильных командах военного времени», утвержденных соответственно 12 и 26 сентября 1914 г. В том же месяце вводятся «Правила и раскладки довольствия нижних чинов, состоящих в слабосильных командах». В ноябре 1914 г. слабосильные команды переформировываются в «команды выздоравливающих». Такие команды размещались вне лечебных учреждений, преимущественно в казармах, летом, как правило, – лагерем. Известно, что подобным образом прошло лечение около 336 103 легкораненых. Их жизнь регламентировалась распорядком дня и действовавшими воинскими уставами. Штатный медицинский персонал командам выздоравливающих не полагался. Для получения личным составом этих команд необходимой медицинской помощи они приписывались к близлежащему лечебному учреждению. Таким образом, указанные выше мероприятия исходили лишь из стремления задержать легкораненых в пределах действующей армии для последующего быстрого возвращения их в строй. Они не предусматривали организации медицинской сортировки этих контингентов, их специализированного лечения. Все это дает основание заключить, что в годы Первой мировой войны проблема эвакуации и лечения легкораненых и легкобольных в пределах театра военных действий или вблизи него так и не нашла своего окончательного организационного решения.
До сих пор речь шла об организации эвакуации раненых и больных. Как же осуществлялось их лечение? Общеизвестно, что в течение всей войны в подавляющем числе случаев повсеместно господствовала логически вытекавшая из неверной военно-медицинской доктрины система развоза раненых без широко поставленной хирургической работы в войсковом тыловом районе. Проф. В. А. Оппель по этому поводу писал (1916): «Военно-санитарные организации, крайне важные для лечения раненых, бездействовали как организации для производства операций. Чрезвычайно низкий процент оперируемых раненых в перевязочных отрядах дивизий (0,6–3,3%), в лазаретах дивизий (1–5,4%), в подвижных госпиталях (13,3–30,9%) обнаруживал бездеятельность этих организаций в отношении оперативно-хирургической работы. Они раненых только перевязывали».
Если говорить о системе организации хирургической помощи раненым в царской армии, то, по меткому замечанию проф. Н. Н. Еланского (1940), правильнее всего ее будет определить как «систему эвакуации и этапных перевязок». В основе ее, как указывалось выше, лежало ошибочное положение русского хирурга Э. Бергмана о «первичной стерильности огнестрельной раны» и вытекавшие из него переоценка значения первичной повязки, а также хирургическая пассивность в войсковом районе. Оперативная помощь начиналась в более широких масштабах в госпиталях, приданных головным эвакопунктам. Однако здесь она заключалась уже, главным образом, в борьбе с осложнениями – гноеродной и анаэробной инфекцией.
Именно в Первой мировой войне военно-полевая хирургия получила все основания называться «хирургией инфицированных ранений». Конечно, исходы такого лечения довольно часто были неблагоприятными. Не в силах остановить машину безудержной эвакуации раненых и больных, управляемой Генеральным штабом, врачи неоднократно предпринимали попытки наиболее рациональным образом построить оказание медицинской помощи жертвам войны, покончить с окончательно скомпрометировавшими себя принципами консервативного лечения огнестрельных ран и «эвакуации прежде всего». С этой целью они трижды собирались на широкие врачебные форумы: внеочередной Пироговский съезд (Петроград, 14–18.04.1916 г.), XIV съезд российских хирургов (Москва, 16–19.12.1916 г.), Чрезвычайный Пироговский съезд (Москва, 04–08.04.1917 г.). Особенно остро стоял вопрос об улучшении лечения раненых. Проф. Н. Н. Петров выдвинул, в противовес теории Эрнеста Бергмана, положение о первичной инфицированности огнестрельных ран. На внеочередном Пироговском съезде, а также на XIV съезде российских хирургов единодушно одобряется мнение о «безотлагательном создании должности главных хирургов фронтов, хирургов армий и, может быть, корпусных хирургов». Как указывал проф. Н. А. Вельяминов, они «должны ведать организацией хирургической помощи во всех лечебных и санитарных учреждениях порученного им района», при этом их деятельность «должна носить преимущественно характер консультативный и организационный». Кроме того, признавалось безусловно необходимым создание резерва хирургов в армиях и на фронтах.
В числе организационных вопросов на съезде затрагивалась и такая важная сторона дела, как обязательное проведение «в каждом самостоятельном секторе боевого фронта принципа единообразия и преемственности лечебных мероприятий».
Надо отдать должное: некоторые рекомендации съезда возымели свое действие. В конце декабря 1916 г. в армиях появились армейские хирурги. И только. Во фронте продолжали работать хирурги-консультанты Общества Красного Креста. В корпусах их не было. О резерве хирургов не могло быть и речи – их не хватало хронически.
Среди хирургов-консультантов находились лучшие отечественные специалисты, в большинстве своем профессора, доценты высших учебных медицинских заведений, ведущие хирурги лечебных учреждений страны: И. П. Алексинский, Г. А. Альбрехт, Н. И. Березниговский, Н. А. Богораз, Н. Н. Бурденко, Н. А. Вельяминов, Р. Р. Вреден, П. А. Герцен, А. П. Крымов, А. В. Мартынов, С. Р. Миротворцев, Н. Н. Напалков, В. А. Оппель, Н. Н. Петров, В. Н. Розанов, И. К. Спижарский, В. А. Тиле, В. Н. Тринклер, Г. И. Турнер, С. П. Федоров, В. Г. Цеге-фон-Мантейфель, Г. Ф. Цейдлер, В. Н. Шевкуненко и другие.
Большой заслугой хирургов-консультантов явилось создание под их методическим руководством особых формирований Общества Красного Креста в виде летучих хирургических отрядов, централизованное применение для диагностических целей авторентгеновских установок («рентгеновских станций») и др. Почти на всех фронтах, где позиционный характер военных действий вошел в обыденную жизнь войск, были предприняты также практические шаги к тщательной разработке научных материалов, накопившихся за время войны. Чтобы сделать их достоянием всех врачей, при санитарных отделах штабов армий проводили научно-практические совещания. На них присутствовали все желающие врачи частей и лечебных учреждений. Здесь заслушивались и обсуждались интересные доклады, сообщения, демонстрировались раненые и больные. Некоторые материалы публиковались и распространялись среди врачей.
Существенную пользу в деле улучшения лечения раненых и больных сыграла периодическая медицинская печать, монографические публикации корифеев отечественной медицинской науки. Всего за годы войны было издано более 1000 работ по различным разделам военной медицины, в том числе 53 – по санитарной тактике, 859 – по военно-полевой хирургии, 95 – по военной гигиене и эпидемиологии.
Основываясь на богатом личном опыте, проф. Владимир Андреевич Оппель в 1915 г. впервые, по его собственному выражению, «заговорил» о принципе «этапного лечения» раненых. В статье «Основания сортировки раненых с лечебной точки зрения на театре военных действий», опубликованной в октябрьском за 1915 г. номере «Военно-медицинского журнала», он писал: «...Принцип такого этапного лечения, насколько я понимаю, заключается в следующем; раненый получает нужную ему помощь – выражается ли она перевязкой, наложением неподвижной повязки, более или менее сложной операцией – тогда и там, где и когда необходима такая помощь. Передвижение раненых в виде правила допустимо тогда, когда оно не сопряжено с явной опасностью ухудшения в состоянии здоровья раненого».
Учение В. А. Оппеля об этапном лечении раненых удалось в какой-то мере внедрить в практику лишь на Юго-Западном и Северо-Западном фронтах, где он некоторое время был начальником санитарной части армий. Что же касается признания оппелевского принципа в качестве официально действующей системы медицинского обеспечения войск во всех вооруженных силах, то этого не произошло. Лишь после Февральской революции, благодаря усилиям проф. Н. А. Вельяминова, он находит свое частичное воплощение в «Инструкции по организации хирургической помощи раненым на фронте». Впервые эта инструкция была опубликована в «Материалах первого делегатского съезда военных врачей Западного фронта (Минск, 12–17.04.1917 г.)», а спустя 30 лет проанализирована П. В. Абрамовым (1944) в соответствующей статье «Военно-медицинского журнала».
Теоретики и практики военно-санитарного дела того времени считали, что на пути от поля боя до головного эвакуационного пункта раненые и больные не нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи, а госпитали армейского района предназначались в основном для лечения легкораненых и легкобольных. Однако в 1916 г. стала очевидной необходимость наличия здесь также специального госпиталя для тяжелораненых. В промежуточной зоне между головными и тыловыми эвакопунктами считалось целесообразным развертывать опять же госпитали лишь для лечения легкораненых, легкобольных, а также «заразные» госпитали. Только в составе тылового эвакопункта рекомендовалось оборудовать несколько специализированных госпиталей хирургического, терапевтического и венерологического профилей.
Решающую роль в организации оказания специализированных видов помощи раненым и больным в лечебных учреждениях фронта и глубокого тыла сыграло Российское общество Красного Креста, а также Всероссийские Земский союз и Союз городов. На средства этих организаций были развернуты и оборудованы госпитали так называемых I, II и III разрядов. Госпитали I разряда по плану должны были включать одну треть всего числа развернутых коек и предназначались для раненых, «требующих серьезного лечения». Госпитали II и III разрядов, имея равное количество коек, предназначались: первые для раненых, которые не требовали серьезной хирургической помощи, нуждались в «мелких операциях и перевязках», а также для «трудных терапевтических больных»; вторые – для раненых, нуждавшихся в амбулаторной помощи.
Не нашла своего организационного решения и проблема лечебно-эвакуационного обеспечения больных воинов. При эвакуации они поступали в госпитали вместе с ранеными, размещались в одних с ними палатах. По инициативе некоторых дивизионных врачей один из двух полагавшихся по штату лазаретов приспосабливался для госпитализации только больных.
В целом же, как подчеркивалось на внеочередном Пироговском съезде, несмотря на то, что на фронтах работали многие известные терапевты (М. В. Черноруцкий, В. И. Глинчиков, Н. Н. Савицкий, Н. И. Рогоза, О. В. Кондратович и др.), терапевтические больные оказались «пасынками» в общей системе медицинского обеспечения русской армии в рассматриваемой войне.
Во время Первой мировой войны появилась принципиально новая категория санитарных потерь – «газоотравленные» (пораженные боевыми отравляющими веществами). 22.04 1915 г. войска кайзеровской Германии впервые в истории войн (в нарушение Гаагской конвенции 1899 г.) неожиданно применили «газобаллонную атаку» хлором против французских войск, а 18 мая против 2-й армии русского Северо-Западного фронта в районе Жирардово. В ходе последней было сразу поражено 90 офицеров и до 9 тыс. ничем не защищенных от газообразного хлора солдат. Последствия были более чем трагичны: около 10% этого числа умерли на месте, а 40% – по пути в Варшавский госпиталь. Со всей остротой встали проблемы организации противогазовой (химической) защиты личного состава войск и оказания медицинской помощи пораженным.
В июле 1915 г. военный врач Н. А. Белов обратился со страниц газеты «Русский врач» с призывом ко всем врачам немедленно начать работы по научной разработке клиники, патогенеза и методов лечения поражений, вызываемых боевыми отравляющими веществами: газообразным хлором, хлорпикрином, ипритом, фосгеном. Следует отдать должное – призыв нашел широкий отклик среди отечественных ученых. Первое описание клиники поражений газообразным хлором принадлежало находившемуся на фронте проф. В. И. Глинчикову, а методов лечения – приват-доценту Д. И. Никольскому. В целом по проблемам боевых отравляющих веществ в различных журналах России было в то время опубликовано около 48 статей.
Первоначально решение всех вопросов, касавшихся разработки средств и способов борьбы с «удушливыми газами» как и снабжения действующей армии противогазами, сосредоточивается в ГУГШ и в срочно созданном противогазовом отделе Управления Верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Однако с мая 1916 г. эта функция передается в Химический комитет при Главном артиллерийском управлении. ГВСУ было поручено лишь изучение вопросов снабжения формированных химических команд санитарным имуществом и медикаментами, необходимыми для оказания медицинской помощи пострадавшим от отравляющих веществ.
Огромнейший труд вкладывается врачами, химиками, инженерами в создание средств индивидуальных защиты от боевых отравляющих веществ. Первые такие средства защиты органов дыхания от газообразного хлора были созданы в 1915 г. Они представляли собой повязки (респираторы) или маски-рыльца (получившие у солдат поэтическое название «свиное рыло»), пропитанные водными растворами гипосульфата и соды, а с появлением в качестве отравляющих веществ фосгена и хлорпикрина для тех же целей стали применять уротропин. В России, в частности, образец защитного респиратора предложил профессор хирургии М. И. Ростовцев. Окулист М. И. Авербах дополнил его предохранительными очками. Большие заслуги в разработке средств защиты от боевых отравляющих веществ принадлежали виднейшему отечественному гигиенисту проф. Г. В. Хлопину, возглавившему Лабораторию противогазового отдела Химического комитета. В 1916 г. им было опубликовано в виде справочника для врачей «Краткое описание действия ядовитых средств, применяемых для боевых целей, на человека и животных, способов защиты против них и подачи первой помощи при отравлениях».
В конечном итоге на снабжение русской и других армий принимается фильтрующий противогаз отечественного производства (наполнитель противогазовой коробки – активированный уголь), предложенный впервые в мире в 1915 г. акад. Н. Д. Зелинским (1861–1953) совместно с инженером Э. Л. Куммантом и усовершенствованный за счет предложенного Аваловым дыхательного клапана. Для массового изготовления противогазов этой конструкции в Петрограде был создан Противогазовый завод. За время войны из Петрограда на фронт было отправлено 769 683 влажных 35-слойных масок, 3 893 536 противогазов Зелинского, 83 104 противогаза с овальной жестяной коробкой, 79 587 угольных со слюдяными клапанами, 280 950 английских противогазовых шлемов образца 1915 г.; из Москвы – 787 138 влажных 35-слойных масок и 1 860 479 противогазов Зелинского, а в целом – 8 466 477 масок и противогазов различной конструкции.
На оснащении русской армии состоял также прибор-индикатор для обнаружения и определения концентрации хлора и фосгена в воздухе, сконструированный И. И. Жуковым и Н. Т. Прокофьевым. Касаясь порядка снабжения противогазами, следует отметить, что для этих целей каждой армии придавался специальный склад, в котором предусматривалось постоянно иметь запас комплектов индивидуальных средств защиты в количестве, равном 50% от их общего числа находящегося у личного состава. О каждом случае выдачи противогазовых комплектов с армейского склада начальник санитарного отдела штаба армии обязан был докладывать начальнику санитарной части армий фронта и принимать меры к пополнению армейского склада этими комплектами до установленной нормы.
В начале марта 1916 г. принимается решение о направлении на фронты 12 «подвижных инструкторских отрядов по борьбе с удушливыми газами», формировавшихся общественными организациями с целью обучения личного состава войск пользованию индивидуальными и коллективными средствами защиты от отравляющих веществ. По примеру Юго-Западного фронта в конце апреля – начале мая того же года при управлениях главноуполномоченных Общества Красного Креста других фронтов создаются «Курсы по противогазовой борьбе для персонала и санитаров передовых отрядов».
В тот же период издаются специальный доклад проф. Н. А. Вельяминова «О мерах предохранения людей и лошадей от действия удушливых и ядовитых газов» (Пг.,1916), «Инструкция для врачей передовых лечебных учреждений Российского общества Красного Креста при армиях Западного фронта» (Минск, 1916) и др.
Ведущая роль в разработке организационных основ оказания медицинской помощи пораженным отравляющими веществами принадлежала Н. Н. Бурденко. «Всякая газовая атака, – писал он, – должна стать предметом самого тщательного внимания со стороны врачей. Вопрос о санитарной тактике в смысле порядка оказания помощи в местах первого притока газоотравленных, планомерная сортировка их, эвакуация их в район передовых перевязочных отрядов дивизии; характер помощи, сортировка и транспорт газоотравленных здесь, наконец, сортировка и распределение в районах.
Оказание первой помощи газоотравленному головных эвакуационных пунктов – вот вопросы, которые пора ставить на очередь для принципиальных и конкретных на них ответов».
На основании «Инструкции медицинскому персоналу 5-й армии при оказании помощи пострадавшим от удушливых газов», введённой в октябре 1915 г., вынос «газоотравленных» возлагался на дивизионных носильщиков. Пораженные после смены одежды размещались в специальных убежищах, устраиваемых в тылу, на возвышенных местах, вне сферы действия газов. По сигналу химической тревоги к этим убежищам обязаны были следовать 1–2 врача со специальной аптечкой. В тылу войск предполагалось устраивать специальные госпитали для «газоотравленных». Однако фактически такие госпитали созданы не были.
После принятия перечисленных выше мер в Русской армии отмечалось резкое снижение потерь от отравляющих веществ.
Следует особо отметить, что в годы Первой мировой войны определенные позитивные шаги делаются и в области санаторно-курортного лечения раненых и больных воинов, которое находилось в ведении общественных организаций и частных лиц. Положительную роль в этом важном деле сыграл состоявшийся в Петрограде 7 – 11.01.1915 г. съезд по улучшению отечественных лечебных местностей, а также возложение 27 февраля того же года на Верховного начальника санитарной и эвакуационной части общего руководства всеми мероприятиями по улучшению отечественных лечебных местностей для использования их как больными и ранеными воинами, так и всеми вообще нуждающимися в бальнеологическом лечении лицами.
Для разработки по согласованию с военным ведомством общего плана организации этого лечения, претворения в жизнь намеченных в нем мероприятий через соответствующие организации в 1915 г. была создана Центральная объединенная санаторно-курортная комиссия при Главных комитетах Всероссийских Союза городов и Земского союза. Ее председателем стал В. А. Левицкий, а секретарем – З. П. Соловьев (впоследствии видный организатор советского здравоохранения). Первое заседание комиссии состоялось 26.05.1915 г. В этот же день приказом № 49 Верховный начальник санитарной и эвакуационной части объявил «Правила порядка отправления и следования нижних чинов армии и флота в лечебные местности и надзора за сими чинами во время нахождения их в упомянутых мес
|
Метки: первая мировая война красный крест |
РЕЭВАКУАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1922–1923гг.: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
РЕЭВАКУАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1922–1923гг.: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Автор: И.Б. БЕЛОВА | 23 Января 2014
И.Б. БЕЛОВА
РЕЭВАКУАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1922–1923гг.: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Belova I.B. The refugees of World War I re-evacuation from Soviet Russia in 1922-1923: the final stage
Аннотация / Annotation
В статье анализируется завершающий период возвращения на родину беженцев Первой мировой войны - уроженцев территорий, отошедших к Польше и прибалтийским государствам. Впервые показан результат влияния сокращения и ликвидации государственного эвакуационного аппарата, неоднократного прекращения регистрации и бесплатной отправки беженцев, изменения правил оформления документов на процесс репатриации беженцев.
The article is devoted the concluding period of World War I refugees homecoming - that temporarily placed in the center of the European Russia, natives of the territories which have departed to the Poland and the Baltic Republics. For the first time the result of influence of reduction and liquidation of the state evacuation device, the numerous termination of registration and free sending of refugees, changes of rules of official registration of papers on process of repatriation of refugees are shown.
Ключевые слова / Keywords
Беженцы Первой мировой войны, плановая реэвакуация, стихийное движение беженцев, иностранные дипломатические миссии, Центральное управление по эвакуации населения, Наркомат внутренних дел. Refugees of World War I, planned re-evacuation, spontaneous movement of refugees, foreign diplomatic missions, the Central People Evacuation Board, Ministry of Internal Affairs.
БЕЛОВА Ирина Борисовна – старший преподаватель Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, докторант Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, кандидат исторических наук, г. Калуга; +7-905-640-51-43; irina-25.01@mail.ru
Вопросы реэвакуации беженцев Первой мировой войны из Советской России начали изучаться отечественными историками с конца 1990–х гг. Так, Н.В. Лахарева рассмотрела эту проблему на примере Курской губернии. В.С. Утгоф исследовала процесс возвращения на родину белорусских беженцев . В данном исследовании впервые анализируется завершающий период возвращения на родину беженцев Первой мировой войны, в основном уроженцев территорий, отошедших к Польше и прибалтийским государствам . В декабре 1921 г. Центральное управление по эвакуации населения (Центрэвак) объявило о ликвидации своих органов на местах. В соответствии с инструкцией от 5 января 1922 г. уже в феврале были ликвидированы уездные управления по эвакуации населения (уездэваки), точнее - уездный эвакуационный аппарат, а в марте – губернские управления по эвакуации населения (губэваки). Вместо них в 1922 г. функционировали линейные эвакуационные пункты при крупных железнодорожных станциях, но не во всех губерниях, и межтерриториальные базисные эвакопункты. Например, при железнодорожной станции «Калуга» в марте был организован линейный эвакуационный пункт с передачей ему имущества питательного пункта местного Губэвака, который подлежал ликвидации. Этот вопрос не был согласован с Центрэваком. В итоге только что созданный линейный эвакопункт пришлось ликвидировать, а уполномоченного Центрэвака по Калужской губернии подчинить базисному эвакопункту в г. Орле. В таких губерниях центра Европейской России как Тульская, Курская, Брянская, Орловская, линейные эвакопункты были созданы и подчинены Орловскому базисному эвакопункту, а Рязанский линейный эвакопункт – Московскому .
Во втором полугодии 1922 г. ликвидации подверглись уже эвакопункты, при этом с 1 июля была прекращена бесплатная перевозка «голодобеженцев» и «обратников» в Европейской России, а из Сибири – с 1 августа . Новый порядок перевозок согласовывался уже после прекращения бесплатных перевозок. Так, Народный комиссариат земледелия в ноябре 1922 г. дал предложение по составу своего предполагаемого контингента обслуживания – это легальные переселенцы и беженцы голода, а к контингенту Центрэвака отнес беженцев Первой мировой войны и военнопленных, оптантов, рабочих по направлению Народного комиссариата труда, инвалидов, детей по направлению Народного комиссариата просвещения .
Губисполкомы, озабоченные перевозками беженцев в связи с ликвидацией местных эваков, эвакопунктов и предстоящей ликвидацией Центрэвака, запрашивали Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), «что будет дальше, как все будет происходить, что делать сейчас» . Например, в конце 1922 г. в Сызрани скопилось для отправки 10 тысяч беженцев, рабочих и переселенцев, а местный эвакопункт уже был без руководителя, которого отозвали несмотря на сложную ситуацию с отправкой . В декабре 1922 г. Латвийская дипломатическая миссия обращала внимание Центрэвака на положение 500 латвийских беженцев, ожидавших отправки в бывшей Дальневосточной республике . В январе 1923 г. не состоялась запланированная отправка 300 беженцев Латвии из губерний Европейской части России, и латвийские представители вынуждены были обращаться по этому вопросу, но теперь уже не в Центрэвак, а в ликвидационную комиссию Центрэвака . При этом обмен 90 коммунистов, находившихся в Латвии, на 60 латвийских беженцев, находившихся в России, в это же самое время состоялся .
В связи с ликвидацией Центрэвака и его органов на местах оформление документов на выезд за границу беженцев Первой мировой войны был возложен на отделы управления губисполкомов. Например, в Калужской губернии при административном подотделе отдела управления губисполкома был образован эвакуационный стол, который возглавил бывший заведующий беженским отделом Губернского управления по делам о пленных и беженцах С. Каралис, уроженец Виленской губернии, в период Первой мировой войны оказавшийся в Калуге . Через год функции эвакостола перешли к иностранному столу отдела управления Губисполкома .
Случаи, когда документы беженцев, которые требовались для подтверждения их беженского статуса, полученные иногда с большим трудом с мест их прежнего проживания, в итоге терялись по вине советских работников, к сожалению, не были единичными. Например, в Мценске Орловской губернии сразу 22 беженца – уроженца Латвии в одночасье остались без документов, отосланных при посредстве Губэвака в Москву . По этой причине люди по возможности старались доставлять свои бумаги в иностранные миссии лично или с оказией. Однако когда, например, литовский беженец Зенон Викторовский после поездки по этому вопросу в Москву, в Литовское представительство, в июне 1922 г. возвратился обратно, его оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за «незаконную» поездку. Его успокаивали тем, что сумма штрафа пополнит фонд помощи пленным красноармейцам, находившимся в Польше. Полпредство Литовской республики, куда обратился Викторовский, наоборот, посчитало незаконной предъявленную беженцу штрафную санкцию и заявило протест на том основании, что «передвижение в РСФСР никакими узаконениями не воспрещено» .
Надо отметить, что оперативностью в решении разнообразных организационных вопросов эвакуационные органы Советской России вообще не отличались, тем более в период реорганизации и ликвидации. Взаимодействие центра и периферии, межведомственные связи всегда оставляли желать лучшего. Местные органы Центрэвака, как правило, по нескольку раз обращались в Центр за разъяснениями, как поступать в конкретном случае, на основании какого нормативного акта, часто у них отсутствовавшего. Переписка отнимала время, что отрицательно сказывалось на настроении «пришлого элемента», то есть беженцев, и задерживала репатриацию. В феврале 1922 г. губотделы ЧК, к примеру, стали отказываться визировать списки беженцев, что было необходимо для получения нарядов на их отправку, на том основании, что в списках не были обозначены маршруты следования. Между тем маршруты сообщались на места тем же Центрэваком лишь перед самой отправкой эшелона, т.е. после утверждения уже завизированных списков. Получался замкнутый круг, тормозивший отправку . Польская миссия в 1922 г. шесть раз обращалась по поводу урегулирования крайне замедленной деятельности Курского губэвака, в связи с чем был сформирован только один эшелон (к августу 1922 г.); а также по поводу отказов регистрации беженцев Виленской губернии под предлогом отсутствия распоряжений Центрэвака. Проверка деятельности Управления выявила отсутствие необходимого количества сотрудников .
В сентябре 1922 г. на местах возникло множество вопросов в связи с приказом НКВД от 5 сентября, прекращавшим регистрацию беженцев. Не заявившим до 5 сентября 1922 г. о своем желании выехать на родину предстояло возвращаться за свой счет. Беспокойство местных властей объяснялось тем, что оставалось «довольно значительное количество» беженцев, зарегистрировавшихся, но не уехавших по разным причинам и не подавших заявлений о желании выехать, которые затем пожелали это сделать; кроме того – беженцев, никогда ранее не регистрировавшихся, но теперь желавших ехать. Губотделы ГПУ настойчиво предлагали приступить к новой регистрации, но это требовало согласования с Центрэваком, то есть дополнительного времени. В ответ на многочисленные запросы Центрэвак сообщал, что скоро последует приказ, согласно которому бесплатная отправка будет продлена еще на две недели, по истечении которых беженцы, не заявившие о намерении выехать, уже окончательно лишатся возможности ехать за счет Центрэвака .
Бесплатная отправка беженцев в Латвию была с 1 октября 1922 г. прекращена приказом Центрэвака от 15 сентября 1922г. Надо отметить, что регистрация беженцев для бесплатной отправки в Латвию уже прекращалась в 1921 г., что вызвало многочисленные жалобы и протесты, способствовало увеличению самостоятельного непланового движения, с чем Центрэвак всегда боролся. В результате регистрация возобновилась.
В 1922 г. волна «непланового беженского движения» вновь, как и весной 1921 г., поднялась на «значительную», по оценке Центрэвака, высоту. Это были в основном беженцы, расселенные в «бывшей житнице России – губерниях Поволжья». Центрэвак, как следует из его отчета, в 1922 г., как и в 1921 г., вынужден был не просто бороться, но вести «усиленную» борьбу с «самотеком», при этом сотни сотрудников погибли. Их жизни унесли свирепствовавшие в России эпидемические заболевания . Правомерен вопрос о количестве погибших от болезней и голода беженцев. Такие данные Центрэвак, скорее всего, не сумел собрать, хотя такие попытки делались в конце 1919 г. и позже . Надо отметить, что даже в 1920 г. количество органов гражданской регистрации составляло не более 40% от необходимого количества, не говоря уже о предыдущем советском периоде .
Плановые перевозки в 1922 г. беженцев–уроженцев территорий, отошедших к Польше, а также в Прибалтийские республики осуществлялись Центрэваком с февраля. Так, в марте по одному эшелону отправили в Польшу из Орла, Брянска, Тулы, Рязани, Тамбова, Смоленска и два эшелона из Калуги . Эти люди ожидали реэвакуации из Советской России долгих пять лет. В феврале, мае и сентябре состоялись отправки (по одному эшелону) в Польшу и Прибалтику из Калужской губернии, среди отправленных преобладали уроженцы Гродненской губернии . В августе из Орла отправили 1 264 беженца в Польшу и Прибалтику , а также из Курска, откуда до конца 1922 г. перевезли 1 136 человек . Летом в Польскую республику отъезжали и гужевым способом . Далеко не все отправки в 1922 г. проходили нормально, например, в установленные сроки после объявления о предстоящем отъезде. В противном случае беженцы не успевали продать свое имущество или, наоборот, распродавали его, увольнялись с работы, а отъезд переносился на неопределенное время, к примеру, с весны на осень . Общая численность реэвакуированных из России беженцев в 1922 г., по нашим подсчетам, составила не более 207 тыс. человек .
На 1 ноября 1922 г., по данным Центрэвака, в губерниях Европейской России еще ожидали реэвакуации 31 414 зарегистрированных беженца, в Сибири – 40 тыс., на Украине – 20 тыс. человек; всего по России – 94 764 человека. Из них, например, в Калужской, Курской губерниях, Западной области по 3 тысячи человек; в Тамбовской губернии – 2 тысячи . За декабрь 1922 г. в Латвию и Литву эвакуировали 525 беженцев, в Польшу (через пограничный пункт Негорелое) – 3 618 человек; всего – 4 143 ; значит, оставалось на 1 января 1923 г. 90 621 человек.
С января 1923 г. Центрэвак перестал существовать, но в Наркомате внутренних дел имелся эвакуационный отдел, с которым взаимодействовали местные губернские эвакуационные столы. Например, в Калужском губисполкоме, в составе которого находился эвакостол, были уверены, что ликвидация Центрэвака не означала прекращение эвакуации беженцев, которая, действительно, продолжилась и в 1924 г. Начальник отдела управления по этому вопросу высказался следующим образом: «Эвакуация не находится на мертвой точке, но как раз наоборот. Только теперь придется обращаться в Наркомвнудел, где организован эвакуационный отдел». Калужский губернский эвакостол в начале 1923 г. запросил в установленном порядке или уже получил необходимые документы для отправки 1 200 беженцев. Списки еще 870 человек были поданы в Наркомвнудел для запроса соответствующих органов по месту прежнего жительства беженцев .
Процесс оформления документов включал в себя визирование списков беженцев в ОГПУ для выезда из России и иностранными делегациями (Польской, Латвийской, Литовской, Эстонской) для въезда в соответствующую страну. При этом иностранные представители нередко вычеркивали из реэвакуационных списков определенное количество беженцев без объяснения причин. Списки вычеркнутых следовало направлять в специальную комиссию по обжалованию нарушений соответствующих межгосударственных договоренностей о репатриации . Губотделы ГПУ при согласовании списков беженцев заботили политические моменты. Так, в феврале 1923 г. начальник Калужского губотдела сообщал отделу управления Губисполкома, что в списке уезжающих на родину беженцев белорусов и поляков имеется Антон Александрóвич, который, по их сведениям, является «польским контрреволюционером, но он пока пропускается до получения ответа на запрос о нем из Центра» .
Советское правительство в январе 1923 г. довело до сведения поверенного в делах Польши в РСФСР, что в деле репатриации беженцев произошли «значительные» изменения, свидетельствующие о приближении конца процесса. Констатировалось, что с начала осени 1922 г. число уезжавших с эшелонами лиц было значительно меньше числа зарегистрировавшихся для отправки. Например, из Сибири и даже Москвы выезжало только 50% зарегистрировавшихся. Кроме того, количество заявивших о выезде не превышало 20 тыс. человек, из которых только часть выедет в Польшу эшелонным порядком. Далее делался вывод о том, что дальнейшее сохранение особого аппарата и режима репатриации не являлось более необходимым. В этой связи советское правительство объявляло об отзыве своей делегации Российско-украинско-польской комиссии по репатриации в Москве и Варшаве, созданной на основании Соглашения о репатриации от 24 февраля 1921 г., и прекращении эшелонной отправки с 15 февраля 1923 г. Аналогичные меры предлагалось принять польскому правительству и в дальнейшем вопросы о репатриации разрешать в дипломатическом порядке .
Польская сторона, наоборот, предложила продлить деятельность репатриационной комиссии в Москве еще на год, до 1 февраля 1924 г., а соответствующих отделений в Киеве, Харькове и Минске – до 15 января 1924 г. Переписка и переговоры продолжались в течение года , и надо отметить, что за первое полугодие 1923 г., по данным Центрэвака, в Польшу было реэвакуировано 111 830 беженцев , а вовсе не 20 тысяч, о чем говорилось в январском заявлении Советского правительства, приведенном выше. Подписание заключительного протокола Российско-украинско-польской смешанной комиссии по репатриации состоялось лишь 30 августа 1924 г. В результате массовая репатриация и деятельность смешанной комиссии была признана законченной с 1 сентября 1924 г. Все не законченные до 1 сентября репатриационные дела польская делегация передала в консульский отдел своей дипломатической миссии для доведения до конца в дипломатическом порядке .
Таким образом, 1922 г. начался с масштабной реформации Центрэвака, сопровождавшейся значительным сокращением штатов. На протяжении 1923 г. этот процесс продолжался. Сокращение численности эвакуационной службы, сопровождавшееся изменениями правил оформления документов, не способствовало улучшению качества работы по репатриации беженцев Первой мировой войны, наоборот, плановая реэвакуация замедлилась, несмотря на уменьшение общего количества беженцев, остававшихся на российской территории к началу 1922 г.
В связи с ухудшением делопроизводства, в частности, работы с личными документами репатриантов, которые элементарно терялись, беженцы целыми семьями и группами семей лишались права приобретения иностранного гражданства. Тормозили процессы репатриации неоднократные объявления центра об окончательном прекращении регистрации и бесплатной отправки на родину. В результате в плановом порядке в течение 1922 г. и первого полугодия 1923 г. Центрэваком было реэвакуировано в Польшу и прибалтийские государства около 319 тыс. беженцев, что в 2 раза меньше, чем за 1921 г. При темпах реэвакуации 1921 г. все 319 тыс. беженцев могли оказаться на родине в течение 5,6 месяца, а не за 1,5 года.
Советское правительство стремилось не к тому, чтобы как можно скорее за свой счет, в соответствии с международными обязательствами, перевезти всех беженцев, оптировавших иностранные гражданства, а к тому, чтобы скорее завершить бесплатную отправку под предлогом отсутствия на своей территории беженцев, желавших выехать из страны. Иностранные миссии небезуспешно противодействовали этой политике в интересах беженцев, не имевших возможности выехать на родину за свой собственный счет.
Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь. http://vestarchive.ru/2012-3/2491-reevakyaciia-bej...1923gg-zakluchitelnyi-etap.htm
|
Метки: эвакопункты |
Генерал Михаил Алексеев – герой забытой войны |
Генерал Михаил Алексеев – герой забытой войны
12 сентября 2014
Подвиги русских солдат и офицеров в Первую мировую войну не просто «канули в лету», а вообще не имели права на существование…

Пруссия, 1914 г.
Почти сто лет назад началась война, которую современники называли Великой. Её территориальный размах, гигантские силы участников и судьбоносные исторические последствия, казалось бы, навсегда должны остаться в памяти людей многих поколений нашей страны. Но первая мировая война не просто оказалась в тени второй – ещё более масштабной и кровавой, но была полностью забыта. В нашей стране этой войне и её героям особенно «не повезло». Усилиями советской пропаганды она превратилась в «позорную империалистическую», а подвиги русских солдат и офицеров не просто «канули в лету», а не имели права на существование вообще. Тем более, не имели права на существование и русские генералы – герои этой забытой войны, которые впоследствии сражались с большевиками, теми, кто всеми силами стирал память о славе русского оружия в 1914-1918 гг.
Один из героев Великой войны – генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Его военная деятельность в советской историографии имела только идеологическое измерение, в котором почти отсутствовали объективные критерии оценки. И до сих пор, многие страницы биографии этого выдающегося русского полководца остаются не до конца выясненными. Так до сих пор не ясно место его рождения, ибо как-то установилось, что Алексеев родом из Твери, на что повлияло его обучение в Тверской гимназии.

Михаил Васильевич Алексеев
Об Алексееве написано не так много работ, несмотря на заметное внимание к событиям Первой мировой войны в русском Зарубежье. В эмигрантской историографии наиболее полное изложение биографии Алексеева принадлежит перу его дочери Вере. Книга была издана в России только в 2000 году. В советской же историографии у генерала Алексеева было совершенно определённое клеймо – «белогвардейца» и специального биографического исследования не проводилось. Единственная научная работа, посвящённая цельной биографии Алексеева, появилась только в 2012 г. в журнале «Вопросы истории». Довольно многочисленные изложения биографии генерала на разных Интернет-ресурсах, популярных справочниках и энциклопедиях, во многом повторяют друг друга и ничего нового, к уже известному тексту, не добавляют. Лишь в военно-исторической литературе постсоветского периода, касающейся анализа военных действий войны 1914-1918 гг., имя М.В. Алексеева упоминается не единожды, и его роль в осуществлении той или иной операции, определяется как весьма значительная.
Это был первый, но далеко не единственный успех русской армии на Юго-Западном фронте и он принёс Алексееву заслуженную славу полководца, умеющего «передумать» противника
Начало великой войны Алексеев встретил в должности командира 13-го армейского корпуса, которым командовал ещё с 1912 г., но сразу же был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, созданного на базе Киевского военного округа. Считается, что командующий фронтом генерал Иванов не отличался полководческими дарованиями, и Михаилу Васильевичу приходилось работать не покладая рук. Уже в первые месяцы войны австрийская армия потерпела поражение в Галицийской наступательной операции, успех которой был обеспечен организацией её планирования, проведённой Алексеевым.
24 сентября 1914 г. после взятия Львова, генерал Алексеев был награжден орденом св. Георгия 4-й степени и произведён в генералы от инфантерии. Это был первый, но далеко не единственный успех русской армии на Юго-Западном фронте и он принёс Алексееву заслуженную славу полководца, умеющего «передумать» противника. В декабре 1914 г. широкомасштабные операции приостановились, и стороны перешли к позиционным боям. В начале 1915 г. Ставка распределила силы на два стратегических направления: Австро-Венгрию и Германию. Германия подтягивала крупные резервы, а Юго-западный фронт вёл тяжелые бои в Карпатах. Часть войск фронта проводила блокаду крупной австрийской крепости Перемышль. Стратегия изматывания противника дала свои результаты, и 22 марта 1915 г. крепость пала. В русский плен сдалось 9 генералов, 2300 офицеров и 122 800 нижних чинов. Чем это не равно победе в Сталинградской битве? Падение Перемышля стало последним успехом Юго-Западного фронта в бытность Алексеева начальником его штаба.
Ни одна русская армия, ни одна дивизия не попала летом 1915 г. в плен
Вскоре генерал был назначен командующим Северо-Западным фронтом. Ему досталось весьма тяжелое наследство: некомплект в войсках, недостаток снарядов, низкий моральный дух солдат, а также сильный и искусный противник – германцы, которые в 1915 г. решили перенести основные усилия на русский фронт, планируя в ходе решительного наступления вывести Россию из войны. Вскоре противник, перешедший в общее наступление, именно сюда направил свой главный удар. Несмотря на подавляющее превосходство немцев в живой силе и артиллерии, Алексееву удалось сорвать попытку противника окружить и уничтожить русские войска в Польше. Маневрируя и нанося контрудары, командующий фронтом отводил обескровленные войска назад, к Западной Двине, и фактически спас фронт, сумел стабилизировать его и закрепиться на новом рубеже. Алексееву удалось вывести армии своего фронта из польского мешка. Ни одна русская армия, ни одна дивизия не попала летом 1915 г. в плен. Генерал Алексеев не дал завершить ни одного из запланированных, немецким командованием, окружений. Эти факты сильно контрастируют с действиями советских полководцев 1941-1942 гг.
Серьёзные перемены произошли в это время в Ставке. Император Николай II решил занять пост Верховного главнокомандующего, назначив начальником штаба именно генерала Алексеева. Это назначение приветствовалось многими, ибо по воспоминаниям современников, генерал «отличился упорным трудом, обладая врожденными военными способностями. На новом высоком посту он неутомимо работал, почти всегда свыше своих сил… Удивительная память, ясность и простота мысли обращали на себя внимание. Он был далек от карьеризма и работал не за страх, а за совесть». В случае назначения сказалось и мнение командного состава армии, высоко оценивавшего способности Михаила Васильевича. При таком неопытном верховном главнокомандующем, каким являлся царь, Алексеев обрек себя на изнурительную работу. Но работать он мог, как никто другой, и результаты его усилий сказывались довольно быстро. О высоких моральных качествах Михаила Васильевича писал протопресвитер русской армии Георгий Шавельский: «Как и каждый человек, Алексеев мог ошибаться, – но он не мог лгать, хитрить и еще более ставить личный интерес выше государственной пользы».
Став начальником штаба Верховного Главнокомандующего, Алексеев сосредоточил в своих руках всё управление русскими армиями. Император, как правило, принимал общее участие в разработке операций, влияя только на кадровую политику. Начальник штаба делал общие доклады, не всегда посвящая государя во все детали. Как впоследствии писал генерал Деникин: «Такая комбинация, когда военные операции задумываются, разрабатываются и проводятся признанным стратегом, а «повеления» исходят от самодержавной власти, была очень удачной». Алексеев стремился наладить более тесные отношения с тылом, активно сотрудничая с представителями общественности – депутатами Государственной Думы, при этом стараясь оставаться максимально в стороне от политических интриг и сохраняя доверительные отношения с императором.
Много лет спустя Уинстон Черчилль приравнял генерала Алексеева по стратегическим дарованиям к маршалу Фошу и генералу Людендорфу
С приходом Алексеева изменилось и отношение к союзникам. Как свидетельствовали современники: «Отношение к союзникам Алексеева было более серьёзно и более патриотично, чем у старой Ставки. При великом князе Николае Николаевиче в Ставке союзников «обожали», перед ними расстилались по земле, для них жертвовали русскими интересами. При Алексееве на союзников стали смотреть деловитее. От них, кроме прекрасных слов, стали требовать взаимной и своевременной поддержки на деле».
План на 1916 г. Ставка вырабатывала уже с учётом действий союзников. Основное наступление решено было вести войсками Западного фронта, при этом остальные фронты должны были оказать ему максимальное содействие. Юго-Западному фронту А.А. Брусилова предписывалось нанести удар на Луцк, и изначальная идея Брусиловского прорыва была выдвинута именно Алексеевым. С целью выхода из тупика позиционной войны он, как начальник штаба верховного главнокомандующего, весной 1916 г. спланировал проведение совместного наступления трёх русских фронтов – уникальной по своим масштабам военной операции. Стратегическое наступление принесло крупный успех Юго-Западному фронту Брусилова, но именно с лета 1916 г. наметился перелом в войне в пользу России и стран Антанты. Много лет спустя Уинстон Черчилль приравнял генерала Алексеева по стратегическим дарованиям к маршалу Фошу и генералу Людендорфу.
К октябрю 1916 г. фронты вновь перешли к позиционной борьбе, но победа уже была не за горами. В это же время сказались гигантские физические перегрузки, которые до этого выдерживал Алексеев. Он серьезно заболел и временно сдал командование. Но, даже находясь на лечении, оставался в курсе событий и принимал участие в разработке плана на 1917 год. Ещё уезжая из Петрограда, Алексеев видел первые грозные признаки революции. Стремясь, как военный человек, оставаться вне политики, он вместе с тем понимал неизбежность крупных перемен в стране, надеясь, что это принесет пользу государству и армии. Находясь в Могилёве, Михаил Васильевич оказался причастным к отречению Николая II от престола. 2 марта он честно телеграфировал царю в Псков о результатах проведенного им опроса командующих фронтами по поводу возможного отречения. Результаты были неутешительными для Николая II, и его решение об отречении стало неизбежным и губительным для России. На следующий день Николай II прибыл в Могилёв, где Алексеев встретил его с соблюдением почестей, а 8 марта они расстались навсегда: последний российский самодержец по приказу Временного правительства был увезен под арест в Царское Село. Ряд историков ставят в вину генералу его связи с думскими заговорщиками и содействие в свержении монархии. Документальных данных о его участии в заговоре нет. Следует также иметь в виду, что для Алексеева, монархиста по своим взглядам, превыше всего было сохранение боеспособности русской армии, а потому он всё больше склонялся к мысли о необходимости сохранения конституционной монархии.
Временное правительство, учитывая мнение генералов армии, 11 марта назначило Алексеева верховным главнокомандующим. Вначале Михаил Васильевич надеялся, что новое правительство сможет восстановить порядок в стране и укрепить дисциплину в армии, оградив ее от политики. Но поспешная демократизация армии и активность большевиков в нагнетании революционных настроений делали свое дело. В телеграмме 21 мая 1917 г. Алексеев сообщал Керенскому, что «развал армии достиг крайних пределов», и требовал восстановления деятельности военных судов, расформирования полков, отказывающихся исполнять боевые приказы начальников. Но уже через день после телеграммы Алексеев был смещён с поста верховного главнокомандующего. Узнав об этом решении, старый генерал произнес: «Пошляки, рассчитали, как прислугу».
Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов обаянием разума, честности и патриотизма
Когда в ноябре 1917 г. большевики пришли к власти, время компромиссов для Алексеева прошло. Он принял решение вступить на путь открытой борьбы и этой борьбе он посвятил последний год своей жизни, став основателем Русской Добровольческой армии, – основы Вооружённых сил Юга России. «В годы великой смуты, – писал об Алексееве генерал Деникин, – когда люди меняли с непостижимой легкостью свой нравственный облик, взгляды, ориентации, он шагал твердой старческой поступью по прямой кремнистой дороге. Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов обаянием разума, честности и патриотизма».
Михаил Васильевич умер в 1918 году на Кубани и был торжественно похоронен, но уже через два года его останки русская армия вывезла с собой в эмиграцию, и прах генерала вновь был погребен на кладбище Ново Гробле в Белграде. Долгие десятилетия в советской Югославии его могила тщательно оберегалась от осквернения, и скромный памятник содержал только одно слово «Михаил». Лишь в 2010 году была восстановлена информация о генерале на месте его захоронения.

Могила М.В. Алексеева
Сейчас кладбище в Белграде является крупнейшим русским военным мемориальным комплексом за границей. На нем похоронены 124 генерала, 6 адмиралов, 280 полковников, сотни солдат, казаков и гражданских служащий великой и непобеждённой русской армии. На знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа есть уникальное захоронение Алексеевцев – всех тех, кто сражался с большевиками под его командованием.
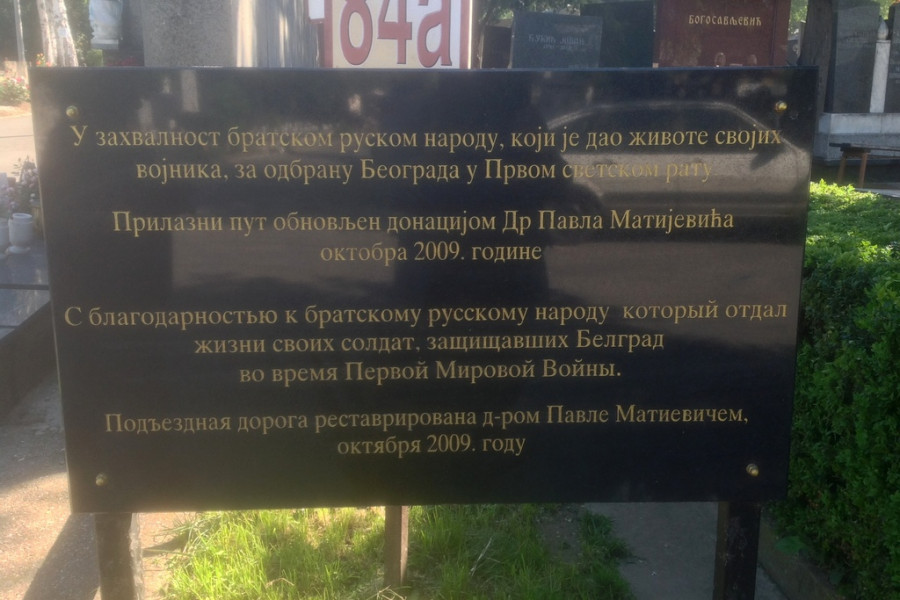
100-летие начала Великой войны даёт нам возможность вспомнить о её подлинных героях, и наша память пусть будет содержать те же слова, которые в 1918 году поместили на памятном венке старому генералу, никогда не видевшие его, дети: «Не видели, но знали и любили».
Владимир Лавренов
https://psmb.ru/a/general-mihail-alekseev-geroy-zabytoy-voyny.html
|
Метки: первая мировая война российская императорская армия алексеевы |
Публичные дома в императорской России |
Публичные дома в императорской России
В какой-то момент монархи рассудили, что неискоренимый порок лучше поставить под контроль
На пути к легализации
Традиционное отношение государства к проституции в России было нетерпимым. Это находилось в парадоксальном противоречии с тем, что в некоторых семьях мужья или отцы сдавали своих жён и дочерей внаём как проституток. Отдельные случаи такого рода описаны из истории Московской Руси.
С «европеизацией» России в XVIII веке начали появляться и первые бордели, вначале нелегальные. Власти – от Петра Великого до Елизаветы Петровны – долго и безуспешно пытались с ними бороться. Наконец, Екатерина Великая сделала первый важный шаг к легализации проституции.
8 апреля 1782 года появился «Устав о благочинии», которым признавалось наличие частных публичных домов и разрешалось открывать таковые только в специально отведённых кварталах. Правда, никаких других мер по регламентации не было принято, и проституция по-прежнему рассматривалась полицией как абсолютно незаконный промысел. Павел I предписал попавшимся на проституции носить жёлтые платья. Правда, этот закон отмер со смертью самого Павла.
Николай I и открытие публичных домов
Что примечательно – законы против проституции работали против самих девушек древнейшей профессии и против хозяек нелегальных борделей, но никак не затрагивали сутенёров-мужчин, особенно если ими были родственники девушек. Поэтому окончательная легализация проституции в России, предпринятая Императором Николаем I, имела целью не только установление контроля над этим явлением, но и в какой-то мере защиту прав проституток от нелегального, «семейного» сутенёрства.
Со своей военной прямотой Николай I признал наличие данного общественного порока, и 29 мая (10 июня) 1844 года появились «Правила содержательницам борделей». В них чётко расписывались обязанности хозяек и работниц домов терпимости, требования к возрасту и здоровью тружениц «любовного фронта», их правовой статус и обязанности. С течением времени в эти правила вносились небольшие изменения. Более детальные регламенты устанавливались местными властями.
Правовой статус
Проститутки в России делились на две категории: работавшие в публичных домах (билетные) и на квартирах (бланковые). Те и другие были обязаны регулярно проходить освидетельствование у врачей на предмет «профессиональных» заболеваний. У проституток отбирался паспорт и выдавался взамен «жёлтый билет», удостоверяющий род занятий. Публичные дома облагались налогом.
В отличие от хозяек публичных домов, бланковые проститутки не платили налог, однако сколько они должны были отдавать неизбежному в таком случае сутенёру – в это государство не вмешивалось. Поэтому работа в легальном публичном доме служила «социальной» гарантией – проститутке полагалось не меньше одной четвёртой платы с клиента по установленной таксе. Кроме того, проститутка, проработавшая в доме терпимости больше года, при увольнении получала все вещи, которые были предоставлены ей хозяйкой для домашнего обихода.
Понятно, что и сами хозяйки часто были прикрытием для ведения большого бизнеса по содержанию публичных домов. В начале 90-х годов XIX века в России насчитывалось 16 627 домов терпимости (различавшихся по ценовой категории и уровню интимных услуг) и больше 20 тысяч официально зарегистрированных бланковых проституток. Впрочем, далеко не все девушки лёгкого поведения стремились к легальному статусу, так как жёлтый билет практически отнимал возможность последующего возвращения к более достойному занятию, на что многие не теряли надежды. Поэтому нелегальная проституция так и не была изжита.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является собственностью авторов.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/public...ossii-5c6f889015acff00b356b223
|
Метки: их нравы |
ЖИЗНЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ (30-Е ГОДЫ) |
ЖИЗНЬ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ (30-Е ГОДЫ)
September 24th, 2016
Русская эмиграция —отъезд из России по экономическим, политическим, личным или иным обстоятельствам. Белая эмиграция— военные, аристократы, купцы и помещики, бежавшие от победившей в ходе революции и Гражданской войны Советской власти. Кем они стали в Европе ? Далеко не все смогли сохранить свои состояния за рубежом и приходилось зарабатывать на жизнь разнообразным трудом.
Сахно-Устимович, из Терского казачьего полка, бывший адъютант царя
В настоящее время Сахно-Устимович является достойным всяческого уважения поваром в небольшом русском ресторане в Берлине, Германия, 1930 год
Алекс Авалов, бывший крупный помещик и профессор химии в Санкт-Петербурге. Сейчас Авалов занимается производством крепких алкогольных напитков с помощью аппарата, построенного им в Берлине, Германия, 1930 год.
Барон фон Руктешель до русской революции 1917 года служил капитаном гвардейского полка
Барон фон Руктешель в настоящее время играет на гитаре каждый день в цыганском оркестре в Берлине, Германия, 1930 год.
Генерал фон Фусс, один из самых известных чиновников Санкт-Петербурга до 1917 года и особый друг царя. Россия
Генерал фон Фусс в настоящее время набивает сигареты, тяжелая работа, которая приносит крохотный доход. Берлин, Германия 1930 год.
Самый известный в России комический актер оперетты г-н Александр Полонский сейчас работает за стойкой бара в небольшом русском кафе в Берлине, Германия 1930 год.
Актер немого кино и оперетты Александр Полонский, после революции 1917 в эмиграции. Умер в Париже в августе 1944 г
Знаменитый оперный певец граф Василий Тарновский, получил высшую оперную награду в России
Бывший очень известный оперный певец граф Василий Тарновский сейчас работает как пианист и певец сатирических куплетов в русских кафе в Берлине, Германия, 1930
Генерал Неровинский (?) вместе с царем Николаем II и великой княгини Ольги, Россия, 1917
Генерал Неровинский (?), командир гусарского полка под патронажем великой княгини Ольги
Бывший генерал Неровинский (?) работает поваром в одном из ресторанов в Берлине, Германия, 1930 год
Русские аристократы, живущие в скромном доме в пригороде Парижа, Франция 1931 года.
Генерал Гудим-Левкович и его жена слушают по радио вести с Родины
Одна из самых близких друзей императрицы княгиня Мария Ивановна Путятина со старыми подругами пришедшими ее навестить
Йохан фон Греков бывший директор Технического университета в Санкт-Петербурге, в настоящее время изготовляет гробы для умерших членов этой колонии изгнанников.
Барон Владимир Романович фон Кнорринг, генерал-адъютант великого князя Владимира.
Павел Александрович Офросимов, бывший генерал-майор Свиты Его Величества сейчас разводит кур
Бывший губернатор Тульской губернии (возможно Александр Николаевич Тройницкий) живет на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского
Князь Борис Владимирович Гагарин, пред. Союза Георгиевских кавалеров в изгнании пишет мемуары
Баронесса Дикова, вдова морского министра в России Ивана Михайловича Дикова убивает время при помощи пасьянса.
Русских дворяне эмигранты, живущие в замке Сен-Мишель-сюр-Орж, подаренном англичанкой г-жой Лумис, Франции 1932 год.
Как и все французские замки Сен-Мишель-сюр-Орж окружен громадным парком.
Каждому обитателю замка дают ту работу к которой он больше всего расположен. Таким образом, этот казачий офицер стал кухонным работником
Руководителем прачечной назначен русский князь, в числе работников прачечной вдова генерала Никифорова.
Русский князь в бельевой комнате.
В замке нет часовни, поэтому ритуальные услуги насельникам замка оказывает ежедневно православный священник отец Александр.
Русская церковь в Берлине, рядом с которой в бараке живет много русских эмигрантов. Германия 1931 год.
Бывший казачий полковник, работающий музыкантом в берлинском кафе
За столом ест бывший генерал-адъютант Свиты Ее Императорского Величества.
Русский капитан чинит крышу барака, в прошлом он был одним из крупнейших землевладельцев
Бригадный генерал Виктор Петрович который служил 50 лет служил Царю и Отечеству
Бывший командующий 10-м уланским полком теперь кухонный работник.
Обед эмигрантов в Париже 1932 года
Слева направо: княгиня Красинская, г-н Борис Тульчин, г-н Одориано, г-жа Мартинес Ривас и великий князь Андрей Владимирович
|
Метки: русское зарубежье эмиграция |
Гимназистки 19 века. Красивые девушки царской России |
Нижний Новгород / Интересный нижегородский блог / Без рубрики, Интересное, Ретро фото, Фотографии / 2016 / Март / 04 / Гимназистки 19 века. Красивые девушки царской России. 112 фото.

Гимназистки 19 века. Красивые девушки царской России. 112 фото.
Галерея кликабельна
Гимназистка Александра Ивановна Попова (Елатьма)
Гимназия на Марсовом поле
Бугурусланская женская гимназия. г.Бугуруслан. 1908 г.
Гатчинская женская гимназия,1916
Тамбовская школа для девочек. 1912
Групповое фото гимназисток гимназии при Костеле на Невском. Фотограф К.К.Булла.
Ученицы VII класса (А) Богородской женской гимназии, май 1917 года
Бал-маскарад в Иркутском институте благородных девиц имени императора Николая I
Мариинская Донская женская гимназия. 1899-1900 гг
Усть-Лабинское женское училище ок. 1913 г.
Гимназистки. 1915
Тверь, 1915
Гимназистки Елатомской женской гимназии с букетиками ландышей.
Кыштымская земская женская прогимназия
Кыштымская гимназия, весна 1917. Урок домоводства
Кыштымская гимназия 1917
Прогулка гимназисток на лодке, Кыштымская гимназия, весна 1917
Старший класс женской Кыштымской гимназии 1915г
Плоцкая женская гимназия.
Гимназистка Астраханской Мариинской женской гимназии.
Астраханское епархиальное женское училище.
Фото выпускниц 8 класса Елатомской женской гимназии 1912 года
Правила Мариинской Донской женской гимназии
Правила Мариинской Донской женской гимназии
XXIII выпуск Первой женской гимназии Министерства Народного Просвещения учрежденной Ульрих, 1908 — 1909 гг
Мариинская Донская женская гимназия.1899-1900 учебный год
Зинаида Карзина — воспитанница Казанского ИБД, с братом Михаилом
Гимназия.1913 год.
Портрет воспитанниц с классными дамами Киевского ИБД.1909г.
Выпускница Виленской гимназии Вера Космачевская
Гимназистки частной гимназии мадам Тилль в г. Велиже.фото 1914
Групповой портрет гимназисток с преподавательницей (классной дамой) Мариупольской гимназии
Портрет ученицы 2-й женской гимназии Харькова Натальи
Портрет гимназисток с классной дамой Севастопольской женской гимназии, 1912г.
Воспитанницы Московского Елизаветинского ИБД, княжна Софья Туркестанова (слева), и Каземира Ярковская. 1895г
Портрет воспитанницы Московского Елизаветинского ИБД, княжны Марии Оболенской
Гимназистка Киевской гимназии Меланья Чернова. 1888г.
Портрет воспитанницы Московского Елизаветинского ИБД, княжны Елизаветы Ухтомской. 1890г
Портрет дочери царскосельского пастора Ксении Густавны Берман.
Воспитанницы Харьковского института благородных девиц выпуска 1908 г.
Гимназистки выпускного класса Мариупольской гимназии
Серафима Владимировна Пономарева, воспитанница Московского Елизаветинского ИБД, дочь коллежского советника Владимира Ильича Пономарёва (был главным казначеем г.Боброва Воронежской губернии).
Анастасия Гаевская, воспитанница Полтавского ИБД. 1898г.
https://citifox.ru/2016/03/04/gimnazistki-19-veka-krasivye-devushki-ca/
|
Метки: дворянское образование фото |
Как в моду вошло цветное бельё |
Как в моду вошло цветное бельё
Вплоть до конца XIX века женское бельё было относительно простым, без пышной отделки, и в основном белым. Ведь его главная функция - защищать костюм от телесных выделений. Бельё меняли так часто, как могли себе это позволить, его стирали, вываривали, отбеливали... Словом, нежные ткани, кружева и вышивка просто не выдерживали бы такой режим. К тому же бельё было вещью очень интимной, предназначенной вовсе не для того, чтобы ею любоваться. У добропорядочной женщины - скромное бельё!
"За туалетом", Анри Жерве, 1878 г., из частной коллекции
Что могло быть цветным и нарядным? Нижние юбки. Например, в середине XIX века в моду вошли кринолины, большие каркасы для юбок, сделанные из ткани и тонких стальных полосок. Эти лёгкие конструкции колыхалась при движении. В результате то, что у дамы под платьем, нередко становилось доступным взорам окружающих.
Так вот, поверх кринолина, как правило, надевали две нижних юбки. Обе могли быть белыми, но не обязательно - верхняя из них часто бывала цветной. И её подол отделывался особенно тщательно. Эти юбки шили из самых разных тканей, от кашемира до тафты, украшали оборками и лентами.
Цветная гравюра из модного журнала "La Mode illustrée" 1864 г. - из-под платьев виднеются нижние, отделанные цветными оборками юбки.
И потом, когда кринолины из моды вышли, самая верхняя из нижних юбок довольно часто бывала цветной. Не такой "бельевой" цвет, так что даже если и мелькнёт из-под платья - не страшно.
Со временем в моду начали входить цветные корсеты. Поначалу многие считали это абсолютно недопустимым и неприличным. Мол, у добропорядочной женщины корсет должен быть белым или бежевым. А цветные - признак декаданса или даже проявление истерии.
"Нана", Эдуард Мане, 1877 г., из коллекции Художественного музея в Гамбурге
Но и женщины, и мужчины вскоре оценили привлекательность корсетов из цветных нарядных тканей. Одно дело - практичный бежевый из какой-нибудь хлопковой ткани, и совсем другое - из жёлтого шёлка, обшитый чёрными кружевами. Или из голубого муара. Или даже красный! Например, в журнале "La vie parisienn" в 1885 завлекательно описывали корсет с узором в виде павлиньих перьев и корсет цвета чайной розы...
И чулки. Чулки тоже могли быть цветными! Причём в зависимости от моды их цвет подбирали то к к платью, то к нижней юбке, а то и контрастный по отношению к ним.
"После сеанса", Ричард Берг, 1884 г., из коллекции Музея искусств Мальмё
Чем ближе к концу века, тем более интересным и нарядным становится бельё. Но по-настоящему культ цветного белья, культ шифона и шёлка, обилие лент, кружев и прочих дамских радостей, начнётся на рубеже XIX и XX веков.
Но об этом - в следующий раз!
https://zen.yandex.ru/media/eregwen/kak-v-modu-vos...-bele-5c5ecf6967c28b00ae49fced
|
Метки: мода |
Уголок краеведа |
Уголок краеведа

Шепели и Спасское - вотчины П.П. Максимовича
/ Алексей Столяров
0 голосов
Обе усадьбы, о которых пойдет наше дальнейшее повествование располагались на значительном расстоянии друг от друга. Усадьба Шепели находилась в живописном месте, севернее Кашина, в Васильковсковской волости, ранее Мышкинского уезда, Ярославской губернии (ныне Шепелевское с.п. Кашинского района), на берегу ручья Ардуль, притока Корожечны. Усадьба Спасское находилась к западу от уездного города, в Славковской волости (ныне Славковское с.п.) на возвышенности у безымянного ручья. Местонахождение их ни как не связанно друг с другом, более того они находились на разных трактах идущих из Кашина. Связала их только лишь судьба, да личность выдающегося человека. Оба эти дворянских гнезда принадлежали морскому офицеру, педагогу, крупному общественному деятелю П.П.Максимовичу. Кипучая энергия Павла Павловича наложила большой отпечаток на состояние двух этих имений. Приведем здесь скромные биографические данные об этом человеке.
Как пишет его биограф А.Ф.Селиванов1: Павел Павлович Максимович родился в г.Астрахани в 1817г, где отец его служил и был предводителем дворянства. О первых годах жизни Павла Павловича мы имеем очень немного сведений. Известно, что несколько лет он провел в семействе своего дяди И.М.Симонова в г.Казани. Симонов был просвещенный человек своего времени, когда-то он участвовал в качестве астронома в экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Симонов написал поэму об этих событиях и удивительной природе мест, где происходило его путешествие. Вне всякого сомнения, именно стихи и рассказы вдохновили маленького Павла стать моряком. Так же знакомство с книгами о путешествиях, встречи с образованными людьми, бывавшими в доме у И.М., заронили в сердце юноши уважение к просвещению и расширили кругозор. Селиванов, собиравший свидетельства о Максимовиче у живых людей его знавших, отмечал огромное влияние, которое оказывал И.М.Симонов на Павла Павловича. Это влияние продолжалось и по поступлению П.П. в морской корпус. Адмирал К.Н.Посьет, товарищ П.П. рассказывал, что П.П. пользовался большою любовью, как со стороны товарищей по корпусу, так и со стороны начальства. В то время директором корпуса был И.Ф.Крузенштерн. При нем был введен ряд новых дисциплин, углублено преподавание старых. Павел выделялся среди товарищей способностями, был произведен в гардемарины в 1835, в старшие унтер-офицеры так же в 1835-м, в 1836-м в мичманы. О годах проведенных в морском корпусе Павел Петрович отзывался с огромным теплом как мы видим из его речи произнесенной в 1877 году по случаю 50- летнего юбилея морских курсов2. После окончания их Павел Павлович четыре месяца находился на службе в гвардейском экипаже, затем был определен преподавателем при младшем офицерском классе. Далее вплоть до выхода в отставку в1848году преподавал в гардемаринских классах. Он вел навигацию, астрономию, кораблестроение, географию. В те годы его знали, как безусловного знатока своих предметов и талантливого лектора, который великолепно заинтересовывал слушателей. По словам Селиванова, Максимовича его ученики характеризовали, как «Даровитый преподаватель и редкий по доброте человек». В летние месяцы с 1832-1843 Максимович совершал плавания по Рижскому заливу. Отметим еще одно важное событие в биографии этого человека. Служа преподавателем, Павел Петрович женился на дочери известного штурманского офицера Хлебникова, Анне Андреевне. Как уже было сказано выше в 1848 году последовала отставка и Павел Павлович с женой поселился в Мышкинском уезде в имении Шепели. В библиографии по этому вопросу возникают споры т.к. часть авторов предполагает, что после отставки Павел Павлович жил в Спасском, однако подобное предположение опровергается следующим сообщением: « О продаже имения Л.А.Шаховского Спасское П.П.Максимовичу»3 в Тверских ведомостях за 1855 год. Таким образом, в период после 1848г Павел Павлович занимался узакониванием своих прав на Шепелевское наследство от Козловских, о чем намек мы встречаем у биографа Селиванова4. По его же свидетельству Максимович в своих имениях развел кипучую деятельность по восстановлению хозяйства. Именно тогда был заложен Шепелевский парк и отремонтирован барский дом. Период с 1848 по 1858 мы можем обозначить, как первый период сельской жизни П.П. когда он привел свои имения в порядок, познакомился с проблемами крестьянства. К этому периоду многие биографы Павла Павловича вслед за Селивановым в своих статьях относят основание школы для крестьянских детей в своем имении (кстати расходятся мнения в каком). Отметим, что согласно статистическим данным на 1860 год в помещичьих имениях уезда существовало только две школы в сельце Маковницы и в селе Кой. Так что вероятно эта задумка П.П. о развитии народного образования получила свое воплощение значительно позже.
Вспомним о событиях, происходящих в то время в империи. Близилась крестьянская реформа, во всех губерниях были организованы комитеты по крестьянскому делу. Примерно около 1858 года кашинские дворяне предложили П.П.Максимовичу войти в Тверской губернский комитет и принять участие в выработке положений об освобождении крестьян. Павел Павлович, как сторонник освобождения от крепостной зависимости с воодушевлением принял это предложение и приступил к работе комитета. Губернский комитет разделился на две партии: одна из них либерально настроенная с Унковским во главе, выступала за полное освобождение крестьян с землей, другая во главе с А.А.Озеровым была против. Максимович был апологетом освобождения крестьянства и входил в партию Унковского известно, что Павел Павлович принял деятельное участие в разработке проекта, по которому вместе с усадебной землей крестьяне получали и полевой надел, дающий им возможность существовать. Впоследствии проект Унковского был одобрен главным комитетом и лег в основу Положения освобождения крестьян. Комитет завершил свою работу, Максимович вернулся к сельской жизни. Этот период с 1861 по 1869г характеризуется участием П.П.Максимовича в жизни Кашинского и Тверского земств. Его избирают гласным кашинского земства и членом тверской земской управы(1866г)5. Как член управы он заведовал губернской земской больницей, затем – «народным продовольствием и мерами охранения народного здравия». В 1866 – 87гг поступил на должность Кашинского почетного мирового судьи.
Вероятно, именно в эти годы Павел Павлович занимался образованием крестьянских детей в своем имении Спасском, где и проживал в то время. Как пишет Селиванов: «в имении своем он завел школу и внимательно следил за преподаванием в ней». Познакомившись на деле с состоянием народного образования в губернии, Павел Павлович увидел главную его проблему: недостаток грамотных и высоконравственных преподавателей. С тем воодушевлением, с которым он подходил к решению многих задач П.П. взялся за это дело. В1869 году Максимович составил и направил в Губернское собрание доклад о распространении грамотности в народе, предложив удешевить книги для народного чтения, организовать подготовку учительниц для народных училищ. В том же году по предложению Максимовича земство открыло учительскую женскую школу в Кашине при монастыре, выделив для этого почти 8000 рублей. К сожалению, эта школа себя не оправдала, в Кашине было трудно найти необходимых преподавателей готовых работать по-новому. Да и девицы особого прилежания к учебе не проявляли. Потерпев фиаско с этой задумкой П.П.Максимович предложил уездному земству открыть школу в Твери, где для того были большие возможности. Земство отказалось предоставить даже самую малую помощь в средствах.
До чего ж упорным был Павел Павлович в своих начинаниях, школу он все-таки открыл, и при том на собственные деньги, разместив ее в специальном нанятом для этого доме. Шел тогда 1870 год. Первоначально школа называлась «Тверская земская женская учительская семинария», в ней был установлен трех годичный курс обучения. Павел Павлович стал первым директором школы, с большим вниманием отнесся он к подбору хороших преподавателей, которых и в то время было трудно найти. Когда в 1871г Тверское земство решилось принять школу на свой баланс, Павел Павлович отказался, пояснив, что не может передать школу земству, прежде чем убедится, что достиг своей цели. А цель эта по его мнению заключалась в том, что бы наставники уважали и любили своих учениц, видели в каждой из них личность. Удивительный коллектив педагогов собрался в стенах этой школы, здесь были лучшие тверские учителя6: Н.П.Дьяконова, А.Н.Робер, Ф.Ф.Ольденбург, Л.В.Кандауров, В.И.Колосов, О.Ю.Федорова, М.И.Модестова, Н.А.Кун (автор книг по древней Греции), М.М.Клеветницкий (ставший в последствии крупным историком и литературоведом), Е.П.Свешникова (состояла в переписке с Львом Толстым), А.П.Павлов (известный геолог). Как пишут сотрудники отдела редких книг научной библиотеки ТвГУ (правопреемника школы Максимовича): Это учебное заведение отличала атмосфера демократизма между учителями и воспитанницами. «Вся школа… составляла дружную работящую семью, беззаветно преданную своему делу, где не было места ни лжи, ни лести, ни формальным отношениям». В 1872 году школе было присвоено имя основателя, в 1882 году школа полностью перешла в ведение земства. Надо отдать должное смелости земцев, прежде всего, конечно Павлу Павловичу, т.к. земствам разрешено было открывать только начальные народные школы. Кстати в 1880-1892гг он был уже не директором, а председателем попечительского совета школы. Школа Максимовича давала обширные знания, далеко выходящие за пределы школ грамотности. Это был уровень среднего специального заведения. Следует отметить и уровень уникальности задумки, т.к. школа подобная ей находилась только в Петербурге. Авторитет, которым обладали воспитанницы ее можно почувствовать из следующего события: когда девочки – «максимовки» были на экскурсии в Москве в 1891г, Павел Третьяков открыл для них свою галерею, которая для остальных посетителей была закрыта. В школе было прекрасно поставлено преподавание всех предметов: точных, естественных, гуманитарных, эстетических, не забывали здесь и о спорте. Школа жила богатой творческой жизнью: часто ставились спектакли, проводились литературно музыкальные вечера, на которых звучал известный во всем городе хор под руководством Федора Осиповича Лашека, экскурсии, подобные описанной выше были так же частым явлением7. При школе существовало народное училище, где воспитанницы оттачивали свое мастерство. Школа Максимовича имела твердые гуманистические традиции и была без сомнения новаторским учебным заведением, образование в ней было совершенно бесплатно. Интересно, что большинство родителей вначале относились к школе с недоверием т.к. считали, что образованность не должна быть попутчицей женской доли, к тому же не пристало отрывать девушку из семьи ради учительской работы . Эти устоявшиеся стереотипы предстояло преодолеть Максимовичу его соратникам и последователям. Школа просуществовала до 1919 года, после чего была реорганизована в институт народного образования, с 1921г – в педагогический институт, с 1971г – Тверской университет. Основная заслуга учительской школы в начале века в том, что она вырастила целое поколение учительниц позднее преподававших в народных школах Тверской губернии.
Еще одна задумка Максимовича – тверская учительская школа, была позднее переведена в Торжок, работал он и над созданием земской технической школы, в 1872 году Павел Павлович предоставил земству проект о губернских съездах учителей народных школ. По его мнению, это должно было способствовать повышению уровня их профессионализма и обмену опытом. Предложение поддержали многие уездные земства, причем Кашинское решило выделить на это средства, из собственных источников П.П.Максимович так же сделал взнос в размере 500 рублей. Он проектировал и устройство акционерной компании по распространению книг для народного чтения, создание педагогических библиотек, детских садов для крестьянских детей. В 1886году Вольное экономическое общество наградило его золотой медалью, учрежденной для поощрения особо выдающихся деятелей народного просвещения и образования. Максимович был награжден и орденом св.Владимира VI степени. Последние годы П.П. Максимович провел в усадьбе Шепели, где умер и был похоронен в 1892 году. В память о нем было учреждено губернское земское справочное пед.бюро. В 1900 году , Тверское земство постановило в каждом уезде открыть земские школы, и посвятить их имени того человека который принес земству наибольшую пользу. В кашинском земстве разумеется выбор пал на П.П.Максимовича, в честь которого была создана образцовая земская школа в его имении с. Спасское во флигеле. Обобщая восторженные отзывы о П.П.Максимовиче его современников и потомков, приведем здесь строки Владимира Постельникова8, написанные при жизни П.П.:
Сеятель добра
(посв. Павлу Павловичу Максимовичу, как ревнителю просвещения)
В приют полнейшей простоты
Еще недавно полудикой,
Предстал как гость желанный ты
Своею мыслью великой.
И факел света внес с собой,
Там водрузил его на веки
Чтобы светил бы факел твой,
Пока времен изсякнут реки.
И не померкнет никогда
Сей светоч истины, науки
И к просвещенью с ним всегда
Пойдут чредой и внуков внуки……
После описания деятельности этого выдающегося Кашинского помещика, приведем здесь информацию о его потомках и собственно самих усадьбах.
Анна Андреевна, жена Павла Петровича рано умерла, оставив ему четырех детей: двух дочерей и двух сыновей. Одна из дочерей несколько лет безплатно занималась в учительской школе и затем вышла замуж за известного деятеля народного просвещения А.В.Васильева. Другая дочь, вместе с единомышленниками организовала родительскую школу для своих детей. Сыновья получили прекрасное образование, один из них стал профессором Киевского университета, второй пошел по пути инженера и земского деятеля. Его имя достаточно известно в деятельности Тверского земства – С.П.Максимович. Отметим, что именно он и стал владельцем усадеб Шепели и Спасское. Позднее, после его смерти в 1900 году его вдова – Анна Долидонтовна стала наследницей всех его имений. Она же, насколько нам известно, пожертвовала на обустройство церкви при школе Максимовича 10000рублей.
Приведем здесь кратко судьбу усадебного комплекса Шепели: очевидно, как мы уже утверждали выше в первой пол. XIX века усадьба принадлежала Козловской – родственнице Павла Петровича. Процесс за наследство Павел Петрович выигрывает в 1848 году после выхода в отставку. В сер. XIX века Шепелево зовется «сельцом» по данным на 1859 г имеет в наличии всего 3 двора и 34 человека населения. К постройкам уже существовавшим в то время следует отнести барский дом. Скорее всего, он был возведен во второй половине XVIII века. В описаниях имущества при национализации имения В.Колотильщиковым9, сказано: «В имении есть редкий по оригинальности дом бывшего владельца с галереей». Дом двухэтажный каменный10 с необычными интерьерами, еще столь хорошо сохранился благодаря тому, что в советскую эпоху все время был в употреблении. Сегодня в нем размещен Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Отметим что в конце XVIII столетия в Шепелях был заложен огромный парк с прудами, дошедший до наших дней. О нем в статье Е.Морозовой11 сказано «С XVIII в. там был заложен живописный английский парк, возведены садово-парковые строения». В конце XIX века были построены Хозяйственная постройка и Конный двор. Имевшие чисто практическое применение, они являлись выдающимися произведениями архитектуры. Дошли до наших дней лишь фрагментарно. В 1919 году, как и все Кашинские имения Шепели были национализированы. Кашинский музей переписывался с тверскими органами о передаче культурных ценностей и сохранности усадьбы. В 1923 году его сотрудником была составлена опись12 предметов имеющих историческое значение. Обстановка дома представленная в этом документе действительно поражает своей изысканностью и раритетным содержанием. Как уже было отмечено нами в Шепелях при советской власти был организован дом престарелых.
Имение Спасское принадлежало Л.А.Шаховскому13, но было продано им в 1855году Павлу Павловичу Максимовичу (об этом речь уже велась выше). В с.Спасском П.П. организовал школу для крестьянских детей, впервые взглянул иначе на дело народного образования. Имение Спасское представляло собой 20 дес. Усадебной земли, 120 дес. Пахатной. В Сборнике статистических сведений по тверской губернии за 1894 год14 (Тогда имением владел уже его сын Сергей Павлович) приводятся следующие данные о постройках – 4 жилых постройки, 15 нежилых построек. К сожалению, из построек усадьбы, нам известно только о флигеле, где в 1900 году была открыта земская школа им. Максимовича. В советское время школа находилась там же, лишь позднее когда было построено новое здание, сруб флигеля выкупили(он сгорел). На его месте сохранился один фундамент. Парк, очевидно кон.XIX века занимал не более двух десятин. Сохранился до наших дней. Сложно сказать относилась ли к усадебному ансамблю церковь, которая находилась прямо рядом с парком. В «Справочной книге по Тверской епархии на 1915г»15 упомянута, как храм Преображения Господня. Церковь имела 7 престолов, относилась к Вознесенскому приходу Кочемльского стана, разрушена в годы советской власти.
Нет данных о том, как Максимовичи продали имение Спасское Колщееву. В «Списке бывших помещиков»16 А. Колщеев назван владельцем имения в 1917 году. Кстати его решили не выселять, а дали ему надел по числу «едоков». Крестьянская память дурно относилась к этому помещику, дом его, стоявший отдельно от старого парка, крестьяне сожгли17. Позднее он бедствовал, спивался, жил в деревне Раднево (1 верста от с.Спасского).
Такова судьба двух усадеб: в Шепелях через жернова времени прошли почти все постройки, в Спасском не уцелело ничего, только лишь печина некогда показательной земской школы зияет в старом парке.
Приводится по дипломной работе Столярова А.К. «Дворянские усадьбы Кашинской земли. Исторические судьбы», МГГУ им. Шолохова, Москва 2009 г.
_______________________________
1«П.П.Максимович, основатель тверской женской учительской школы», Селиванов А.Ф., СПб., Типо-литография М.П.Фроловой,1906, с 17;
2«Морской сборник»1877, №3,с.36;
3«О продаже имения Л.А.Шаховского Спасское П.П.Максимовичу», Тверские Губернские Ведомости №18, 1855;
4«П.П.Максимович, основатель тверской женской учительской школы», Селиванов А.Ф., СПб., Типо-литография М.П.Фроловой,1906, с 17;
5«Из истории тверского земства»,Новикова Н., «Тверская Старина» 1994;
6«Калининский Педагогический Институт им. Калинина. Исторический очерк» доц.Полянский П.П., доц.Сланевский В.У.,Калинин, Калининское книжное издательство, 1959;
7Приводится по ст. «Школа Максимовича» Ильиной.Т.;
8Приводится по «П.П.Максимович, основатель тверской женской учительской школы», Селиванов А.Ф., СПб., Типо-литография М.П.Фроловой,1906, с 174;
9ГАТО ф р-488, оп.5,д.42, л.137-139об.;
10«Тверские усадьбы(впечатления)», «Благотворительный фонд во имя иконы божией матери всех скорбящих радость»,Тверь,2005;
11«Кашинская газета»,23 янв.,2009,№3,с.4;
12ГАТО ф р-488, оп.5,д.42, л.137-139об.;
13О продаже имения Л.А.Шаховского Спасское П.П.Максимовичу», Тверские Губернские Ведомости №18, 1855;
14Сборник статистических сведений по Тверской губернии,т.X, Кашинский уезд.,1894;
15«Справочная книга по Тверской Епархии на 1915г». Тверь, Типо-литография М.В.Блинова,1914;
16«Дело со сведениями о бывших помещиках оставленных в приделах принадлежащих им имений или получивших землю в трудовое пользование вне таковых имений», ГАТО ф р-835, оп.8, дело 207;
17Сведения приводятся по рассказам крестьян с.Спасское.
|
Метки: максимовичи дворянские владения |
Надежда Столярова |
 Надежда Столярова
Надежда Столярова
|
- Родилась в 1854
- Умерла после 1930 - Калининская область
Браки и дети
- В браке с Алексей Власьев, Дворянин 1843-1910 имели детей
 Алексей Власьев, Дворянин 1877-1928
Алексей Власьев, Дворянин 1877-1928 Владимир Власьев, Дворянин 1880-1914
Владимир Власьев, Дворянин 1880-1914 Наталья Власьева 1881-ca 1965
Наталья Власьева 1881-ca 1965 Надежда Власьева, Дворянка 1884-1950/
Надежда Власьева, Дворянка 1884-1950/ Дмитрий Власьев, Дворянин 1886-1971
Дмитрий Власьев, Дворянин 1886-1971
https://bogatov.info/Genbase6?iz=9297;p=nadejda;n=stolyarova
|
Метки: столяровы |
Женщины дома Романовых: помощь фронту в период Первой мировой войны |
Первый строй
Первая мировая война явилась испытанием для всего российского общества: коррективам подверглась внутренняя политика, экономика, общественная жизнь страны, изменилась массовая психология и индивидуальное сознание людей. «Проверку на прочность» прошли и представители правящего Дома Романовых. Мужчины царствующей фамилии были призваны на фронт, а на плечи женской половины семьи легли заботы по оказанию помощи фронту и семьям фронтовиков.
Прежде всего, августейшие дамы, обладая большими финансовыми возможностями, эффективно занимались сбором средств на нужды фронта и семей фронтовиков. Часть из них оказывали помощь деньгами и вещами, но не принимали активного участия в работе общественных организаций и комитетов, в служении в госпиталях и лазаретах. Но большинство женщин семьи Романовых предпочли лично вставать во главе создаваемых учреждений (комитетов, комиссий), становились начальницами лазаретов, санитарных поездов, санаториев. Большие или маленькие лазареты создали все представительницы Дома Романовых. Эта работа объединяла их с другими российскими «патриотическими дамами», усилиями которых были созданы в годы мировой войны многочисленные общества, союзы, лиги, комиссии, дамские комитеты.
Названия обществ «Самаритянка», «Солдатская рубашка», «Армия спасения», «Братский отклик» говорят сами за себя. В столице и провинциальных городах стараниями женщин открывались народные столовые, швейные мастерские, молочные кухни, амбулатории, собирались пожертвования; дамы-аристократки и простые работницы шили белье, кисеты, превращали дворцы, имения и свои квартиры в госпитали, лазареты, санатории для выздоравливающих бойцов. Нашли свое место в благотворительной деятельности и женщины из императорской фамилии.
Самый большой вклад в дело помощи фронту внес Елизаветинский комитет. Его создательница, великая княгиня Елизавета Федоровна (сестра императрицы Александры Федоровны)1 всегда занималась делами милосердия: состояла попечительницей и председательницей множества благотворительных обществ, а после гибели мужа учредила Марфо-Мариинскую обитель. Во время войны обитель стала одним из крупнейших российских госпиталей. К заботам о раненых прибавилась еще и необходимость призрения детей-сирот, душевно-больных воинов (хотя и считается, что Россию меньше коснулась «оружейный шок» и газовые атаки Первой мировой, контуженых и психических больных было огромное количество), решение квартирных вопросов и трудоустройство раненых и инвалидов, трудовая помощь семьям фронтовиков на селе и многое другое. Материалы елизаветинского комитета рисуют картину поистине героических усилий по организации всенародной помощи больным и раненым воинам, семьям защитников отечества .
С сентября 1914 года заработал Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны (дочери Николая II) для оказания помощи пострадавшим от военных действий. Больше всего внимания комитет уделял проблеме беженцев. Деятельность Татьянинского комитета по оказанию помощи беженцам3 достаточно хорошо освещены в изданных отчетах4 и периодике того времени, архивных материалах5 . Пример самоотверженности продемонстрировала сестра императора Николая II великая княгиня Ольга Александровна .
С первых дней войны и вплоть до середины весны 1917 года она работала сестрой милосердия и лишь однажды брала недельный отпуск – после своей свадьбы с ротмистром Н. Куликовским. Ольга Александровна не оставляла работу в госпитале даже после свержения самодержавия (причем, весной 1917 года она весьма нелегко переносила беременность). Ее письма сестре Ксении исполнены искренней любви и сострадания к раненым «солдатикам», полны переживаний и за судьбу страны, и за августейших родственников7 . Ольга описывает глаза умирающих «солдатиков», ассистирует на самых сложных операциях и не покидает госпиталь даже после падения самодержавия, когда семья Романовых подверглась гонениям. Интересно, что с началом войны в ее письмах, написанных на английском языке, появляется все больше русских фраз. Вместо английского «I» Ольга пишет русское «Я», что весьма показательно для национальной самоидентификации членов царской семьи в период мировой войны
Активно участвовала в деле помощи фронту «коренная немка» княгиня Мария Павловна – старшая, используя свой опыт времен русско-японской войны. Традиции благотворительности помогли включиться в работу королеве эллинов великой княгине Ольге Константиновне. Она, как и все женщины Дома Романовых, в свое время основала образцовую больницу, открыла медицинские курсы для женщин и сама посещала их. Во время Первой мировой войны приехала в Россию, работала в госпиталях, помогая раненым. В одном из писем она писала: «Совестно жить в удобстве при виде нищеты кругом»8 . Многие из женщин царствующей фамилии впервые в жизни почувствовали себя социально востребованными, а некоторые даже нашли свое призвание в общественном служении. Осталась в России после развода со шведским принцем кузина императора великая княгиня Мария Павловна – младшая («Золушка Романова» – будущая основательница парижского модного агентства «Китмир»). Два с половиной года она проработала старшей сестрой в госпитале в прифронтовом Пскове и отмечала: «то было самое счастливое время моей жизни, когда я с радостью делала нужную, полезную работу в условиях, сопряженных с опасностью» 9 . Весьма неоднозначно может быть оценена деятельность императрицы Александры Федоровны в военный период.
Спектр мнений о ней самый полярный. С 1915 года Всероссийское общество здравия в память войны 1914–1915 годов под покровительством ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны оказывало помощь фронту. По утверждению одних, императрица не работала в обществе сама, ее титул лишь служил прикрытием для функционирования общества и склада имени ее августейшей особы. Склад очень активно и в больших количествах снабжал армию медикаментами, одеждой, медицинским оборудованием. Но документы архивов свидетельствуют о том, что все, даже мелкие текущие дела, решались с ведома императрицы10. Другое мнение – из лагеря семьи: императрица была слишком поглощена заботами о складе и своем Царскосельском госпитале и мало времени уделяла решению общегосударственных проблем.
О.В. Чуракова
 Рубрика: История
Рубрика: История  Метки: женщина, женщины, первая мировая война, фронт
Метки: женщина, женщины, первая мировая война, фронт
http://www.radnews.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%...D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83/
|
Метки: романовы первая мировая война красный крест |
п. Красная горка. Усадьба Оболенских |
Нижний Новгород
ул. Пискунова, д. 29
3 этаж, офис 31
Телефон: 8(831) 414-37-09
E-mail: knno@inbox.ru
п. Красная горка. Усадьба Оболенских
«Итак, еще нам суждено
Дорогой жизни повстречаться
И с милым прошлым заодно
В воспоминанье повидаться.»
Из стихотворения В.А. Жуковского
«К княгине А. Ю. Оболенской»
Эти строчки посвящены княжне Агрофене Юрьевне Оболенской, дочери известного литератора, сенатора, князя Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого. Именно благодаря ему герои нашей статьи стали носить соединенную фамилию Оболенских-Нелединских-Мелецких. Отцу героя нашего повествования, князю Сергею Александровичу разрешено было принять фамилию матери – Нелединских-Мелецких в связи с тем, что ее древний дворянский род выходцев из Польши угас. Соединенная фамилия переходила лишь к старшему из потомков. Сын Сергея Александровича Оболенского и правнучки генералиссимуса князя А.В. Суворова Натальи Владимировны Мезенцевой Платон Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий стал владельцем нижегородского именья в поселке Красная Горка Воротынского района Нижегородской губернии.
Красная Горка небольшой поселок, расположенный в 5км от автострады Москва-Казань. Согласно одной версии название поселка связано с его расположением на горе, богатой красной глиной. По другой легенде свое название этот живописный участок получил благодаря весеннему православному празднику - Красная Горка, когда молодые люди выбирали возвышенное красивое место, разжигали костры, водили хороводы, выбирали себе спутников жизни, а на заре встречали восход солнца.
Так или иначе, но именно на этом месте в XIX веке была возведена усадьба с царским размахом! Господский дом, представлял из себя настоящий замок с башнями, крытой террасой и современным, по последним веяниям моды, организованным парком, с оформленными спусками к реке. Рядом с главным домом был устроен фонтан, являясь одной из задумок при планировании и формировании усадебного парка. Кроме эстетики внешнего вида, выдержанного в основном в стиле эпохи романтизма, к вопросу технического оснащения Оболенские подходили крайне прогрессивно. В одной из башен был вмонтирован резервуар для воды, откуда вода распределялась по хозяйственным нуждам, а также шла на функционирование фонтана. Отопление всего дома осуществлялось за счет целой системы калориферных печей. Было построено много хозяйственных построек.
После смерти Платона Сергеевича усадьбу унаследовал Сергей Платонович. Сергей Оболенский вошел в мировую историю как граф, российский офицер, американский деятель гостиничного бизнеса, сотрудник Управления стратегических служб США и успешный ресторатор. Несмотря на то, что предыдущая строчка буквально пронизана противоречиями, тем не менее, жизнь этого человека сложилась именно так.
Сергей Платонович Оболенский-Нелединский-Мелецкий, принадлежал к высшему кругу русской знати. В начале Первой мировой войны он вернулся в Россию и поступил офицером в Кавалергардский полк. За отличия на фронте был награжден тремя Георгиевскими крестами. Участвовал в Гражданской войне, три года сражался в Белой Армии. После окончания Гражданской войны эмигрировал.
В Ялте, 6 октября 1916 года он женился на морганатической дочери императора Александра II светлейшей княжне Екатерине Юрьевской. Это была бурная любовная история на фоне войны, ей было тридцать восемь, а ему двадцать шесть, и в годы гражданской войны они пережили множество приключений. В 1924 году состоялся развод с Екатериной Юрьевской. Детей у них не было. 24 июля 1924 года в часовне Королевы Савойя в Лондоне Серж Оболенский женился на Ава Элис-Мюриэль Астор, дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV и начал работу в гостиничном бизнесе, принадлежавшем Асторам с XIX века. У них родилось двое детей: сын Иван и дочь Сильвия. Со второй женой Сергей Оболенский развелся в 1932 году, но карьеру в гостиничном бизнесе не оставил. Самый интересный поворот в биографии князя случился с началом Второй мировой войны. Оболенский стал сотрудником Управления Стратегических Служб США (предшественника ЦРУ), дослужившись до звания подполковника. В 53 года он оказался самым старым парашютистом в армии США, стал одним из основателей американского спецназа (U.S. Special Forces). После войны князь Оболенский вернулся в гостиничный бизнес и светскую жизнь. Князь Оболенский ушел работать к Хилтону, а к 1958 году он стал уже вице-председателем совета Hilton Hotels Corporation. Помимо отелей князь Оболенский открывал и фешенебельные рестораны. В 1971 году Сергей Оболенский женился в третий раз на Мэрилин Фрэйзер Уолл. Ему 81 год, избраннице - 42. Газеты назвали это «роман в голливудском стиле». Последние годы Сергей Оболенский жил в богатом пригороде Детройта - Гросс-Пойнт. Умер в 1978 году, в возрасте 87 лет.
Владения Оболенских в поселке Красная Горка разрушены. С каждым прошедшим годом мы безвозвратно теряем бесценные исторические сведения, материалы, технологии, строения и сооружения. И связать неординарную личность князя, офицера, хотельера, ресторатора и военного с сохранившимися постройками уже никак нельзя. И появляется вопрос: что бы он, этот талантливый, прогрессивный, стремительный жизнелюбивый и трудолюбивый человек смог бы сделать в России, если бы жизнь его прошла на Родине?...
Род князей Оболенских заслуживает внимания и уважения не только в России, но и за ее пределами. За всю историю своего существования это подтверждалось боевыми заслугами и наградами, неординарными поступками и сильным волевым характером. Подтверждением этому является и жизнь Александра Оболенского, еще одного представителя этой фамилии. После революции, когда ему было всего 3 года, его семья была вынуждена покинуть Россию. Он получил престижное английское образование и стал звездой спорта. В 19 лет его пригласили стать участником сборной Англии по регби. Его яркая и насыщенная событиями жизнь закончилась в 24 года. Когда началась Вторая мировая война, князь Александр пошел служить в военную авиацию и совершая посадку на своем истребителе разбился. В память о князе была создана благотворительная организация, которая провела сбор средств на строительство памятника. Значительную сумму финансировал Роман Абрамович. Бронзовая статуя установлена в английском городе Ипсвич и его имя известно каждому любителю регби в Англии.
Галерея изображений

 Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских 
 Сергей Оболенский
Сергей Оболенский  Екатерина Александровна Юрьевская (09.09.1878 - 22.12.1959)
Екатерина Александровна Юрьевская (09.09.1878 - 22.12.1959)  Княгиня Оболенская
Княгиня Оболенская 
 Сергей Оболенский и Мэрилин Монро
Сергей Оболенский и Мэрилин Монро 
 Платон Оболенский
Платон Оболенский  Бал
Бал  Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских 
 Ава Элис Мюриэль Астор-Оболенская и Сергей Оболенский
Ава Элис Мюриэль Астор-Оболенская и Сергей Оболенский  Оболенский в своем ресторане St.Regis Roof, Нью-Йорк, 1964
Оболенский в своем ресторане St.Regis Roof, Нью-Йорк, 1964 

 Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских  Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских  Сергей Оболенский
Сергей Оболенский  Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских  Усадьба Оболенских
Усадьба Оболенских
http://nckn.ru/component/k2/item/32-p-krasna-gorka-usadba-obolenskikh
|
Метки: оболенские дворянские владения |
История и события Русской Ниццы |
История и события Русской Ниццыhttp://www.nice-gorod.com/nice_russe.php
Фестиваль российского кино

Правительство Российской Федерации, Госфильмофонд России и мэрия Ниццы совместно организовали символический показ отечественных кинофильмов, тематика которых затрагивает жизнь Дома Романовых.
Показ пройдёт в Ницце с 14 по 17 июня под эгидой 1-го Фестиваля российского кино, открывающемуся в честь четырёхсотлетия Дома Романовых.
Вход свободный.
Программу показов вы найдете, перейдя по ссылке.
Ждем вас на показах.
Хронология русского освоения Ниццы - IIч

С 1856-го года, «русское» посещение средиземноморской жемчужины, стало более осмысленным, целенаправленным и организованным.
Появилась мода на курорт, престиж, желание показать себя…
Именно в это время местные французы познакомились с русской "Ярмаркой тщеславия", уяснили себе русскую слабость к роскоши и нескрываемую любовь к праздности.
В это время, на русские деньги в Ницце, и по всему Лазурному берегу, появляются особняки, виллы, бульвары, храмы, дворцы и парки.
С тех пор, русским туристам на Лазурном берегу всегда рады…
Русские в Ницце. Хронология.

В истории так называемой «Русской Ниццы», конечно же принимала участие не одна лишь Ницца, а весь Лазурный берег.
Принято считать, что начало положено русской императрицей Александрой Фёдоровной, однако и перед ней Лазурный берег знал русских.
Первым знаменитым поселенцем, стал наш гениальный писатель Николай Гоголь.
Он поселился в Ницце на 13 лет раньше вдовы императора Николая I.
Но и до Гоголя здесь уже побывали наши соотечественники.
В первой статье мы расскажем о тех, кто успел оставить свой след на Лазурном берегу до знаменитого приезда императрицы.
Появление русских Храмов

Церковь Святителя Николая и святой мученицы Александры, является первой русской церковью не только в Ницце, но во всей западной Европе (1860).
Численность русской колонии на Лазурном берегу регулярно растет.
В 1857 г. около 150 семей проживают в Ницце. Это богатые туристы, которых привлекает присутствие царской семьи, и больные туберкулезом, которых привлекает климат.
Все они нуждаются в духовной поддержке и моральной помощи православной церкви.
1 мая 1857 г. вдовствующая царица Александра Федоровна выпускает подписку на сооружение русской церкви на землю, выкупленную на улице Лоншан.
Царские резиденции в Ницце

В книге «Прогулки по Ницце», Эмиль Негрен описывает в 1867 г. оба имения, занятых царским Двором.
Имение Бермонд включает на 40 гектарах четыре виллы, водопады, фонтаны, теплицу с экзотическими растениями, целые поля пармских фиалок, оливковые рощи на холмах, 250 000 апельсиновых деревьев, ферму, 10 000 фруктовых деревьев, образцовый свинарник, и т.д. Это сельско-хозяйственное имение, ухоженное с роскошью место для отдыха и удовольствия. Все сорта апельсинов, описанных Риссо, здесь представлены.
Члены царской семьи в Ницце
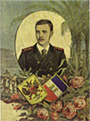
Большинство членов царской семьи постоянно посещали Лазурный берег Франции, но некоторые из них оставили долгую память у ниссаров.
Великая княгиня Елена Павловна, невестка царя Николая I придумала моду купанья еще в 1858 г. — она заказала за 1000 золотых франков деревянную пляжную кабину.
В ней было три комнаты, там можно было раздеваться и спускаться по маленькой деревянной лестнице до платформы, позволяющей добираться до воды, не ступая по пляжу.
Раскол в царской семье

О проказах Александра II в Петербурге пишут современные газеты, когда царица отдыхает в Каннах.
Связь Александра II с Екатериной Долгорукой, которую он называет Катей, началась еще в 1866 г.
Ей восемнадцать лет, ему сорок семь, они влюблены как дети.
Она принадлежит одной из самых великих фамилий России. Ее очень богатые родители часто приезжают в Ниццу или Канны на зиму.
Первые чёрные страницы при образовании Русской Ниццы.

Как водится, после яркого веселья, порой наступает чёрная полоса. Царскую чету, которая положила начало светлого и радостного времяпровождения русских в Ницце, к сожалению эта закономерность не обошла стороной.
Александра Федоровна пользуется необычайной популярностью у ниссарского населения.
Накануне воссоединения Ниццы с Францией она обосновывается в вилле Бермонд.
Предпосылки образования Русской Ниццы

Освоение русскими Лазурного берега, изначально не было связанно с поиском уникального места для отдыха, а скорее явилось военной и экономической закономерностью.
Интерес русских к Лазурному берегу уходит в сравнительно далёкое прошлое.
В 1749 г., в то время, когда ниссар Жан-Мишель Ода назначен торговым советником в России, в Ницце уже работает российское консульство.
Ж.М Ода дружит с Алексеем Орловым, молодым морским офицером.
Итак неслучайно в 1770 году под начальством того же Алексея Орлова бросает якорь в Вилльфранше русский империальский флот.
Закат аристократизма Русской Ниццы

Своей славой аристократического салона Европы, Ницца прежде всего обязана русской императрице, жене Николая первого - Александре Фёдоровне.
Именно она открыла моду на Ниццу, как на великосветский курорт.
За императрицей, сюда потянулся русский Двор, великие князья и княгини, русские аристократы.
Шло время..
Как известно всё имеет своё начало и свой конец.
Сегодня наивно наедятся, что нынешняя Русская Ницца как и прежде представлена лишь в лице потомков русского двора и аристократии.

|
Метки: русское зарубежье ницца |
История русской дворянской семьи. От белого генерала до знаменитого французского архитектора |
История русской дворянской семьи. От белого генерала до знаменитого французского архитектора

На Французской Ривьере давно известна фамилия архитекторов Свечиных. Члены этой семьи вписали свои имена как в историю Франции, так и в историю России. В прошлом году исполнилось 100 лет со дня Великой октябрьской революции. Мы встретились с Люком Свечиным, нисуазским архитектором, который рассказал нам о том, как 1917 год стал переломным для его семьи.
1918 год. Россия. Петербург
Александр и Михаил стояли на перроне вокзала перед поездом, который должен был увезти генерал-лейтенанта Михаила Свечина и его жену с сыном на юг России, где в это время базировалась армия Деникина. Его брат Александр, так же в звании генерала, оставался в Петербурге. Он верил во власть большевиков и надеялся, что ему найдется место в новой стране советов. Братья обнялись и пожелали друг другу удачи, несмотря на то, что ясно понимали: гражданская война разделила их навсегда.
Братья Свечины – из старинного дворянского рода, их отцом был прославенный генерал Андрей Свечин, оба участники русско-японской и Первой мировой войн.
Михаил с женой Ольгой и шестилетним Андреем прибыли на Дон. Здесь Свечин вступил в Добровольческую армию, где занимал должность начальника штаба обороны Новочеркасска. В 1920 году после поражения белого движения из Новороссийска на корабле «Константин» приплыл вначале в Салоники, затем в Белград, Германию и Францию. В Ниццу Михаил вместе с семьей прибыл в 1926 году.

К моменту, когда Свечины приехали на Лазурный берег, у них не осталось никаких сбережений. Ольга Свечина продала все драгоценности, собственно, на эти деньги семья несколько лет жила в Европе. В Ницце Михаил устроился работать на конюшню Оливетто в одном из поместий в районе Семье. Затем окончил бухгалтерские курсы и устроился в одном из банков Ниццы. Жили Свечины достаточно скромно в небольшой двухкомнатной квартире на улице Chateuneuf. Их единственный сын Андрей еще в детстве хорошо рисовал, поэтому на Лазурном берегу пошел учиться в школу «Art Decoratifs» в Монако. Так прерывалась военная династия Свечиных, но началась династия архитекторов.
А тем временем
Александр Свечин в марте 1918 года перешел в ряды Красной армии и был сразу же назначен военным руководителем Смоленского района Западной завесы, затем начальником Всероссийского главного штаба. На новом месте у него возникли споры с главнокомандующим вооруженных сил Советской республики. Дабы уладить конфликт, Лев Троцкий перевел Свечина в научную работу. Александр вначале работал преподавателем, а затем занял пост главного руководителя военных академий РККА по истории искусства и стратегии.
С начала 30-х годов репрессионная машина развернулась в сторону своих же создателей. И те, кто когда-то руководил революцией, стали одним за другим попадать под ее колеса. В 1930 году Александр Свечин был впервые арестован, но вскоре отпущен, правда, ненадолго. Уже через год началось очередное политическое дело «Весна», и Свечин получил 5 лет лагерей. Через год его вновь отпустили, он вернулся в РККА.

Но 1937 не пощадил никакого. Александра арестовали уже в последний раз.
Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 26 июля 1938 года на 139 человек, № 107, по представлению И. И. Шапиро. Подписи: «За расстрел всех 138 человек». Сталин, Молотов. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская область) 29 июля 1938 года. Реабилитирован 8 сентября 1956 года.
1930 год. Франция. Ницца
Успешно окончив школу «Art Decoratifs», Андрей Свечин начал успешную творческую деятельность. Он делал архитектурные проекты, мастерил предметы декора, брался буквально за любую работу. В возрасте 17 лет открыл вместе с двумя партнерами архитектурное бюро, работы которого прославят вновь фамилию Свечиных.
По проекту Андрея Свечина были построены виллы Марка Шагала и пивовара Фредди Хайнекена, шато de La Colle Noire Кристиана Диора, музей художника Фернанда Леже, а также Свечин реставрировал знаменитый замок La Colombed'Or в Сен-Поль-де Вансе и Свято-Николаевский собор в Ницце.
РЕКЛАМА
Еще в советские времена Андрей Свечин приезжал и не раз на историческую родину. В основном, это были рабочие командировки в составе делегаций. Андрей Михайлович посещал Псков, Ленинград, Москву с целью более детального изучения русской архитекторы. При этом он ни разу не заехал в дом, где вырос. Как вспоминает его сын Люк, этот визит был бы для него болезненным. Всю жизнь Андрей Свечин, несмотря на французское гражданство, считал себя русским. Он умер в 1996 году в Ницце.
«Горжусь быть Свечиным»
У нисуазского архитектора и его жены Кристианы родились четверо детей: Михаил, Марк, Анна и Люк. Самый младший Люк продолжил дело отца. Недалеко от собора Святого Николая в Ницце находится дом, где живет и творит Люк Свечин. В работах его бюро современность успешно сочетается с историческим наследием предков. Люк Андреевич с гордостью рассказывает о своей семье, о жизни Свечиных в Ницце, о Серафиме Петровне, что работала поваром в их семье, о русских книгах, которые ему читали в детстве. Когда я его спросила: «Ваш отец, имея французское гражданство, считал, что он русский. А вы?»
- Я, наверное, русский француз. Во мне есть много черт, которые свойственны только русским. Например, я не столь прагматичен, как французы. Я, как и русские, считаю: «Неизвестно, что будет завтра, потому нужно на полную мощь жить сегодня!». Я также люблю русские застолья и, конечно, водку. Русская часть во мне очень сильная, и я ей горжусь. И горжусь быть Свечиным.
Наталья Копаева Ребё
Фото автора и из архива Люка Свечина
Источник газета Service-Azurazurday.com/content/история-русской-дворянской-семьи-от-белого-генерала-до-знаменитого-французского-архитектора
|
Метки: свечины русское зарубежье эмиграция |
Тихая гавань: зарубежная недвижимость российской элиты на рубеже XIX – XX веков |
Тихая гавань: зарубежная недвижимость российской элиты на рубеже XIX – XX веков
14 сентября 2012
В конце XIX – начале XX веков русские аристократы и деятели культуры покидали родину — на время или навсегда — в обмен на тёплое местечко во Франции или Швейцарии. Многих тревожила нестабильная обстановка в России, грозившая потерей личных сбережений, а то и жизни.
Переселялись за границу и сторонники перемен. Иногда говорят, что революция творилась главным образом в съёмных квартирах Швейцарии. Эта страна была излюбленным местом Ленина, его соратников и конкурирующих деятелей протестного движения. После революции у некоторых из них, в том числе у Ленина, остались банковские счета в «тихой гавани» Европы. Что касается дворян, то после 1917 года многие из них нашли приют во Франции — в Париже и Ницце.
Франция
Во Франции исторически были два основных центра русской эмиграции: Париж и Лазурный Берег. На юг страны приезжали отдыхать или переселялись насовсем с середины XIX века. В Париж российская аристократия устремилась после революции 1917 года.
Во второй половине XIX века Ницца стала популярным курортом в среде русской знати. В 1856 году в этот город прибыла вдовствующая императрица Александра Фёдоровна. В 1859–69 годах она снимала виллу Bermond. К ней приезжали члены её семьи с прислугой, всего около 200 человек. В бухте Вильфранш была приобретена земля и построены здания для императорского дома. Вскоре в Ницце обосновались около 400 русских семей, владевших жильем и землёй.
В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3,3 тыс. человек, а уже в 1930 там жили более 5 тыс. наших соотечественников, покинувших Россию в годы революции. Во время Второй мировой войны многие из них переселились в США.
Великий князь Михаил Михайлович и его жена Софья Николаевна с 1899 года владели виллой «Казбек» в Каннах. Здание было названо в честь горы в Грузии. Семья жила, ни в чем себе не отказывая. На вилле служили пять лакеев, дворецкий, слуга, служанка, няня и шесть поваров. Михаил Михайлович оплачивал жилье и работу прислуги из дохода от своей фабрики по производству минеральной воды в Боржоми. Позже вилла «Казбек» стала домом их дочери, графини Надежды Михайловны де Торби. С 1900 года Михаил Михайлович также арендовал Keele Hall, дом в Стаффордшире (Англия), а в Каннах жил лишь часть года.
Великий князь Алексей Александрович, адмирал, брат императора Александра III, владел домом в Париже на авеню Габриэль, рядом с Елисейскими Полями, в котором жил до своей смерти в 1908 году.
После революции великий князь Борис Владимирович с женой Зинаидой Рашевской жили в парижском особняке на улице Мариньян, недалеко от Елисейских Полей. В 1970-х годах здание снесли для строительства многоквартирного дома. От матери, великой княгини Марии Павловны, Борис Владимирович унаследовал изумруды, продав которые, смог приобрести замок Sans Souci в Мёдоне, недалеко от Парижа. Во время Второй мировой войны супруги испытывали финансовые трудности, им пришлось продать замок и переехать на улицу Фэзандери в Париже. Впоследствии Sans Souci тоже снесли, теперь на его месте стоят современные здания.
Андрей Владимирович, брат Бориса Владимировича и последний великий князь дома Романовых, в 1913 году купил в Кап-д’Ай виллу Alam с видом на Средиземное море. Вместе с супругой, знаменитой балериной Матильдой Кшесинской, он переехал туда после женитьбы в 1921 году и жил до 1936. Кшесинская страдала от игровой зависимости, она часто посещала Монте-Карло. Интересно, что дом был куплен на деньги другого великого князя — Сергея Михайловича, которого многие историки называют любовником Кшесинской и отцом её сына Владимира.
Великая княжна Анастасия Михайловна тоже увлекалась азартными играми и была постоянной посетительницей казино в Монте-Карло. Ей принадлежала вилла «Фантазия» в городе Эз, недалеко от Ниццы. Внучка Николая I переехала туда после окончания Первой мировой войны и скончалась там в 1922 году.
Великий князь Николай Николаевич, дядя последнего русского императора Николая II, и его жена Анастасия Черногорская жили в замке Шуаньи, расположенном недалеко от Парижа, в Сантени. Представитель дома Романовых превратил дом в настоящую крепость и построил православную часовню.
В 1928 году у Николая Николаевича ухудшилось здоровье. Он переехал на Лазурный Берег, в Антиб, на виллу Thénard, где и скончался год спустя.
В 1920 году представитель другого знатного рода, князь Феликс Феликсович Юсупов, с супругой Ириной Романовой приобрёл дом в Булонь-Бийанкуре, пригороде Парижа. Одно крыло здания перестроили в театр, который обставил художник Александр Яковлев. Там по субботам устраивали светские вечера. У Юсуповых также был дом в Париже на улице Пьера Герена.
Недвижимость во Франции была не только у членов царской семьи и других русских аристократов. Например, оперный певец Фёдор Шаляпин в 1938 году приобрёл виллу Chanson («Песня») в Жанври, в Эсоне, недалеко от Парижа. Дом построен в первой половине XIX века, два крыла были добавлены в 1906 году.
Знаменитый бас владел также несколькими объектами недвижимости в Тироле (Австрия), виллой в Сен-Жан-де-Люз (город к югу от Биаррица), квартирой в Нью-Йорке и домом в Калифорнии. Вилла в Сен-Жан-де-Люз расположена на холме Сент-Барб и имеет вид на Бискайский залив. Ещё у Шаляпина была квартира в Париже, где он скончался. Его неосуществленной мечтой было строительство большого особняка, где после его смерти за счёт его наследства содержались бы обездоленные молодые люди.
Великобритания
Первые русские эмигранты появились в Лондоне ещё во времена Бориса Годунова, когда он отправил нескольких людей для обучения, а они отказались возвращаться на родину.
В XIX веке многие приезжали в британскую столицу по политическим причинам. С начала 1850-х по 1865 год самой заметной личностью в русском Лондоне был писатель, публицист, философ и революционер Александр Герцен. Он арендовал в городе много квартир и постоянно переезжал с места на место, поскольку ему надоедали бытовые неудобства и однообразие помещений. Одно время Герцен жил в Laurel’s House — особняке, окутанном плющом и окруженном кустами сирени и жасмина. В Лондоне проводил время и близкий друг Герцена — поэт, публицист, революционный деятель Николай Огарев вместе с супругой Наталией Тучковой.
После революции 1917 года и Гражданской войны в Лондоне оказались около 50 тыс. человек, представлявших почти все слои русского общества. Помимо политических и общественных деятелей, среди них были представители творческой интеллигенции, учёные и белогвардейские офицеры.
В числе эмигрантов Лондона была и великая русская балерина Анна Павлова, которая с 1912 года до своей смерти в 1931 году жила в Ivy House, расположенном на Норт-Энд-роуд. Она приезжала отдыхать в этот дом летом 1911, а год спустя купила его. В переводе название означает «Дом плюща», поскольку это растение обвивало каменную стену вокруг строения. В первой половине XIX века Ivy House арендовал английский художник Уильям Тёрнер.
Анна Павлова устроила в этом доме свою студию. Во дворе было озеро с лебедями; эти птицы считаются главным источником вдохновения балерины, прославившейся благодаря хореографической миниатюре «Умирающий лебедь». После смерти Павловой Ivy House вместе с обстановкой был продан с аукциона. Сейчас в доме расположен еврейский культурный центр.
Швейцария
Швейцария исторически считалась самым благоустроенным и относительно дешевым местом в Западной Европе. Правда, после революции 1917 года русскую эмиграцию больше притягивал Париж, а в Швейцарии оставались в основном те, кто не был связан с политикой.
До революции сюда переезжали многие революционеры и представители интеллигенции. Но они чаще всего не приобретали, а арендовали недвижимость, постоянно перемещаясь с места на место.
Владимир Ильич Ленин снимал квартиры в Цюрихе (на улицах Шпигельгассе и Гайгергассе), Женеве (Каруж Давид Дюфур, Дё-Пон и Марэшэ) и Берне (Доннербюльвег и Дистельвег). Шпигельгассе — самый известный русский революционный адрес в Цюрихе, но квартира, которую Ленин там снимал, не нравилась Надежде Константиновне.
«Старый мрачный дом, постройки чуть ли не XVI столетия, окна можно было отворять только ночью, так как в доме была колбасная и со двора нестерпимо несло гнилой колбасой»,— вспоминала Крупская.
Некоторые наши соотечественники приезжали в Швейцарию из других стран Западной Европы. Например, Герцен переместился сюда из Лондона. В 1860-х годах у него было поместье Boissière в Женеве. Особняк с террасами на всех этажах называли просто «дача». Внизу находились кухни и помещения для прислуги, на первом этаже — просторная столовая, гостиная и кабинет. Наверху были спальни. Особняк был окружён большим тенистым садом, а перед парадным входом простирался зелёный газон, окаймленный дорожками, которые спускались к огороду. Ранее, с 1838 по 1860 годы, в Boissière жила великая княгиня Анна Федоровна, вдова Константина, несостоявшаяся императрица России.
В Цюрихе Герцен также бывал неоднократно, выбирая жильё. «Домов здесь много, с мебелью, со всем просят 2 500,— отдадут за 2 250»,— писал он в 1868 году. Но так и не поселился там окончательно: город пришёлся ему не по душе.
Среди тех, кто стал гражданином Швейцарии, был Павел Бирюков — публицист, общественный деятель, друг Льва Толстого. В 1920-х годах он жил в собственном доме в коммуне Онэ (кантон Женева) на Бернской улице.
Композитор Сергей Рахманинов в 1932 году приобрел участок в Хертенштейне (кантон Люцерн) у Фирвальдштетского озера и построил на этой земле виллу, которую назвал «Сенар». Там он с женой жил до 1939 года. Русское имение стало местной достопримечательностью: оно выделялось красотой сада, где росли тысячи видов роз. В этом доме Рахманинов написал рапсодию на тему Паганини и Третью симфонию.
* * *
Недвижимость за рубежом — хороший резерв на случай политической или экономической нестабильности. Многие русские дворяне и состоятельные представители других сословий вовремя обосновались за границей и благополучно дожили свой век, пока на родине правила советская власть.
После эмиграции, вызванной революцией и гражданской войной, последовали еще две волны эмиграции. С начала Великой Отечественной войны до распада СССР страну покинули примерно 1 млн человек. Однако это не идет ни в какое сравнение с количеством людей, уехавших из России, начиная с последних лет Советского Союза и до наших дней — около 3 млн. Многие из них приобрели недвижимость за рубежом. Одна из причин этого — опасения за политическую и экономическую ситуацию на родине. По данным исследования Tranio.Ru «Русские покупатели недвижимости за рубежом — кто они?», этот фактор указали почти 30 % опрошенных.
Юлия Кожевникова, Tranio.Ru
Менеджеры Tranio расскажут о недвижимости за рубежом
![]()
Анна Боярчукова
https://tranio.ru/articles/zarubezhnaya_nedvizhimo...a_rubezhe_xix_-_xx_vekov_3255/
|
Метки: русское зарубежье эмиграция |
ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ |
[]
ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ (2)

Большую роль играла находившаяся при княжне Е.М. Долгорукой ее подруга, компаньонка, крестная и бонна ее детей – Варвара Игнатьевна Шебеко (1840–1931), приходившаяся благодетельнице невесткой (сестра ее Софья Шебеко была замужем за князем Василием Михайловичем Долгоруким – братом фаворитки Императора).
Наряду с сестрой Екатерины Михайловны, Марией (1850–1907), за которой также одно время ухаживал Александр II, В.И. Шебеко была членом «могущественного трио», оказывавшим колоссальное влияние на Императора, настраивая Его против Своей законной Семьи.

Джорджиане Микеле. Портрет графини Марии Михайловны Берг, урожденной княжны Долгоруковой. 1871 г.
Сохранились немало свидетельств того, как Варвара Шебеко, также смолянка, пыталась, используя положение своей подруги, обделывать свои дела. «Много я видал на своем веку отчаянных баб, – писал о ней современник, – но такой еще не случалось мне встречать» («За кулисами политики 1848-1914». М. 2001. С. 194).
Передавали, как однажды «Вава» (домашнее прозвище В.И. Шебеко у Долгоруких) о чем-то настойчиво просила Императора, а Тот, вяло отбиваясь, все повторял: «Нет, нет, Я уже говорил вам, Я не должен этого делать, это невозможно» (Л. Ляшенко «Александр II, или История трех одиночеств». С. 137).
Однако о том, как невозможное часто становилось очень даже возможным, мы знаем на примере Царских дневниковых записей о настоятельных просьбах Долгорукой легализовать ее положение. Одна из таких записей была сделана 22 мая 1880 г. в день кончины Императрицы Марии Феодоровны: «Я сделаю для нее все, что будет в Моей власти, но Я не смогу пойти против интересов родины». А вот, что занес Он в дневник уже 28 мая, сразу же после похорон Супруги: «Я дал слово чести и Я должен его сдержать, даже если Россия и История Мне этого не простят».
«Согласно воспоминаниям современников, – читаем в одной из биографий Императора Александра II, – Варвара Шебеко и ее брат за спиной Императора торговали железнодорожными концессиями и втянули в эту деятельность Е.М. Долгорукую. Причем речь на этих “торгах” шла о сотнях тысяч, а то и миллионах рублей» (Л. Ляшенко «Александр II, или История трех одиночеств». С. 338).

Княжна Екатерина Михайловна Долгорукая.
«Эта княжна Долгорукая, – вспоминал граф С.Ю. Витте, – не брезговала различными крупными подношениями, и вот она через Императора Александра II настаивала, чтобы дали концессию на постройку Ростово-Владикавказской дороги – не помню кому: или инженеру Фелькерзаму или какому-то другому железнодорожному концессионеру – чуть ли не Полякову» («Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания». Т. 1. Кн. 1. С. 115).
Через нее, по свидетельству того же мемуариста, «устраивалось много различных дел, не только назначений, но прямо денежных дел, довольно неопрятного свойства» (Там же. С. 258).
Известны некоторые имена, с которыми княжна была тесно связана: банкиры и подрядчики Абрам Моисеевич Варшавский, Абрам Ислевич Горвиц, их компаньоны Грегер и Коген, присяжный поверенный Яков Моисеевич Серебряный (Там же. С. 258-259).

Абрам Моисеевич Варшавский (1821–1888).
Сохранились также свидетельства, как обделывались подобные делишки, в которые, как это ни прискорбно, был втянут Сам Государь и Его брат Великий Князь Николай Николаевич («За кулисами политики 1848-1914». С. 193-197).
Для того, чтобы понять, с кем могла быть связана Вава, достаточно вспомнить, что «в 1857 году французские евреи учредили Главное общество по постройке российских железных дорог и с помощью еврейских банков Петербурга и Варшавы проложили четыре тысячи верст железнодорожных путей» (Ф. Кандель «Книга времен и событий. История российских евреев». Кн. 1. М. 2002. С. 429-430).

Французские евреи-финансисты, учредившие Главное общество по постройке российских железных дорог, братья Эмиль и Исаак Перейр.
О том, как строились эти железные дороги, слишком хорошо известно из тех же произведений Н.А. Некрасова.
Один из трех братьев, известных железнодорожных подрядчиков, предпринимателей и банкиров, Самуил Соломонович Поляков (1837–1888), в недалеком прошлом киевский штукатур и содержатель почтовой станции в Харьковской губернии.
Зная особенности своих соплеменников, он категорически отказывался брать на работу евреев, чем даже обострил их отношение к нему («Краткая еврейская энциклопедия». Т. 6. Иерусалим. 1992. С. 671). Человеческой «аристократии» он предпочитал «рабочий скот», который и жалеть, конечно, не стоило…

Марк Антокольский. Бюст Самуила Полякова. 1877 г. Третьяковская галерея.
Вообще следует отметить, что все нововведения Александра II в законодательство о евреях и т.н. «Великие реформы», о которых современники говорили, что они «взбаламутили то, что лежало под спудом, и дали простор гнусным инстинктам, издавна развившимся в обществе», были теснейшим образом связаны друг с другом («За кулисами политики 1848-1914». С. 197).
Даже «безспорное» «освобождение крестьян» 1861 г. в свете не подлежащих иному толкованию данных исторической антропометрии оказалось еще каким спорным.
«В историографии, – пишет в новейшем фундаментальном исследовании петербургский профессор Б.Н. Миронов, – утвердилась точка зрения, согласно которой положение крестьянства и работных людей в дореформенное время непрерывно ухудшалось, их эксплуатация росла, а крепостная система хозяйства с 1830-х гг. вступила в перманентный социально-экономический кризис, который проявлялся в снижении уровня производства, пауперизации и вымирании крестьянства, а также в увеличении числа крестьянских волнений.
Именно этот кризис в первую очередь вынудил правительство отменить крепостное право сверху. Сведения о биостатусе, подкрепленные данными о повинности, сельскохозяйственном производстве и питании, показывают совершенно другое: уровень жизни крестьянства с конца XVIII в. и вплоть до середины 1850-х гг. повышался. Кроме того, ни крестьянское, ни помещичье хозяйство не испытывали упадка. […] Поэтому причины эмансипации следует искать не в кризисе крепостного права, не в усилении народных волнений и не в пауперизации и вымирании крестьянства […]

Константин Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге». 1874 г.
Не исчерпав всех экономических возможностей крепостного права и не доводя его до состояния полного внутреннего разложения, верховная власть под воздействием требований со стороны либеральной общественности […], также в силу острой государственной потребности в модернизации и в более глубоком усвоении европейских культурных, политических и социальных стандартов упраздняет институт крепостничества» (Б.Н. Миронов «Благосостояние населения и революции в Имперской России: XVIII – начало ХХ века». М. 2010. С. 632-633).
Таким же образом «передовая» общественность вынудила Императора Александра II отправить Русскую Армию «на кровавый бранный пир» Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (С.В. Фомин «Золотой клинок Империи». 2-е изд. М. 2009. С. 18-33).
Проиллюстрируем спровоцированное «Великими реформами» законодательство о евреях, взбаламутившее впоследствие Русское общество, некоторыми наиболее примечательными фактами (Ф. Кандель «Книга времен и событий. История российских евреев. Кн. 1. С. 425-426, 428-430):
1856 г. – перестали брать еврейских детей в кантонисты с последующей воинской службой и принятием крещения.
Дозволение евреям заводить для своих нужд типографии.
Отменено секретное указание Императора Николая I, запрещавшее принимать иудеев на государственную службу, в результате чего, свидетельствовал сами евреи, «фантазия разыгрывалась до крайности. Моего двухлетнего сына, выказавшего хорошие способности, уже прочили в министры». Сын не попал, а вот правнук уже вполне мог стать наркомом…
«В русской прогрессивной печати, – сообщала “Еврейская энциклопедия”, – название жид исчезает, начиная с воцарения Александра II, и когда в 1861 г. малороссийский журнал снова стал употреблять название жид, это вызвало в печати и обществе глубокое негодование; по этому поводу редакция выступила с ответом, объяснив, что жид в народном украинском представлении не имеет общего с бранным термином жид» («Еврейская энциклопедия». Т. 7. СПб. Б. г. Стб. 587). Другими словами, русские люди у себя дома уже должны были оправдываться…
1859 г. – разрешение евреям, записавшимся в купцы 1-й гильдии, переселяться со своими семьями во внутренние губернии Российской Империи на постоянное место жительства.
1865 г. – такое разрешение получили евреи-ремесленники, механики и винокуры.
Допуск поселения во внутренних губерниях иудеев с высшим образованием, фармацевтов, акушерок, фельдшеров и дантистов.
«Что прежде был Петербург? – восклицал в восхищении еврей. – Пустыня. А теперь же это Бердичев!..»

Леонид Пастернак. Портрет О.С. Цейтлина и Д.В. Высоцкого. За чашкой кофе. 1913 г. Курская областная картинная галерея.
Евреи быстро оседлали хлебную и лесную торговлю, производство сахара (Бродские), продажу чая (Высоцкий), речное судоходство, строительство железных дорог. Фирма «Дембо и Каган» проложила первый нефтепровод на Кавказе, активно занимаясь вывозом нефти и нефтепродуктов заграницу.
Первый еврейский банк вне черты оседлости – банкирский дом Гинцбургов – открылся в С.-Петербурге в 1859 г. Самым тесным образом он сотрудничал с Ротшильдами.
Его основатель Йоссель / Евзель Габриэлевич Гинцбург (1812–1878), происходивший из семьи витебского раввина, промышляя винными откупами, во время Крымской войны содержал «чарочный откуп» в Севастополе. Оставил он город одним из последним, одновременно с комендантом гарнизона, вынося выручку за выпивку служивых. Вырученные деньги позволили ему открыть в 1859 г. в Петербурге банкирский дом и отделение в Париже на бульваре Османн. По представлению министра финансов П.Ф. Брока был награжден Императором Александром II золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Александровской ленте. Родился он в Витебске, а умер в Париже.

Евзель Гинцбург.
Появились банки братьев Поляковых. Еврейские банкиры строили железные дороги, добывали золото и платину – всё, что приносило сверхприбыли и давало им реальную власть над Россией и мiром.
Именно такая нахальная сверхактивность и вызвала в 1871 г. первый еврейский погром в Российской Империи, коренное население которой не без основания считало, что эти неведомо откуда навалившиеся люди нещадно их эксплуатируют; безчестным путем, пользуясь круговой порукой и подкупом, отстраняя их от привычных им, веками кормивших их дел, спаивая их при этом и загоняя в долговую кабалу.

Дом Гинцбургов в Киеве.
Недаром один из видных либералов и земцев, первый премьер Временного правительства князь Г.Е. Львов в проекте обращения к Императору Николаю II в сентябре 1915 г. писал: «Великие реформы Вашего Деда, незабвенного Царя-Освободителя заложили в обществе плодотворное начало самодеятельности. С тех пор растут освобожденные общественные силы. От поколения к поколению раздается призывный клич, зовущий к свободе, и Вы, Государь, Внук Царя-Освободителя…» Ну и так далее…
Продолжение следует.
Метки: Александр II
|
Метки: российская империя |
Старейшие фотопортреты русских знаменитостей. . |
Старейшие фотопортреты русских знаменитостей. .
Изучая историю Петербурга я всё больше говорю о камнях. Дома, памятники... А вот редкий случай - интересная подборка фотографий тех людей, которые старый Петербург видели своими глазами. Кто населял те дома, ходил по улицам и паркам, учился, работал в Петербурге.
Фотография появилась ещё в середине XIX века, а значит многие исторические личности того периода успели попасть в кадр. Вместе с ними фотографы запечатлели и некоторые характерные типажи.
Представленные в посте фотографии я взял в "Петербургском альбоме", изданном Эрмитажем в 2002 году. Публикую их в том порядке, который есть в книге. То есть по времени создания этих фото. Показываю не всё, а только то, что считаю интересным...
Для начала позвольте представить - граф Павел Сергеевич Строганов собственной персоной. Фотография 1840-х - начала 1850-х годов, подкрашена акварелью. Здесь ему около 30 лет (родился в 1823 году). Его отец - член Государственного Совета граф Сергей Григорьевич Строганов. Если не знать кто это, я бы посчитал мужчину американцем. Да ещё и похожим на Джона Картера из нового голливудского фильма :) Дагеротип И. Венингера.
Хозяйка Мариинского дворца великая княгиня Мария Николаевна. Дагеротип. Фотограф неизвестен. 1840-е годы:
Портрет Алексея Алексеевича Бобринского. Дагеротип. Фотограф неизвестен. 1842 год.
Этот человек одним из первых обратил внимание на изобретение Л. Ж. Дагера и Г. Ф. Тальбота. Был другом А. С. Пушкина, членом Совета министров финансов, членом Вольного экономического общества. Вот его сын Александр в том же 1842 году. Дагеротип. Фотограф неизвестен:
В 1842-1845 году молодой человек учился на юридическом факультете Петербургского университета. Значит, мы видим студента :) Причём на фото есть отметка, что одет он в студенческую форму. В 1861-1864 годах этот человек служил губернатором Петербурга. С 1885 года - сенатор, с 1896 года - член Государственного Совета.
Граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1850-е гг). Фотография. Фотограф неизвестен:
Княжна, дочь князя Д. П. Волконского Софья Дмитриевна (нач. 1850-х гг). Фотография Бернарда и Арнольди:
Следующая пара фотографий просто изумительна. На обоих кадрах мы видим сыновей архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера: Николая, Александра, Адриана и Владимира. Слева - 1850-е годы, справа - 1890-е. Фотограф неизвестен:
Фёдор Иванович Тютчев в 1858 году был назначен председателем Комитета иностранной цензуры при Министерстве иностранных дел. Тогда и было сделано это фото. Фотограф неизвестен:
Групповой портрет русских писателей А. Н. Островского, И. Ф. Горбунова и А. Н. Майкова (середина 1850-х). Фотография С. Л. Левицкого:
1856 год. Сидят слева направо: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. Стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. Фотография С. Л. Левицкого:
Понятно, что первое время фотография была дорогой игрушкой. Поэтому снимки 1840-1850-х годов в основном запечатлевают богатых людей. И их прислугу, которую дворяне снимали, вероятно, на такую же память, как мы сейчас снимаем своих собак и кошек.
Лица людей хорошо передают их характер. Особенно, если большая часть жизни уже прошла и судьба успела оставить след во взгляде. Правда, есть и исключения:
Справа показан Михаил Гусев, лакей князей Трубецких (1858 год, фотограф неизвестен). А слева - слуга Савельич (1850-е, фотография В. Лапре). Вот уж по нему не скажешь, что он всего лишь слуга. Может он был самым главным из прислуги?
Дабы быть политкорректным, привожу пример и женской фотографии. Придворная модистка, 1850-е гг, фотограф неизвестен:
От прислуги делаем резкий взлёт до самых вершин власти. Александр II, 1866 год, фотография С. Л. Левицкого:
Его жена императрица Мария Александровна (автор фото неизвестен) и дочь Мария (1860-е гг, фотография К. И. Бергамаско):
По жене и не скажешь, что императрица. Одета весьма скромно (на мой взгляд). Дочь куда лучше приготовилась к фотосъёмке.
Ближайшее окружение императора старается следить за модой не только в одежде. Граф Александр Владимирович Адлерберг даже и подстригается как начальник. Его старания не проходят даром. В 1855 году он произведён в генерал-адьютанты, с 1866 - член Государственного Совета, в 1872-1881 годах - министр Императорского двора и уделов. Фото 1860-х годов, автор неизвестен:
Портрет имама, вождя освободительного движения горцев в Дагестане и Чечне. Шамиль. 1860-е гг, фотография С. Л. Левицкого:
Одежда на Кавказе за 150 лет не изменилась...
Князь Яков Андреевич Дашков, 1860-е гг, автор фото неизвестен:
Декабристы князь Сергей Петрович Трубецкой (1860-й год, фотография С. Л. Левицкого) и князь Сергей Григорьевич Волконский (1864 год, фотография И. Г. Ностица):
Николай Иванович Тургенев, 1860-е годы, фотокопия со снимка парижского фотографа М. Алофа:
Действительный статский советник, чиновник Министерства финансов. Член Союза благоденствия и Северного общества. В 1824 году уехал за границу, заочно был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненной каторгой. После амнистии в 1857 году вернулся в Петербург, но на постоянной основе продолжал жить в Европе.
Ещё один декабрист, участник восстания на Сенатской площади, Михаил Александрович Бестужев (фото С. Л. Левицкого):
Графиня Фёкла Игнатьевна Шувалова, около 1867 года, автор фото неизвестен:
Идёт ли графине такое имя? В молодости была знакома с Пушкиным. В первом браке была Зубовой, во втором стала Шуваловой.
А эту девицу помести в наши дни, ничем от простого ребёнка не отличишь (фото К. И. Бергамаско):
Это княжна Зинаида Николаевна Юсупова, владелица особняка на Литейном проспекте. Первые два фото относятся к 1870-м годам. Третье - конец 1870-х:
В 1870-х годах появляются фотографии, которые для себя делают уже и простые люди. Вот портрет женщины-врача (фотография А. Ясвоина):
В портрете читается озабоченность повседневными бытовыми трудностями.
Поэт Николай Алексеевич Некрасов, 1870-е годы (фото С. Л. Левицкого):
Писатель Всеволод Михайлович Гаршин, 1870-е годы (фото С. Л. Левицкого):
Александр Михайлович Горчаков. Князь, дипломат, канцлер. В 1856-1882 годах министр иностранных дел. Сокурсник А. С. Пушкина, проживший дольше всех из лицеистов первого выпуска. 1883 год, фото К. И. Бергамаско:
Николай Александрович Корф. Барон, известный своей деятельностью на поприще народного образования. 1883 год (фото С. Л. Левицкого):
Николай Иванович Пирогов. Хирург, участник Севастопольской обороны и русско-турецкой войны. Фотография конца 1870-х - начала 1880-х годов, фото Везенберга и К:
Сергей Петрович Боткин. Врач-терапевт, лейб-медик Александра II. 1880-е годы, фото Н. Доссе:
Студент Петербургского университета. Здесь понятно, что молодой человек снимается в фотоателье. Автор Н. Ануфриев:
Всем известная Софья Львовна Перовская и Николай Иванович Кибальчич. Внимание, Перовская - дворянка...
Фото сделаны в 1881 году, вероятно уже после убийства Александра II, незадолго до казни. Откуда такая округлость форм лица Перовской? Её били? А если нет, то какой ещё напрашивается вывод?
Командир императорского конвоя Владимир Алексеевич Шереметев. Граф, женат на внучке Николая I. 1880 - начало 1890-х годов, фото А. И. Рентца:
Император Александр III, принцесса Тира и императрица Мария Фёдоровна:

Члены III Государственной Думы М. Я. Капустин, М. В. Родзянко и В. М. Волконский. Добавить к ним, например, современного депутата Гудкова, композиция останется вполне естественной. Фото К. Буллы:
Во взгляде этого человека читается какая-то хитрость, живость ума. Чем-то он похож на покойного Вспышкина. Это Пётр Александрович Кропоткин, один из теоретиков анархизма. 1910-е годы, фото К. Буллы:
Граф Сергей Дмитриевич Шереметев, 1900-е годы, фото А. Пазетти:
Следующие снимки хорошо передают характерные черты жизни фотографируемых. Так, портрет Владимир Яковлевича Курбатова говорит о его повседневной научной деятельности. Курбатов - редкий пример успешного человека как в точных (химия), так и в гуманитарных (история Петербурга) науках. Фото 1921 года, фото Я. М. Чернова:
Александр Николаевич Бенуа. Художник, историк искусства, художественный критик. 1921 год, фото Я. М. Чернова:
Портрет Александра Ивановича Куприна с дочерью, 1900-е годы, К. Булла:
Владимир Михайлович Бехтерев, 1900-е годы, К. Булла:
Суровый взгляд юриста, общественного деятеля, сенатора, члена Государственного Совета Анатолия Фёдоровича Кони. 1921 год, Я. М. Чернов:
|
Метки: дворянство фото |
Мария фон Эссен |
"В ЭТУ ВОЙНУ НАШЕ ОБЩЕСТВО ПОМОГЛО ВСЕМ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ" Дамское морское общество Марии Эссен активно занималось благотворительностью. ВСТУПЛЕНИЕ России в войну с кайзеровской Германией в 1914 году было воспринято миллионами подданных Николая II с большим патриотическим подъемом. Не остались в стороне и женщины. Известно, что тысячи сестер милосердия, включая особ императорской фамилии, трудились в госпиталях как на фронте, так и в тылу. Десятки молодых женщин даже участвовали в боях. Впрочем, попытки формирования женских ударных батальонов в конечном счете успеха не имели. Жены офицеров российского императорского флота, проживавшие в Кронштадте и Петербурге, также не пожелали ос- таться безучастными к судьбе родины в тяжелую для нее годину Великой — как ее вскоре стали называть — войны. Они решили оказывать помощь семьям моряков «как призванных из запаса, так и состоящих уже на действительной службе». С этой целью была создана благотворительная организация под на- званием «Дамское морское общество», устав которого начальник Главного управления по делам местного хозяйства утвердил уже 7 августа 1914 года. Со- став действительных членов общества определялся «кругом морских дам», т.е. его членами могли быть жены морских офицеров, их матери и дочери. Учредительницей общества стала супруга командующего Морскими силами Балтийского моря адмирала Н.О. Эссена (1) Мария Михайловна Эссен. Она же предоставила свою квартиру для работы новой благотворительной организации. 4 сентября 1914 года на первом общем собрании членов общества был избран его совет, в который вошли М.М. Эссен (председатель), Н.А. Канина (казначей), Т.А. Бестужева-Рюмина, Р.Л. Глазенап, А.И. Григорова, М.К. Пил- кина и др. Секретарем совета стал мужчина — А.А. Литвинов.
|
|
| « |
Мария фон Эссен |
|
Метки: эссен |
Татьяна Николаевна Оболенская |
Татьяна Николаевна Оболенская р. 6 декабрь 1959
Запись:373556
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Оболенские |
| Пол | женщина |
| Полное имя от рождения |
Татьяна Николаевна Оболенская |
| Родители
♂ Николай Владимирович Оболенский [Оболенские] р. 20 июль 1927 ♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская) [Сарафановы] р. 1 январь 1926 |
|
События
6 декабрь 1959 рождение: Москва
титул: княжна, княгиня
1992 брак: Москва, ♂ Михаил Всеволодович Оболенский [Оболенские] р. 1963
19 август 1993 рождение ребёнка: ♂ Александр Михайлович Оболенский [Оболенские] р. 19 август 1993
27 май 1996 рождение ребёнка: ♀ Мария Михайловна Оболенская [Оболенские] р. 27 май 1996
8 февраль 2000 рождение ребёнка: ♂ Владимир Михайлович Оболенский [Оболенские] р. 8 февраль 2000
Заметки
Окончила Московский государственный университет, литературный редактор.
Ближайшие предки и потомки
|
Деды ♀ Мария Александровна Гудович (Львова)рождение: по 1904 рождение: 1907 рождение: 1904 рождение: 1900, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: графиня  ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева) ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь Деды Родители ♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова)рождение: 1922, Царицыно, Московская область, СССР рождение: с 1923 по 1924, Царицыно, Московская область, СССР ♂ Николай Владимирович Оболенскийрождение: 20 июль 1927, Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР рождение: 1 январь 1926 Родители
== 3 == ♂ Владимир Николаевич Оболенскийрождение: 28 январь 1966 рождение: 1963, Париж рождение: 6 декабрь 1959, Москва == 3 == Дети ♂ Александр Михайлович Оболенскийрождение: 19 август 1993 рождение: 27 май 1996 рождение: 8 февраль 2000 Дети |
|
Метки: оболенские |
Владивостокская крепость |
Владивостокская крепость / пиратские клады (2)
Начало в https://golos.blog/ru--vladivostok/@nkl/vladivostokskaya-krepost-piratskie-klady

Бандитский промысел хунхузов был обычным делом во Владивостоке вплоть до Японской интервенции 1918-1922.
Пиратские нападения на торговые суда совершались буквально у самого берега, на расстоянии прямой видимости от батарей Владивостокской крепости. Понятное дело, что крепостные орудия молчали – сложно вести огонь по скоплению торговых судов, среди которых прячется пиратская джонка. Хунхузов гоняли по заливу на миноносцах. Впрочем, ни одного прямого столкновения флота с пиратами так и не случилось. Совершив своё грязно дело, бандиты успевали скрыться: военно морской флот слишком медлителен и неповоротлив в борьбе с таким противником.

Куда больший эффект дало усиления пограничных застав и полицейский террор против подозрительных иноземцев в самом Владивостоке.
Вот описание типичного нападения тех лет
«В ночь на 27 сентября 1906 года шайка хунхузов из 10 человек взяла на абордаж германский товаропассажирский пароход «Эрна» в Уссурийском заливе. Вооруженные с головы до ног пираты вскарабкались на борт парохода из шаланд и приступили к изъятию денег и ценностей у пассажиров, в основной массе состоявшей из китайцев. Один из них попытался оказать сопротивление, надеясь получить помощь и поддержку со стороны других пассажиров, но увы — ни один из пассажиров даже не шелохнулся, храня при этом гробовое молчание. Сопротивлявшийся тотчас получил удар в бок кинжалом и упал на палубу, обливаясь кровью. Опустошив карманы пассажиров «Эрны», как позже установит полиция, на 7 тысяч рублей, хунхузы сели в свои шаланды и скрылись. Правда, один из них замешкался на палубе парохода и был схвачен осмелевшими китайцами-пассажирами. Рассвирепев, пассажиры раздели его донага, стали избивать и жечь тело свечками. Доставленный в полицию в полуживом состоянии незадачливый хунхуз выдал имена пятерых своих подельников»
МИХАИЛ ПАЗИН (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ЗА 1909 ГОД, «ГОЛОС МОСКВЫ» ЗА 1908 ГОД, «АМУРСКИЙ КРАЙ» ЗА 1908 ГОД, «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА» ЗА 1903 ГОД И «РУССКИЙ ИНВАЛИД» ЗА 1903 ГОД.)
Но если уж строить рейтинги бандитизма по национальному признаку, то первенство вполне логично удерживало само русское население, которое исторически формировалось из беглых, ссыльных и солдат. Никто из них не был предрасположен к уважению Закона. Как только власть проявляла слабину – грабежи и разбой захлёстывали город. Впоследствии советские казённые историки сумели перекрасить бандитский беспредел в цвета революционного героизма. Но пресса тех лет содержит куда более правдивые описания.

Чудовищные события 30 октября 1905 года, когда из-за пожаров, начавшихся с «революционных» погромов и грабежей, выгорело половина Владивостока представлены в газете «Дальний Восток» вышедшей на следующий день:
«в 5 ч. пополудни один матрос из‑за забора областного правления бросает камнем через улицу в направлении магазина Эльвангера». Дурной пример оказывается заразительным: «Мастеровой навеселе поднимает камень и швыряет его по направлению окон „Северного ресторана“… Проходящие и стоящие только сторонятся и — ни звука… Ещё несколько человек, увлечённые примером, начинают швырять камни… Наконец, один из камней достигает цели …». Пассивное поведение обывателей и бездействие военных властей спровоцировали волну неконтролируемой агрессии. «Свидетель погрома» красочно описывал, как «со стороны Алеутской приближалась толпа, разграбившая „Одессу“ и прибавившая там винных паров. Толпа небольшая, человек в 30, и не сплочённая… Страсти громил разыгрались вовсю… Треск разбиваемых стёкол раздавался безостановочно …». Вслед за первыми пьяными погромами «начинается второй акт, акт грабежа»

Одна из улиц Владивостока на следующий день после беспорядков
Более подробное описание происходивших в городе грабежей содержится в статье Ильинского «К „Владивостокским дням“» из № 248 «Дальнего Востока» от 23 ноября (6 декабря). Это был ответ на письмо «Свидетеля погрома» из № 242. Автор соглашался с тем, что город грабили солдаты, а патрульные уже отбирали у них награбленное: солдаты громили магазины и выносили добро, «причём товары складывались на землю, а патрульные всё это разбирали и нагружали на себя… Патрульные около Миссионерской улицы (совр. Лазо) останавливали всех нагруженных награбленным и бывших в „вольных“ одеждах и отнимали у них с ругательствами добычу, брали её себе… Не только мирные обыватели города, но и железнодорожная станция со всем персоналом была совершенно беззащитна и находилась во власти пьяных вооружённых солдат, предававшихся грабежу и насилию …»
Другой очевидец в письме в редакцию, напечатанном анонимно «Дальним Востоком» 3 (16) декабря, восклицал: «Люди, под видом отстаивания своей свободы и прав, вооружённые, напали на беззащитный город, предали его разграблению и подожгли его …»
23 ноября (6 декабря) в «Дальнем Востоке» помещено следующее: «Владивостокским крепостным гарнизоном 30 октября с.г. РАЗГРАБЛЕНЫ по Алеутской ул., в д. Пьянкова, фабрика сухих гальв. элементов, электро-механическая и часовая мастерская и магазин инженер-механика Э. Б. Звиргзде …». Далее шёл длинный список похищенных вещей.

В этих событиях есть два поучительных факта.
Первый.
Власть показала себя неспособной управлять религиозно-патриотическими чувствами населения. Фактически грабежи начал гарнизон Владивостокской крепости, т.е. те люди, которые призваны были защищать город. Редакция «Дальнего Востока» получала массу жалоб от запасных нижних чинов на то, что их «без нужды» держат в войсках, и публиковала некоторые из таких писем. 16 (29) ноября солдат, подписавшийся «Артурец», рассказал, как его во Владивостоке не пустили в церковь. «Русский солдат привык к тому, что вход везде и повсюду ему воспрещён, везде увидит подпись, гласящую: „Собакам и нижним чинам вход воспрещён“. Висят они и у городских садов, и у скверов, и в других местах, где мог бы отдохнуть он от своей тяжёлой жизни. Всему он покорялся и всё исполнял, и единственным ему местом был храм Божий… Но и сюда, оказывается, при случае ему вход воспрещён»

Второй.
Тупое «кидалово на бабки»
В № 73 «Владивостока» от 11 (24) декабря вышла передовая статья без названия. «30 октября, — писал автор, — разразился бунт, результаты которого — около 300 сожжённых домов, масса убитых и раненых, изнасилованные, обездоленные и нищие. Миллионные потери, масса горя… Была комиссия, но она, как гоголевская мышь, „пришла, понюхала и ушла“, даже не сказала обездоленным, потрясённым горем жителям полусожжённого города, что она разнюхала. А она должна бы была разнюхать не мало. И приходится теперь, хотя отчасти, самим жителям разнюхивать и соображать, откуда пошёл владивостокский разгром.»
Газета самостоятельно проводила расследование, благо найти факты в небольшом городе, где все всех знают,не составляло труда.
В статье приводились выдержки из Приказа по войскам Приамурского военного округа от 15 апреля (15 октября — в тексте явная опечатка — Прим. В. Л. и Д. А.) 1905 г. за № 380, в котором командующий округом говорил о назначении нижним чинам по 75 коп. в день за «исполнение экстренных работ [строительство укреплений], кои по закону и по особым сметам должны производиться наёмным трудом и оплачиваться особыми отпусками денег от казны». Приказы по Владивостокской крепости рекомендовали разделять деньги «равномерно между частями гарнизона и обращать их на улучшение быта нижних чинов». Между тем каждый нижний чин получил 5 руб. 80 коп. за 150 дней работы, т. е. чуть больше 3,5 коп. в сутки вместо положенных 75 коп.
Иначе говоря, людям заплатили лишь 1/20 часть обещанного.
Было бы странным ждать другой реакции.

Эпического накала революционный разбой достиг в конце 1907-го года, когда нападению подверглись боевые корабли Тихоокеанского флота. В советские времена с трепетом и придыханием рассказывали о подвиге экипажа миноносца «Скорый», якобы поднявшего на борту восстание и красный флаг революции и отважно вступившего в схватку с царскими сатрапами.
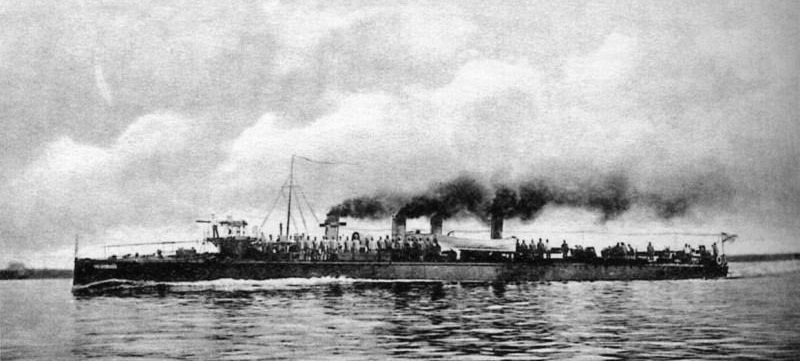
В документах же следствия о тех событиях рассказывается так: «...17 октября около 7 3/4 час. утра в бухте появилась шлюпка с двумя штатскими и женщиной, направляющаяся к группе миноносцев «Скорый», «Сердитый», «Бодрый», «Тревожный», стоявших у стенки строительного порта, с которой, когда она стала подходить к миноносцу «Скорый», спросили, дома ли Пойлов. Командир миноносца «Бодрый» капитан 2-го ранга Курош, заметив попытку пассажиров шлюпки войти в сношение с людьми на миноносцах, приказал отойти. (...) Вскоре после 8 часов утра на миноносец «Скорый» пришел его командир старший лейтенант Штер, на судне не ночевавший, и, отдавая распоряжение, потребовал к себе в каюту минно-артиллерийского содержателя Пойлова и баталера Решетникова, первый из коих почти тотчас вышел наверх и, делая вид, что исполняет полученное приказание, ушел на стенку порта, откуда спустя несколько минут вернулся в командирскую каюту, где сейчас же раздались выстрелы. Когда вслед за описанным Пойлов появился с револьвером в руке наверху миноносца, то шедший за ним снизу баталер Решетников объявил улыбаясь: «Пойлов убил командира».

Так от рук злодея погиб блистательный 29-летний офицер Андрей Петрович Штер, показывавший образцы мужества и отваги в войне с Японией и награжденный несколькими боевыми орденами и золотой саблей с надписью «За храбрость». После этого Яков Пойлов смертельно ранил прибежавшего на выстрел мичмана Юхновича и машинного кондуктора Кочергина. Затем Пойлов, вступив в перестрелку с командиром соседнего миноносца «Бодрый» капитаном 2-го ранга Курошем, убил и его.
Так начался новый кровавый акт «революционного восстания» 16-17 октября 1907 г. во Владивостоке. После убийства офицеров на «Скорый» устремились дожидавшиеся условного сигнала на берегу матросы-бунтовщики с крейсера «Аскольд», Сибирского экипажа и группа рабочих. На «Скорый» также высадились со шлюпки двое мужчин и женщина — руководитель военно-партийной организации РСДРП Мария Масликова . Она тотчас призвала всех к боевым действиям. Здесь надо сказать, что из экипажа «Скорого» на борту оставалось только 9 человек, остальные три десятка матросов бежали с корабля, как только поняли, что затевается мятеж. Так что миноносец, по сути, был захвачен бандитами.
Вслед за «Скорым» взметнулись красные флаги и над миноносцами «Сердитый» и «Тревожный», где часть команды изменила присяге и пошла за революционными поводырями. Но и на этих кораблях большинство членов экипажа разбежались в самом начале мятежа.
«Скорый» пошел вдоль северной части Золотого Рога на выход из бухты, озлобленно паля из орудий куда попало по центральной части города. Между захваченным миноносцем и орудиями крепости началась артиллерийская дуль. В результате которой «Скорый», получивший ряд попаданий, был выброшен мятежниками на берег в районе нынешнего памятника адмиралу Г.Невельскому. На его борту было 10 убитых, в т.ч. «товарищ Масликова» и головорез Пойлов, а также 7 раненых, которых поместили в госпиталь, причем не выставив даже охраны.
Продолжение следует
Использованы материалы:
http://konkurent.ru/article/1479
https://noel-17.livejournal.com/50362.htmlhttps://golos.io/ru--vladivostok/@nkl
|
Метки: штер владивосток |
1915: Первая Мировая Война |
1915: Первая Мировая Война
Оригинал взят у 
22 февраля сего года близ подмосковной Черноголовки проводилась военно-историческая реконструкция, посвящённая событиям зимы 1915 года и, в частности, героической гибели воинов 209 полка Русской императорской армии в «Августовских лесах». Организаторы: ГБУК «Военно-технический музей» и «Гарнизон-А» при поддержке Российского военно-исторического общества.
Желающим выяснить больше об оружии и снаряжении солдат, принимавших участие в сражениях Первой Мировой, рекомендуется пройти по ссылкам:
Брусиловский прорыв
Сентябрьские бои
Апрельские бои
Репортаж Ногинского ТВ с поля сражения.
Некоторые реконструкторы заночевали неподалёку от места проведения мероприятия, так что сборы начались с раннего утра.
Снаряжение кайзеровской пехоты: винтовки в козлах, пикельхельм или пикельхаубе — немецкий кожаный шлем с пикой в защитном матерчатом чехле, барабанные палочки и боевое знамя. Красные цифры «45» на чехле пикельхельма означают, что его владелец реконструирует «45-й восточнопрусский пехотный полк».
Madsen. Датское ружьё-пулемёт конструкции генерала Мадсена. Система, разработанная в 1890 году, с 1900 выпускалась в Копенгагене фирмой «Dansk Rekylrifle Syndikat».
«С началом мировой войны «мадсены» поставили и на вооружение отряда воздушных кораблей «Илья Муромец», где их использовали практически всю войну. На самолётах «Илья Муромец» серии Б на открытой площадке в центроплане ставились шкворневые поворотные установки для «Мадсена», серии В – установки для «Льюиса» (или «Виккерса») и «Мадсена». Именно с «Мадсеном» русский аэроплан «Илья Муромец Киевский» впервые вступил в воздушный бой 19 июля 1915 г.
Гвардии штабс-капитан С.Н. Никольский так описывал бой «Ильи Муромца» №2 в марте 1916 г. над Галицией: «25 марта при полёте к Монастержиско корабль был атакован тремя «фокерами»… Первый «Фокер», нырнувший под корабль, получает в упор обойму из «Мадсена», пущенную Ушаковым, и падает. В это время второй ранит Ушакова и штабс-капитана Фёдорова… Верхний пулемёт заел. Остаётся «Льюис» у Павлика, да Фёдоров, сбросив бомбы в деревню Барыш, стреляет из «Маузера»… Но и «фокеры» уже нерешительны. Павлик подбивает второго. Он садится в поле и разбивается. Третий ходит вне выстрелов и, наконец, отстаёт окончательно».
В кайзеровский лагерь заглянул отбившийся от своих солдат Вермахта.
Фрагменты окопного быта. В центре чрезвычайной полезности устройство для быстрого снимания сапог.
Холостые патроны к ружью-пулемёту. Принято считать, что Madsen стал первым в истории серийным ручным пулемётом. Был принят на вооружение в Бразилии, Болгарии, Китае, Дании, Мексике, Уругвае, Норвегии, Эстонии, Финляндии. Воевал в годы Великой Отечественной войны и на стороне РККА и за немцев.
Ещё одна встреча солдат разных поколений. СС-овец вооружён трофейным советским пистолетом-пулемётом ППШ-41 и немецким пистолетом «Люгер» Р-08.
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки…
Построение личного состава прусского пехотного полка.
Осмотр внешнего вида командиром, инструктаж, замечания.
Разгрузка артиллерийских орудий.
Импровизированный «город», именно его предстоит оборонять объединённым силам Германии, Австро-Венгрии и их союзников.
Выгрузка ящиков с артиллерийскими зарядами.
Немецкий пехотинец охраняет орудие. Вооружён штыком и немецким самозарядным пистолетом Маузер К96 в жесткой кобуре-прикладе.
Известный в реконструкторских кругах человек — Борис Бурба. Командир военно-исторического клуба и просто кладезь военно-исторических знаний и умений. Вооружён, кроме острого ума и природной ловкости, сами видите чем :).
На поясе закреплён подвес для полкового барабана.
Anton Brummen, рядовой прусской пехоты. Типовое фото на орудийном лафете.
Он же, но в тёплое время года.
Скачать видео
Дульнозарядная пушка собрана из исторически достоверных композитных материалов: металла, дерева, пластика. После закладывания в ствол пушки предварительно подожжённой петарды должно пройти некоторое время, спустя которое из ствола вырываются яркая вспышка, дым и грохот. Зрителям очень нравится такой немудрёный спецэффект. Во время одного из прошлых мероприятий пушку подобной конструкции разорвало во время выстрела, деревянный ствол красиво разметало окрест. Благодаря соблюдению ТБ (заряди пушку, укройся за щитом, молись!), обошлось без жертв, зрители же просто выли от восторга.
Проводится разъяснительная работа среди личного состава.
В форме русского офицера со стеком в руке — Андрей Малов, ведущий мероприятия, военный историк и реконструктор. Именно его пояснения часто разносятся из громкоговорителей над полем боя.
Офицерский стек — необходимый атрибут джентльмена и офицера многих армий. Изначально был создан для управления лошадью — как аналог русской плети-нагайки, но на жестко-гибкой основе (китовый ус, бамбук), оплетенной кожей. Европейская традиция выездки с помощью стека сохраняется до сих пор в конном спорте.
Грузовой автомобиль марки Ford на службе в Русской Императорской армии.
Последнее построение перед выходом на поле.
На предмет исторически достоверного и одновременно редкого оружия и снаряжения пока что равных питерцам не встречал. Вот и сейчас: распознаете, что за оружие висит на плече у офицера?
Слева-направо: австриец, босниец и коварные швейцарские солдаты, осмелившиеся нарушить нейтралитет.
Русская кавалерия. Ведётся обсуждение деталей будущей атаки.
Штыки примкнуть! Во избежание травматизма во время рукопашных используются штыки из алюминия.
Кайзеровская пехота под развёрнутым знаменем и с барабанным боем строится перед зрителями.
Православный молебен. На голове у офицера (на заднем плане) уставные офицерские наушники, позволяющие немного согреться в морозы.
На переднем плане отлично виден штык-нож образца 1898/1905 года к винтовке системы Маузера образца 1898 года. Так называемый «бутчер» или «бутчмессер», с пилой на обухе клинка. Такой сапёрный штык нередко выдавался пехотным унтер-офицерам. Штык заслужил тяжкую славу, как оружие бесчеловечное, наносящее в ближнем бою страшные раны. На фоне всего остального это, конечно, пустяки, но доходило до того, что владельцы во фронтовых условиях старались пилу с обуха сточить. А в начале 1918 года вышли приказы Баварского и Прусского военных министерств об удалении пил с обухов клинков во всех фронтовых частях. В приказе подчеркивалось, что от этого штык не утратит своих боевых качеств.
Именно об этих штыках пишет Эрих Мария Ремарк в своём романе «На Западном фронте без перемен»: «Весь день мы соревнуемся в стрельбе по крысам и слоняемся как неприкаянные. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат. Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших попадется на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем участке были обнаружены трупы наших солдат, которых недосчитались после боя; им отрезали этой пилой уши и выкололи глаза. Затем им набили опилками рот и нос, так что они задохнулись. У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца; эти штыки мы у них отбираем и достаем для них другие».
Домик, отведённый под полевой лазарет.
За другим домиком спрятались пиротехники со своим оборудованием.
Мужчина в сапогах, шинели, башлыке, фуражке и с винтовкой — Тимур Черепнин, прибывший проверить законность нахождения фотографов на поле сражения. За фотографов, кстати говоря, взялись всерьёз, устраивают дисциплинарные гонения и закручивают гайки без пощады, что, в общем-то, верно и давно надо было. Особенно применительно к гражданским канонистам :).
Муляж военнослужащего человека. Будет своевременно подорван пиротехниками и красиво взлетит над окружающей местностью в клубах дыма и языках пламени.
Австрийский горный егерь. В смысле, есть основания так полагать. Слово 
Довольно редкая для реконструкторских мероприятий униформа. По краям кадра капрал и рядовой 4-го боснийско-герцеговинского императорского королевского полка, боснийского национального подразделения сухопутной армии Австро-Венгрии, в котором поначалу несли службу только славяне-мусульмане (известные больше как боснийцы или бошняки). Вот что о них пишет Дмитрий Адаменко в своей книге «Императорский и королевский военный мундир 1914»: «Учитывая особый статус «оккупированных территорий Боснии и Герцеговины», набор местных жителей в вооруженные силы осуществлялся в отдельные подразделения общей армии, имевшие собственные наименования, нумерацию и, даже, обмундирование. С 1885 года проводился набор в 12 батальонов боснийской пехоты. Императорским декретом 1 января 1894 году батальоны были сведены в 4 пехотных полка, штаты которых, как в мирное время, так и в военное, были эквивалентны пехотным полкам общей армии. В первых трех полках было по четыре батальона, а в четвертом – только три.
Покорение Боснии и Герцеговины далось для дунайской монархии тяжело. Нередко оккупированные провинции взрывались мелкими и крупными восстаниями. Но, в конце концов, Вене удалось сделать почти невозможное – население бывших турецких владений стало фанатично предано Францу Иосифу и на полях сражений Первой Мировой войны боснийские солдаты проявляли чудеса выдержки и самоотверженности. Перед войной, во многом благодаря яркому и необычному обмундированию, боснийские пехотные полки были расквартированы в крупнейших городах Австро-Венгрии: Вене, Граце, Будапеште и Триесте, как бы являясь зримым доказательством единения вокруг престола многих народов габсбургской монархии».
Боснийско-герцеговинская пехота в Вене.
В отличие от других подразделений, боснийские пехотинцы обладали рядом привилегий, в том числе имели уникальную униформу, а их подразделения нумеровались по особому порядку. По состоянию на август 1914 года в составе пехоты было четыре пехотных полка и фельдъегерский батальон. Одеты в форму цвета «фельдграу», введённую для них с 1915 года. На феске боснийца-рядового знаки штурмового подразделения: череп со скрещёнными ручной гранатой и траншейной дубинкой и ручная граната. Такого рода знаки были довольно распространёнными в армии Австро-Венгрии и назывались Kappenabzeichen.
Полковой знак 4-го боснийско-герцеговинского полка
На феске капрала знаки содружества с Германией. Как сообщают люди знающие, знаки на феске боснийца могут быть не только полковыми, армейскими и корпусными, но и патриотическими (похоже, что на фото крайний правый знак с профилями Франца Иосифа и Вильгельма II).
На груди у рядового медаль последнего императора Австро-Венгрии Карла (пришедшего на смену почившему Францу-Иосифу) под названием Karl-Truppenkreuz или «Войсковой крест императора Карла». Форма награды повторяла так называемый «Пушечный крест для военнослужащих», учрежденный императором Францом I в 1814 году для награждения всех военных, принимавших участие в кампаниях 1813–1814 годов против Наполеона (название свое крест получил из-за того, что изготавливался из бронзы трофейных орудий).
Таким образом новоучрежденная Карлом I награда должна была символизировать преемственность военных традиций и победоносность империи, несмотря на все невзгоды. Сохранив форму и некоторые элементы рисунка, Karl-Truppenkreuz изготавливался уже не из бронзы, как «пушечный», а из цинка. Награда была учреждена 13 декабря 1916 года для награждения всех военных без различия звания, пребывавших более трёх месяцев во фронтовых частях и подразделениях ниже бригады. Одна из самых массовых медалей Австро-Венгрии для военнослужащих.
Военнослужащие нейтральной Швейцарии. В первый раз видел таких «нейтралов». Их головной убор называется словом «шако», в швейцарской армии ведены в 1898 году. Из символики, хорошо различимой на «шако», можно выяснить немало о владельце головного убора: в левой таблице список кокард по принадлежности к швейцарским кантонам и пр. В правой таблице всё о цветах помпонов. Номер на «шако» — принадлежность к батальону. Перекрещенные ружья — принадлежность к фузилёрному или карабинерскому батальону (фр. fusiliers — стрелок из ружья). Возможен вариант, что ружья на эмблеме указывают на принадлежность к нижним чина. Если кто-то может дополнить или уточнить приведённую информацию — вэлкам!
Швейцарские фузилёры.
Показались русские солдаты.
Атака русской армии на учебный полигон немцев, где те были заняты стрелковыми упражнениями.
Немцы укрылись за городскими постройками и вступили в перестрелку.
Немецкая артиллерия открыла ураганный огонь.
Во второй линии наступающих видны пулемётный расчёт и дальномерщик с оптическим дальномером.
Полевой лазарет немцев заволокло дымом.
Командир немцев даёт свистком команду контратаковать русских превосходящими силами при поддержке артиллерии.
Русские отчаянно наступают.
Ряды русской пехоты и кавалерии редеют, отступать уже почти некому, много убитых.
Товарищи выводят из боя контуженного солдата.
Последний из русских пехотинцев. Над ним завис кайзеровский БПЛА оперативного видеонаблюдения.
А вот и долгожданный немецкий бронеавтомобиль.
С самого утра среди участников и гостей военно-исторического праздника циркулировали разные слухи о нём. Говорили, что где-то на пути из Питера в Москву, инспектора ГИБДД остановили эвакуатор, перевозящий серого стального монстра. После осмотра и цоканья языками кому-то из сотрудников полиции пришло в голову проверить документы на эвакуатор, который, понятно, значился в угоне. Значился он на самом деле или нет — понятия не имею, слухи такие были. В общем говоря, пока разбирались что к чему и мчали в столицу — Первая Мировая близ Черноголовки уже закончилась.
Собравшиеся с интересом наблюдали за скатыванием немецкого бронеавтомобиля с платформы. Само собой к нему прилепилось прозвание «тягнибок». Похож!
Понятно, при виде броневика примерно 90% мужского контингента шутило шутку про лендлиз для Майдана.
В общем и целом, походив среди гостей мероприятия, понял, что людей, хоть сколько-нибудь разбирающихся в истории Первой Мировой исчезающе мало. Даже на уровне «пап, а это кто — немцы или американцы»? Немцев, кстати, смело зачисляли в русские, «потому что у них красный номер». И это в год такого значимого для отечественной военной истории события.
С утра было немного солнца, но весь дальнейший день ознаменовался лютой стужей при повышенной влажности. Подтверждением тому служит германский часовой популярного к вечеру цвета «баклажан».
В следующей части февральской военно-исторической саги речь пойдёт о реконструкции эпизода Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции РККА, в ходе которой, в 1944 году запечатлённые на фото солдаты СС будут показательно разбиты Красной Армией.
|
Метки: первая мировая война |
Под Красным Крестом милосердия |
Военная история
Под Красным Крестом милосердия
Подвиг белорусских женщин в годы Первой мировой войны
Историки по-разному называют эту войну: величественно и вдохновенно - Великая и Вторая Отечественная - в те годы, когда она продолжалась, уничижительно-импералистическая в 1920-1930-е годы, а затем нейтрально-Первая мировая, и в наши дни совершенно справедливо-забытая.
Сегодня она стала далекой историей и отделена от нас жизнью нескольких поколений.
А еще - тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю белорусского народа в последующие исторические периоды. 0 ее главных героях также вспоминали нечасто. И все же безымянной славы не бывает. Пришло время рассказывать о незаслуженно забытых и в большинстве своем неизвестных героях Первой мировой войны, в том числе о самоотверженных женщинах - сестрах милосердия военного времени.
Институт сестер милосердия сложился задолго до Первой мировой войны. В Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской губерниях успешно функционировали общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста (РОКК) - благотворительные женские организации для подготовки квалифицированного медицинского персонала по уходу за больными и ранеными воинами [1, с. 51]. Цели и задачи у них были схожи, а деятельность базировалась на предыдущем опыте работы, полученном в годы Крымской (1853-1856), Русско-турецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн. РОКК были присвоены белый флаг и нарукавная повязка с красным крестом, установленные Женевской конвенцией.
По мобилизационному плану, разработанному и утвержденному перед Первой мировой войной, РОКК должно было снарядить и отправить на фронт 48 госпиталей по 200 коек, 37 этапных и 33 подвижных лазарета по 50 коек, а также 10 передовых отрядов. Все госпитали и лазареты должны были находиться в готовности увеличить объем оказываемой медицинской помощи в 2 раза.
Уже первые залпы сражений 1914 года показали, что война не будет сопровождаться исключительно победами и быстрым разгромом противника. Появились тысячи жертв: убитые, умершие от ран, раненые и искалеченные, отравленные удушливыми газами. Число боевых и небоевых потерь с обеих сторон увеличивалось стремительно. В этих условиях значительно возросла роль организаций Красного Креста, деятельность которых вышла далеко за рамки запланированных мобилизационным планом мероприятий.
Предвоенная недооценка масштабов будущей войны и возможных потерь привели к тому, что с первых же дней военного противостояния у российской армии возник ряд проблем, которые пришлось решать в обстановке, осложненной активными боевыми действиями. Огромный поток больных и раненых, эвакуируемых с фронта, заставлял разворачивать все новые и новые передовые перевязочные отряды и пункты, специализированные подвижные отряды, противоэпидемические, подвижные лечебные, санитарно-транспортные и эвакуационные учреждения. Многие из них стали создаваться на средства частных лиц и различных организаций. Все это соответственно потребовало и привлечения значительного числа квалифицированных медицинских кадров. Дополнительно к находившимся в войсках 3575 врачам в период мобилизации в армию было призвано 6348 врачей запаса и 2754 врача ополчения старше 45 лет. К состоявшим на действительной службе 9600 фельдшерам прибавились 16 тыс. запасных фельдшеров. В действующей армии и ее лечебных учреждениях трудились около 25 тыс. сестер милосердия [2, с. 124].
Мода на форму
Поддержанный активной пропагандой скромный образ сестры милосердия, по сути, стал символом патриотической мобилизации женщин всех возрастов и сословий.
Патриотическая открытка 1915 г.
Художник К.Маковский
Затяжной характер войны требовал привлечения все новых и новых сил. В сложившихся обстоятельствах власти пошли по пути широкого использования в пропагандистских целях позитивного образа сестры милосердия. Так газета « Северо-Западный голос» писала в те дни : «Какое широкое поприще открывается всем тем, кто хотел бы так или иначе облегчить воинам бедствия войны, страдания и ужасы. Война создала самоотверженнейший прекраснейший тип сестры милосердия. Русская жизнь, поистине, может гордиться этим светлым образом. Начиная с севастопольской кампании, во все войны русская сестра милосердия, по справедливости, была тем ангелом-хранителем, которого небо посылало страданию для его ослабления, для его утешения» (2 с 124). К чести наших женщин, многие из них откликнулись на призыв властей стать в ряды «белых ангелов». Именно так – ласково и трогательно – стали называть своих спасительниц раненые солдаты и офицеры.
Пресса воспевала героизм «белых ангелов-, спасавших раненых на поле боя. Форма сестер внушала современникам искреннее уважение, а идеализированный портрет - стремление подражать. Появились даже соответствующие детские костюмы с красным крестом, в которых маленькие девочки с удовольствием выступали перед ранеными в госпиталях, участвовали в различных благотворительных акциях и проводах отцов на фронт.
Главным в комплекте форменной одежды считалось коричневое или серое шерстяное платье, поверх которого надевался белый фартук с обязательным красным крестом. Голова покрывалась широким платком (косынкой). Именно такой образ сестры милосердия наиболее часто встречается на пожелтевших от времени старинных фотографиях и открытках.
В военное время при командировании на фронт дополнительно выдавалась кожаная куртка и тёплое ватное пальто. Медицинский персонал РОКК обязан был также носить на левой руке белую нарукавную повязку с эмблемой Красного Креста и личным номером , который указывался в удостоверении сестры милосердия. При сопровождении раненых на улице такая повязка надевалась на верхнюю одежду. Это должно было отличать «белых ангелов» от ветреных современниц, нередко специально облачавшихся в ставшую модной сестринскую форму.
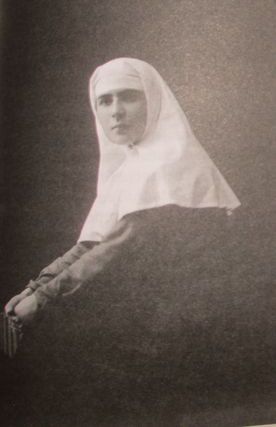
Сестра милосердия 1916 г. Минск Сестра милосердия гродненской общины 1915 г.
Уподобление образу «милосердной сестры» дам, не имевших на это права, встречалось нередко. В качестве иллюстрации приведем характерную заметку из «Вестника РОКК»: «В расчете на людскую доверчивость, многие легкомысленные создания начали наряжаться в форму сестер милосердия и в таком виде, профанируя святое дело помощи страждущим, ищут по улицам приключений. <... > На самом деле, настоящих сестер милосердия, не самозванок, редко можно встретить на улицах, так как они заняты всегда своим высокогуманным делом. <... > На днях местной полицией были выслежены и арестованы две такие особы, выдающие себя за сестер милосердия. Обе они оказались известными магазинными воровками» [3, с. 917].

Из-за подобных случаев самим сестрам милосердия было запрещено посещать в краснокрестной форме любые общественные заведения и увеселительные места, прогуливаться по улицам города после дежурств. Соответствующие выводы сделала и официальная пропаганда. На страницах иллюстрированных журналов стали появляться репортажи, сопровождавшиеся уже не отвлеченными образами «белых ангелов», терпеливо совершавших свой ежедневный святой подвиг, а фотоснимками
Сестёр милосердия, облачённых в тёмные косынки и кожаные куртки, привыкших к опасностям и трудностям боевой обстановки, готовых выполнить свои обязанности на театре военных действий.
Храбрейшие из прекрасных
Как свидетельствуют сохранившиеся архивные документы, работа краснокрестных организаций на фронтах была сопряжена с огромным риском для жизни и здоровья медперсонала. Беззащитные госпитали, лазареты, санитарные поезда, передовые отряды, питательные и перевязочные пункты нередко обстреливались вражеской артиллерией и авиацией, несмотря на то, что установленные на них белые флаги и опознавательные знаки с красными крестами были видны со всех сторон. В боях и походах погибли и умерли от инфекционных болезней несколько десятков сестёр милосердия. Многие получили ранения и контузии.
Сестра милосердия в окружении выписавшихся из госпиталя офицеров. 1915 г. Гродно
Одна из таких жертв - сестра милосердия Дворянского военно-санитарного полевого поезда № 151 Любовь Константинова (1895 -15.03.1917). Дочь полковника и уроженка Витебска, она скончалась от сыпного тифа, заразившись во время ухода за ранеными. С воинскими почестями 22-летняя девушка погребена на Братском кладбище в Москве.
Трагический пример гибели и ранения медперсонала одного из подвижных лазаретов на Западном фронте мы находим в приказе войскам 2-й армии от 2 февраля 1917 года № 1175: «Во время налета неприятельской эскадрильи на ст. Синявка 31 июля 1916 года, оказывали помощь раненым, причем осколками одной из 46 бомб, разорвавшейся около палатки лазарета, убиты сестры милосердия РАУЭР, ЧАГИНА и ТЮТЮКОВА, сестра КОНЮХОВА тяжело ранена и сестра ИВАНОВА легко ранена и контужены сестры милосердия ПОРОХОВА и СЕРЕБРЯКОВА» [5,С, л. 104 -104 об.]. Все эти бесстрашные женщины за свой подвиг на земле Минщины согласно п. 7 ст. 145 Георгиевского Статута были награждены Георгиевскими медалями 2-й (О.А. Конюхова), 3-й (О.В. Рауэр, Л.Н. Порохова, О.В. Серебрякова, В.И. Иванова) и 4-й (И.В. Чагина, О.В. Тютюкова) степеней.
Награждение сестер милосердия столь высокими боевыми наградами неслучайно. В тексте разработанного накануне войны Георгиевского Статута говорилось буквально следующее: «Достоин награждения Георгиевской медалью в военное время тот, кто <... > находясь в течение всего боя в боевой линии, под сильным и действительным огнем, проявляя необыкновенное самоотвержение, будет оказывать помощь раненым или, в обстановке чрезвычайной трудности , вынесет раненого или убитого [6, с. 95]. На обратной стороне этой награды, изготавливаемой из золота (1-я и 2-я степени) и серебра (3-я и 4-я степени) была нанесена красноречивая надпись «За храбрость».
Санитарки военного времени. 1915 г. Витебск
Среди лиц медперсонала, удостоенных Георгиевской медали 3-й и 4-й степеней следует указать и отважных сестёр милосердия Гродненского подвижного лазарета РОКК : Веру Самохину, Ариадну Черненко, Марию Мухину, Марию Пыхачеву, Елизавету Плакунову, Анну Будину, Елену Дворжицкую, Зою Писареву, Анну Уссаковскую и Наталью Миронову. Свои боевые награды они получили из рук великого князя Георгия Михайловича в районе г. Лиды 3 сентября 1915 года (7, л. 1-3).
Сестры милосердия. 1915 г. Минск
Обращает на себя внимание история сестры милосердия Минской общины Н.М.Бортник. Приказом по армиям Юго-Западного фронта от 2 октября 1915 года № 1323 её наградили Георгиевской медалью 4-й степени № 248478 «перевязку раненых под обстрелом неприятельской артиллерии вблизи станции Тарнов». Кроме того , приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерала адъютанта принца А. Ольденбургского от 1 деабря 1916 года № 293 Надежда Михайловна была отмечена Георгиевской медалью 3-й степени № 142926 «за самоотверженную помощь раненым.
С опасностью для собственной жизни, при обстреле 15 апреля 1915 года ст. Ясло Галицийских железных дорог бомбами неприятельских аэропланов» (8, л. 327-328).
Под стать ей были и другие "белые ангелы». Такие, например, как сестра милосердия Минской общины Елизавета Антоновна Кречетович, которую наградили Георгиевской медалью 4-й степени № 738410 «за самоотверженность и мужество, проявленное при оказании помощи раненым воинам во время бросания бомб с неприятельских аэропланов на ст. Молодечно» (9).
В составе передового отряда имени Русского учительства РОКК отличилась сестра милосердия Витебской общины Ванда Вацлавовна Федорович, удостоенная Георгиевской медали 4-й степени №552510 за то, что «во время арьергардных боёв у дер. Воля-Ласкаржевская оказывала помощь раненым, под действительным артиллерийским огнем, проявив при этом мужество и самоотвержение» [10].
В рядах сестер милосердия с лучшей стороны показали себя и представительницы известных княжеских родов. В частности, сестра милосердия Минской общины Красного Креста княгиня Доротея Эдуардовна Радзивилл и сестра милосердия лазарета Красного Креста «Радзивилл» княгиня Роза Георгиевна Святополк-Четвертинская. Обе были награждены Георгиевской медалью 4-й степени за то, что «17 сентября1915 года под действительным артиллерийским огнем, с выдающимся самоотвержением, оказывали помощь раненым» [11].
Приказом по армиям Юго-Западного фронта за № 23 Георгиевской медалью 4-й степени были отмечены сестры милосердия Брест-Литовского сводного военного госпиталя Елизавета Кузнецова, Надежда Филипченко и Мария Лапшина, а также сестры милосердия Брест-Литовского крепостного временного № 9 госпиталя Анеля Жилинская и Евдокия Владимирова «за проявленное мужество и доблестное, самоотверженное поведение во время бывшего 5-го ноября 1914 года в Брест-Литовске по-жара и взрыва артиллерийских снарядов» 5 [3, с. 797].
Еще один яркий пример бесстрашия и жертвенности на театре военных действий — работа по спасению раненых сестер милосердия Минской общины Анны и Марины Мысливчик. Родные сестры отличились в составе 7-го головного эвакуационного пункта Юго-Западного фронта в апреле 1915 года. В частности, приказом Верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерал-адъютанта принца А. Оренбургского от 1 декабря 1916 года № 293 Анна Андреевна Мысливчик была награждена Георгиевской медалью 4-й степени № 88274 «за самоотверженную, с опасностью для жизни, помощь раненым во время обстрела 16 апреля 1915 года ст. Ясло Галицийских железных дорог бомбами с неприятельских аэропланов» [8, л. 327-328 об.]. МаринаАндреевна Мысливчик тем же приказом была удостоена Георгиевской медали 4-й степени № 88275 за то, что, «несмотря на полученную рану, продолжала с полным самоотвержением оказывать помощь раненым» [8, л. 327-328 об.].
Героические действия «белых ангелов» служили примером и для других женщин. Георгиевской медалью 4-й степени № 655443 была награждена работавшая на питательном пункте Всероссийского земского союза на ст. Поставы Софья Щелкан за то, что «во время обстрела тяжелой артиллерией 15 января 1916 года ст. Поставы, под действительным огнем, проявляя необыкновенное самоотвержение, делала перевязки тяжело раненым чинам и способствовала выносу их из сферы огня» [7, л. 1-3].
Такой же медалью 4-й степени № 655444 была отмечена учительница Поставской школы Александра Герасимова за то, что «во время атаки м. Поставы в ночь с 17 на 18-е сентября 1915 года, под сильным огнем противника, когда еще перевязочный пункт полка не успел прийти, оказывала помощь раненым» [7, л. 1-3].Георгиевская медаль 4-й степени № 65545 стала заслуженной наградой для крестьянки дер. Пасынки Вилейского уезда, жены фельдшера 15-й роты лейб-гвардии Кексгольмского полка Паулины Савук за то, что, «проживая в занятом противником м. Кобыльники, укрывала в течение двух дней трех нижних чинов, бежавших из германского плена и просивших ее провести через германские позиции до расположения наших войск, что было сопряжено с большой опасностью, так как в дер. Кобыльники был расположен германский штаб дивизии. Тем не менее, 19-го января 1916 года, поздно вечером, она вывела этих нижних чинов из дер. И с опасностью для жизни тайно провела всех трех нижних чинов мимо германских войск и вместе бежала к нашим окопам» [7, л. 1-3].
Приведенные примеры далеко не единичны. В годы Первой мировой тысячи женщин на фронте и в тылу выполняли свой духовный и патриотический долг, спасая и опекая раненых воинов. Их героизм и жертвенность являются наглядным примером истинной любви и бескорыстного служения своему Отечеству для всех последующих поколений. С огромным удовольствием отмечаешь, что наших женщин отличали лучшие и высшие человеческие качества - величие души и милосердие, стремление помочь страждущим и защитить родную землю. Не случайно по окончании Первой мировой войны царское правительство намеревалось издать «Золотую книгу» с фамилиями всех сестер милосердия военного времени.
К сожалению, приходится констатировать, что на белорусской земле все ещё нет достойного памятника сестрам милосердия ни Первой мировой, ни Великой Отечественной войн. По нашему глубокому убеждению, в стране, испытавшей ужасы двух мировых пожарищ, такие знаки народной памяти должны существовать. Конкретные шаги в этом направлении могли бы стать достойным увековечением памяти поистине героических женщин.

Автор А. Самович
Литература:
1.Помалейко, О.Л. Женские организации в Беларуси на рубеже веков (конец XIX - начало XX в) / ОЛ. Помалейко; науч. ред. И.Р. Чикалова. - Минск: Тесей, 2012. -128 с.
2. Великая война 1914-1918: кинофотохроника: в 2 т. / Федеральная арх. агентство, Россий ский гос. архив кинофотодокументов; [авт.-сост. Е.Е. Колоскова и др.]. - СПб: Лики России, 2014.-Т. 1.-527 с.
3.Вестник РОКК. -1915. - № 3.
4.Фармборо, Ф. Первая мировая война. Дневники с фронта / Ф. Фармборо. - М.: Олма Медиа Групп, 2014.-400 с.
5.Российский государственный военно-исторический архив (далее - РГВИА). - Фонд 2110.-Оп.2.-Д.147.
6.Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. Биобиблиографический справочник/Отв. сост. В.М. Шабанов. - М.: Русский мир, 2004. - 928 с.
7.РГВИА. - Фонд 970. - Оп. 3. - Д. 2156.
8.РГВИА. - Фонд 16093. - Оп. 2. - Д. 3496.
9.Приказ Главнокомандующего армиями Западного фронта. 7 июля 1916 г. - № 4067.
10.Приказ войскам 2-й армии Западного фронта. 23 октября 1915 г. - № 685.
11.Приказ войскам 2-й армии Западного фронта. 6 апреля 1916 г. - № 315http://rubon-belarus.com/military-history/1ww/podkrasnymkrestom.html
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Приложение № 2 к Летописи Братского военного кладбища героев Первой мировой войны. |
Приложение № 2 к Летописи Братского военного кладбища героев Первой мировой войны.

L.A.
.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Приложение № 1 к Летописи Братского кладбища смотреть здесь: ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКА на материал.
"Летопись Всероссийского военного Братского кладбища героев Первой мировой войны" читать здесь: ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКА на материал.

Современная план-карта территории парка по Новопесчаной улице, владение 12, составленный в 1998 году.
Данная современная план-карта перевернута специально, так как другая историческая карта Братского кладбища (с обозначенными захоронениями) выполнена в таком же ракурсе.
Поэтому мы перевернули современную план-карту, с целью придать ей точно такой же ракурс, чтобы было легче изучать и ориентироваться в обеих картах - современной и старинной.
Обратим внимание на Центральную аллею, обозначенную на данной карте с ТРЕМЯ большими круглыми клумбами.
Обратим внимание на ПЕРВУЮ клумбу (справа).
Именно близ нее (в нескольких метрах) находится сохранившийся гранитный памятник над могилой С.А. Шлихтера.
На ТРЕТЬЕЙ крайней круглой клумбе (слева) в 1998 г. был воздвигнут памятный ОБЕЛИСК (из белого камня) двухглавым орлом, обозначенный № 11.
Под № 13 на карте обозначена часовня «Преображения Господня», также построенная в 1998 г.
Под № 1 обозначен кинотеатр «Ленинград».
Это нужно знать для ориентировки.
САМОЕ ВАЖНОЕ то, что на данную современную карту нанесен план аллей обозначенных на исторических картах Всероссийского военного Братского кладбища героев Первой Мировой войны, опубликованных в 1915-1917 годах.

Более полный фрагмент исторической Карты Всероссийского военного Братского кладбища героев Первой Мировой войны, на которой цифрами обозначены воинские захоронения.
Для лучшей ориентировки КРАСНЫМИ БУКВАМИ и СТРЕЛКАМИ мы обозначили Центральную аллею Братского кладбища.
Направление стрелок задано справа налево.
Это если идти по Центральной аллее от цветочной клумбы (в нескольких метрах от которой находится могила С.А. Шлихтера) в сторону Белокаменного обелиска с двухглавым орлом и Преображенской часовни.
На участке «ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ» (справа в нижнем углу) КРАСНЫМ КРУЖОЧКОМ обведено захоронение под № 13.
Это могила Сергея Александровича Шлихтера с гранитным памятником.
Это единственный сохранившийся памятник на Братском кладбище, который чудом избежал уничтожения в советское время.
Благодаря этому памятнику над погребением С.А. Шлихтера можно с большой точностью установить, где находились другие захоронения героев Первой Мировой войны.
Что особенно важно, на карте обозначены «АЛЛЕЯ ЛЕТЧИКОВ» и «ПРОЕЗД К ОКТЯБРЬСКИМ ЛАГЕРЯМ».
В советское время на этом месте был проложен Песчаный проезд, транспортная часть которого проходит прямо по бывшему проезду к Октябрьским лагерям.
Это также очень важно для ориентировки.

Вот увеличенный фрагмент участка «Общественных деятелей», на котором цифрами обозначены захоронения.
Напомним о том, что борцам за возрождение Братского кладбища Вадиму фон Каульбарсу и ветерану ВОВ Юрию Ульянину (в 2010 году оба скоропостижно скончались - ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКА на материал) удалось в 2008-2009 годах найти и получить в архиве Музея имени А.В. Щусева и Мосгорархиве приложение к этой исторической карте.
В данном ПРИЛОЖЕНИИ содержится СПИСОК из более ТРЕХСОТ фамилий погребенных.
Причем у каждой фамилии стоит порядковый номер погребения, который нанесен на указанную карту с обозначенными захоронениями.

А вот фрагмент современной план карты, где находится этот участок «Общественных деятелей».
Мы начнем публикацию фамилий и установленных биографических данных героев нашего Отечества, чьи захоронения обозначены на Карте, с участка «Общественных деятелей».
Так читателям будет легче ориентироваться и осмыcлить уникальнейший материал.
Порядковые номера захоронений с пофамильным списком погребенных на участке «Общественных деятелей», где находится сохранившееся надгробие над могилой Сергея Александровича Шлихтера, на территории Всероссийского военного Братского кладбища героев Первой Мировой войны 1914-1918 годов:
№ 1 – Кочаровская Л.;
№ 2 – Софонцева М.Г.;
№ 3 – Рауэр О.В. – читать Приложение № 1;
№ 4 – Александрова Л.В.;
№ 5 – Тютюкова О.В.;
№ 6 – Шишмарева О.В. – читать Приложение № 1;
№ 7 – Окунева Н.И.;
№ 8 – Розонова М.М.;
№ 9 – Кузина М.С.;
№ 10 – Шарыгин;
№ 11 – Мыльников Н.С.;
№ 12 – Томашевич В.С.;
№ 13 – Шлихтер С.А. – читать Приложение № 1;
№ 14 – Боцановский Л.К.;
№ 15 – Плавит М.Я.;
№ 16 – Яковлев Ю.А.;
№ 17 – Неизвестное захоронение;
№ 18 – Неизвестное захоронение;
№ 19 – Макеев Я.С.;
№ 20 – Левинсон А.Л.;
№ 21 – Мильтонов Т.К.;
№ 22 – Вруцевич М.А.;
№ 23 – Федоров В.П.;
№ 24 – Фамилия в списке написана неразборчиво. По видимому Тер-Микаелиняц;
№ 25 – Царев О.М.;
№ 26 – Бочков К.Ф.;
№ 27 – Царева Нина;
№ 28 – Семенова В.Н. – читать Приложение № 1;
№ 29 – Воскресенский А.Г.;
№ 30 – Шелягина М.Д. – читать Приложение № 1;
№ 31 – Фамилия в списке написана неразборчиво. По видимому Млодова-Машина;
№ 32 – Фаидаев В.Д.;
№ 33 – Неизвестное захоронение;
№ 34 – Рагинский;
№ 35 – Богомолов А.М.;
№ 36 – Розин Д.И.;
№ 37 – Абрамов Я.О.;
№ 38 – Неизвестное захоронение;
№ 39 – Неизвестное захоронение;
№ 40 – Протопопов К.П.;
№ 41 – Угрюмов А.В.;
№ 42 – Сахаров Н.С.;
№ 43 – Сорохтин А.П.;
№ 44 – Ширинский;
№ 45 – Константинова Л.П.;
№ 46 – Боброва Е.С.;
№ 47 – Вайс;
№ 47(а) – Вайс;
№ 48 – Соколов Т.А.;
№ 49 – Карапетов;
№ 49(а) – Две неизвестные могилы;
№ 50 – Майоранова А.Ф.
Покойным Вадиму фон Каульбарсу и ветерану ВОВ, участнику обороны Москвы Юрию Алексеевичу Ульянину в 2009 году удалось достать ксерокопию книги «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ. Опыт биографического словаря».
Эта уникальнейшая книга была издана Государственной публичной исторической библиотекой в 1992 году в Москве.
Составители: И.М. Алабин, А.С. Дибров, В.Д. Судрабский.
Редактор: В.З. Григорьева.
Научный консультант: кандидат исторических наук Л.В. Беловинский.
Тираж книги всего 500 экземпляров.
Благодаря этому уникальному изданию удалось установить БИОГРАФИИ некоторых героев Первой Мировой войны, погребенных на территории Братского кладбища, в том числе на участке «Общественных деятелей».
Вот их имена, фамилии и биографические данные.
Захоронение № 4 – участок «Общественных деятелей».
АЛЕКСАНДРОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА – сестра милосердия.
Дочь полковника и сестра адьютанта Александровского военного училища капитана М.В. Александрова.
Образование получила в гимназии города Саратова.
Во время Русско-японской войны прослушала курсы для сестер милосердия военного времени в Александровской общине сестер милосердия Российского общества «Красного Креста» при Комитете «Христианская помощь» и нмедленно уехала на фронт, где пробыла около года.
Была награждена серебряной и золотой медалями на Аннинской ленте «За усердие».
С начала Первой мировой войны состояла сестрой милосердия при госпитале в Петровском дворце.
24 февраля 1916 года поступила в Земский союз и выехала на фронт с летучкой врачебно-питательного передового отряда Всероссийского Земского союза.
Тяжело ранена 27 июня 1916 года в бедро осколками бомбы, сброшенной с германского аэроплана.
Умерла от ран.
Погребена на Братском кладбище.
Захоронение № 5 – участок «Общественных деятелей».
ТЮТЮКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – сестра милосердия Приамурского (бывшего Уфимского) лазарета Красного креста.
За отличия в Первой Мировой войне награждена медалью «За усердие».
Смертельно ранена у местечка Синявки (Западный фронт) осколками бомбы сброшенной с немецкого аэроплана.
Умерла от ран в тот же день.
Погребена 6 августа 1916 года на Братском кладбище близ главного круга.
Захоронение № 7 – участок «Общественных деятелей».
ОКУНЕВА НИНА ИВАНОВНА – сестра милосердия передового отряда Земского союза.
С начала Первой Мировой войны работала в санитарном отделе Всероссийского Земского союза.
Затем по собственному желанию уехала на Кавказский фронт в качестве сестры милосердия одного из эпидемических отрядов.
В последнее время работала в Персии и около города Эрзерума.
В марте 1916 года приехала в Москву в месячный отпуск, но через 10 дней была снова отозвана по телеграфу на Кавказ.
Скончалась от болезни в возрасте 22-х лет.
Погребена 16 мая 1916 года на Братском кладбище.
Захоронение № 9 – участок «Общественных деятелей».
КУЗИНА М.С. – сестра милосердия Иверской община «Красного Креста».
В декабре 1915 года отправилась на Кавказский фронт, где в течении нескольких месяцев работала в одном из госпиталей в городе Керманшахе.
Последние 12 дней провела на передовой, где и заболела сыпным тифом.
Скончалась в Кермншахе.
Погребена в 1916 году на Братском кладбище.
Захоронение № 11 – участок «Общественных деятелей».
МЫЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ – младший врач 10-го гусарского Ингерманландского полка.
Образование получил в одной из московских гимназий и медицинском факультете Императорского Московского университета, откуда был выпущен зауряд-врачом и отправлен на фронт.
При оказании медицинской помощи во время боя 3 июня 1916 г. был ранен шрапнелью, причинившей ему 8 ранений с раздроблением костей руки и ноги.
Умер от ран в городе Проскурякове, в госпитале отряда Государственной Думы.
Погребен 3 июля 1916 г. на Братском кладбище.
Захоронение № 15 – участок «Общественных деятелей».
ПЛАВИТ МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА – сестра милосердия и фельдшерица.
Образование получила в одной из Московских гимназий, по окончании которой поступила в фельдшерскую школу, где ее застала война.
Не окончив школы, поступила в Никольскую общину сестер милосердия и работала в Лефортовской больнице дамского попечительства о бедных и в санатории Общества борьбы с туберкулезом в Москве в качестве фельдшерицы-сестры милосердия.
В первых числах августа 1915 года отправилась на фронт, где работала во Всероссийском земском союзе сестрой милосердия, а затем заняла место фельдшерицы.
30 июля 1916 года санитарный поезд, в котором она находилась, был бомбардирован немецкой авиацией на станции К.
Полученные тяжелые ранения привели к заражению крови.
Погребена 11 августа 1916 г. на Братском кладбище.
Захоронение № 22 – участок «Общественных деятелей».
ВРУЦЕВИЧ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – шофер.
Погибла, но где и при каких обстоятельствах – неизвестно.
Была погребена 9 ноября 1917 года на Братском кладбище.
Захоронение № 29 – участок «Общественных деятелей».
ВОСКРЕСЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ – заведующий хозяйственным отделом комитета Всероссийского земского союза Западного фронта.
Уроженец города Маршанска Тамбовской губернии.
К августу 1914 года был студентом Московского Сельско-хозяйственного института.
Признанный негодным по состоянию здоровья для службы в рядах войск, с первых дней войны зачислен санитаром одного из эвакуационных пунктов Москвы.
В октябре 1915 г. уехал на Западный фронт, где принялся за организацию питательных пунктов Земского союза.
В связи с ростом потока беженцев, он весь ушел в работу по оказанию им помощи.
В октябре 1916 года, вследствие отравления газами, получил отпуск.
При возвращении к месту службы был убит у станции З. осколками бомбы, сброшенной с неприятельского аэроплана.
Погребен 16 февраля 1917 г. на Братском кладбище.
Захоронение № 35 – участок «Общественных деятелей».
БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – помощник обер-секретаря гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената, сотрудник 5-й Кавказской инженерной строительной дружины Всероссийского Земского и городского союзов.
Погиб в автомобильной катастрофе на Кавказе, близ Гумищ-Ханы.
Погребен 22 ноября 1916 года на Братском кладбище.
Захоронение № 36 – участок «Общественных деятелей».
РОЗИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – прапорщик «полка 1-го марта».
Москвич, студент Императорского Московского университета.
При первой вести о прорыве нашего фронта под г. Тарнополем в июле 1917 г. уехал на фронт, где вступил в ряды полка.
В ночь на 6 октября 1917 года, командуя группой разведчиков, был убит в бою с немцами и мадьярами.
Погребен 24 октября 1917 г. на Братском кладбище.
Захоронение № 43 – участок «Общественных деятелей».
СОРОХТИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ – фельдшер 194-го санитарного поезда Всероссийского земского союза.
Скончался в поезде от болезни.
Погребен 11 апреля 1917 г. на Братском кладбище.
Захоронение № 45 – участок «Общественных деятелей».
КОНСТАНТИНОВА Л.П. – сестра милосердия Дворянского санитарного поезда.
Скончалась от сыпного тифа в г. Могилеве-Подольском.
Погребена 27 марта 1917 г. на Братском кладбище.
@темы: братское кладбище
|
Метки: первая мировая война красный крест некрополь |
Беженцы Первой мировой войны |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Вологодский край и Первая мировая война |



Вологодский край и Первая мировая война
Минаев Алексей Леонидович,
преподаватель БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»,
руководитель Вологодского военно-исторического общества.
В год 100-летия со дня начала Великой войны 1914-1918 гг. важнейшей проблемой военно-патриотического воспитания становится нахождение в истории столь далеких и плохо изученных событий конкретных краеведческих оснований.
Фронты Великой войны 1914-1918 гг. разворачивались на западных и южных рубежах Российской Империи, вдалеке от центральных губерний. Но, несмотря на это, Вологодский край, как и во времена других военных испытаний для нашей Родины, не остался в стороне от событий, развернувшихся как на передовой, так и в тылу.
В первую очередь, это мобилизация и активность местных административных органов по отправке на фронт личного состава для формируемых воинских подразделений. Мобилизации затронули значительную часть мужского населения. Сегодня отсутствует точная статистика по числу призванных с территорий современной Вологодской области в годы войны, но, по аналогии с соседними регионами, это не менее 10-12 % населения.1
Вологжане верой и правдой служили Отечеству практически во всех частях и соединениях: от офицеров Лейб-гвардейских полков, подводников и авиаторов до рядовых стрелков и чинов государственного ополчения.
В войне приняли участие кадровые части, чье формирование было связано с Вологодской губернией. С 1910 года в г. Вологде стояли два батальона 198-го пехотного Александро-Невского полка. Уже в 1914 г. под командованием полковника К.И. Волькенау, впоследствии Георгиевского кавалера, полк сражался на Юго-западном фронте под Варшавой, потом были Прибалтика, тяготы отступления 1915 г., участие в Брусиловском прорыве и расформирование, постигшее все части Русской Императорской армии в 1918 г.
Кроме того, еще несколько частей русской императорской армии получили свое наименование от названий городов региона. Степень их укорененности в жизнь Вологодчины, конечно, различна. Так, 434-й Череповецкий полностью был сформирован на территории одноименного города. 296-й Грязовецкий, напротив, не базировался в крае, но комплектовался, судя по спискам личного состава преимущественно из уроженцев вологодских земель и, непосредственно, из жителей Грязовецкого уезда. Старейшие полки русской армии, 13-й Белозерский и 18-й Вологодский, а так же, сформированный в числе полков четвертой очереди в конце 1916 года 551-й Велико-Устюжский, имеют лишь номинальную принадлежность к краю. Но даже в этом случае духовная связь с Вологодчиной не прерывалась. Так, священник вновь созданного полка обращался к благочинному города с просьбой: «<…> Весьма желательно знать, для ознакомления солдат, подробности о шефе нашего полка. Более подробно историю города, чтимые святыни города, и его окрестностей и другие выдающиеся исторические и народно-бытовые памятники и события <…>». 2
Формировались в Вологде части государственного ополчения. Сотни вологжан пополнили ряды Вологодских пеших дружин и рабочих батальонов, о судьбах которых мы не знаем на сегодняшний день практически ничего. Только номера Вологодских дружин: 19-я, 87-я, 348-я мелькают в отдельных военно-исторических и краеведческих исследованиях, да некоторые материалы о судьбе 482-го пехотного Жиздринского полка, сформированного из дружин 66-й бригады ополчения Вологодчины.
Особое место занимает добровольчество в годы Первой мировой. В архивах Вологодской области сохранились тексты заявлений, подобные этому: «Имея неотъемлемое желание в настоящее время войны поступить в действующую армию в качестве добровольца, питая патриотизм, чувство постоять грудью за Веру, Царя и дорогое Отечество, я покорнейше прошу принять меня как добровольца …».3 Примечательно, что эта волна коснулась не только мужчин.
Если имя Бочкаревой М.Л., уроженки Кирилловского уезда известно многим, то выдающаяся история Александры Васильевны Паньчевой крестьянки Вологодского уезда лишь недавно стала широко известна. Под видом нижнего чина в полном обмундировании и снаряжении она появилась на позициях 24 Сибирского стрелкового полка 12 января 1915 г., где и находилась в составе 3-й роты 5 суток. В ночь с 12 на 13 января 1915 г. первой бросилась из окопа при атаке этой роты, желая увлечь собой нижних чинов, «чем явила собой пример храбрости и мужества». В этой атаке была убита осколком шрапнели и её Георгиевский крест 4 степени получали уже родственники.4
Массовыми стали побеги гимназистов и семинаристов «на фронт». В Государственном архиве Вологодской области хранится показательное в этом вопросе письмо протоиерея Николая Караулова, будущего новомученника, о своем сыне Анатолии, который добровольцем ушел на фронт, не был принят в Казанское военное училище по малолетству, но остался на службе шофером при штабе 10 армии. Отец его на это не просто благословил, а всемерно поддерживал, в том числе личными обращениями к губернатору за необходимыми для получения военного образования справками о политической благонадежности.5
Духовенство Вологодского края тоже рвалось к непосредственному служению делами для общей победы. Показательным является письмо иеромонаха Мартиниана, казначея Павло-Обнорского монастыря: «Объявленная война меня призывает на поле сражения для служения страждущим православным солдатикам, меня как верующего инока сильно влечет туда. При одном воспоминании, что я иду к православным солдатикам на войну, здоровье мое сделалось лучше, как будто с неба спустилось, да и в немощных телах пребывает благодать Божья помогающая. Владыка преосвященный Александр, благослови меня на это святое дело».6
На трудности военного времени и тяготы рутинного тылового обеспечения армии откликнулись государственные, земские, общественные организации, лица духовного звания. Шилась одежда, собирались денежные средства, проводились благотворительные концерты, организовывалась помощь семьям ушедших на фронт,
Поскольку Вологда являлась крупным тыловым центром и, одновременно, важным железнодорожным узлом, естественно, что в городах губернии массово размещались военные лазареты. Хотя документы отмечали, что «в отдаленный Вологодский край направляются почти исключительно легко-раненные воинские чины», это направление деятельности трудно признать малозначимым. На 1915 год только в губернском центре, с населением чуть больше 40 тысяч человек, располагалось 11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, 5 лазаретов общества Красного Креста и 4 лазарета Всероссийского городского союза.7 Добавим к этому запасной госпиталь № 183 военного ведомства и функционировавший на станции Вологда сортировочный госпиталь при Вологодском Окружном Эвакуационном пункте. Кроме того, открылись лазареты в Грязовецком, Кадниковском, Тотемском уездах.8 Одни лазареты Красного Креста, статистика движения раненых в которых наиболее полно сохранилась, приняли около 5000 человек. Вологодская епархия уже в ноябре 1914 г. принимает решение об открытии в Павло-Обнорском монастыре совместно с Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам лазарета на 200 коек. Города отдавали для нужд военно-медицинской помощи все помещения, которые были пригодны, от учебных классов и колонии для малолетних преступников до канцелярии губернатора.9
В связи со всем вышесказанным сложно согласится со встречающимися на страницах краеведческих изданий высказываниями, подобными этому: «Что же касается Вологодской губернии, то здесь проявления патриотизма не выходили, как правило, за рамки обычной благотворительности в пользу раненых и семей, потерявших на поле брани своих кормильцев, лекций о германской агрессии и пафоса газетных заголовков в местной прессе». 10 Всего лишь, «обычная благотворительность» …
Можно относиться скептично к сообщению одной из церковных летописей г. Великий Устюг, ссылаясь на субъективизм автора, но под 1915 годом там отмечается, что «Великая вторая Отечественная и Европейская война с немцами и турками <…>, также уничтожение Государем Императором продажи вина и прочих хмельных напитков – эти два обстоятельства послужили к очищению нрава народа. Число преступлений сократилось во много раз. Хулиганство, драки, нескромные игрища, срамные песни и прочее, развившееся в последние пред войной годы в сильной степени распутство народа, почти совсем прекратилось. Число молящихся в храмах увеличилось. Поминовение на проскомидии и служение молебнов почти удвоилось. Количество исповедающихся также увеличилось. Народ сознал свои грехи и обратился к Богу с молитвой и покаянием».11
Несмотря на появление в последние годы темы Первой мировой в региональных изданиях, материалов пока явно недостаточно.
Осознание этого стало основанием для организации Вологодского военно-исторического общества. По благословению Архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана в 2012 г. Вологодское военно-историческое общество стало структурным подразделением Вологодского Православного Духовного Училища. Для такого несколько необычного на первый взгляд сотрудничества были найдены конкретные исторические основания. В своем решении от 24 ноября 1914 г. Вологодская Консистория отмечала: «<…> сведения о прихожанах, положивших живот свой на поле брани, с возможною подробностью вносить в церковные летописи, отмечая в них и тех участников нынешней войны, которые останутся в живых и возвратятся в домы свои, дабы их имена были ведомы грядущим поколениям <..>»12
Основным направлением деятельности Общества является привлечение внимания к проблемам забытой военной истории и создание возможности для широкого круга общественности и специалистов работать с биографическими материалами участников Великой войны.
Оптимальным средством решения данных задач стало создание общедоступного интернет-ресурса с возможностью свободных поисковых запросов. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» сегодня по адресу vologda-1914.ru уже функционирует проект «Побежденные, но незабытые», в базу которого заносится информация по уроженцам Вологодского края принимавших непосредственное участие в боевых действиях, запасных чинах, чиновниках военного времени, сестрах милосердия. Члены Вологодского военно-исторического общества надеются на то, что к реализации проекта подключиться как можно больше неравнодушных людей.
Увековечение памяти о войнах-вологжанах требует и дальнейшего материального воплощения. В уже упоминавшемся решении Вологодской духовной консистории от 24 ноября 1914 г. есть и такие строки: «<…> когда с Божьею помощью нынешняя кровопролитная война прекратиться и жертвы ея в каждом приходе с полною достоверностью определяться, то духовенству принять на себя почин в деле видимаго для всех увековечения памяти их среди местного населения сооружением на приличных местах часовен, памятников и крестов и постановкой в храмах особых памятных досок <…>»13 Думается, что сегодня настало время совершить то дело, которое в силу исторических обстоятельств так надеялись, но не смогли свершить наши предки.
1 Смирнов И.А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны//Кириллов. Краев. Альманах. Вып.6. – Вологда, 2005. – С. 148
2 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 337
3 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 336
4 Государственный архив Вологодской области. ф.18 – оп. 1 – ед.х. 5713 – л.11-12
5 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 6816 – л.92
6 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 5713 – л.32
7 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник документов и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 459-460
8 Голикова Н.И, Смелкова Т.Н. К вопросу о взаимодействии государственных учреждений и общественных организаций в годы Первой мировой войны (по материалам Вологодской губернии)//Историческое краеведение и архивы. Вып. 9. – Вологда, 2003. – С.137
9 ГАВО. ф. 496 – оп.1 – ед.хр. 19474 – л.162-163
10 Чистов Д.Л. Патриотизм на переломах истории. Итоги и опыт Первой мировой войны//Историческое краеведение и архивы. Вып.11. – Вологда, 2004. – С.151
11 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 338
12 ГАВО. ф. 496 – оп. 1 – ед.хр. 19499 – л.6-7об.
13 Там же
http://1914.military-vologda.ru/arkhiv/82-arkhiv/186-pervaya-mirovaya
|
Метки: первая мировая война красный крест вологда |
Аферист виртуоз царской России Николай Савин. |
Аферист виртуоз царской России Николай Савин.https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...savin-5c51fa149f20ac00ac190939
Николай в детские и юношеские годы был баловнем судьбы. Его отец, состоятельный помещик Калужской губернии Боровского уезда, безумно любил сына и потакал его бесконечным прихотям. Получив хорошее домашнее образование, Николай, как и подобало юноше из дворянской семьи, в 20 лет начал службу в гвардейской кавалерии в чине корнета. Несмотря на денежную поддержку отца, Савин, испытывая недостаток в средствах, совершил мелкое жульничество.
Николай оформлял на себя в двух мастерских две одинаковые пары туфель. При получении заказа в каждой мастерской он оставлял один ботинок на растяжку по причине того, что он жмет, а другой ботинок уносил с собой. Понятно, что из одной мастерской он забирал правый ботинок, а из другой – левый. И таким образом получал совершенно бесплатно новые туфли. В ресторанах подбрасывал засушенного таракана, за что получал бесплатно обед и бутылку вина в придачу. За поступки, несовместимые с офицерской честью, ему было предложено выйти в отставку.
Начавшаяся в 1877 году Русско-турецкая война вынудила правительство призывать из запаса и отставки офицеров, не особенно вникая в их послужной список. Но, тем не менее попытка отставного корнета, была отклонена. Ему удалось попасть добровольцем в корпус генерал-лейтенанта барона Криденера, штурмовавший на севере Болгарии занятый турками город Плевен (Плевна).
Сражаясь в первых рядах штурмующих войск, он получил тяжелое ранение левой руки и его отправили на излечение, от продолжения службы ему пришлось отказаться, и еще из-за обвинений в получении страховки за поджог собственного дома (по другим сведениям - за уничтожение долговых документов), он вновь оставляет службу, на этот раз уже окончательно.
Он окунулся в столичную жизнь «золотой» молодежи. Савин не был стеснен в средствах: после смерти отца он оказался владельцем нескольких имений, домов и другого имущества. Однако деньгам свойственно кончаться, и результат столь безудержного мотовства скоро сказался: через несколько месяцев от миллионного состояния остались лишь воспоминания и многочисленные векселя.
Карточка Николая Савина, сделанная в полиции Гамбурга
...В качестве богатого русского коннозаводчика он появляется в Италии, представляется итальянскому правительству и предлагает свои услуги по поставке орловских рысаков для итальянской армии. Для закупки лошадей ему выделяются огромные средства. Но в одно прекрасное утро Савин бесследно исчезает из Рима, прихватив с собой большую сумму денег.
Далее Савин появляется в Болгарии и председателю регентского совета управления Болгарией - Стефану Стамболову представляется крупным банкиром и в качестве государственного займа предлагает деньги, оставшиеся от итальянской аферы. Афера почти удалась, но Савина узнал знакомый парикмахер, пришлось спасаться бегством. И все - же его арестовали и этапировали в Россию в Петербург, где он доказал что невиновен и вышел не свободу.
Стефан Стамболов //Статьи выходят после 14.00 по Мск
В 1891 году присяжные заседатели Московского окружного суда признали бывшего корнета Николая Герасимовича Савина виновным в ранее совершенных крупных мошенничествах, и он был осужден на ссылку в Томскую губернию. На суде, помимо прочего, выяснилось, что у Савина вспыльчивый и опасный характер. Поэтому предписывалось при сопровождении Савина в Сибирь предпринять самые строгие меры по его охране. Особо рекомендовалось поселить его в таком месте губернии, где за ним мог быть обеспечен надежный надзор.
Томский губернатор, получив такое предписание, назначил местом жительства ссыльного самую отдаленную местность — Нарымский округ; там, среди дикой тундры и непроходимых болот, в свое время отбывали наказание декабристы.
Савина поселили в селе Кетском, на глухом и пустынном берегу Оби, где жили в основном остяки (ханты). Продумав ряд вариантов освобождения, и обманув зорко следивших за каждым его шагом полицейских чиновников, он бежал после нескольких месяцев ссылки. Несмотря на повсеместное оповещение о его побеге и преследование, Савин сумел разными способами преодолеть расстояние около 5 тысяч верст и оказался в Саратове, где имел небольшое поместье и мог раздобыть немного денег на первое время.
Еще по пути к Саратову Савин на пароходе познакомился с неким Минаевым, студентом Томского университета. Общительный и обаятельный бывший корнет узнал от собеседника, что его отец, постоянно живущий в Петербурге, содержит наемные экипажи и хорошо известен среди конских барышников и торговцев фуражом.
Николай Герасимович, приступая к афере, казалось бы, все подготовил и учел. Но аферист международного уровня, специалист по околпачиванию иностранцев из высшего света не знал и не понимал натуры русского купца, вроде бы тугодума, но очень расчетливого и практичного. Поэтому все его хитроумные планы потерпели крах.
В одном из номеров единственной в городе гостиницы с громким названием «Золотой якорь» расположился Николай Герасимович, даже мысли не допускавший, что его смогут найти в таком захолустье. Нашли, и вернули в тюрьму. Савин как опасный преступник содержался в отдельной камере под специальным надзором.
Совершенно случайно ему стало известно, что в тюрьме заболел брюшным тифом в тяжелой форме один заключенный и его отправили в земскую больницу, больной умер. Савин прикинулся больным тифом и попал в морг вместо умершего. Бывший корнет решил бежать, причем не только из тюрьмы, но и из России — этой мужицкой страны, где его преследовали сплошные неудачи.
В итоге он оказался на лайнере, идущим в Америку. Он снова обрел уверенность в себе, превратившись опять «по мановению волшебной палочки» в знатного вельможу князя Савина, графа Тулуз де Лотрека.
Это было в начале 1895 года, когда Савину было около 40 лет. Николай Герасимович, говоривший по-английски без акцента, представительный и прекрасно сложенный, вскоре перезнакомился со всеми пассажирами первого класса. Душа общества, он всю дорогу развлекал публику рассказами о своих многочисленных похождениях. С мужчинами он играл в карты. Хороший игрок, не брезговавший шулерством, Николай Герасимович заметно поправил свои денежные дела. С женщинами он флиртовал, увлекая их заманчивыми перспективами брака, Савин каждой предлагал руку и сердце с убедительной просьбой до приезда в Нью-Йорк сохранять все в секрете...
Продолжение похождений корнета Савина в статье "Аферист виртуоз
Савин часть 2".
В статье использованы материалы Р. В. Николаева “Аферы века”
|
Метки: российская императорская армия российская империя аферисты |
Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919 |
События проекта
/
Сегодня 19:30
Предпремьерный показ фильма «Юморист»
Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919
+T -

Продолжая рассказ о русских, которые попали на Мальту волей ураганных ветров октябрьской революции, вынуждена констатировать, что русскоязычный интернет бесполезен, скушен и запутан… Ни архивных материалов, ни фотографий, ни рассказов, ни дневников, ни писем.
Конечно, такую скудность информации в русском виртуальном мире легко объяснить той же революцией.
Хотите уничтожить что-либо, отрежьте корни, верхушка засохнет сама…
Вот корни большинству из нас революция и обрубила: нет у нас дома семейных альбомов двухсотлетней давности, нет в столовой или библиотеке выписанных маслом портретов далеких предков, да и столовых или библиотек тоже у большинства нет …
Помните гениальное у Булгакова:

— И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию.
Логика моя такова: если мы все же понимаем, что «обедать нужно в столовой, а оперировать в операционной», то давайте попробуем собрать то немногое, что удается найти в англоязычном интернете о наших соотечественниках, чтобы не только англоговорящие знали нашу историю, но и мы тоже.
Еще в 2014 году нашла сайт http://website.lineone.net/~stephaniebidmead/, но не смогла понять, кто автор сайта, как автора зовут, и откуда взята информация и фотографии.
Снова хочу оговориться, что я не перевожу дословно тексты сайтов, а вольно пересказываю то, что мне самой кажется интересным. Оригинальную версию каждый может найти на самом ресурсе.
"После свержения династии Романовых в 1917 году, в России началась гражданская война. Большевики занимали все большие территории, оттесняя Белую армию все дальше и дальше к югу."
Думаю, что каждый из вас хоть что-то, но знает о годах, когда Россия стала социалистической и народной, когда была расстреляна царская семья вместе с пятью детьми… Прошу понять меня правильно, я не против русского народа, но против действий отдельных исторических персонажей.
В английском языке есть хорошая поговорка: "We all have bad feelings; it's acting on them what makes Us bad" - У всех бывают плохие мысли, но только действия в угоду им делают Нас плохими".
Кстати, дневники и отчеты о ходе расстрела, расчленения и запрятывания останков убитых в русском интернете есть. Там даже можно найти сканированные документы «отличных» работников советской власти, которые прилежно воспроизводили все подробности последних двух дней царя, его семьи и подданных, а также не забывали рапортующие упомянуть о том, что сами делали, чем другие товарищи, то есть подельники занимались.


Я читала когда-то, но перечитывать не буду, омерзительно… Интересно, дети у этих «выполнявших долг» остались, внуки? Какие они выросли? Но это я не в ту сторону направилась, нижайше прошу простить…

Итак, английский крейсер Ее Величества под командованием капитана С.Д. Джонсона, прибыл в Севастополь в первую неделю апреля 1919 года. Корабль доставил личное сообщение Ее Величества Королевы Англии Александры своей сестре Вдовствующей Императрице Марии Федоровне – матери российского царя Николая II.

В послании Марию Федоровну просили срочно покинуть Россию и отправиться через Мальту в Англию на борту Королевского военно-морского флагманского корабля.

Мария Федоровна уже ответила отказом на подобное прошение, переданное ей 4 недели назад капитаном флагманского корабля Калипсо. Вдовствующая Императрица не хотела покидать страну, несмотря на то, что большевики занимали все большие территории и уже подступили к Крыму.
Капитаны военных кораблей Ее Величества встали на якорь в нескольких милях от Ялты, где проживала Вдовствующая Императрица. Двум капитанам удалось уговорить Марию Федоровну отправиться в Англию к сестре.
7 апреля корабль Мальборо встал в порту Ялты и начал принимать пассажиров. Изначально планировалось взять на борт 10-12 человек, но очень быстро выяснилось, что пассажиров получается гораздо больше.
Офицеры корабля освободили 35 кают, были установлены дополнительные койки, а капитан Джонсон уступил свою каюту Вдовствующей Императрице. Погрузка багажа, размещение людей длились до 11 апреля, когда крейсер Мальборо вышел в море, унося на себе 44 члена царской семьи и знатных особ, а также их гувернанток, нянек, экономок, слуг, не считая более 700 чемоданов и другого багажа.
Следующим утром крейсер пришел в порт острова Халки, расположенный в 12 милях от Константинополя. Здесь корабль простоял до 16 апреля, до момента, пока Великий князь Николай Николаевич с супругой Великой княгиней Анастасией, Великий князь Петр Николаевич с супругой Великой княгиней Милитсой, с княжной Марией, князем Романом, графом и графиней Тыжкевич, бароном и баронессой Штааль, господином Болдыревым и доктором Маламой с их слугами и свитами ни пересели на линкор Лорд Нельсон и отправились в Геную.
Их места заняли новые пассажиры: граф и графиня Дмитрий и София Менгден, граф и графиня Георгий и Ирина Менгден, графиня Вера Менгден, граф Николай Менгден, мадам Елена Эркофф, две служанки. Дредноут Мальборо отправился в сторону Мальты.




На Мальте готовились к встрече таких именитых беженцев. 12 апреля Лорд Метуен находился в королевском оперном театре в Валлетте, когда во время представления его вызвали к телефону и сообщили, что военный секретарь только что получил зашифрованную телеграмму, которую уже везет в театр мотоциклист.
Крейсер Мальборо появился у берегов Мальты 20 апреля 1919 года.

Губернатор Мальты поднялся на борт, чтобы засвидетельствовать почтение и приветствовать Вдовствующую императрицу, а также сообщить о готовности острова к Ее визиту.
Следующим утром на борту крейсера Мальборо, вытянувшись во фрунт, стоял весь экипаж, сбоку ожидала раскачивающаяся на волнах, укрытая подушками, баржа, а на берегу военный оркестр бравурно играл гимн Российской Империи.
Уже ко второй половине дня все пассажиры сошли на берег, все 712 мест багажа были выгружены, через два дня крейсер ушел в сторону Константинополя.
Мария Федоровна с небольшой свитой расположилась во дворце Сан-Антон, где в саду она посадила дуб, чтобы отметить свой 9 день пребывания на острове. Остальные благородные гости были размещены по разным отелям и особнякам.
Многие часы мать российского императора проводила в Русской часовне, которая расположена на территории дворца.
C часовней связана интересная легенда, которая еще ожидает своего опровержения или подтверждения. Но когда мы участвовали в реставрации Русской Часовни, которая была инициирована Президентом Мальты доктором Джорджем Абелой в 2010 году, я никакого рубина не нашла, хотя мы вскрыли полы, сняли потолки и даже поменяли вентиляцию и канализацию...
Но легенда красивая, поэтому пусть живет...
25 апреля на Мальту прибыл канадский корабль Бермудский, который доставил на остров еще 220 мужчин, 345 женщин и 133 ребенка – русских и английских беженцев.
Губернатору Мальты пришлось срочно искать места для их расселения. Бараки St. George’s, St. Andrew’s, Tigne и колледж St. Ignatius стали временными домами для несчастных.
31 декабря 1919 в церквях St. Luke’s, Tigne бараках были службы, которые переводились на русский язык. Во время службы органист исполнял гимн «Боже, Царя храни».
Определить точное количество русских беженцев в тот период невозможно, но по примерным оценкам, на Мальту прибыло около 800 человек.
Немногие остались и осели на Мальте, большинство продолжили свой путь дальше.
Представители царской семьи, которые прибыли на Мальту в апреле 1919:
- Ее Императорское Величество, Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, урожденная Принцесса Дагмар, супруга императора Алексадра II.
- Великая княгиня Ксения Александровна, дочь Марии Федоровны и императора Александра II.
- Князь Федор Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Никита Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Дмитрий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Ростислав Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Василий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
Слуги царской семьи, прибывшие на Мальту:
-Камеристка Великой княгини Ксении – Афанасьева
- Камеристка Великой княгини Ксении – Балусиева
- Горничная Великой княгини Ксении – мисс Костер
- Горничная Вдовствующей Императрицы – мисс Гринвельт
- Слуга Великой княгини Ксении – Коломинов
- Слуга Великой княгини Ксении – Павлов
- Камеристка Великой княгини Ксении – Павлова
- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Поляков
- Камеристка Великой княгини Ксении – горничная Себолева
- Камеристка Вдовствующей Императрицы – Ольга Васильевна
- Слуга Вдовствующей Императрицы – Вигисс
- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Яцык
Другие русские иммигранты, прибывшие на Мальту в апреле 1919:




- Мадам Анатолис и 13-месячный ребенок, который заболел ветрянкой
- Князь Борятинский
- Ольга Батурина. Венчалась на Мальте в Греческой церкви St. George’s 15 июля 1919 с князем Владимиром Вяземским.
- Сергей Базаров (14 лет), прибыл на Мальту с ветрянкой.
- Наталья Бетикова, заложила свои драгоценности в компании Monte di Pieta (Валлетта).
- Мистер и Миссис Бирзе – артисты Императорского оперного театра в Одессе. На Мальте выступали на благотворительных концертах.
- Граф Андрей Александрович Бобринский
- Графиня Елизавета Петровна Бобринская (Шувалова)
- Наталья Брасова (Шереметьева) – первая жена купца Мармонтова, второй брак был с капитаном Владимиром Вульферт, третий (гражданский) брак был с Великим князем Михаилом Александровичем. В 1910 году она родила ребенка от Великого князя, а 29 октября 1911 в Вене состоялось венчание Великого князя и Натальи, которая получила титул графини Брасовой.
- Мисс Бонч-Бруевич.
- Лейтенант-полковник А. Бригер
- Генерал Шателейн с супругой и шестилетней дочерью
- Капитан Чириков (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского 15 июля 1919)
- Надежда Кондатенко
- Павел Кондатенко (дворянин)
- Княгиня Ольга Петровна Долгорукая
- Князь Сергей Долгорукий – шеф-протокола двора Ее Императорского Величества
- Княжна Ольга Долгорукая
- Княжна София Долгорукая
- Елизавета Дубенская
- Капитан Николай Дубенский
- Елена Дубенская (родилась на Мальте 24 июня 1919)
- Генерал Дубенский
- Борис Эдвардс – скульптор, осел на Мальте, умер 12 февраля 1924 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia.
- Мисс Анастасия Эдвардс (племянница скульптора).
- Генерал Т. Елец
- Мисс София Еврейнова – фрейлина Великой Княгини Ксении
- Граф Фиерсон
- Генерал Фогул
- Профессор Федоров
- Князь Гагарин, капитал охраны
- Князь Галицин
- Княгиня Галицина
- Мисс Геребцова
- Мисс Малания Ивановна Гореченко, на Мальте вышла замуж за майора Стефана Самута Тальяферро.
- Дональд Готаррес-Дедара
- Мисс Григорьева
- Н. Холл (дворянин)
- Мисс Хорват и ребенок
- Граф Игнатьев
- Графиня С. Игнатьева
- Лейтенант Каминский
- Капитан Н. Карпицкий
- Княгиня Александрина Кяземскова
- Граф Кляйнмишель
- Графиня Кляйнмишель
- Мадам Колонина
- Господин Копыльцов
- Вензислав Кузмичев
- Профессор Николай Краснов (живописец, архитектор)

- Вера Краснова (вышла замуж на Мальте за телеграфиста Уильяма Аарона Альюистона 28 мая 1921 года)
- Н. Кульчитский (бывший министр образования)
- Капитан А. Леонтьев
- Миссис Леонтьева
- Леон Лихачев
- Мария Лихачева (вышла замуж на Мальте за лейтенанта Фредерика Генри Грин 13 апреля 1920)
- Князь Лобанов-Ростовский
- Ксения Ломакина (вышла замуж на Мальте 6 июня 1920 за лейб-командира Артура Эдварда Бадделей)
- Президент местного дворянского собрания г-н Маланин (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского)
- Наталья Мармонтова (дочь Натальи Брассовой)
- Графиня Зинаида Менгден – фрейлина
- Граф Дмитрий Дмитриевич Менгден
- Граф Георгий Дмитриевич Менгден
- Графиня Ирина Дмитриевна Менгден
- Граф Николай Дмитриевич Менгден
- Графиня София Дмитриевна Менгден
- Графиня Вера Дмитриевна Менгден
- А. Мясоедов
- Мисс Мяшетский (заложил бриллиантовое колье в Monte di Pieta в Валлетте)
- Господин Нелидов
- Полковник Новосильцев
- Полковник князь Обеляни
- Княгиня Оболенская – фрейлина
- Княгиня Ольга Орлова
- Князь Николай Владимирович Орлов (проживал с семьей в отеле Imperial (Sliema)
- Княгиня Надежда Орлова (супруга Николая Вл.)
- Княжна Ирина Орлова
- Капитан Петрово-Солово
- Наталья Пышковская (вышла замуж на Мальте за Артура Эдвина Коатеса 12 октября 1919)
- Генерал Поляков
- Княгиня Катерина Путятина (супруга князя Михаила Путятина)
- Князь Михаил Путятин
- Княжна Наталья Путятина (вышла замуж на Мальте за Эдгара Табоне, основала на Мальте академию русского балета. Умерла 21 января 1984 года, похоронена на кладбище Ta’ Braxia)
- Княгиня Ольга Путятина (мама Натальи Путятиной), умерла на Мальте 14 апреля 1967, похоронена на кладбище Ta’ Braxia
- Константин Рудановский (сын)
- Татьяна Рудановская (супруга Василия Рудановского)
- Василий Рудановский (Консул императорского дома на Мальте)
- Мисс Шатт
- Граф Дмитрий Шереметьев, стал главой комитета по делам бежецев
- Мисс Симондс – няня детей графини Елены Михайловны Толстой
- Лейтенант А. Шидловский
- Мадам Сирокомская
- Алиса Страндман – экономка княжны Путятиной (умерла на Мальте 25 апреля 1977, похоронена на кладбище Ta’ Braxia
- Полковник Сроганов
- Борис Суворов – журналист
- Г-н Свечин
- Полковник Тирам
- Граф Дмитрий Иванович Толстой (бывший директор музея Эрмитаж)
- Графиня Елена Михайловна Толстая
- Зинаида Толстая (заложила ювелирные украшения в Monte di Pieta в Валлетте)
- Князь Цулукидзе
- Княгиня Цулукидзе
- Г-н Тютчев
- А. Тязан
- Протоирей Николай Владимирский (Александровского кафедрального собора в Ялте, совершал обряды бракосочетания, которые заключались на Мальте)
- Мисс Волгина (пианистка)
- Г-н Воеводский
- С. Войков
- Барон фон Ховен
- Баронесса фон Ховен
- Барон фон Траубенберг
- Адмирал князь Вяземский
- Княгиня Маргарита Вяземская
- Князь Владимир Вяземский (женился на Ольге Батуриной на Мальте)
- Генерал Константин Военский де Бризе (прожил на Мальте до 1928 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia)
- Г-н Волгин (императорский министр религий)
- Мисс Ольга Ярмонкина (Бирилева)
- Вера Ярмонкина (вышла замуж за лейтенанта Джузеппе Мифсуд 20 июля 1919)
- Князь Феликс Феликсович Юсопов Старший
- Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова
- Князь Феликс Феликсович Юсупов (участвовал в убийстве Распутина)
- Княгиня Ирина Александровна Юсупова (супруга Феликса Феликсовича младшего)
- Княжна Ирина Феликсовна Юсупова


Слуги русских господ, которые прибыли на Мальту:
- Горничная Адель (Графиня Менгден)
- Горничная Антонина (княгиня Орлова)
- Горничная Апса (графиня Менгден)
- Слуга Чуриков (князь Долгорукий)
- Горничная Ольга Горпенченко (графиня Менгден)
- Слуга Харпин (Юсуповы)
- Горничная Анна Калнина (Юсуповы)
- Мисс Кинг (княгиня Долгорукая)
- Мисс Лата (Юсуповы)
- Горничная Левитон (Юсуповы)
- Горничная Луиза (княгиня Долгорукая)
- Горничная Озер (графиня Менгден)
- Слуга Пьеров (Юсуповы)
- Горничная Пракафиева (Юсуповы)
- Мисс Радкинс (Долгоруковы)
- Горничная Шуберина (княгиня Орлова)
- Слуга Тесфей (Юсуповы)
- Мисс Тёрк (княгиня Орлова)
Несколько слов о ломбарде, который располагался по адресу 46, Monte di Pietà Buildings, Merchant's Street, Valletta:

в этот ломбард русские иммигранты заложили в 1919-1922 годах большое количество фамильных украшений.
Политика ломбарда была простой: начислять небольшой годовой процент (5%) на сумму заема, но через три года, если долг не выплачивался обратно, ломбард распоряжался заложенным имуществом как собственностью.
Из этого ломбарда попадали на аукционы Кристи и Сотбис некоторые украшения и реликвии русских иммигрантов. Многие уникальные и музейного уровня шедевры, которые когда-то принадлежали семьям Юсуповых, Толстых, Орловых и многих других, потерявших страну и дом, дворян, распроданы в частные коллекции, хотя должны являться достоянием российского исторического наследия.

Сегодня здание ломбарда, которое само по себе является памятником архитектуры, реконструируют, но пока оно закрыто. Такая вот история…



Теги: iipmalta.net, Снежана Бодиштяну, Russian Empress in Malta, русские на Мальте, 1919, Мария Федоровна на Мальте, белая иммиграция, Краснов, история Лобанова-Ростовского и Бобринского, легенды Мальты, аккредитованный агент Мальты
|
Метки: эмиграция |
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) |
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение)
Опубликовал admin - Декабрь 6th, 2013

Мы снова на Пречистенке.
На месте Пречистенского (Гоголевского) бульвара когда-то был овраг, по дну которого бежал в Москву-реку бурный ручей, который москвичи прозвали "Черторый". Местность назвали Зачертолье, а близлежащую улицу Большой Конюшенной слободы - Большой Чертольской. Но в 17 веке было велено переименовать улицу. Негоже было ездить на богомолье в Новодевичий монастырь или идти крестным ходом по улице с таким богомерзким названием.
И улицу назвали Пречистенкой в честь иконы Пречистой божьей Матери Новодевичьего монастыря.
Продолжим нашу прогулку по Пречистенке.
С правой стороны от угла Всеволожского пер., который соединяет Пречистенку с Остоженкой (назван так в 18 в. по усадьбе дворян Всеволожских*), лучше всего схватить общую картину прекраснейшего барского особняка с уходящими далеко в переулок службами и садом на Пречистенке, так называемого дома Селезневых (см. 1-ю картинку).
Ближе к середине 18 в. это место было владением Степана Степановича Зиновьева, обер-президента Главного Магистрата, после оно перешло к его брату, к концу 18 в. - камергеру В.С. Васильчикову, в 1798г. усадьба была куплена кн. Федором Сергеевичем Барятинским. Это был большой деревянный дом с антресолями на каменном подклете, а вдоль переулка тянулось 2-х этажное каменное здание. Во время большого московского пожара 1812 г. подклет главного дома, жилой флигель и старые палаты 18 в. уцелели и стали основой для восстановления усадьбы. Эти деревянные, лишь оштукатуренные барские хоромы в стиле Empire построены были в 1814 г. уже после московского пожара 1812 г. гвардии прапорщиком Александром Петровичем Хрущевым. Хрущевы - богатые помещики, были породнены с Нарышкиными. Елизавета Александровна Хрущева вышла замуж за Алексея Ивановича Нарышкина, сына тайного советника и сенатора Ивана Александровича Нарышкина, дяди Натальи Николаевны Гончаровой. Нарышкины жили недалеко, здесь же на Пречистенке, д. 16. В 1860-х г. владение Хрущевых на Пречистенке переходит "со всей обстановкою" к купцу Рудакову, а затем в 1862 г покупается отставным штабс-капитаном Дмитрием Степановичем Селезневым (ум. в 1884 г.), который поддерживал все в доме в том же виде, который был при Хрущевых, "даже старинные картины не переменили своих мест". Семья Селезневых владела домом до 1906 г. , последней владелицей была дочь Д.С. Селезнева, Екатерина Дмитриевна Матвеева, которая в 1896 г. заявила о желании пожертвовать дворянству Московской губернии свое владение на Пречистенке с целью устройства в нем благотворительного воспитательного заведения для детей. В главном доме усадьбы был организован "Детский приют и приготовительная школа Московского Дворянства имени Дмитрия Степановича и Анны Александровны Селезневых". Одним из условий пожертвования Е.Д. Матвеева поставила: "дом не должен быть снесен или перестроен до тех пор, пока это позволяют технические условия; стенная роспись и лепные украшения фасадов и интерьеров должны обязательно сохраняться и периодически реставрироваться". Детский приют имени Д.С. и А.А. Селезневых состоял в ведении МВД и имел своею целью призрение (приют) и начальное обучение малолетних дочерей потомственных дворян Московской губернии, преимущественно обедневших.
Итак, огромное владение Хрущевых с фасадами на Пречистенке и в двух переулках, представляет собой городскую усадьбу с устроенную с широким барским размахом. Дом богато орнаментирован, с гербом Селезневых на фронтоне фасада, выходящего на Пречистенку. Фасад по Хрущевскому пер*. еще наряднее и интереснее - очень хорош барельеф, типична балконная решетка из входящих колец. При доме старый сад с вековыми тополями. В него выходит открытый балкон, в глубине сада неизбежная беседка с тоненькими колоннами. На Пречистенке владение заканчивается на углу Царицынского пер. (теперь Чертольский пер) изящным домиком-"цветочным" павильоном.

Хрущев пер. на Пречистенке. Ц. Спаса Нерукотворного Образа что на Божедомке. Фото 1882.
В переулок выступает старинное строение, а за ним виднеется церковь Спаса Нерукотворного Образа, что на Убогих домах, иначе Пятница на Божедомке*.
Стоит она на бывшем дворе боярина А.П. Салтыкова, первое упоминание о церкви - в 1625 г. , каменная построена в 1694-1696 гг. на средства и стараниями царицы Марфы Матвеевны в вечное поминовение супруга ее царя Феодора Алексеевича (была надпись снаружи, на южной стене храма) . В 1730 году на средства Е. Н. Ладыженской была построена трапезная с приделом святителя Николая. В 1746 году устроен придел Параскевы Пятницы. Колокольня - начала 19 в., тогда же была выстроена новая ампирная трапезная с теми же приделами. Внутри были во всех трех алтарях прекрасные ампирные иконостасы.
Вдали уже виднеется на спуске конец Пречистенки, но мы попадем туда немножко обходным путем. Пройдя Хрущевский пер., выйдем в Гагаринский и на углу этих переулков увидим прелестный особняк в духе совершенного московского стиля Empire* (д. Лопатиных*, № 15 по Гагаринскому пер.), один из немногих в Москве, вполне сохранившихся скромных деревянных домиков, каких много было построено после пожара 1812 г., наверное, не без участия О.И. Бове, который активно способствовал после пожарному восстановлению города.
Особняк был построен бароном В. И. Штейнгелем, декабристом и адъютантом, правителем канцелярии московского главнокомандующего. Барон прожил в этом доме совсем мало времени. Меньше, чем через 10 лет дом был продан. В 1830 г. в нем проживала семья И. С. Тургенева. Затем в нем поселился Л. А. Суворов-Рымникский, внук. В 1872 — 1917 г. здесь живет семья юриста, проф. Михаила Николаевича Лопатина. Михаил Николаевич организовал кружок, который на протяжении нескольких лет играл заметную роль в духовной жизни Москвы.

На Пречистенке. Угол Хрущевского и Гагаринского пер. Дом Лопатиных
На «лопатинских средах» бывали славянофилы и западники, представители ученого мира и театра, общественные деятели и литераторы: И.С. Аксаков, И.Е. Забелин, А.Ф. Писемский, В.О. Ключевский, М.С. Корелин, С.М. Соловьев и его дети, В.И. Герье, А.И. Кошелев, М.П. Погодин, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.М. Антокольский, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.П. Садовский, С. Мамонтов, братья Жемчужниковы, А.Н. Плещеев, Л.И. Поливанов, А.Ф. Кони, И.А. Бунин и др.
От дома Лопатиных хорошо видны купола Храма Христа Спасителя. Спустимся вниз к Пречистенскому бульвару (Гоголевскому), свернем вправо, попадеи к Пречистенским воротам. Там, где сходятся Пречистенка и Остоженка (на стрелке) в начале прошлого века стоял дом первой половины 19 в. Он был весь загорожен вывесками и имел непрезентабельный вид.
Теперь здесь открыты "Белые палаты" (д. № 1), которыми начинается Пречистенка и "Красные палаты" (д. № 2), которыми начинается Остоженка. Эти палаты были обнаружены случайно в 1972 г., когда сносились старые дома и открылась кладка 17 века.
"Красные палаты" - конца 17 в. , времени нарышкинского барокко - московского архитектурного стиля. Первым установленным владельцем этой усадьбы на Остоженке был боярин Б.Г. Юшков , в конце 17 в. усадьба поменяла владельца и стала принадлежать стольнику Н.Е Головину, а в 1713 г - перешла во владение зятя Головина, Михаила Михайловича Голицина-младшего, президента Адмиралтейств-коллегии. С 1760-х г. владельцами стали Лопухины. В 19 веке палаты переходили из рук в руки, в основном купеческие. И вскоре это уникальное строение изменилось до неузнаваемости и внутри и снаружи. В 1820-х годах перед палатами построили здания с лавками (см. картинки внизу стр.), которые закрыли палаты, сами палаты были перестроены для нужд нового владельца, Д.И. Филиппова. В советское время дом был приспособлен под коммунальные квартиры.
"Белые палаты"* датируются 1680-х годами. Это главный дом усадьбы князя Б.И. Прозоровского, управляющего Оружейным приказом. Здание палат перестраивалось в 1712 - 1713 гг. С 1730-х годов до начала 19 в. усадьбой владели Фаминцыны. В 19 в. стороны двора была сделана пристройка. Изменили и внешний вид здания, приспособив его под трактир, лавки и магазины. В начале 20 в. в здании открылся один из первых в Москве кинотеатров.

Справа дом Лопатиных в Гагаринском пер.
"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1910.

"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1913 г.

Красные палаты. Остоженка. Д. 2

Белые палаты на Пречистенке. Д. 1.
Основной источник: "По Москве" путеводитель. Изд. Сабашниковых.
1917 г.
----------------------
*Самый известный из них в 19 в. - Никита Всеволожский - историк, библиофил, издатель. Издал в 1813 г. "Собрание государственных грамот и договоров".
* усадьба сохраняла свой первоначальный облик вплоть до 1935 года, когда была снесена церковь Пятницы Божедомской и на ее месте появилась средняя школа, частично вклинившаяся на территорию усадьбы. В процессе строительства разрушили каменную полуротонду в саду, а в 1960-е снесли до белокаменного цоколя деревянный музыкальный павильон на углу Чертольского переулка (был восстановлен в 1986-1987 годах). В июне 1961 г. после масштабных внешних и внутренних реставрационных работ, в усадьбе Хрущеых был открыт музей А.С. Пушкина.
* раньше Хрущевский пер. назывался Барятинским, еще раньше - Зиновьевским. Барский характер этой местности всего лучше виден из этого обычая называть переулки по именам дворян-землевладельцев. На Пречистенке много таких примеров: Мансуровский (1793) - по дому вдовы бригадира Аграфены Алексеевны Мансуровой, раньше он же назывался Талызиным, еще раньше Мосальским пер. ; Лопухинский - по домовладельцу 1737 г. бригадиру Лопухину, прежде звался Языковским; Всеволожский - в 1780 г. по домовладельцу и тайному советнику, камергеру Всеволожскому (дом его выходил фасадом на Пречистенку) и т.д. Такие же примеры находим и в других районах барской Москвы: Ушаковский пер. (Хилков пер.) на Остоженке, Скарятинский - между Никитской и Поварской - прежде Сабуровский, Гагаринский - параллельный Пречистенке......
*Убогие дома - богадельни. Божедомы - работники богаделен, подбиравшие подкидышей, пропоиц и мертвые тела.
*Церковь снесена в 1934. Сейчас на ее месте - здание спецшколы.
*Егорова Е. Особняк на Гагаринском. // Декоративное искусство. 1987. № 7; Басманов А. Особняк с потайной дверью.
М., 1981. Дом № 15\7 - дом барона, декабриста В. И. Штейнгеля - Лопатина . Ныне — отделение архитектуры Академии художеств.
*Сейчас в здании Белых палат находится выставочный зал и культурный центр Департамента культурного наследия Москвы.http://valeria40.ru/progulka-xxi-ostatki-barskoy-moskvyi-na-prechistenke-prodolzhenie
|
Метки: москва пречистенка |
Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка. |
Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка.
Опубликовал admin - Декабрь 3rd, 2013

Пречистенка - одна из самых аристократических улиц Москвы. Пречистенка - единственно сохранившийся еще живой фрагмент бывшего великолепного ансамбля московского классицизма и ампира, особняков барского и вельможного типа. Пречистенка и окружающие ее переулки - это "Сен-Жерменское" предместье Москвы, где жило старое московское дворянство: Трубецкие, Хованские, Шаховские, кн. Кропоткины, Вяземские, Долгоруковы, Талызины, Шаховские, Тургеневы, графы Орловы, Гагарины, Гончаровы, Тургеневы, Яковлевы, Лопухины, Всеволожские, и др. семьи, чьими фамилиями пестрит "История..." нашего Отечества Карамзина.
Чтобы описать всю Пречистенку, найти историю всех ее уголков - жизни не хватит, настолько это московское сокровище богато памятными датами, архитектурными жемчужинами и личными впечатлениями от созерцания ее "старинностей", которые, увы, потихоньку исчезают.
На углу, напротив Троицы (см. прогулку XIX) стоит старинный барский особняк с небольшой колоннадой, а прямо перед ним великолепный дом с 8-мью канеллюрованными (от фр. cannelure - вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны) колоннами и классическим фризом по фасаду, за колоннадой. В конце 18 века эта городская усадьба принадлежала гвардии корнету Павлу Яковлевичу Охотникову,

Пречистенка 32. Дом Охотникова-Пегова-гимназия Л. Поливанова
который в 1808 г. купил эту усадьбу у жены генерал-поручика Талызина. Сразу основательно перестроить усадьбу Охотников не успел. Началась война и пожар уничтожил деревянный дом, который строила еще Талызина. В 1816 г. был сделан проект нового дома из кирпича и белого камня. Главный дом стоит по красной линии Пречистенки, он строился в 1817-1820 -х годах, некоторые данные говорят о том, что автором проекта был был Ф.К. Соколов. Некоторые архитектурные детали дома - арки ворот на фасаде, дорический портик второго этажа, умелое разделение главного фасада с выделением центральной части дорическим 8-ми колонным портиком, пилоны первого этажа, фронтон, пропорции всего здания - делают этот усадебный дом единственным в своем роде среди московских барских особняков начала 19 в. Поздний московский классицизм этого сооружения не имеет в Москве аналогов.
В 1841 г. усадьба перешла по завещанию Василию Павловичу Охотникову, здесь жила вдова и их дочь Анна. В 1863 г. усадьба была арендована Францем Ивановичем Крейманом для устроения первой мужской частной гимназии, а потом и вовсе продана в 1879 г. В.В. Пегову, купцу и потомственному почетному гражданину г. Москвы. Вплоть до 1915 г. купцы Пеговы были владельцами этого дома и продолжали сдавать его частной мужской гимназии, теперь уже классической гимназии Л.И. Поливанова.
«В семидесятых годах прошлого века двумя выдающимися педагогами того времени — Софьей Александровной Арсеньевой и Львом Ивановичем Поливановым — были учреждены в Москве в районе Пречистенки две гимназии: Арсеньевская и Поливановская. Связь между этими школами была самая тесная; если сыновья учились у Поливанова, дочерей отдавали к Арсеньевой. Преподавание было в большинстве случаев общее, почти все учащиеся знали друг друга и, начиная с 6-го класса, между ними возникали юношеские романы. Бывали случаи пересылки записок в карманах пальто математика А.А.Игнатова, который, переходя с урока на урок, не подозревал, что играет роль почтового голубя». (Из воспоминаний Т.А.Аксаковой).
В гимназию Л. Поливанова закончили известные писатели, философы и поэты – В. Соловьев, В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, художник Александр Головин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Здесь учились сыновья Л. Толстого.
А в 1915 г. дом переходит лесопромышленнице В.И.Фирсановой. Она его перестраивает (проект арх. А.И. Таманяна), Переделываются интерьеры и фасады. Устраивается и расписывается концертный зал (бывший рекреационный)* .
На углу Левшинского пер. д. Берхъ (не он ли? Берх или Берг, Николай Васильевич, переводчик напечатанных в „Московском Сборнике" 1847 г. сербских народных песен) принадлежал И.П. Тургеневу, директору Московского университета (1796-1802 гг.), отцу знаменитых в российской истории братьев Тургеневых (Александра и Николая -декабриста). Здесь ребенком бывал и И.С. Тургенев.

Александро-Мариинской кавалерственной дамы Чертовой институт.
Далее, по правой руке стоит д. 19 - "Александро-Мариинской кавалерственной* дамы Чортовой (Чертовой) институт", классическое здание конца 18 в. с величественным фасадом: в центре 6 ионических колонн, по бокам балконы-лоджии и колоннады из 6-ти коринфских колонн. Архитектор здания - Матвей Казаков.
Построен в 1788 г. первым владельцем, военным и политическим деятелем эпохи Екатерины II, генерал –аншефом и сенатором М. Н. Кречетниковым* (1729-1793).
В 1795 г. собственниками особняка становятся кн. Долгорукие. Дворец много раз перестраивался, увеличивалось число жилых помещений. После пожара 1812 г. изменялась отделка фасада. Фасад декорировался элементами стиля ампир. Барельефы приписываются Витали.
Здесь в начале 19 в. собирались масоны, и в орнаментировке фасада кое-где сохранились замаскированные масонские знаки. В этом доме родился князь Владимир Андреевич Долгорукий, московский генерал-губернатор*.
В 1863 этот дом был арендован приютом для бедных девочек-сирот, открытый в 1857 г. на средства жены генерала - В. Е. Чертовой, который в 1861 был переименован в Александро-Мариинское училище. В 1868 году усадьба на Пречистенке, перешла в полную собственность Александро-Мариинского училища Пречистенского отделения Попечительства о бедных в Москве. Позднее оно было преобразовано в Александро-Мариинский институт благородных девиц им. кавалерственной дамы В.Е.Чертовой. Его попечительницей была великая княгиня Елизавета Федоровна. В Институт на платные отделения и на казенный кошт принимали дочерей военных. Девушки получали право служить воспитательницами начальных училищ, домашними воспитательницами и учительницами начальных классов.

Пречистенка. Пожарное депо. 1912 г. Д. 22.
По левой стороне Пречистенки стоит Пожарное депо* с каланчей ( каланча с деревянными колоннами под стиль эпохи). Построенный в середине 18 в. (1764г. - арх. М. Казаков), как 2-х этажный, дом сначала принадлежал кн. Хованской, а затем, после 1812 г. родственникам генерала Ермолова (А.П. Ермолову) и, вероятно, по фасаду дом перестраивался. Фронтонная цифра 1835 г. относится, видимо, к году, когда дом начал перестраиваться под Пожарное депо, где располагалась также и полицейская часть. Этот дом, видимо, как-то связан и с именем А. Герцена. В его воспоминаниях "Былое и думы" есть такая строчка: ""Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом. В частном доме не было для меня особой комнаты... Меня увезли к обер-полицмейстеру, не знаю зачем - никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой."
Историки спорят до сих пор, какая каланча какого дома имелась в виду, так как дата ареста А. Герцена - 21 июля 1834 г. - не совпадает с датой перестройки дома под Пожарную часть (1835 г.) .
На правой стороне стоит дом (№ 17) - изначально палаты первой половины 18 в. Во второй половине 18 века усадьба занимала квартал между двумя переулками: Дурновым (Барыковским) и Полуектовым (Сеченовским), в конце 18 в. усадьба становится собственностью Н.П. Архарова*, московского обер-полицмейстера, во время пожара 1812 г. дом горел, сильно пострадал, но был восстановлен. В 1830-х его надстроили мезонином с арочным окном, украсили коринфскими колоннами по бокам главного входа. После Архарова дом перешел во владение семейства генерала Г.И. Бибикова. Генерал, герой Отечественной войны 1812 г. был большим ценителем музыки, в доме устраивались музыкальные вечера и балы. Здесь бывал А.С. Пушкин с женой Натальей Николаевной. В 1835 г. его приобрел Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, поэт и партизан. Здесь он прожил до 1837 г. и этот особняк в Москве иногда называли - "дом главного партизана".

Пречистенка. Дом Дениса Давыдова.
В 1841 г. дом приобрела баронесса Е.Д. Розен. В 1861 г. в одном из флигелей поместилась одна из первых в Москве фотостудий М.Я. Красницкого. В 1869-1874 гг. главный дом опять перестраивался арх. А. А. Обером. Позднее с 1873 г. в нем размещалась женская гимназия с пансионом. Основательница гимназии и ее бессменная директриса до 1913 г. (год смерти) - Софья Александровна Арсеньева, урожденная Витберг, родственница архитектора А.Л. Витберга (автора 1 проекта храма Христа Спасителя).
Последней владелицей дома была баронесса Мария Александровна Шеппинг.
С левой стороны, на углу Мертвого* пер.(Пречистенский) стоит дом (№ 16) А. И. Коншиной*(вдова текстильного промышленника И.Н. Коншина) , перегруженный богатым орнаментом в стиле Ампир.
Так же пышно и внутреннее убранство этого, теперь купеческого дома, в котором арх. А.О. Гунст пытался возродить (1910 г.) стиль начала 19 в. (неоклассицизм с элементами модерна и эклектики),

Пречистенка. Особняк А.И.Коншиной. Интерьер Зимнего сада. 1910.
но без былого изящества. В начале 1916 г., после смерти А. Коншиной, особняк покупает Алексей Иванович Путилов.
История этого местности и дома также богата событиями и именами. В 16 в. и позже была частью Большой Конюшенной слободы - 190 дворов. Здесь были поселены "стремянные, стадные стряпчие и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшенные подковщики, государевы колымажники" и прочий дворцовый люд при конюшнях. Предполагается, что в основании первого усадебного дома, построенного в начале 18 в., есть остатки фундаментов основных палат Конюшенной слободы. Кому принадлежали эти земли до середины 18 в. - пока не установлено, но с конца 18 века до 1815 г. усадьба принадлежала военному губернатору Москвы И.П. Архарову, брату обер-полицмейстера Н.П. Архарова, его дом тоже располагался на Пречистенке (см. выше) . В 1812 г. усадьба горела и была восстановлена после пожара. В 1818 г. кн. И.А. Нарышкин купил усадьбу у Архаровых. В 1829 году, уже в отставке, он со своей семьей перебрался в Москву и постоянно жил в этом доме. И.А. Нарышкин - дядя Н.Н. Гончаровой и он был посаженным отцом на свадьбе Пушкина. Затем дом отошел к родственникам Нарышкиных, Мусиным-Пушкиным. В 1851 - 1852 годах во время своих нелегальных приездов в Москву из ссылки у них останавливался декабрист М.М. Нарышкин, племянник И.А. Нарышкина. Он был знаком с

Пречистенка. Особняк Коншиной. 1910.
Н.В. Гоголем, который бывал у него в этом доме. Затем усадьбой владели Гагарины и Трубецкие. И, наконец, в 1865 году ее купил фабрикант И.Н. Коншин на имя своей жены Александры. В 1867 году главный дом перестраивался. О наиболее радикальной перестройке (1908-1910) уже было сказано выше. Главный дом был полностью разобран и на его месте построили новый*.
Заглянув в Мертвый пер., увидим удачно использованный в архитектурном отношении угол Староконюшенного пер. : закругленный фасад дома Миндовского (арх. Н.Г. Лазарев), с плоским куполом и дорическими колоннами, придающими зданию несколько суровый, строгий вид.
Против дома А. Коншиной стоит дом Ф.В. Челнокова (№ 11)*, прежде принадлежал надворной советнице Е. И. Станицкой, а изначала - Лопухиным. Это прелестный (деревянный!!) Empire с колоннадой и очень интересным барельефом, который к сожалению страдает от частых побелок. В старину окна имели шесть одинаковых по размеру стекол, теперь они заменены цельными. Строителем этого уютного дома

Пречистенка. Дом Ф.В. Челнокова. 1913-1914. Фото Готье-Дюфайе.
был Афанасий Григорьевич Григорьев (1782-1868), ученик Кваренги и помощник Д. Джилярди, один из архитекторов, которые отстраивали Москву после пожра 1812 г. В его работе видна тонкая техника и умение найти хорошие пропорции. Этот дом, к счастью, сохранился без особых изменений. Только Екатерина Ивановна Станицкая (дом был в ее владении 1894-1911 гг.) его оштукатурила по деревянной поверхности. В 1895–1896 гг. арх. С.У. Соловьев спроектировал и заменил ограду вокруг усадьбы. Проезд во двор со стороны Пречистенки сохранился только слева от дома. От Стадницкой дом перешел брату московского городского головы Челнокову, а у него был куплен купцом С. Ф. Генч-Оглуевым.
Основной источник:
Путеводитель по Москве.
Изд. Сабашниковых. 1917 г.
«Ни один другой район Москвы не имеет такого обилия сохранившихся памятников
архитектуры времен высшего расцвета классицизма». А.В. Иконников, «Каменная летопись Москвы»
------------------------------
*В 1921 году в усадьбе размещается Государственная Академия художественных наук (ГАХН). А с конца 1924 года здание на Пречистенке связано с именем Михаила Булгакова. Сейчас здесь располагаются детские школы: художественная и музыкальная.
*имевшей знаки ордена св. Екатерины.
*Михаил Никитич Кречетников (1729-1793) - генерал-аншеф, управлял землями, присоединёнными к Российской империи в ходе первого и второго разделов Речи Посполитой (Белоруссии).
*сейчас здесь находится галерея искусств Зураба Церетели.
*сейчас - Управление Государственной противопожарной службы д. № 22., входящей в МЧС России.
*по одной из версий, его сотрудников-полицейских начали называть "архаровцами". С 1782 г. - московский губернатор.
*Название возможно по домовладелице начала 18 в. - Ф.Б. Мертваго, вдове, но есть и другая версия - название переулка связано с чумой во второй половине 18 в., когда в этих местах вымерло все население и было похоронено невдалеке у церкви Успения Пресвятой Богородицы "что на Могильцах" (первое упоминание в 1560 г.). "Могильцы"- небольшие холмы, кочки. Новый храм в стиле классицизма с двумя колокольнями построен в 1799—1806 гг. (арх. Н.И. Легран) на средства В.И. Тутолмина. Храм закрыт 12 июля 1932 г., в здании разместилось строительно-монтажное управление, интерьер перестроен, главы с крестами разрушены. Богослужения возобновлены 22 мая 2001 г. в Никольском приделе.
*Дом ученых на Пречистенке.
*В 1932 г. архитекторы Веснины пристроили новый объём с парадным входом и вестибюлем в формах позднего конструктивизма.
*Литературный музей Л. Толстого.
Поделитесь ссылкой с друзьями.
Похожая статья
- Похожая статьяПрогулка VII. Вокруг Земляного города (начало) Начало прогулки вокруг Земляного города Мы едем на трамвае "Б"...
- Похожая статьяПрогулка VIII. Вокруг Земляного города (продолжение) Вокруг Земляного города На прошлой прогулке мы доехали на...
- Похожая статьяПрогулка IX. Государевы слободы (начало) Государевы слободы - обширная территория за городской чертой, за Земляным валом....
- Похожая статьяПрогулка XI. Никольская ул.- улица просвещения старой Москвы (начало) Никольская улица старой Москвы Нашу прогулку по Никольской улице начнем...
- Похожая статьяПрогулка XVII. Остатки барской Москвы (общее) Что сохранилось от барской Москвы? Хамовнический плац - Б. Хамовнический...
- Похожая статьяПрогулка XVIII. Остатки барской Москвы (продолжение) Что осталось от барской Москвы: Хамовники, Зубовская площадь. Гуляя по...
- Похожая статьяПрогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка. Остоженка, Пречистенка, когда-то тихие уголки барской, дворянской Москвы. В 17...
 Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки
Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки  Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве
Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве
« Прогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка.
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) »
http://valeria40.ru/progulka-xx-ostatki-barskoy-moskvyi-p
|
Метки: москва пречистенка |
Т.А.Аксакова-Сиверс-"Штеры" |
ШТЕРЫ
В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).
Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи.
- 187 -
Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.
Воспитание, полученное сначала в Парижском пансионе, а потом в Петербурге у m-me Troubat, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот от неудачного брака. . Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей (XXV курс), служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.
Персонажи Оскара Уайльда могли бы, пожалуй, соревноваться с Петром Петровичем в области снобизма, но в России ему конкурентов не было.
Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало повод бабушке говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».
Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.
- 188 -
Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs».
Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17/Х-1907 г., командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил прекрасную память о себе. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт Артур» в главе о гибели «Новика».)
Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были jouisseur'aMH. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в большей степени.
С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 г. вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную Парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала в 12-летней Нате столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала, она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»
Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к 16 она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «не посвататься ли?» В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия», что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи во славу принципа целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.
Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.
В третьей главе я говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей)
- 189 -
Шиловской, что Тюля Шиловская вышла замуж за гусара П.М. Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию.
В одной из таких поездок участвовала Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир*. На правах родственника последнего приехал также и его beau-frère кн. Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «Кореневских»).
Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым, с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).
Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве 29/IV-1899 г. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеровской семьи переключилась в орбиту Москвы.
В начале 900-х годов было продано Гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове был поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.
Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, 15 лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым несомненно имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более
* Погиб в 1907 г. во время Быковского пожара.
- 190 -
кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и сказал: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»
Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз. Черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике было что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов.
В августе 1902 г. он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там 6 лет.
В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой, будучи на Невском, зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых...» — тут офицер обернулся, — «это — Котя!» Последовали приветственные возгласы.
Странность нахождения Преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков.
За годы петербургской жизни, он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы, и, обосновавшись в 1908 г. в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.
Эта, если не вполне счастливая, то во всяком случае беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. 17 октября 1907 г. как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее, на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный
- 191 -
лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.
Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком А.И. Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».
Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Был такой случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса. Вечером она села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not» и с досадой думает: «ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Notre devoir est de vous dire: méfiez-vous des charmes trompeurs des esprits ordinaires!»
Впоследствии то ли кружок Бобровой распался, то ли тетя Лина решила «se méfier des esprits ordinaires», но она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.
Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при Владимире Федоровиче Джунковском* и женился на единственной дочери помощника управляющего Московской конторой импер. театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон-Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).
Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом — из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой безусловно «вышло» стать украшением Большого театра.
* Московском губернаторе.
- 192 -
Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович Обухов в обстановке итальянского возрождения и в обличий Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Ел. Кир. Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.
В мое время С.Т. Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой.
Увидев в первый раз новую племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.
Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается, если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, совершалось в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, ставший в центре внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что он, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.
Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи кн. Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью Площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, т.к. хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи. С отъездом из Москвы Николай Петрович Джун-
- 193 -
ковский перешел на открывшуюся вакансию полицмейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 г. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».
На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.http://asyan.org/potr/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%...0%B3%D0%B0%D1%85a/part-18.html
|
Метки: штеры |
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» |
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки»
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» 1
[21.06.1920] [Вторая половина 1920-х гг.] 2
Предисловие
<…> Я исхожу из старинного рода царей Грузии, но мать моя была русская3, и я пережила три первых года революции в имении Орловской губернии Ливенского уезда, перешедшем ко мне из ее семьи (княжна Долгорукова4).
<…> Февраль трагичного 17-го года застал меня в Москве, на Собачьей площадке, в доме тетки, княгини Лобановой-Ростоцкой, жившей тогда в Швейцарии.
Вечером 28-го я находилась у подруги графини Белевской на Пречистенке, когда пришел ее зять и сообщил, что в продолжение всего этого дня телефон между Москвой и Петроградом не действовал и что еще не удалось узнать, по какой причине это произошло. На другое утро, часов в десять, я входила в контору нотариуса на Театральной площади, где я накануне заказала приготовить к подписи нужную мне бумагу. <...> В это время со стороны площади послышался сильный гул, как от многочисленных голосов, и какие-то крики.
Мы все бросились к окнам и увидели густую толпу студентов, проходивших по этой стороне площади, направляясь от Большого театра к Думе. Когда они совсем поравнялись с нами, мы увидели, что они идут правильными рядами, кричат что-то непонятное и бросают фуражки вверх, с глупо сияющими лицами. К моему негодованию, в рядах кое-где мелькали небольшие красные флаги. «Да здесь весь университет! – закричали вокруг меня. – Что они еще придумали, надо бы разузнать!»
Нотариус и его помощники были тоже полны любопытства и решили послать на разведку почему-то младшего мальчика 14-ти лет. Однако он был не бойкий, так как скоро вернулся, объявив, что это манифестация студентов, а по какому случаю, никто не знает. Я решила сама разузнать, в чем дело, и так как я могла пройти мимо Думы, чтобы достигнуть Арбата, то я и пошла вслед за студентами: конец их колонны был немного впереди меня, и я видела, как произошел маленький курьезный инцидент, удививший меня. Мимо студентов прошел патруль, четыре солдата с унтер-офицером во главе, мы все знали, что студенты высмеивали и оскорбляли всяким образом все военное и всех военных. А тут вдруг, когда студенты увидели патруль, они все сняли фуражки и стали с восторгом приветствовать солдат, стараясь оказать им как будто даже особый почет. <…> Решив добиться объяснения поведению студентов, я повернула направо к Городской думе<…>.
Я направлялась к Городской думе и вышла наконец на думскую площадь. Я остановилась в самом начале ее, всматриваясь в представившуюся картину: перед подъездом Думы собралась вся толпа студентов, а на подъезде, как известно, высоком, говорил им речь и жестикулировал человек в темном пальто и в темной шапке. Он кончил говорить, и громовое «ура» и восторженные крики студентов потрясли воздух. «Вероятно, Государь даровал им какую-нибудь особую милость», – подумала я, ни секунды не воображая, что крики восторга этих близоруких и неразумных юнцов могли относиться к страшной вести о совершении преступного переворота, повергшего в кровавый хаос родину, которую многие из них любили. Человек в черном объявил им о сделанной в Петрограде накануне революции, о низвержении царя, о сформировании Временного правительства и т.д. <…> Я медленно пошла по направлению к Арбату, стараясь прислушиваться к тому, что говорили люди, довольно многочисленные, проходившие и стоявшие на площади, но вдали от студентов и того человека. <…> Я прошла мимо трамвая, около которого теснилась, как всегда, маленькая толпа, и тут никто ничего не проявлял! Это еще больше укрепило меня в мысли, что все дело касается исключительно студентов, которые все еще бросали фуражки вверх и развевали абсурдные красные флажки, я спокойно пошла дальше. <…>
Пока я шла домой, я ничего не заметила необыкновенного, странного, только недалеко от Думы какой-то дворник затворил на ключ громадные железные ворота какого-то большого здания. И я дома застала ту же тишину и вечером, как всегда, пошла обедать к моей подруге на Пречистенку. Они тоже ничего не знали, и мы спокойно провели время. Нас немного удивило то, что моя кухарка Маша, баба из нашей деревни, которая приходила за мной по вечерам в 9 часов, в этот вечер пришла в 8 и сообщила, что дворник очень просил, чтобы княжна была домой раньше, т.к. из полиции прислали сказать, чтобы все ворота были на запоре в 81/2. Мы и это приняли спокойно, т.к. знали, что много хулиганов бродит по Москве и устраивают грабежи «немецких» имуществ.
На углу Пречистенки и какого-то переулка стоял на часах юнкер Александровского училища, с ним разговаривал штатский и спрашивал: «Что, у вас все тихо?» – «Да, тихо покамест», – отвечал тот. Они были, очевидно, знакомые, разговаривали дружелюбно, и опять страшные слова не были произнесены. <…>
II
Зато на другое утро грянул страшный удар грома, вселивший ужас и негодование в наши сердца. Я только что кончила одеваться, как Маша принесла мне газету от управляющей и с затаенным страхом стала говорить: «Ваша светлость, ваша светлость, государя больше нет, нет его больше! Революцию сделали!» Я выхватила газету у нее из рук и прочла известное объявление о том, что произошла революция. Государь подписал отречение за себя и за наследника и т.д. Негодование и ужас настолько охватили меня, что я не могла даже ясно думать о том, как поступать мне. <…>
На улицах было спокойно, и я безпрепятственно дошла до моей подруги. Там испытывали те же чувства, которые возмущали меня. Оказалось, что ночью вся Пречистенка перед Главным штабом была запружена автомобилями, приезжали арестовывать начальника главного штаба генерала Мрозовского. Он, говорят, спал, когда приехали, значит, ничего не знал! Таким образом, графиня узнала раньше меня про совершившийся ужас.
Движимая чувством глубокой преданности и сердечной привязанности, она с раннего утра отправилась узнавать, что происходило с великой княгиней Елизаветой Федоровной, у которой до замужества состояла личной фрейлиной. Как известно, в[еликая] к[нягиня] после трагичной смерти супруга своего в[еликого] к[нязя] Сергея Александровича посвятила свою жизнь и состояние на помощь русскому «великодушному» народу. В приобретенном ею доме на Ордынке, кроме церкви, был устроен даровой госпиталь, приют и школа для девочек, взятых часто с Хитрова рынка, а то просто с улицы. Достойный священник, служивший в ее церкви, часто приводил приезжих из деревни мужиков, встреченных на улице, которых кормили, поили, давали приют. <…>
В тот же день орда хулиганов наводнила «Ордынскую обитель», как эти учреждения назывались, и на вопрос, что им надо, объявили, что пришли смотреть, как поведут немку. А впоследствии, как известно, ее ввергли живую в заброшенную шахту, где вместе с другими несчастными она нашла праведную кончину. Где были тогда нагие, холодные, голодные, которых она одевала. <…>
Вечером я пошла к графине, и мы, взрослые, мрачно толковали о том, [что] думать и что делать. <…> Пока с тоской в душе мы перебирали всякие возможности, в столовой рядом раздались торжественные звуки «Боже, Царя храни». Я пошла посмотреть, что там происходит, и была глубоко тронута тем, что увидела. Младшие дети графини вместе с подругой расставили на большом столе все фотографии царской семьи, которые могли собрать, поставили пластинку «Боже, Царя храни» в граммофон и в благородном порыве лояльности чистых детских душ к тем, кто впал в несчастье, проходили церемониальным маршем перед фотографиями, делая им глубокие поклоны и реверансы. <…>
III
В купеческом банке у меня было около восьми тысяч рублей, и, не сомневаясь ни секунды, что деятели революции, судя по первым шагам, будут грабить нас всяким образом, я отправилась на следующее же утро в банк вынимать свои деньги. Я была уверена, что найду банк набитым народом, и потому накануне еще сказала Маше, которую брала с собой, что нам надо ехать совсем рано, к открытию банка, т.к. там будет такая толкотня, что придется долго ждать. Каково же было мое изумление, когда, войдя в банк, мы нашли его пустым! Служащие были на местах, солдат-часовой стоял у дверей, но он и раньше тут стоял, а публика отсутствовала. «Неужели они не понимают, что скоро будет? – подумала я. – Неужели не видят, какое направление принимает революция?» Свои деньги я получила безпрепятственно, оставив 120 рублей на счету, чтобы не закрывать его. <…> Дома мы застали двух солдат из нашей деревни, пришедших проведать Машу. Они стояли здесь в гарнизоне и объявили, что им теперь такое житье, о котором они и мечтать не могли никогда. Только дежурные остаются в казармах, а остальные целый день гуляют! Только чтоб в казармах быть в 8 часов, а то ни работы, ни учения! Что хочешь, то и делай. «Вот вы какие теперь счастливые, – сказала я, – значит, вы очень довольны?» «Да уж конечно», – отвечали они.
<…> Вечером у подруги я узнала, что означали девчонки и мальчишки с красными бантами, бегавшие по улицам с глупо сияющими лицами. Это была милиция, учрежденная, по объяснению новых властей, для «защиты» революции и куда принимались добровольцы обоего пола. <…>
Но когда мы узнали, в чем именно состояла их «служба» и каким образом они стали на защиту, мы исполнились к ним презрения. Оказалось, что они должны были арестовать тех, кто осмеливался не преклоняться мгновенно и безропотно перед всяким действием революционеров и при случае играть роль сыщиков, подслушивать, что говорили на улицах и в домах, и исполнять свою «обязанность». <…> Когда Воейков приехал в Москву, его арестовали на вокзале три девчонки с красными бантами и вели его через всю Москву, он впереди, а сзади вооруженный солдат. Говорят, он топнул ногой, когда увидел это издевательство над собою. <…>
IV
На следующий день я шла днем по Арбату, когда встретила знакомую даму, поздоровавшись с которой, стала разговаривать. Дама принадлежала к семье тогдашних либералов и должна была радоваться перевороту, но, будучи умной, развитой и вполне порядочной женщиной, она, оказалось, поняла, что события новой жизни все более и более принимали трагичную, нравственно фальшивую, окраску.
Так как вокруг нас шныряли «деятели» с красными бантами, то я стала говорить по-французски: «Я знаю, что ваши симпатии должны бы быть с тем, что произошло, но знаю также, что вы искренни. Скажите, как вы думаете о том, что сейчас происходит? А касательно бедного Государя?» К моему радостному изумлению, ее глаза наполнились слезами, и с содроганием в голосе она проговорила: «Я боюсь, боюсь за него. Какая подлость! Какая низость! Вчера пресмыкались перед ним, а сегодня рвут его на части, оскорбляют! Ужас, один ужас! И вся эта молодежь! Шпионы, доносчики! Где у них стыд! Что с ними сделалось! Страшно подумать!» <…>
По мостовой около панели шел небольшой отряд солдат не стройными рядами, как мы привыкли их видеть, а безпорядочной толпой, они кричали, хохотали, забегали вперед, шли назад, курили всячески, очевидно, преувеличивая свое новое положение, свои новые привилегии. Несчастный офицер, ведший их, стройный и красивый молодой блондин, сгорал от стыда. <…> Мне рассказали очевидцы, что в то же время происходили следующие сцены: как только солдаты видели, что в трамвае едет офицер, они входили туда, садились напротив него и, громко разговаривая, курили и пускали дым ему в лицо или открыто издевались над ним и другим военным начальством. Что претерпели эти мученики, сказать нельзя. Мы, как и вся разумная публика, недоумевали, какая могла быть цель у г-на Керенского разлагать армию? Мы еще не понимали, что он даже в первые дни не был тем властелином, которым себя мнил, и что над ним не в шутку уже тяготела зловещая сила, выпущенная переворотом на волю. В сущности, Временное правительство, захотев поиграть в правителей России, оказалось абсолютно неспособным, неумелым и скоро растерялось до того, что обратилось в позорное бегство.
V
<...> Вечером к подруге моей пришел один очень уважаемый нами и очень толковый деловой человек, друг графини. Он пришел успокоить ее и уверить, что все будет благополучно. Он сам не был сторонником революции, но считал, что против совершенного факта бороться поздно. Графиня сказала ему, что я того мнения, что дела пойдут плохо, и он с улыбкой успокаивал нас и просил ее не давать себя терроризировать. Керенский и другие люди – способные, они работают 12 часов в день и стараются, чтобы не было безпорядков, т.к. можно вообразить, что могло бы происходить в такие дни. «Оно и происходит, – подумала я, – странно, что такой практичный деловой человек ничего не замечает!»
«Скажите, – спросила я, – не слыхали ли вы, не говорят ли о земле, о том, чтоб раздавать ее крестьянам?» – «Да говорят, – ответил он. – Правительство будет покупать землю у самых богатых помещиков и продавать ее мужикам в кредит. Кому будет вред от того, что у миллионеров, имеющих сотни тысяч десятин, купят несколько сотен десятин и передадут их мужикам? Все это будет сделано спокойно и законно. Уверяю вас, что бояться нечего!»
Я сидела, пораженная ужасом, понимая, что мы осуждены на страшные бедствия. Я, как землевладелица, знала, что такое был земельный вопрос и на что во имя его можно было поднять народ. Не везде он нуждается в земле; у нас в деревне были богатые и те немногие дворы, которые имели мало земли, брали у нас в аренду краткосрочную сколько хотели десятин. Цена установленная была вообще 10 руб. за яровую десятину, [а также] шесть подвод до станции нашей, пять верст. За озимую, когда десятина оставалась у них в руках целый год5… руб. и тоже шесть подвод на станцию для подвоза нашего хлеба. Но везде мужики приобретали то чувствo… которое французы называют «страстью к земле». Мы были свидетелями без всякой революции тем кровавым драмам, происходившим при малейшей обиде касательно земли.<…>
Правительство, только что воцарившееся и еще шатавшееся на ногах, не могло ни купить земли для всех, ни войти в сделку с землевладельцами, не обидев их. Ведь у правительства не могло хватить денег на такое дело, сопряженное с громадными расходами, тем более что оно решило все сразу же менять и ломать с первой же секунды.
Оставался один выход – безвозмездное отобрание земель, что и произошло в недалеком будущем.
Не надо было трогать земельного вопроса, тогда переворот прошел бы спокойнее. Но Временное правительство, боясь оппозиции серьезных кругов, решило опереться на неразумные массы и темные силы страны, что из этого вышло – известно.
Прибавлю, что господин, который так успокаивал нас в тот вечер, давно уехал заграницу, бросив великолепную усадьбу в окрестностях Москвы, тогда как я еще продолжала мучиться в аду, образовавшемся в несчастной России.
VI
Вернувшись домой, я нашла письмо из имения от управляющего. Он сообщал, что мужикам известно о перевороте, но пока что они спокойны и приехать в деревню вполне возможно. Я сообщила радостную весть своим, назначила скорый день отъезда, и мы тотчас же стали собираться.
В Москве мне становилось душно, тяжело, хотелось не видеть этих нахальных солдат, эту молодежь, доносчиков и сбиров6 революции, не слышать выкриков газетчиков о царе и его несчастной семье. Тяжело было сознавать, что они арестованы, что на них надвигается опасность, еще тяжелее читать позорные фельетоны на них, плоды дикой фантазии, духовной низости и абсолютной безграмотности каких-то писак! Появилась масса листков дурного пошиба, и что в них говорилось про царскую семью – противно вспомнить! Помню одну такую гнусность, которую я прочла в случайно купленном листке. Вот ее содержание в общих чертах: «Ночь. Луна. Императорская яхта идет по морю. Молодой прекрасный лейтенант стоит на вахте. Вдруг из каюты выбегает в белом платье, кто бы вы думали? Ольга! И Ольга бросается к молодому лейтенанту и целуется с ним. И молодой лейтенант пылает к Ольге страстью, но тут является на палубе отец Ольги! И застав такую картину, бросается на молодого лейтенанта и одним взмахом руки сбрасывает его в море! Погиб молодой лейтенант, не видят более его глаза белый свет земной, закрыты они под темной волной. Отец Ольги стал убийцей!» <…> Ужасно было то, что чернь с жадностью читала всю эту мерзость, верила ей и клеймила императорскую семью позорными именами…
Вначале многие, даже разумные люди, сочувствовали перевороту, но едва ли не через неделю общественное мнение изменилось. <…> Жена и дочь профессора Трубецкого, узнав о перевороте по телефону, будто прыгали от радости тут же, у телефона. Любопытно, продолжают ли они прыгать и теперь, вспоминая этот день? Жена адвоката А., будучи вольнодумных настроений, телефонировала своей кузине: «Наконец я дожила до русской революции! Радуюсь, что мне пришлось увидеть это событие!» И еще много подобных новостей. Два года спустя эта же самая дама писала сестрам: «Кажется, у нас настает светопреставление! Ничего нет. Прислуги нет. Еды нет. Я хожу с внучкой в ресторан, где за 9000 рублей получаю тарелку какой-то жижи с несколькими листочками травы и соленые огурцы!» И эта же дама через сына советского служащего поспешила уехать за границу.
VII
Возвращаясь однажды из центра в город, где я делала покупки для деревни, я заметила довольно большое собрание женщин из простонародья, стоявших и оживленно галдевших, у начала Охотного ряда по направлению к Ильинке. Изумленная таким фактом, т.к. большей частью революционные женщины не появлялись теперь без сопровождения мужчин, я пошла и встала на некотором расстоянии. Женщины как будто ссорились, а впереди стояла хорошенькая молоденькая девушка, державшая в протянутых руках две короткие палочки, на которых была натянута узкая полоска красного кумача. «Что это такое? – спросила я мужчину, стоявшего недалеко от меня и с усмешкой наблюдавшего за толпой, – кто эти женщины?» «Кухарки, – открыто смеясь, ответил он, – митинг кухарок. Что им от революции нужно! Жаловаться собрались. Ишь прыть-то какая! Только вы, барыня, не подходите к ним и не ругайте их. Тут одна барыня только что проходила и стала их ругать, так они позвали милиционера, и ее увели туда». И он показал рукой на здание с колонной, где, оказывается, был пост солдат.
Я поблагодарила его за совет и пошла по Охотному, огибая кухарок как можно дальше, т.к. не имела никакого желания рассуждать с ними. Эти митинги и демонстрации кухарок дошли до какого-то абсурда. В следующие дни мы встретили процессии их, которые ходили по большим улицам молча, подобрав каких-то девчонок, которых они пускали во главе. Очевидно, они добивались каких-нибудь определенных целей, как жалованье, но не слышно было, чтоб получился какой-нибудь определенный результат от их хождений.<...>
Появилось глупое наименование «буржуй». Ведь по-французски «le bourgeois» никак не могло применяться к аристократии или к кому-нибудь, кроме самого мелкого элемента. <...> Поэтому мы много удивлялись, а затем много смеялись, узнав, что аристократию и военных подводят под понятие «буржуй», это стало несомненным завоеванием революции. Все эти абсурды, всякие глупости и подлости, которые чуть ли не каждый день становились известными изумлениями россиян, процветали благополучно под кровом крыл г-на Керенского и его банды. <...>
Документы ГАРФ о Февральской революции. 1917 г.
Документ №5
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 317. Л. 1–32. Подлинник. Машинопись.
|
Метки: москва пречистенка февраль 1917г |
Москва. Часть 40. Лазареты для раненых и больных воинов в Москве. 1914. |
Москва. Часть 40. Лазареты для раненых и больных воинов в Москве. 1914. Часть 1
11
4
2
Give 10
[прошлые выпуски]
01. Медицинский персонал и служащие распределительного госпиталя у прибывшего с ранеными санитарного поезда

02. Санитары распределительного госпиталя и солдаты санитарной команды выносят раненых из вагона санитарного поезда

03. Раненые офицеры в палате распределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

04. Раненые солдаты в палате распределительного госпиталя, устроенного в помещении 1-го винного склада

05. Раненые солдаты в палате распределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

06. Врачи и сестры милосердия за работой в операционнойраспределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

07. Перевозка раненых в специально оборудованном трамвайном вагоне из распределительного госпиталя в постоянный лазарет

08. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Пресненском трамвайном парке

09. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Пресненском трамвайном парке

10. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Покровской богадельне

11. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Покровской богадельне

12. Раненые в палате лазарета,устроенного в Алексеевской психиатрической больнице

13. Раненые во время обеда в одной из палат лазарета при Старо-Екатерининской больнице

14. Медицинский персонал и раненые в одной из палат лазарета при Солдатенковской больнице

15. Группа врачей и сестер милосердия во время работы в операционной лазарета при Солдатенковской больнице

16. Раненые в палате лазарета при Морозовской больнице

17. Раненые в одной из палат лазарета при санатории имени Четверикова

18. Раненые в одной из палат лазарета при санатории имени Четверикова

19. Раненые в палате лазарета при Любимовском отделении Щербатовской больницы

20. Медицинский персонал и раненые в одной из палат лазарета при Университетских клиниках

21. Раненые в палате лазарета,устроенного при Высших женских курсах

22. Раненые в палате лазарета,устроенного при Высших женских курсах

23. Раненые в одной из палат лазарета при Женском медицинском институте

24. Раненые и сестры милосердия в одной из палат лазарета при Женском медицинском институте

25. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

26. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

27. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

28. Общий вид операционной в лазарете при Императорском Техническом училище

29. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета,устроенного на Пречистенских курсах

30. Сестры милосердия и раненые в палате лазарета,устроенного на Пречистенских курсах

Метки: Великая Война, Москва, Россия, история, лазареты, фото
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
Как погиб последний герой из рода Романовых. |
Как погиб последний герой из рода Романовых.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война, принёсшая России огромные бедствия и гибель сотен тысяч солдат и офицеров.
Среди тех, кто сложил свою голову на полях сражений, был и один представителей императорского дома Романовых, менее других своих родственников подходивший для военной карьеры. Единственный из царского рода Романовых, веривший, что его пролитая кровь укрепит дух русских войск.
Олег был пятым ребенком в семье и четвертым сыном. Он родился в 15 ноября 1892 года. В июне 1905 года он писал в дневнике: " Я так люблю книгу «Юношеские годы Пушкина», что мне представляется, что я также в Лицее. Я не понимаю, как можно перестать читать эту книгу. В этой книге моя душа". В 1911 году князь Олег выступил с инициативой издания рукописей Пушкина, хранившихся в лицее.
Князь Олег занимался литературным творчеством, писал стихи и прозаические произведения, увлекался музыкой и живописью. Рассказ «Ковылин» и некоторые стихотворения были опубликованы в посмертном издании «Князь Олег», но большинство произведений остались в рукописях — в том числе поэма «Царство царя Крота», повесть «Отец Иван», роман «Влияния», очерки «Сценки из собственной жизни», пьесы. Планировал написать биографию своего деда, великого князя Константина Николаевича, который был для него образцом государственного деятеля.
Последующие великие потрясения стёрли память о последнем из династии Романовых, павшем за Родину в бою. Произведённый в 1913 году в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка, он с первых дней войны оказался на Северо-Западном фронте.
Командиры, помня, что перед ними представитель царской фамилии, пытались уберечь его от опасности, предлагали должность при штабе, но князь Олег рвался в бой. Сослуживцы отмечали, что 21-летний князь буквально «жаждал подвига».
Смелый и решительный, Олег Константинович был одновременно в большей степени человеком гражданским. Отчаянная храбрость и готовность к самопожертвованию не заменяют военных навыков. Рвение князя беспокоило опытных офицеров, и тревоги эти оказались не напрасными.
В.кн.Олег Константинович, сын великого князя, поэта Константина Романова (К.Р.)
27 сентября 1914 года у деревни Пильвишки в районе Владиславова (территория современной Литвы) кавалерийская застава лейб-гвардии Гусарского полка наткнулась на германский конный отряд. Командир взвода Олег Романов повёл своих подчинённых в атаку. Согласно донесению, он первым вступил в схватку с противником. Столкновение закончилось победой русских — немцы были частично уничтожены, а частично взяты в плен. Бой уже подходил к концу, когда одному из немцев удалось выстрелом ранить князя Олега.
На следующий день раненого доставили в госпиталь в Вильну, провели операцию, но состояние князя оставалось крайне тяжёлым. За мужество и храбрость Олег Константинович Романов был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Он гордился тем, что был ранен: " Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух. В войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома". Пролитой им крови не хватило для того, чтобы укрепить дух русских солдат в войне, смысл которой они очень скоро перестали понимать.
Вечером следующего дня в Вильну прибыл отец князя Олега, который привёз ему орден святого Георгия, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу. Этот орден прикололи к рубашке умиравшего князя, который в тот же вечер скончался.
25 декабря 1914 г. «Высочайше повелено: «1-й роте Полоцкого кадетского корпуса присвоить наименование: „роты Его Высочества Князя Олега Константиновича“, дабы сохранить на вечные времена среди кадет названного корпуса память об Августейшем Полочанине, положившем жизнь Свою на поле брани за Царя и Отечество».
По воспоминаниям одной из современниц, в траурной процессии приняло участие несколько тысяч человек. По дороге гроб почившего князя сопровождала масса крестьян. Люди плакали, стояли на коленях, несли на плечах его гроб 5-6 км от станции до Осташово. Он был похоронен с золотою шашкой. Когда началась революция, стали громить имение, все грабить, разграбили и могилу, вытащили его из гроба, утащили шашку, 5 или 6 дней труп валялся на дороге. Сына и дочь кладбищенского сторожа Санкритова взяли на работу в ОГПУ.
Фото взяты из открытого доступа в интернете.
Литература: Ю.Борисов "Князь императорской крови командовал
взводом".
|
Метки: романовы первая мировая война |
Красивые девушки на открытках до 1917 года. |
Красивые девушки на открытках до 1917 года.
Здравствуйте, читатели и подписчики моего проекта! Сегодняшняя статья посвящена фотографиям красивых девушек на почтовых открытках более чем столетней давности. Сравните, как изменилось представление о женской красоте за сто лет.
В XXI веке "нормативам" модельной внешности соответствуют девушки, носящие одежду 46-48 размера, тогда как на представленных изображениях фигуры красавиц не менее пятидесятого размера.
Потрясающая брюнетка с роскошными бутонами камелий в причёске сидит в кресле. На ней шикарное платье, открывающее левое плечо и длинный, золотистого цвета пояс с бантом на талии.
Художник Ф. Ворбинг, авторское название "Виктория". Русскоязычный интернет не даёт никакой информации по художнику, почему?
Вторая открытка - с изображением немецкой актрисы эпохи немого кино Гудрун Хиндельбранд. На открытке видны проколы от кнопок, видимо, предыдущие владельцы украшали свою комнату или рабочее место.
Про неё в сети тоже практически никакой информации, дескать снималась всего в одной ленте в далёком 1913 году. Только вот едва ли портрет актрисы одной роли стали бы помещать на открытки.
На третьей открытке молящаяся католичка, девушка лет двадцати, находящаяся, судя по одежде, в храме. Простое платье, на пальцах ни одного колечка, укрывающий голову платок в отличии от христианок не завязан. Кто же перед нами, прихожанка или монашенка?
Четвёртая открытка изображает принимающую или дарящую букет цветов девушку. Левой рукой она придерживает такие же цветы, так что, осмелюсь предположить, всё таки дарит!
Эта открытка в отличии от двух предыдущих цветная: различимы голубоватый цвет платья и розоватые лепестки цветов.
Обратите внимание, уважаемые подписчики и читатели, что ни на одной из четырёх открыток у девушек нет никаких (!) украшений - голые шеи и руки без браслетов и колец. Почему? Мода на скромность?!
Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы и пишите в комментариях. Читайте мои предыдущие статьи, буду радовать интересными статьями и фотографиями в следующих выпусках!
https://zen.yandex.ru/media/id/5be5ec635d9d8200a98...-goda-5c665bae6021bf00ae375591
|
Метки: мода |
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна |
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна
Имя
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна (Лили О.)


Девичья фамилия
Княжна Оболенская
Дата рождения
7 марта 1864 г.
Место рождения
Санкт-Петербург
Вероисповедание
Видимо, православная
Отец
Князь Николай Николаевич Оболенский (Симбирск, 10.11.1833 – Санкт-Петербург, 25.08.1898), герой русской турецкой войны 1877 – 1878 гг., командир Гвардейского корпуса (1897), генерал-лейтенант (1888), генерал-адъютант (1896).

Мать
Княгиня Мария Владимировна Оболенская, урожд. Храповицкая (23.09.1839 – Санкт-Петербург, 8.04.1911).
Брак с 1860-х гг.
Братья / сестры
В семье было три сына и две дочери:
- Князь Николай Николаевич (ум. в детстве);
- Княжна Елизавета Николаевна (Санкт-Петербург, 7.03.1864 – Сент-Женевьев-де-Буа, 5.11.1939), фрейлина;
- Князь Владимир Николаевич (Висбаден, 24.07.1865 – Париж, 24.10.1927), генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского полка во время Первой мировой войны; с 1919 г. женат на княгине Елизавете Васильевне Черкасской, урожд. Шереметевой (Дрезден, 14.10.1885 – Шартр, Франция, 9.07.1955);
- Княжна Мария Николаевна (Санкт-Петербург, 20.11.1868 – Сент-Женевьев-де-Буа, 29.08.1943), фрейлина, с 1893 г. замужем за графом Николаем Николаевичем Граббе (Майкоп, 10.03.1863 – Санкт-Петербург, 27.09.1913), два сына и одна дочь;
- Князь Александр Николаевич (Санкт-Петербург, 2 или 24.02.1872 – Париж, 14.02.1924), губернатор Рязанской губ. (1908 – 1914), Петроградский градоначальник (1914 – 1916), генерал-майор Свиты; с 1897 г. женат на фрейлине княжне Саломее Николаевне Дадиани (Санкт-Петербург, 1.12.1878 – Аньер-сюр-Сен (Asnières), Франция, 11.12.1961), два сына и две дочери.



Владимир Николаевич Мария Николаевна Александр Николаевич
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Нет
Дата вступления в брак
Нет
Дети
Нет
Дата назначения фрейлиной
23 мая 1883 г. В 1895 – 1914 гг. свитная фрейлина императрицы Александры Фёдоровны.
Награды
?
Дата смерти
5 ноября 1939 г.
Место смерти
Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем
Место захоронения
Сент-Женевьев-де-Буа
Обстоятельства смерти
Последние годы жила в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа
Комментарии
В эмиграции жила во Франции, где состояла членом Дамского общества в память императрицы Марии Федоровны; член Союза ревнителей памяти императора Николая II (с 1936).
Ссылки
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nik2all_o.php
http://historymaxs.blogspot.ru/2012/02/2.html
https://goo.gl/GQXGwl
http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/obolensky.html
http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?opt...view&id=2355&Itemid=61
http://www.rgfond.ru/rod/27210
См. также Незабытые могилы, том. 5, стр. 182.
Возрождение. – Париж. 1939. 10 нояб.
Буду благодарен за любые дополнения, комментарии, замечания.
Метки: оболенская, фрейлины
|
Метки: оболенские фрейлины |
Башмаковы |
Башмаковы
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Башмаков.
Башмаковы — три дворянских рода.
Первый — потомство Симона Африкановича, родоначальника Вельяминовых; один из потомков последнего, Даниил Васильевич, имел прозвище Башмак, откуда и фамилия Башмаковых. У него было пять сыновей и тринадцать внуков. Внук его, Василий Андреевич, был в 1580—1581 годах осадным головою в Велиже, а правнук, Афанасий Григорьевич, — дьяком земского приказа при Иоанне Васильевиче Грозном (в ОГДР не внесены). При отмене местничества, этот род подал документы на включение в Бархатную книгу, но в связи с чем, что Воронцовы-Вельяминовы и Аксаковы своих родословий не представили, поэтому родословие Башмаковых в БК внесено не было[1].
| Башмаковы | |
|---|---|
 |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Том и лист Общего гербовника | Х, 38 |
| Часть родословной книги | II |
| Подданство | |
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
Второй — потомство Пимена Алексеевича, владевшего поместьями в Нижегородском уезде в 1621 году, имевшего двух сыновей: Ивана и Нефеда. Род записан во вторую часть родословных книг Ярославской и Тамбовской губерний России, по непризнанию древности герольдией правительствующего Сената. Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 10, стр. 38.
Третий — потомства Федора Афанасьевича, который умер от ран полученных при осаде Смоленска в 1634 году. В потомстве были: Арефа - дьяк холопьего приказа в 1646г.; Афанасий - дьяк земского, литовского, большого прихода и денежного сбора, ямском с 1661 по 1677г; Дементий Минич - думный дьяк, печатник, думный дворянин; Иван Башмаков - подполковник в 1696 году при взятии Азова; Иван Пименович, Иван Леонтьевич, Лукьян Иванович - стольники при Петре I, потомство стряпчего Лукьяна Ивановича Башмакова, верстанного поместьем в 1674 году. Дмитрий Евлампиевич, кавалергардского полка полковник, потом действительный статский советник, был женат на Варваре Аркадьевне Италийской, графине Суворовой-Рымнинской. От этого брака осталось несколько человек детей (Герб V. № 106)[2].[3]
Содержание
Описание герба
Герб рода Часть 10 № 38
Щит разделён на три части, из коих в первой в голубом поле серебряный якорь, во второй в серебряном поле выходящая из облака облечённая в латы и держащая меч рука, а в третьей пространной в красном поле золотой стоящий на задних лапах лев, обращённый в правую сторону и держащий в правой лапе серебряную стрелу остриём вверх.
Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и серебряный, подложен серебром и красным. Герб рода Башмаковых внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 38[4].
Герб рода Часть V № 106
Щит разделен диагонально с левого верхнего угла на две части, из которых в правом в голубом поле у подошвы щита видна половина серебряной крепости с башней о пяти зубцах, а в левой части в золотом поле рука в латах с саблей. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой изображена рука в латах с саблей. намет на щите голубой, подложен золотом[4].
Известные представители
- Башмаков Петр Афанасьевич - воевода в Малмыже в 1619г.
- Башмаков Василий Кузьмич - стольник в 1627г.
- Башмаковы: Яков Семенович, Василий Меркурьевич - стряпчий с платьем в 1627г.
- Башмаковы: Фома Константинович, Дмитрий Васильевич - патриаршие стольники в 1627-1629г.
- Башмаков Лукьян Федорович - письменный голова в Тобольске в 1630-1631г.
- Башмаков Филон Григорьевич - воевода в Бежецком-Верхе в 1631г.
- Башмаков Дементий Минич - думный дьяк в 1664г., дворовый и печати дьяк в 1684г.[5]
- Башмаков Осип Григорьевич - воевода в Твери в 1677-1678г[6].
- Башмаковы: Андрей Васильевич, Андрей Ильич, Иван Леонтьевич, Кузьма Филатович, Калина Яковлевич, Михаил Васильевич, Родион Григорьевич, Яков Васильевич, Борис Иванович. Дмитрий Федорович, Иван Васильевич, Михаил (большой) Петрович, Михаил (меньшой) Петрович, Моисей Романович, Никита Иванович - стольники в 1679-1692г[5].
Примечания
- А.В. Антонов. Родословные росписи конца XVII века. - Изд. М.: Рос.гос.арх.древ.актов. Археогр. центр. Вып.6. 1996г. Башмаковы. стр. 85. Сноска стр. 85. ISBN 5-011-86169-1 (Т.6). ISBN 5-028-86169-6.
- Князь П. Долгоруков. Российская родословная книга. Часть 4. С-Петербург. Типография III отделения Е.И.В. Канцелярии. 1857г. стр. 51-52.
- Сост. граф Александр Бобринский. Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб, тип. М. М. Стасюлевича, 1890. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть II. стр.86-87.
- П.А. Дружинин. Общий Гербовник Дворянских Родов. Части I-X. М., Изд. Трутень. 2009г. стр. 58-59. ISBN 978-5-904007-02-7
- Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях. М., Типогр: С. Селивановского. 1853г. Башмаковы. стр. 22-27.
- Чл.археогр.ком. А.П. Барсуков (1839-1914). Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. - СПб. тип М.М. Стасюлевича. 1902г. Башмаковы. стр. 437. ISBN 978-5-4241-6209-1
Литература
- Башмаковы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 38
- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. — Т. 4. — С. 51.
|
Метки: башмаковы |
Беженцы Первой мировой войны |
 |
||||||||
 |
|
|||||||
|
Метки: первая мировая война |
Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны |
Андрей Кокорев, Владимир Руга Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны
Лазареты
Прав, кто воюет, кто ест и пьет,
Бравый, послушный, немой.
Прав, кто оправился, вышел и пал,
Под терновой проволокой сильно дыша,
А после – в госпиталь светлый попал,
В толстые руки врача.
Б. Ю. Поплавский
Русские войска еще только собирались вторгнуться в Восточную Пруссию и вступить в сражение с немцами, а Москва уже начала готовиться к приему раненых. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К шестому августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест.
Москвичка Р. М. Хин-Гольдовская в августе 1914 года записала в дневнике:
«В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу – и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)».
В другом дневнике – княгини Е. Н. Сайн-Витгенштейн – в те же дни появилась запись, отражавшая настроения московской аристократии:
«Мне кажется, я скоро добьюсь своего: работать.
Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья “там”, посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы не можем ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями: Таня Лопухина все дни проводит в своем коннозаводстве, где она одна из главных заправительниц склада; Женя, Ольга Стаховичи, Соня и Марина Гагарины, Ольга Матвеева слушают медицинские курсы и от 7 до 3 часов работают в госпиталях; Наташа Бобринская и Соня Новосильцева уехали с санитарным поездом на австрийский театр военных действий. Все молодые люди ушли как добровольцы, кто санитаром»[16].
Миллионер Д. П. Рябушинский распорядился развернуть госпиталь на 250 коек в принадлежавшем ему аэродинамическом институте в Кучине. В доме хорвата М. И. Гаранига на Петербургском шоссе и в здании Купеческого собрания на Малой Дмитровке были готовы принять по сто раненых. Свой особняк на той же улице Н. М. Миронов передал под лазарет на пятьдесят мест.
Открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», «Союза польских женщин», «Дома польского», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества».

В пользу раненых. Благотворительная продажа флажков России и союзных государств
На Арбате священник Н. А. Ромашков устроил лазарет на две койки.
Унтер-офицер Д. П. Оськин, попавший на лечение в один из небольших госпиталей, в своих «Записках солдата» описал его так:
«Лазарет, рассчитанный на восемь человек, содержался церковно-приходской общиной Знаменского района. Занимал он всего одну квартиру из семи комнат. Три из них были заняты кроватями для раненых, в четвертой жила фельдшерица Нина Алексеевна Марьева, а остальные были отведены под перевязочную, общую столовую и аптеку. (…) Жизнь в нашем лазарете была построена по-семейному. Мы все быстро познакомились друг с другом, часто вспоминали подробности различных боевых эпизодов, не задумываясь ни над характером войны, ни над тем, что предстоит нам в будущем».
Первый санитарный транспорт Москва встретила восьмого августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер – получили настоящие боевые ранения на полях сражений.
Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе станции Окружной железной дороги, откуда обычно отправляли поезда с арестантами, прибыл целый санитарный эшелон. По словам очевидца, паровозом с флагом “Красного Креста” у трубы была подтянута к дебаркадеру «длинная, кажущаяся бесконечной, цепь товарных вагонов».
«Кажется, весь Бутырский район собрался, – описывал встречу раненых репортер газеты „Утро России“. – Преобладают рабочие, их жены и матери. Серьезные, сосредоточенные лица, у женщин на глазах слезы.
С трудом пробираясь в толпе, подъезжают автомобили членов московского автомобильного общества, взявшего на себя перевозку раненых в госпитали, стройными рядами проходят санитары и студенты с повязками Красного Креста на руках – специальный студенческий санитарный отряд.
Платформа покрывается носилками. Возле них хлопочут сестры милосердия, приспосабливая подушки на носилках, предназначенных для тяжелораненых.
Двери вагонов открываются; собравшиеся на платформе представители города, заведующие эвакуацией раненых, приветливо здороваются с солдатами».
Стоит отметить, что первые санитарные эшелоны встречали по-настоящему представительные депутации во главе с членом Государственной думы М. В. Челноковым (с сентября 1914 года московский городской голова) и князем Н. С. Щербатовым, председателем Московского автомобильного общества Красного Креста. В сопровождении главноначальствующего над Москвой генерала А. А. Адрианова на Александровский[17] вокзал приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна.
«Один за другим отъезжают от платформы автомобили, увозя раненых, – завершал рассказ корреспондент. – Тяжелораненых относят к остановке трамвая, в санитарные трамвайные вагоны. Толпа в благоговейном молчании обнажает головы.
Выносят раненого офицера. Приподнялся на локте, улыбается публике, но – видно ясно – нелегко дается ему эта улыбка…
Легко раненные солдаты поднимаются к автомобилям сами. По пути их встречает кн[ягиня] Щербатова, оделяет папиросами. Из публики раненым раздают конфеты, фрукты, папиросы, цветы…»
По сообщениям газет, громадная толпа москвичей встречала раненых на Александровском вокзале. Журналисты наперебой стремились передать мельчайшие детали пока что нового для Москвы явления, вроде сильного резкого запаха йодоформа при приближении санитарного поезда.

Прибытие санитарного поезда к распределительному госпиталю
Или привезенные ранеными трофеи: немецкие походные сумочки с алюминиевыми стаканами и ложками, фляжки «такие же, как у русских, но несколько меньшие по размеру», офицерские каски с германским или австрийским орлом, оружие. Вид вражеского военного имущества в руках нового владельца вызывал в публике однозначную реакцию – громогласные крики «ура».
Не осталось незамеченным и некоторое нарушение служебного долга железнодорожными жандармами. Вот зарисовка с натуры, сделанная репортером «Утра России» при встрече поезда с ранеными офицерами:
«– Куда? Не приказано пускать. – И рослый, бравый жандарм с рыжими усами загораживает дорогу к заветной платформе. (…)

Разгрузка санитарного поезда у распределительного госпиталя
К жандарму подходит бледная, измученная, с черными кругами под глазами, изящно одетая дама.
– Пропустите, пожалуйста, я… мне нужно… у меня муж на границе…
– Нельзя… – начинает жандарм, но потом вдруг поворачивается спиной и смотрит в другую сторону. Дама проскальзывает на платформу. Жандарм улыбается.
И много таких, ждущих с замиранием сердца:
– А может быть, и его привезли с этим поездом?»
Кто-то находил возможность «договориться» со стражем порядка, кто-то находил обходные пути, но в результате каждый раз на платформе было тесно от встречающих. Преобладали дамы с букетами роз или лилий и военные. Те, кому не удавалось пробраться на перрон, теснились в проходе к залам первого и второго классов.
Томительное, до глубокой ночи ожидание в конце концов вознаграждалось приходом поезда.
«Легко раненные офицеры вышли сами, – описывал корреспондент. – Появление первого из них, всего обмотанного повязками, вызывает в публике движение.
Дико вскрикивает какая-то дама, падает и бьется в истерике… Тяжелораненых приносят на носилках. Несмотря на раны, на испытанные лишения, вид у всех бодрый, веселый.
Оживленно рассказывают о том, как дрались, как гнали австрийцев. Публика слушает с замиранием сердца. Слышатся вопросы:
– Где такой-то?.. Встречались? Видели?
– Видел – жив, здоров…
– Такой-то?
– Не знаю, не видал…
– Нет, нет – вы знаете, вы должны знать… Неужели убит?.. Скажите, я не мать… я чужая…
Пожилая дама несказанно волнуется. Раненый офицер убеждает ее.
– Я сказал бы вам… Я не стал бы скрывать.
В ожидании отправки офицеров размещают в зале первого класса. И здесь их окружает толпа. Вопросы сыпятся один за другим».
После таких встреч кто-то из москвичей отправлялся домой, обнадеженный добрыми вестями от близких, но для кого-то слова раненых были первыми, до получения официального извещения, сообщениями о тяжелой утрате. Об одном из таких случаев – тягостном разговоре по телефону – рассказал московский журналист М. П. Кадиш:
«Говорила мать. Сын ее на войне.
– Мой Сережа… вы знаете… Я была на вокзале, встречала раненых. Там были из его полка… Спрашивала…
И опять:
– У нас, кажется, большое горе. Боюсь думать, не хочу верить…»

Студенты помогают раненым на Александровском вокзале
В громадной толпе, заполнявшей площадь у Александровского вокзала и тротуары Тверской улицы, царило иное настроение. Раненых встречали восторженными овациями, бросали в носилки цветы. В газетах утверждалось, что не только любопытство гонит москвичей каждый вечер взглянуть на раненых – «в этой толпе бьется народное сердце великой жалостью и вместе с тем великой гордостью». А в качестве примера фигурировала старушка в платочке, которая пробивалась к санитарному трамваю, зажав в руке два калача: «– На, родимый, ешь на здоровье, – сует она калачи в вагон.
Студент-санитар берет калачи и передает раненым.
Нельзя не взять. Смертельно обидишь старушку».
Но если бы только калачами ограничивался энтузиазм москвичей. На совместном совещании Городской управы и Комиссии по мероприятиям в связи с войной было отмечено, что на носилки раненым из толпы кидали пакеты с лакомствами, яблоки и даже арбузы! Попадая по ранам, такие «подарки» приносили раненым новые страдания. Некоторые врачи утверждали, что и восторженные крики толпы на Тверской имели на тяжелораненых вредное воздействие. В итоге было решено обратиться через печать к москвичам с просьбой умерить пыл.
Кроме того, сотрудники лазаретов со страниц газет доводили до сведения публики, что раненые нуждаются в вещах более простых, чем печенье или конфеты из дорогих кондитерских. В госпиталях остро не хватало постельного и носильного белья, посуды. Из-за отсутствия ванн пациентов приходилось мыть прямо на полу возле кроватей. Табак, папиросная бумага, кисеты, чай, сахар порадовали бы солдат больше фруктов и букетов цветов.
В огромном количестве требовалась раненым форменная одежда, поскольку их гимнастерки и брюки, иссеченные осколками или разрезанные санитарами для скорейшего доступа к ранам, представляли собой никуда не годные лохмотья. Не так уж редки были случаи, когда в Москву привозили раненых русских солдат, прикрывавших наготу трофейными мундирами вражеских армий.
Снабжать раненых новой формой взял на себя обязанность кружок дам из высшего общества, организованный княгиней С. Н. Голицыной. На две тысячи рублей, пожертвованных Кредитным обществом, была закуплена материя. Фирма «Зингер» предоставила несколько машинок, а Политехнический музей – одну из аудиторий. Закройщики из модных магазинов помогли раскроить ткань. Первые партии готовой одежды отправляли в госпитали, но уже очень скоро пошел такой наплыв просителей из числа легкораненых, что всю продукцию стали распределять на месте.

Раненые в санитарном вагоне трамвая
Впрочем, довольно скоро кружку княгини Голицыной пришлось сворачивать работу.
Средства заканчивались, а мануфактурные фирмы не спешили на помощь – зачем делать бесплатно то, за что можно было получить сверхприбыль? В то время на поставках в армию предприниматели богатели сказочно и в короткие сроки.
Менялось и настроение публики – уже к концу августа прибытие санитарных эшелонов, утратив новизну, превратилось в обыденное явление. Вместо изобилующих красочными подробностями репортажей газеты стали помещать хронику в две-три строчки: «Вчера с четырьмя поездами привезены в Москву раненые и больные воины. Раненых разместили в Москве». Эти поезда, приходившие главным образом по ночам, уже не встречала разряженная толпа, размахивавшая цветами и кричавшая «ура».

Отправление раненых на автомобилях и в автомобильных фурах из распределительных госпиталей в постоянные лазареты
Вот как описывал Константин Паустовский в мемуарной «Повести о жизни» разгрузку санитарных эшелонов в начале осени 1914 года:
«Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.
Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова – «грузить раненых», то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.
– Ждите! – отвечали мы. Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.
Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай – может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.
Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.
Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому, своему человеку.
Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно».
Раненых, в зависимости от их состояния, везли с вокзалов либо сразу в лазареты, либо на специальные пункты, где их мыли, кормили, перевязывали, а затем распределяли по частным госпиталям.

Перевозка раненых в трамвайных вагонах в постоянные лазареты
Д. П. Оськин, прошедший через распределительный пункт, вспоминал увиденное:
«После обеда в зале воцарилось оживление: приехали посетители из различных лазаретов и госпиталей, чтобы выбрать новых раненых взамен уже излеченных.
Среди прибывших в большинстве были дамы различного возраста и вида. На мой взгляд, почти все они принадлежали к крупной буржуазии или аристократии. Многие из них имели в руках лорнеты и, задерживаясь подле какой-нибудь из коек, направляли их на раненых. Разговаривали они между собой и с сопровождающими их молодыми людьми на каком-то не русском языке и лишь изредка вставляли русское слово или замечание.
Около меня остановились две дамы. Рассмотрев мою грудь, украшенную крестом, они только после этого соблаговолили обратить внимание и на физиономию.
Одна из них обратилась к другой, лопоча что-то на непонятном мне языке.
– Мы возьмем его, – сказала она в заключение по-русски, оборачиваясь к какому-то маменькиному сынку, который приятно улыбался каждому ее слову.
Посетительницы прошли дальше. Видимо, им надо было выбрать не одного человека, а нескольких».
В начале четвертой недели войны стало очевидно, что Москва не справляется с невиданно огромным потоком раненых воинов. Эшелон за эшелоном прибывали санитарные поезда. Госпитали военного ведомства были забиты под завязку. Помещения лазаретов, находившихся в ведении общественных организаций, удовлетворяли едва ли десятую часть от реальных потребностей.

Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе
«Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых, – сообщала в передовице газета “Утро России”. – В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках».
В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования. Газетчики выяснили и то, что до войны Красным Крестом было заготовлено всего 15 тысяч кроватей. С началом военных действий дополнительной закупкой соломы и белья собирались удвоить количество мест. Столь скромные цифры объяснялись тем, что заботу об основной массе раненых должны были взять на себя городские и земские организации ближайших к фронту тыловых местностей. Но масштаб кровавой бойни оказался неожиданно велик, прифронтовые города очень быстро исчерпали свои невеликие возможности, поэтому основной поток раненых был направлен в Москву.
Положение усугублялось еще тем обстоятельством, что из рук вон плохо было налажено разумное распределение раненых по разным губерниям. Например, газета отмечала: в Полтаве медицинские учреждения тщетно ждут пациентов, зато в срочном порядке открывают госпитали в Челябинске и Екатеринбурге.
Заканчивалась передовица «Утра России» пророческими словами, обращенными к высшей бюрократии: «Духа недовольства нельзя развивать среди болезненных, нервно настроенных людей. В тылу армии не место духу недовольства».
В Москве тем временем началось лихорадочное развертывание новых госпиталей, под которые занимали любые мало-мальски пригодные помещения. Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения.

На пороге госпиталя
Так, профессора, ассистенты и слушательницы Высших женских курсов трудились до изнеможения, но к полуночи 23 августа подготовили 600 коек. Не отстали их коллеги из университета Шанявского. С помощью добровольных помощников – уличных мальчишек, рьяно взявшихся за набивку соломой тюфяков, – они за три часа подготовились к приему нескольких сот раненых.
В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500. Петропавловское училище превратилось в лазарет на 300 коек. Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории.

Лазарет при городском народном университете им. А. Л. Шанявского
Во Вдовьем доме в большой зале для торжественных собраний разместили больничные кровати. Старушки, помнившие еще Крымскую войну, застелили их белоснежным бельем. Срезав с клумб почти все астры, расставили по тумбочкам букеты. А когда привезли раненых, обитательницы Вдовьего дома с неожиданной энергией бросились за ними ухаживать.
«У каждого раненого явилось по нескольку хлопотливых сиделок, – умилялся увиденным корреспондент. – Когда старушки научились так ходить за больными? Неужели это у них осталось со времен все той же знаменитой Севастопольской кампании?
Настоящим к этому делу приставленным сестрам милосердия не остается работы. Старушки бегают, суетятся. Солдаты не знают, как выказать свою благодарность. (…)
Перевязки были сделаны раньше, чем доктор успел распорядиться, – и с каким искусством! Точно эти руки никогда не знали ничего другого, как только перевязывать раненых».
Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях[18], в народных домах, при музее Александра III, в популярных местах развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудованием на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат.
Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых.

Лазарет при городском убежище для беспризорных детей и для престарелых им. И. А. Лямина. Офицерская палата
При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты.
В один день, второго сентября, были освящены два лазарета служителей Мельпомены. Артисты Художественного театра на собственные средства открыли госпиталь на двадцать мест в бывшем доме Варгина на Тверской площади. Их коллеги, артисты Императорских театров (Большого и Малого), взяли на попечение сорок раненых. Поскольку из-за мобилизации в Москве ощущалась нехватка строительных рабочих, ремонт здания театрального училища в Неглинном проезде, отведенного под лазарет, провели сами артисты.

В лазарете артистов Императорских театров. Артистки – сестры милосердия за чаем
«Оригинальную картину представляла из себя, вчерне, внутренность ремонтируемого здания, походившего на улей, – отмечалось в “Обзоре лазарета Императорских театров для больных и раненых воинов”, – где как трудолюбивые пчелы с раннего утра до позднего вечера работали над окраской кроватей, столов, скамеек, дверей и окон не только артисты и артистки Императорских театров, но и ученики Императорского Московского театрального училища. Можно было видеть рядом с оперным певцом, преобразившимся в рабочего, окрашивающего двери, одну из звезд московского балета, стоящую на подоконнике и промывающую стекла окна, а дальше в запачканных краской передниках кордебалетные танцовщицы усердно красили эмалевой белой краской железные кровати, на которых они так еще недавно сами спали, будучи в интернате Училища.
Тут же артисты балета покрывали краской стены палат, а в свободные от занятий часы с разрешения начальства прибегали им помогать маленькие ученики балетной школы, сияя радостью, что и они могут послужить общему делу».

В лазарете Императорских театров. Врачебный обход
Финансирование госпиталя также взяли на себя артисты и служащие императорских театров, постановив отчислять на благое дело из заработной платы два процента. Балерина А. М. Балашова пожертвовала в госпитальный фонд 1000 рублей. Еще полтысячи рублей, свое ежемесячное жалованье, актриса распорядилась перечислять на содержание пяти кроватей. Кроме того, она обязалась до конца войны на собственные средства обеспечивать раненых чаем и сахаром. А художник К. А. Коровин, помимо двухпроцентного вычета из жалованья, отдал часть гонорара за декорации к опере «Евгений Онегин».
В ту же горячую пору было устроено несколько национальных лазаретов. Так, московское землячество эстов открыло при своем общежитии на Долгоруковской улице госпиталь на десять мест. Столько же раненых взялись содержать, арендовав помещение в доме Пастухова в Антипьевском переулке, члены украинского музыкально-драматического кружка «Кобзарь». На Поварской был развернут лазарет «Общества грузин в Москве». Видный член еврейского общества Я. М. Демент установил в своем доме на Большой Полянке 25 больничных коек.

Лазарет в доме владельца Трехгорной мануфактуры Н. И. Прохорова
В сентябре открыла госпиталь на 12 мест московская колония православных арабов-турецкоподданных.
Княгиня П. И. Щербатова приютила десять раненых офицеров в своем доме на Новинском бульваре, где на каждого героя приходилось по две сестры милосердия. Все они были из высшего общества. Другой представитель московской аристократии граф П. С. Шереметев выделил под госпиталь на сорок коек часть знаменитого дворца в усадьбе Кусково.
Другой дворец – Петровский подъездной, по традиции служивший на время коронаций резиденцией русским царям, а в остальное время стоявший пустым, – власти стали срочно приспосабливать под госпиталь на 274 койки. Проблема заключалась в том, что построенный в екатерининские времена архитектурный шедевр не был оборудован водопроводом, канализацией, электричеством. В срочном порядке творение М. Ф. Казакова стали оснащать этими достижениями цивилизации.
Журналисты с восторгом расписывали, каким великолепием будут окружены герои войны «в чертоге блеска и роскоши». Так, большую часть дня раненые могли проводить на примыкавшей к палате номер три террасе, откуда открывался вид на великолепный цветник. В палате номер шесть, помещавшейся в среднем большом зале, воображение вчерашних рабочих и крестьян должны были поражать гипсовые канделябры и знаменитые лепные потолки работы итальянских мастеров. В интерьерах остальных помещений сохранялись громадные зеркала в золоченых рамах и лепные камины.
Владимир Гиляровский посвятил госпиталю в Петровском дворце поэтические строки:
Близ белокаменной столицы
Стоит дворец. Стена, бойницы,
Старинных башен стройный ряд
О днях далеких говорят,
Когда сиял дворец огнями
Перед Высокими Гостями.
С тех пор прошло немало лет…
(…)
Не мало времени прошло,
Уже столетье протекло,
И снова гул войны священной
Грозой пронесся над вселенной.
Под боевой немолчный гром
Русь опоясалась огнем.
И перед вражескою тучей
Поднялся весь народ могучий —
От светлых, царственных палат
До закоптелых, бедных хат.
И во Дворце стоят кровати,
На них бойцы священной рати,
Врагом изранены, лежат,
О жарком бое говорят.
В конце сентября в другом дворце – кремлевском Потешном, находившемся в ведении Министерства императорского двора, для офицеров был открыт госпиталь императрицы Александры Федоровны.
Не уступала дворцам в роскоши зимняя дача А. И. Коншиной в Петровском парке, пожертвованная московской миллионершей под госпиталь. «Даже ряд простых железных кроватей, поставленных вдоль больших, светлых комнат, не может стереть отпечаток барской культуры, взлелеянной здесь долгими годами, – описывал увиденное репортер “Утра России”. – Зеркала занавешены, все лишнее убрано. Камины пока не топятся, только букеты свежих цветов украшают столовую, где больные собрались из всех палат попить чаек.
И все же люстры льют по вечерам такой мягкий, рассеянный свет; стены, отделанные под дуб, успокаивают нервы…»
Попав в непривычную обстановку барской усадьбы, нижние чины чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них признавался корреспонденту: «Так хорошо, что даже первое время не верилось: для нас ли?» Поэтому раненые, сохранившие способность передвигаться самостоятельно, предпочитали больше времени проводить вне дома. Благо в их распоряжении был отгороженный от внешнего мира глухим забором обширный парк с уютными аллеями и прудом.
Надо полагать, не в худшей обстановке оказались пятьдесят раненых фронтовиков, размещенных в особняке Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре.
Лазареты появились не только в центре города, но и на его окраинах. Побывав на одной из них, журналист поделился впечатлениями с читателями газеты «Утро России»:
«Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом.
Повсюду раненые. Воспользовались они ярким и теплым днем и появились на воздухе.
Больничные халаты, туфли и бескозырки. Кое-где начинает звучать смех, пока еще нерешительный и слабый.
Знакомая идиллия! Два солдатика любезничают с кухаркой.
– Вы не смотрите, что мы такие. Мы – гусары. Поправимся – и в седло.
Только руки у обоих обвязаны бинтами. И над воротами красуется свежая, блистающая еще непросохшей краской вывеска:
“Военный лазарет номер…”
Крупный номер. Трехзначное число.

Благотворительная продажа возле госпиталя. Раненые покупают флажки
Всюду жизнь, – и носы, приплюснутые к стеклам. Раненые на лавочках у ворот.
Каждую такую группу окружает почтительная, внимательная толпа. Раненые рассказывают о своих впечатлениях, и слушатели подбодряют:
– Так его!.. Ай да мы!.. Лихо!..»
Впрочем, эти островки благополучия только усугубляли общую неприглядную картину создавшегося положения. Главноуполномоченный Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов не скрывал, что общественные организации работают на пределе возможностей и готовы идти на крайние меры: «Пришлось занимать школы – заняли школы. Придется занимать частные дома – будем занимать и частные дома. Не хватает крытых помещений, и придется класть раненых на улице – нечего делать, будем класть на улице».
Все, кто напрямую занимался организацией помощи раненым, в один голос утверждали, что камнем преткновения является практическое отсутствие сортировки пострадавших в боях по тяжести полученных ран. «Москва едва ли в состоянии предоставить более 10–12 тысяч коек, – авторитетно заявлял профессор Л. С. Минор, – но эти койки “золотые”, ибо находятся при лучших в России больницах и лазаретах. Их нужно оставить только для тяжелораненых».
Положение осложнялось еще тем, что в тот период подавляющее большинство московских госпиталей были забиты пациентами с легкими ранениями. Газета «Утро России» писала 1 сентября 1914 года: «…громадное число прибывших, например, к нам, в Москву, раненых, целыми днями разгуливают по улицам города, так как не ощущают никакой потребности в лазаретном уходе и систематическом лечении».
Усугубляла и так сложную обстановку нераспорядительность военных чиновников. Переосвидетельствование выздоравливающих не было налажено должным образом, поэтому много мест занимали солдаты, уже не нуждавшиеся в медицинской помощи. «Очень туго движется эвакуация раненых из клиник, – делился наболевшим с журналистами профессор Н. Ф. Голубов. – У меня 120 мест, и все заняты ранеными; сорок человек из них совершенно выздоровели и даже годны в строй. Больные быстро поправились благодаря хорошему питанию и клиническому уходу. Но никак не можем добиться своевременной эвакуации этих выздоровевших раненых из клиник, несмотря на неоднократные обращения в разные учреждения, от которых зависит обратная эвакуация. Некоторые из выздоравливающих раненых ежедневно спрашивают: “Когда же нас к своим частям отправят?” “Скучно”, – говорят они. Ответить им никто не может, так как обратная эвакуация зависит не от клиник». Профессор Голубов предположил, что если такая же картина наблюдается в других московских госпиталях, то 25 процентов коек занимают вполне здоровые люди. Отчаявшись, некоторые заведующие лазаретами выписывали полностью излечившихся солдат.

Переноска тяжелораненого
В результате на улицах Москвы появилось множество праздношатающихся нижних чинов, которые по несколько дней обивали пороги воинских начальников, безуспешно пытаясь получить документы на проезд. Только после нелицеприятной критики со стороны общественных организаций военные власти наладили бесперебойную выписку из лазаретов годных в строй солдат.
По всей видимости, сложнее приходилось офицерам, лечившимся после ранений. Мемуарист Н. П. Розанов свидетельствует: «Родители раненых офицеров, привезенных для излечения в Москву, жаловались на то, что их сыновьям даже вылечиться как следует не дают, и плац-адъютанты разъезжают по квартирам больных офицеров, понуждая их поскорее отправляться на фронт. Так, прис<яжный> пов<еренный> Смирнов, с которым мне пришлось в эту пору быть в окружном суде присяжным заседателем, говорил мне, что его сына, капитана, уже шесть раз ранили на войне, и каждый раз, как он приезжал домой лечиться, у него “над душой стояли” архангелы из комендантства, спрашивая, скоро ли он отправится в свою часть на фронт…»
В начале декабря 1914 года командующий МВО издал приказ: офицеры, находившиеся на лечении в Москве, должны были каждые две недели являться на медицинскую комиссию. В автобиографическом произведении «Из писем прапорщика-артиллериста» писатель-философ Ф. А. Степун, попавший в госпиталь с контузией ноги и передвигавшийся только на костылях, описал, как это происходило на практике:
«Мое настроение, поскольку оно обусловлено не моим личным миром, а обстановкою войны в тылу, много хуже, чем на позиции. Госпитально-эвакуационный тыл решительно ужасен и отвратителен. Я не знаю более гнусного и подлого учреждения, чем 1-й московский эвакуационный пункт. Помещается он за городом, куда извозчик берет не менее пяти рублей в конец. Помещается на третьем этаже, на который ведет лестница без перил, обледенелая, скользкая и ничем не посыпанная. Ждать своей очереди приходится в грязном, узком коридоре, в котором стоит один рваный диван и очень ограниченное количество венских стульев. Многие раненые офицеры принуждены потому сидеть на подоконниках. При этом в спину так сверлит холодом, что, ей-богу, кажется, что у тебя в самом позвоночнике свистит ветер. Просиживать в такой обстановке доводится целые часы, пока старческая, шамкающая и, очевидно, бездельная комиссия соизволит тебя принять.
Кроме визита во врачебную комиссию приходится два раза в месяц, 1-го и 20-го, отправляться в канцелярию, в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещается, конечно, как нарочно не в том же громадном доме, и даже не на том же казарменном дворе, а в совершенно особо стоящем на другом конце площади офицерском собрании, и опять-таки во втором этаже. Нужно, таким образом, два раза подняться на костылях на второй этаж, два раза спуститься с него и два раза пересечь широкую, снежную площадь. Своего жалованья, однако, на эвакуационном пункте, несмотря на все эти мытарства, получить нельзя. После двухчасового ожидания, неизбежного потому, что десятки прошений толпы офицеров пишут за маленьким столом всего только в две ручки, ты снова получишь не деньги, а всего только аттестат, который надо везти в казенную палату, дабы после нового стояния в двух хвостах выручить наконец причитающиеся тебе 56 рублей. Таково обращение с офицерами, каково же с солдатами?
Скажите же на милость, что это все, как не прямое надругательство над теми людьми, которые как-никак жизнь свою отдавали за спасение родины и престиж русского государства. Ей-богу, удивляться надо и рабьей долготерпимости русского человека, и махровому хамству нашего административного аппарата…»
Непосредственный свидетель того, как военно-медицинская администрация обращалась с нижними чинами, Д. П. Оськин в своих «Записках» отразил это так:
«К концу недели нас всех вызвали на медицинский осмотр.
В одной из комнат административного корпуса заседала комиссия из нескольких врачей и офицеров. Солдаты, выстроившись в затылок друг другу, проходили через эту «комиссию», задерживаясь каждый буквально в течение нескольких секунд. Врач приказывал заранее снимать рубашки или шаровары, смотрел, кто куда ранен, взглядывал на лицо раненого, отмечал что-то в своей книге, и на этом “осмотр” заканчивался.
Это была не медицинская комиссия, а какая-то комедия, неизвестно для чего устроенная. Результат, впрочем, сказался довольно скоро – уже на следующий день в ротной канцелярии вывесили список, гласящий, что перечисленные в нем солдаты (человек сорок) признаны здоровыми и подлежат выписке на фронт».
Вернемся, однако, в лето 1914 года. Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома.
Со страниц газет раздавались призывы обязать домовладельцев отдавать пустующие квартиры – их в Москве насчитывалось около 1500 – под лазареты. По приказу градоначальника полиция совершила обход и выявила все свободные жилые помещения. Однако Городская управа не стала спешить с мобилизацией жилого фонда. Хорошо зная характер московских домовладельцев, отцы города не хотели пробуждать их алчность. Арендная плата за госпиталь значительно превышала доход от жильцов, и у домовладельцев наверняка возникло бы желание избавиться от квартирантов ради отдачи помещений в казенный подряд.
В конечном итоге было решено ограничиться лишь призывом разобрать раненых по домам на добровольной основе. «Им будет хорошо в домашнем уюте», – утверждал председатель Московского комитета Красного Креста А. Д. Самарин. Еще дальше пошла в своем обращении к русской интеллигенции А. Р. Крандиевская. В лучших традициях чеховских героинь она призывала воспользоваться патронажем для единения с простым народом: «…со стороны, так сказать, выпуклости нашей душевности в делах, связанных с общим мировым горем, нет ничего более благодарного и более выгодного для нас, как то милосердие, которое должно спаять нас с нашим народом».
По мнению А. Р. Крандиевской, житье бок о бок с людьми «от сохи» должно было оставить в сердцах более сотни тысяч интеллигентов неизгладимые впечатления о том, «…как мы с ними роднились через наше добро, гостеприимство, как много это добро дало самим нам, какое нравственное удовлетворение дали нам временная теснота нашей квартиры, временное “неудобство”, как интересны, поучительны и для нас и для наших детей были у нас вечера, во время которых вели мы с гостями нашими такие душевные и такие хорошие беседы, как много узнали мы и наши дети из рассказов воинов о войне, о сражениях. Как много узнали о деревне, о народной нужде и горе, о народных чаяниях и надеждах».
Возможно, массовое превращение уютных квартирок в «коммуналки» позволило бы русской интеллигенции наконец-то познать «сермяжную правду». Однако беда была в том, что выходцы из народа без особой охоты шли на частные квартиры. Солдаты объясняли это тем, что в госпиталях есть «общество», т. е. там можно отвести душу в разговорах, особенно если встретить земляков. А главное, кроме таких тяжких испытаний, как прием пищи за «барским» столом и пользование ватерклозетом, выходцев из народа угнетала мысль о том, что они должны быть чем-то вроде приживальщиков у конкретного благодетеля. В моральном плане принимать благодеяния от общественной организации было гораздо легче.

М. Щеглов. Новый герой московских гостиных
Тем не менее, по сведениям из Всероссийского земского союза помощи раненым, к исходу первой недели сентября в патронат было оформлено 5643 легкораненых. А заявок от москвичей ежедневно поступало на 500 человек. Вот только у патроната оказалась другая сторона медали. Газеты отмечали, что «частные лица, взявшие себе на дом так называемых легкораненых, которые давно уже совершенно выздоровели, недоумевают, почему этих выздоровевших все еще не отпускают по домам или не возвращают в армию».
Кроме того, среди легкораненых оказалось довольно много специфической публики. «Когда к нам в семинарскую больницу привезли с фронта первых раненых солдат, – свидетельствовал Н. П. Розанов, – то я увидел, что у многих ранены были пальцы на руках, что, как объяснили мне опытные люди, было уловкой самих солдатиков, простреливавших себе пальцы, чтобы быть эвакуированными с фронта в тыл».
Эти «герои-фронтовики», разгуливавшие в больничных халатах поверх белья, настолько заполонили московские улицы, что в конце концов обратили на себя внимание военных властей. Не успели высохнуть чернила на воззвании госпожи Крандиевской, как шестого сентября стало известно о настоятельной просьбе командующего МВО: не отправлять легкораненых в патронаж, а если и отправлять, то партиями не менее четырех человек. А десятого сентября поступил окончательный запрет: «…ввиду того, что раненые продолжают появляться на улицах не в установленной форме, имея на себе халат и нижнее белье и не соблюдая правил воинского почитания, временно командующий войсками приказал совершенно воспретить раздачу раненых на квартиры».
В дополнительной телеграмме внимание руководителей лазаретов обращалось на то, что выписанных солдат следует направлять к воинским начальникам в чистом белье. Вскоре последовал приказ: наряжать из частей московского гарнизона «особые дозоры», которые должны были задерживать одетых не по форме солдат и препровождать их в ближайшие полицейские участки. Наконец, 14 сентября были обнародованы утвержденные штабом МВО «Правила для раненых»:
«1. Не допускать нижних чинов выходить для прогулок на улицу; тем из них, которые должны ходить на перевязку, надлежит выходить одетыми строго по форме; в халате и без сапог выход нижним чинам безусловно запрещается.
2. Выздоравливающих и не нуждающихся в коечном лечении нижних чинов не задерживать для отдыха в лечебных заведениях и патронатах, а безотлагательно направлять в управление московского воинского начальника.
3. Подтвердить нижним чинам, что согласно уставу внутренней службы им запрещается занимать места внутри вагонов трамвая и ходить по бульварам и скверам.
4. Для осмотра исторических памятников Москвы и поклонения московским святыням разрешается увольнять эвакуированных раненых и больных нижних чинов командами, при старшем и в сопровождении лица, могущего преподать им нужные сведения. В командах этих не должно быть нижних чинов, одетых не по форме».
Претворение в жизнь приказов командующего МВО облегчалось тем, что количество раненых в Москве заметно сократилось. То ли лучше заработала сортировка и распределение раненых по другим регионам, то ли удалось решить проблему с выпиской вылеченных солдат, но уже 12 сентября газета «Утро России» сообщила: «На улицах их <раненых> почти не видно». Тут же была приведена радостная статистика – в лазаретах из 35 тысяч коек уже свободны 16 тысяч, в том числе 5 тысяч в госпиталях военного ведомства.
Месяц спустя на страницах той же газеты председатель Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов констатировал:
«Мы можем теперь быть спокойны за наших раненых воинов. Слава Богу, чувство боли и мучительной тревоги за них сменилось теперь чувством полного спокойствия за их участь и уверенностью в том, что каждый больной и раненый, возвращающийся с поля сражения, найдет здесь дома, внутри империи, спокойную койку, братский уход, лечение. За два месяца один Всероссийский земский союз открыл 150 тысяч коек, а всех коек в России до 300 тысяч. Заготовлены громадные запасы белья, перевязочного материала, лекарств, и десятки тысяч сердобольных сестер и братьев могут принять теперь непосредственное участие в святом деле помощи раненым в стройно-организованной работе.
Дело сделано, работа пошла в широком русле могучего течения великих чувств великого русского народа. Его фарватер вместит и поднимет какие угодно грузы. Мы не боимся никакой перегрузки. Нам нечего сомневаться, русский народ поднимет и понесет легко всякое бремя, великую тяжесть судьбы. (…)
Спокойные за наших больных и раненых воинов, двинемся теперь всем миром на помощь нашей армии. Поддержим ее, нашу честь, нашу славу, нашу доблестную геройскую армию. Поддержим ее в великих страстях, трудах и подвигах. Дадим все, что надо ей на передовых позициях, в окопах, в открытом поле, в холоде и мокроте. Обвеем ее там духом любви матери, родной земли».
Итак, в октябре 1914 года в Москве заработала полностью отлаженная система приема, размещения и ухода за ранеными. Город предоставлял им благоустроенные лазареты с полными штатами персонала, полноценное питание и заботливый уход. От раненых только требовалось безоговорочно подчиняться установленному распорядку. Медицинские процедуры, прием пищи – все проходило строго по часам. Конечно, на первом для раненых месте стояли операции и перевязки.
Уровень медицины того времени превращал обработку самых простых ран в тяжелое испытание. Н. М. Гершензон-Чегодаева навсегда запомнила услышанный в детстве рассказ знакомого их семьи, раненного на фронте: «Он как-то пришел к нам (…) хромой, с палкой в руках и у нас в саду рассказывал о своей ране, о пережитых им ужасных страданиях. Никогда не забуду того потрясающего впечатления, которое осталось у меня от его слов, от рассказа о том, как ему через сквозную рану на ноге протаскивали тампон, пропитанный йодом».
Ф. А. Степун, испытавший на себе, что значит побывать в госпитале, писал о пережитом:
«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.
В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой “канун”, в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет.

П. Першин. С перевязки. Набросок с натуры
Изо дня в день тяжелые живут исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и, морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических – заражения крови. Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных.

Сестра милосердия

Перевязка раненого в лазарете
Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут как мухи, а здоровые кутят и безобразничают».
Бывало, что во время перевязки проявить одинаковое мужество требовалось как раненым, так и сестрам милосердия. Дочь Льва Толстого Александра, добровольно поступившая во фронтовой санитарный отряд, вспоминала об одном из случаев в своей практике:
«Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела… черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы.
Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, – было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…»
Княжна Е. Н. Сайн-Витгенштейн, поступившая вместе с сестрой на курсы при Ново-Екатерининской больнице, описала в дневнике свое первое участие в перевязке:
«У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки („Мнение новичка“. – Примечание автора дневника, сделанное в 1916 г.), и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что я там упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор. Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату».
Менее чем через три месяца Е. Н. Сайн-Витгенштейн отметила в дневнике:
«Теперь, когда мы кончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, но нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы, да еще двое, считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот».
Княгиня не зря гордилась достигнутыми успехами. Светские дамы, не умеющие толком ухаживать за ранеными, но в общем порыве ринувшиеся в лазареты, служили мишенями для острот. Вот как их изобразил автор фельетона «Сестры немилосердные»:
«Они работают почти в каждом лазарете и своими сверкающими белизной халатами, тончайшими повязками, бриллиантами в ушах и на руках напоминают каких-то экзотических бабочек.
В самые счастливые дни на одного прибывшего солдата приходится по десятку доброволиц, в самые несчастные – десятки солдат остаются без единой заботы их нежных ручек.
Я позволю себе рассказать о самых счастливых днях.
Когда привозят раненых, часто голодных, грязных и усталых, они тут, суетливые, ахающие, беспокойные.
И тотчас же пускают в ход все орудия своего туалетного стола – одеколоны, уксусы и прочие притирания.
Ну, конечно, это смущает солдата:
– Что вы, барышня?.. Да я бы сперва водицей.
– Молчи, пожалуйста, – мило возражают они. – Во-первых, одеколон гораздо гигиеничнее воды, во-вторых, это стоит всего полтора рубля, в-третьих…
И раненый уже не протестует, а только сопит, подставляя щеки:
– Фр-р-р!.. Вам лучше знать… Фр-р-р!.. Вы все произошли… Фр-р-р!.. Ух, духовитая эта штука…
Есть врачи… С ними беда… Не любят они таких доброволиц и всегда ужасно грубят и язвят.
Но ведь всем известно, что это за народ врачи – самый чудовищный народ.
Был, например, в одном лазарете такой случай.
Аристократка-доброволица увидала на халате врача одну из самых неприятных представительниц солдатской фауны. Громадная, серая, она ползла по рукаву халата, с усилием преодолевая ворсу ткани.
– Николай Петрович! – воскликнула с умиленным видом сверхнаивная девушка, – смотрите, какая у вас на рукаве милая… божья коровка!
Врач едва не умер от смеха, а за ним и весь лазарет смеялся несколько дней:
– Божья коровка!..
Но еще больше допекают
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
ГЕНЕРАЛИССИМУС ЖОФФР. № 37 ЖУРНАЛА «ИСКРЫ», ГОД 1914-Й |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.odin-fakt.ru/iskry/generalissimus_37_1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: первая мировая война москва красный крест |
Москва на службе России в годы Первой Мировой войны |
Москва на службе России в годы Первой Мировой войны
О.Л. Сорокина, к.и.н.
самолет Фарман русской армии
Мировой войне предшествовал балканский кризис, началом которого стало убийство 28 июня 1914 года в Сараеве австрийского престолонаследника Франца Фердинанда. Покушение осуществили члены организации «Млада Босна» (1912 г. возникновения) Данило Илич, Гаврило Принцип. Но тогда в июне 1914 года превращению его в мировую войну ничего не предвещало. «Первое время официальные отношения между Веной и Петербургом не вызывали каких-либо осложнений. В обеих столицах не собирались обострять обстановку, в Вене попытались даже воздействовать на легитимные чувства царя и Сазонова, убедив их в необходимости организации единого фронта монархической Европы против сербов-революционеров… Однако царское правительство не клюнуло на эту удочку. Монархические чувства царя отступили на второй план перед империалистическими интересами. После неудачи на Дальнем Востоке Петербург выдвинул доктрину: «Назад, в Европу!». Балканы стали играть все возрастающую роль в экономических, политических и военно-стратегических планах Российской Империи… Сербия, являвшаяся по образному выражению венгерской газеты «Уйвидеки хирлаа» воротами на Балканы, занимала важное место в экспансионистских замыслах Петербурга. Она, по расчетам царского министра иностранных дел С.Д. Сазонова, могла стать центром возрождения Балканского союза, в состав в перспективе предполагалось включить Турцию и Румынию». В этих условиях «российское правительство решило действовать при помощи давно испытанных средств – от скрытого давления до военных угроз и гласных посулов.» (Ю.А. Писарев. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. – М.: Наука, 1990. – С. 58-59). С одной стороны, оно посоветовало Сербии вступить в переговоры с Австро-Венгрией, чтобы снять накал напряжения. С другой стороны в Петербурге дали ясно понять, что в случае нападения Австро-Венгрии на Сербию Россия не останется в стороне. Вот как вспоминал позднее в эмиграции об этих днях бывший военный министр В. Сухомлинов: «в русском военном министерстве войны не ожидали… Как обыкновенно, в мае все войска покинули свои казармы, артиллерия приступила к практической стрельбе. В июле – готовились к проектированным еще зимой маневрам». (Воспоминания. – Берлин, 1924 г. С. 283.) И в этой размеренной обстановке «неожиданностью стало предложение прибыть на заседание Совета в Красное Село 12(25) июля в разгар лагерного сбора».
И завертелось. 13(26) июля 1914 года вводится Положение о подготовительном к войне периоде, но без объявления непосредственной мобилизации. Это Положение предполагало принятия всеми ведомствами мер для подготовки и обеспечения мобилизации армии и флота, крепостей и сосредоточения армии к границам вероятных противников. (В.А. Авдеев. Пролог исторической трагедии. Русская мобилизация в июле 1914 г.// Военно-исторический журнал. 1994. №7. С. 40-41). А уже 15(28) июля С.Д. Сазонов передает начальнику Генерального штаба Высочайшее повеление об изготовлении двух указов: одного о частичной мобилизации и другого – на случай общей мобилизации за подписью Государя императора. Но утром 16(29) июля австрийцы переходят сербскую границу. И все мероприятия, переговоры с немецкой стороной отходят на второй план. По оценкам С.Д. Сазонова день 16(29) июля был «многознаменательным для переговоров, предшествовавших объявлению нам войны Германией. В этот день мы узнали доподлинно, что военное столкновение между Австро-Германией и Россией и Францией стало неизбежно… Австро-Венгрия объявила войну, (Сербии – С.О.) и на другой же день начала бомбардировку Белграда. Против нас ею было мобилизовано восемь армейских корпусов, что вызвало с нашей стороны ответные мобилизационные меры на австрийской границе…(С.Д. Сазонов. Воспоминания. М., 1991. С.234-235). События этих дней катастрофически приближали страну к войне.
Развязка наступила 18(31) июля 1914 года, когда после долгих колебаний Николай II дает согласие приступить к общей мобилизации, первым днем которой и должен был стать день 18 (31) июля. В военные округа стали уходить телеграммы. А в 7 часов 10 минут вечера 19 июля (1 августа) германский посол граф Пурталес на аудиенции у С.Д. Сазонова вручил русскому министру иностранных дел ноту с объявлением войны, ответственность за которую возлагалось на Россию. (В.А. Авдеев. Указ. Соч. С. 45). 3 августа война была объявлена германским правительством Франции. В тот же день, передовыми частями германской армии был оккупирован Люксембург. Первая мировая война стала реальностью. 2 августа 1914 года в Зимнем дворце было совершенно торжественное богослужение, на котором присутствовал единственный иностранец, французский посланник, «представитель союзниц России» — Морис Палеолог, запечатлевший в своих воспоминаниях «Царская Россия во время мировой войны» (М.-Л., 1923 г.) этот судьбоносный момент. Он писал: «Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале… собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. По середине зала помещен престол и туда перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери… В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря… Божественная служба начинается тотчас же, сопровождаемая мощными и патетическими песнопениями православной литургии. После окончания молитв, дворцовый священник читает манифест царя народу…». А 4 августа Государь с семьей торжественно въезжает в Москву под звон колоколов, встречаемый, по словам генерала А.И. Спиридовича, еще с большим, чем раньше энтузиазмом. Было обстоятельство, внесшее нотку горечи в то пребывание в Москве. Наследник был болен. Не мог ходить. На выходах его носил на руках казак-конвоец. В народе много про это говорили… 8 августа Государь принял городских голов со всей России, собравшихся в Москву для разрешения вопросов о помощи раненым. В тот же день Государь покинул Москву и отправился в Троицко-Сергиевскую Лавру. Отслужили молебен, приложились к мощам Угодника. Архимандрит Товий благословил Государя иконой явления Богоматери преподобному Сергию. Его Величество повелел отправить икону в Ставку, а сам с семьей направился в Царское село…(А.И. Спиридович. «Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг.», Нью-Йорк, 1960-62, С.3)
А.Н. Туполев
Наступившая реальность была намного прозаичнее. С первых же месяцев войны русское правительство на фронте сталкивается с недостатком снарядов и винтовок. Все предвоенные расчеты и нормы с первых же военных операций были опрокинуты. На юго-западном фронте норма снарядов была израсходована в 16 дней, а все запасы – в 4 месяца. Решить эту проблему русская промышленность не имела возможности. Восстановить израсходованное она могла только в течение года, так как к мобилизационной подготовке промышленности к большой и длительной войне никто не думал, и, наоборот, по выполнении «программы» заказы сокращались, хотя заказов до конца 1914 года было выдано более чем на 14 млн. снарядов, темпы их изготовления внутри страны отнюдь не ускорились. (А.Л. Сидоров. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Из-во «Наука», 1973, С.20). Дело осложняло и то, что военная перестройка русской промышленности началась с опозданием и проходила без всякого плана, сравнительно медленно с колоссальной тратой средств, зачастую не соответствовавших результатам. И как следствие этих проблем стало положение дел на восточном фронте, где идя навстречу просьбам союзников, русское командование, не дожидаясь сосредоточения всех сил на театре военных действий (оно могло быть достигнуто лишь на 40-й день после начала всеобщей мобилизации), развернуло операции в Восточной Пруссии. В боях под Гумбиненом немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Сняв значительные силы с Западного фронта, германское командование смогло осуществить частичное окружение в районе Танненберга 2-й армии генерала А.В. Самсонова. Около 30 тыс. человек попало в плен. В итоге русские войска были вытеснены из Восточной Пруссии. Тем не менее, немцам пришлось ослабить свои силы на Западном фронте, что позволило англо-французским войскам в кровопролитном сражении на Марне остановить германское наступление. План «молниеносной войны» провалился благодаря крови, пролитой русскими солдатами в Восточной Пруссии. В августе-сентябре 1914 года русские войска в грандиозной Галицийской битве нанесли тяжелое поражение австрийцам, потерявшим около 400 тыс. человек. Армии Юго-Западного фронта продвинулись на 280-300 км, захватив Галицию. Попытки немцев нанести поражение русским войскам в Польше (осенью 1914 года) не увенчались успехом. На Кавказе в ходе Сарыкамышской операции русская армия разгромила турок, потерявших 90 тыс. человек.
А в тыловые города России потекли эшелоны с ранеными и больными. Первый санитарный транспорт Москва встретила 8 августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер–получили настоящие боевые ранения на полях сражений… Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе Окружной железной дороги прибыл целый санитарный эшелон. «Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых,- сообщала в передовице газета «Утро России». В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках». В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования…( В.Руга. «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны /Владимир Руга, Андрей Кокорев. М.:АСТ, 2011, С. 104,116.).Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения… Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории. В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища (МВТУ имени Н.Э.Баумана) поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500… Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях, в народных домах, при музее Александра III, в популярных места развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудование на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат. Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых… При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты… (Там же. С.117-120). Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом. Повсюду раненые. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К 6 августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест. Москвичка Р.М. Хин-Гольдовская в августе 1914 г. записала в дневнике: «В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу–и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)». (В.Руга. «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны/Владимир Руга, Андрей Кокорев. М.:АСТ, 2011, С. 101».)
Временный госпиталь в частном училище Мазинга, Москва
В Москве в это время открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Инициаторами их были люди из разных социальных слоев: от крупных промышленников, до обычных обывателей, — каждый из них стремился внести свою лепту в дело помощи раненым. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Союза польских женщин», «Дома польского», «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества». (Там же. С. 102). «Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома…». Были и такие случаи, проводив павшего в бою воина в последний путь, некоторые из москвичей старались увековечить память о герое. Так, отец корнета А.Г.фон Кеппена назвал именем сына госпиталь на 25 раненых, открытый им на Ново-Басманной улице…». (В.Руга.«Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны».). Начавшаяся война предопределила, с одной стороны, рост патриотизма в российском обществе, а, с другой стороны, взаимную ненависть народов воюющих стран. Эскалация военных действий летом-осенью 1914 года стимулировала рост враждебных настроений населения России к представителям Германии и Австро-Венгрии, которых к началу войны в Москве, согласно данным московской полиции, проживало примерно 7500 подданных Германии и Австро-Венгрии. (Там же. С. 428).
Нагнетание антигерманских настроений повлекло соответствующие результаты: из Москвы было выслано около двух тысяч германских и австро-венгерских подданных, начался повсеместный бойкот немецких товаров, лавок и магазинов. Распространялась практика отказов от делового сотрудничества с немцами, в ходе которой московские немцы сначала были вытеснены из представительных органов делового мира (из Московского биржевого комитета…), а позже над большинством «немецких» фирм был установлен контроль правительства. Роль координационного центра этой кампании играл образованный в Петрограде Особый комитет по борьбе с немецким засильем. 1 апреля 1915 года на территории России закрылись все без исключения немецкие гимназии. В августе-сентябре 1914 года прошла серия мер по переименованию населенных пунктов, носящих немецкое название. 3 сентября 1914 года город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. (В. Дённингхаус. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494-1941). Перевод. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 325, 326). А «все без исключением проживающие в пределах Московского градоначальничества германские и австрийские подданные мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет считаются военнопленными… Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или нарушении сего обязательного постановления, подвергаются в административном порядке заключению в тюрьму или крепости на 3 месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу до 3 тысяч рублей…Следом за военнопленными должны были последовать члены их семей». Кроме этого запрещалась немецкая речь в общественных местах, штрафные санкции для нарушающих были идентичными, предыдущим нарушениям. Непатриотичным считалось и исполнение произведений немецких композиторов – Бах, Штраус. Весной 1915 года закрылись все немецкоязычные газеты, конфисковывались книги, издаваемые для этнических немцев. В газетах, речах государственных деятелей нагнетались антигерманские настроения.
Общим сигналом к началу интенсивной антинемецкой пропаганды в столице стала речь Николая II, произнесенная 4 августа 1914 года перед гласными Московской городской думы. Результатом выступления явился погром, учиненный толпой 5 августа в германском посольстве при полном невмешательстве полиции. Во время визита Николая II в Москву на улицы города вышли на национально-патриотическую манифестацию около миллиона москвичей. С этого времени столичные газеты и журналы усилили агитацию под германофобскими лозунгами, которые обосновывались «тевтонской опасностью» и жестокостями немцев в отношении населения оккупированных территорий, а позднее и военнопленных. С этого времени приметой Москвы периода первой мировой войны стал «…рост антинемецких настроений среди рабочих, вызванных оскорблениями национальных чувств и придирчивостью со стороны представителей фабричной администрации из числа немцев и австрийцев. Обида на немцев и уязвленное имперское самолюбие усилили германофобию и привели, на фоне массового патриотического подъема, к взрыву конфликта на бытовом уровне против членов немецкой колонии в Москве. 10 октября 1914 года, впервые с начала военных действий, в Москве были совершены нападения на предприятия германских и австро-венгерских подданных. В то время в городе насчитывалось189 торговых домов, обществ и фирм, в число владельцев которых входили немцы и австрийцы, а также более 300 их единоличных торговых, ремесленных, фабричных и других заведений. Группами протестующих обывателей в тот день были разбиты витрины и частично расхищены товары в кондитерских магазинах «Эйнем» в Верхних торговых рядах и на Ильинке, «Мандль» на Рождественке, «Дрезден» на Мясницкой и в некоторых других. Полиции удалось тогда разогнать погромщиков и предотвратить полный разгром торговых помещений, но взрывоопасная ситуация в городе сохранялась». (В.А.Любартович, Е.М. Юхименко. «Немецкий купеческий род Прове: два века с Москвой. М.:Издательский Дом ТОНЧУ, 2008. С. 175-176.».). «В конце мая 1915 года,…в Москве, произошел грандиозный погром. Били немцев»,– так…начал свои воспоминания об этом событии…статский советник Н.П.Харламов, посланный в 1915 году во вторую столицу для официального расследования.
Погромные настроения тлели там и ранее. Еще «осенью 1914 г. в Москве,– свидетельствовал полковник Кирасирского полка Г.А.Гоштовт,– истерически настроенная оголтелая толпа топила в реке старушку только за то, что она носила немецкую фамилию. Внешними причинами разразившегося в Москве погрома были военные неудачи на фронте. Погром в Москве продолжался три дня: с 27 по 29 мая. Еще 26 мая около полутора тысяч рабочих ситценабивной фабрики Гюбнера выдвинули перед администрацией коллективное требование: удалить всех служащих и рабочих из «немцев-эльзасцев». Не получив удовлетворения, толпы рабочих с флагами, портретами Государя, пением гимна и выкриками «Долой немцев!» вышли на улицы. На следующий день с утра все повторилось. Сотни рабочих заполнили улицы Замоскворечья. Толпа насчитывала до 10 тысяч человек. 28 забастовали все заводы Москвы. Толпы были еще гуще. Несли национальные флаги, Царские портреты, пели народный гимн. Кричали «Долой немцев!», «Да здравствует Государь Император и Русская Армия!». Утром 28 мая погромы вышли за пределы Москвы…Число погромщиков в самый пик погрома, 27-28 мая, превышало100 тыс. человек. Лишь прибывшие в город, по решению Московской городской думы… утром 29 мая регулярные воинские части прекратили погром. В ходе погрома было убито 5 человек немецкого происхождения, четверо из которых были женщины. Разгромлено 732 отдельных помещения, в число которых входили магазины, склады, конторы и частные квартиры. Официально было зафиксировано более 60 возгораний. Приблизительная общая сумма убытка – более 50 миллионов рублей. Расследование установило, что в результате трехдневных беспорядков пострадали не только 113 австро-германских подданных, но и 489 подданных Российской Империи с иностранными и 90 с чисто русскими фамилиями. (В. Дённингхаус. Там же. С. 334-336). С.Рябиченко в книге «Погромы 1915 г. Три дня из жизни неизвестной Москвы. М.: Глобус, С. 102-138.» в приложении дает список помещений, пострадавших от погромов 27-29 мая 1915 года в Москве с суммой, нанесенного ущерба. По Басманному району в списке значатся: «Армянский пер., д. 7 — «Акционерное общество «Сименс-Гальске» — убыток 3000; Басманная Старая улица, д. 15 – Учетно-ссудный Банк Персии (Берман) – 28000, д. 19- (Кудрявцев-Гиллерт) – 35000; д.15 — Учетно-ссудный Банк Персии (Кливанский) – 5000; Гороховский пер., д. 9 — (Берензон-Бауэр и Кук); д. Виллер — 50400; д.Зейберт (Граве А.-К.П.)– 13200; Елоховская ул., д. 15(Чеснокова) – 500; д. Руста – 20000; д. Лютера – 15000; Елоховская пл., д. 5 – (Чичкина) – 300, (Одерат) — 1.500; д.7– (Клингерт) – 60000, (Ауэ)- 3000, (Тейхерт) — 6000; Ирининская ул., д. Евангелийского об-ва – 75000; Козловский Б.пер., д. Аристархова– (Кемпор) – 5500, (Шуберт) –5500; Колпачный пер., д. 5 (Кноп) – 1150000; Машков пер., д. Каппело (Фрост) – 7500; Переведеновка Б. ул., д. 9 (Фроденфельд т/д «Францен и К) – 26200; Переведеновка М., ул.,д.7 (т/д «Р.А. Вентцелли) – 100000; Покровка ул, д. 16, 35, 38…; Посланников пер, д. 10 (насл. Калиной) – 5000, д.12 (Казаков) – 1000, д.7 (Спирин) – 2000, д. насл. Назарова («Браун и К) – 500000;Сыромятинская ул. д.16 (Шен)- 53000; Харитоньевский Б. пер., д.Тестова (Бромлинг) — 7500, (Крахт) – 16500, д. Рерих; Чистопрудный пер., д. церкви Св. Троицы, что на Грязях (Вильчус) – 300, там же (Гетлинг) –20000; Чистые пруды ул., д. Кабанова (Менталь) –2650…». Так, на Большой Спасской улице, неподалеку от Красных Ворот, толпа в несколько тысяч человек разгромила и сожгла типографию нотопечатных изданий с ее богатым архивом нотных записей, принадлежавшую купчихе II гильдии и российской подданной Прасковье Гроссе. (В. Руга. Там же. С. 457).
Всероссийский Земский Союз в годы Первой мировой
Большое количество актов насилия толпа учинила в Лефортово. Так, австрийский подданный Э.Ф.Гаек, арендовавший небольшую колбасную фабрику Гамбургера в 3-м участке Лефортовской части сообщил: «Сегодня, 29 мая, когда я приехал с квартиры, обнаружил, что моя мастерская, машинное отделение, мебель, находящиеся в квартире Гамбургера, разгромлены. Машины испорчены, товар разбросан, частью расхищен, разбросанный облит нефтью и керосином. Всего убытку мне причинено на 8860 рублей…(В.А. Любартович. Там же. С. 178). Случалось, что местные жители из немцев покидали свои дома в Лефортовской части и укрывались от погрома на Басманных улицах. Так, по рассказам крестьянина К.Менцеля, латыша… поступил хозяин кузнечно-слесарной мастерской, в которой он работал, располагавшейся на Хапиловской (ныне Большой Почтовой улице), в доме 10-12, Г.К.Шпонгольц: «Накануне, 28 мая сам Шпонгольц сказал около двух часов дня, что его предупредили по телефону, что громят немцев и будут громить его, а потому во избежание неприятностей он возможно, переселится с семьей на Басманную, а меня просил охранять дом и мастерскую…Часов около одиннадцати вечера со стороны Иноверческого кладбища я услышал крики «Ура!» и увидел приближающуюся толпу…Я хорошо запомнил, что за толпой, которая приблизительно состояла из пятисот человек, шло несколько городовых, не менее трех. Подойдя к воротам дома, толпа с криком разбила ворота и, ворвавшись в дом, начала погром. Я заметил, что городовые, шедшие за толпой, отошли при этом в сторону, разговаривая между собой и смеясь. Ни малейшей попытки остановить погром они не учинили.». На Покровской улице, в доме 84 была разгромлена и разграблена фабрика буровых инструментов «Московского товарищества повсеместного артезианского водоснабжения, орошения и осушки фон Вангель Б.И. и К» с убытком в 107 тыс. рублей. В числе пайщиков этого предприятия состоял А.А. Ценкер. Русский подданный и православный от рождения С.П. Цукерман, проживавший в доме №7 по Старой Басманной улице заявил околоточному надзирателю об убытке в 12 тыс. рублей, который он понес от разгрома принадлежащей ему красильни с магазином тканей на Покровской улице, в доме № 42. Другая же его красильная мастерская, располагавшаяся в доме №9 по Старой Басманной, к счастью для него, уцелела. Инспектор Евангелической богадельни в доме № 32 по Ирининской улице Рудольф Гоппе по просьбе 134 призреваемых при богадельне, заявил, что 28 мая толпа манифестантов разгромила все помещения благотворительного учреждения, уничтожила и похитила вещей и имущества на 200 тыс. рублей. (В.А. Любартович. Там же. С. 179-180). П.К.Чегодаев, заведующий резиноткацкой фабрикой Торгового дома «Браун А. и К», принадлежавшей российскому подданному и расположенной в Посланниковом переулке, в доме 5, заявил на допросе в полиции: «Я видел, как шла на фабрику толпа людей с палками и большей частью из них были пьяные. Толпа сперва стала громить фабрику, я был на улице и наблюдал со стороны за ней и мог видеть это, а потом подожгла в нескольких местах фабрику; приехали пожарные, но толпа сначала не давала тушить, а потом начала поспешно расходиться и пожарные приступили к тушению пожара. У нас сгорело два фабричных корпуса…, в фабричном корпусе все машины приведены в негодность…Убытки пока подсчитать в точности не представляется возможным, достигают же несколько сот тысяч рублей». (Там же. С. 179). «В результате в Москве было разгромлено 732 отдельных помещения: магазины, склады, конторы и даже частные квартиры с убытком на сумму более 50 млн. рубл. Из них 475 торговых предприятий, 207 квартир и домов. Пострадали следующие категории граждан: германские и австрийские подданные –113 человек; русские подданные с иностранными фамилиями – 489; русские подданные с чисто русскими фамилиями – 90 человек. По заключению московских властей в самочинных действиях и погромах приняло участие около 50 тыс. чел. Большинство демонстрантов-погромщиков составили рабочие и работники различных предприятий, их дети-подростки, люмпены- «хитрованцы», городская чернь. В беспорядках приняли участие и торговцы, студенты, учащиеся, служащие, чиновники, представители интеллигенции». Последствием пьяных погромов стали пожары, охватившие Москву с 28 по 31 мая. Было зафиксировано более 60 возгораний зданий, принадлежавших московским немцам. Их быстрое распространение повлияло на решение ввести в Москву 29 мая 1915 года регулярные войска. В этот же день выходит постановление, запрещающее населению появляться на улицах города с 10 часов вечера до 5 часов утра. (В.Дённингхаус. Там же. С. 355).
Перестройка экономики Москвы потребовала огромных усилий от всех государственных органов. В помощь им создаются Военно-промышленные комитеты, Особые совещания, общественные организации – «Земгор». Перестройка коснулась и научной базы академической науки, учебно-исследовательских центров. Так, ИМТУ (Императорское Московское Техническое Училище), с 1989 года Московский Государственный технический университет, ранее носивший имя революционера Н.Э. Баумана, обычное учебное заведение, вклад которого в укрепление оборонной мощи России в годы первой мировой войны, да и после революции, оказался неоценимым для оборонной мощи России. История училища началась 5 октября 1826 года, когда вдовствующая императрица Мария Федоровна издает указ, в котором «высочайше повелеть соизволила учредить большие мастерские разных ремесел» для мальчиков-сирот Воспитательного дома. С развитием отечественной промышленности потребность в искусных мастерах стремительно возрастала, и московский Воспитательный дом решил ответить на возросший спрос. С этой целью Воспитательному дому передается Слободской дворец, располагавшийся на улице Коровий брод (в конце XYIII в., потом улица Рыкова, теперь – 2-я Бауманская улица). В здании дворца предполагалось разместить 300 воспитанников, будущих учеников нового ремесленного заведения при Воспитательном доме. С этой целью Воспитательному дому передается Слободской дворец. Император Николай I пожаловал Воспитательному Дому каменные корпусы, оставшиеся после пожара в Слободском дворце. Императрица в свою очередь учредила специальную строительную комиссию, которая в 1827 году приступила к перестройке здания.
1 июля 1830 г. император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении». С этого года и ведет свое летоисчисление нынешний МГТУ. Ремесленное училище, основанное в 1830 году, было преобразовано в 1868 году в Императорское техническое училище, готовившее высококвалифицированные кадры инженеров-механиков, строителей и технологов. В нем преподавали известные русские ученые Н.Е. Жуковский и С.А. Чаплыгин. С началом 1-й мировой войны директор училища В.И. Гриневецкий опубликовал статью «Технико-общественные задачи промышленности в связи с войной», начинается переориентация работы ИМТУ на нужды обороны России. Уже с 1914 года в химических лабораториях налаживалось производство медикаментов. На кафедре физики под руководством профессора П.П. Лазарева работал рентгеновский кабинет, Опыты «по приспособлению рентгеновского кабинета для перевозки на большие расстояния (100 верст и больше)» начались в лаборатории профессора П.П. Лазарева после его доклада во Всероссийском земском союзе. Руководил проектированием установки, а затем ее эксплуатацией сотрудник лаборатории Н.К. Щодро. Чтобы сэкономить бензин и удешевить эксплуатацию, автомобиль был оснащен дополнительным легким керосиновым двигателем, который применяли для приведения в действие динамо-машины. Рентгеновский аппарат располагался в деревянном ящике с ручками для переноски, 48-метровый электрический кабель, соединяющий автомобиль с рентген-аппаратом, накручивали на специальный вал и снабжали телефонным проводом, чтобы персонал мог поддерживать связь между автомобилем-кабинетом и вынесенной в лазарет станцией. Пятимесячный опыт работы позволил усовершенствовать конструкцию. Следующий рентгеновский аппарат, сделанный москвичами, стал портативнее и легче, стал легче и автомобиль с рентгеновским кабинетом. Для работы не требовались ни оборудованные комнаты, ни источники тока, что позволяло сделать рентгенографию вполне возможной во всякой земской больнице. Стоимость кабинета со всеми приспособлениями оценивалась в 7 тысяч рублей, в которые включены и 4,5 тыс. руб. стоимости шасси. Каждый снимок без учета амортизации оборудования обходился в 2 руб. Экипаж автомобиля состоял из 3-х человек: рентгенолога, санитара и шофера-механика. При работе в госпиталях в помощь экипажу придавались еще 2 санитара. В самом институте создается образцовый рентгеновский кабинет. Этот кабинет посетил В. И. Ленин и подвергался там просвечиванию и фотографированию после покушения в 1918 г. Петр Петрович руководит рентгеновской секцией Наркомздрава, организует в Москве Рентгеновский институт, руководит им в течение нескольких лет и принимает активное участие в организации московского завода рентгеновской аппаратуры. Медицинская рентгенотехника в СССР многим обязана П. П. Лазареву.
9 мая 1916 г. УВВФ (Управление Военно-Воздушного Флота) предложило Н.Е. Жуковскому «организовать в аэродинамической лаборатории ИМТУ систематические аэродинамические испытания военных самолетов», значительно расширив их «ввиду отсутствия специальных научных учреждений, занимающихся расчетом самолетов». 18 мая 1916 г. Н.Е. Жуковский одновременно с выполненным расчетом представил в УВВФ «соображения о вопросах, в которых Аэродинамическая лаборатория могла бы прийти на помощь Военному ведомству и организацию которых она могла бы на себя принять при его содействии». Заказчикам предложили следующую программу исследований:
«1. Выяснение запаса прочности в существующих системах самолетов при полете в спокойном воздухе и во время посадки. Выяснение недостатков в принятых системах военных самолетов и указание способов их исправления.
2. Выяснение вопроса о наивыгоднейших материалах для частей самолетов в смысле веса и лобового сопротивления при заданной прочности.
3. Вычисление расчетных таблиц и графиков для рационального построения самолетных винтов, с использованием созданной проф. Жуковским вихревой теории гребного винта.
4. Построение и лабораторные испытания целого ряда теоретических форм поддерживающих планов (профилей крыла) с целью найти новые формы, у которых лобовое сопротивление было бы в 2—3 раза меньше, чем у существующих планов.
5. Постановка полетов специального научного характера для выяснения аэродинамических качеств самолетов в полете и для сравнения их между собой при подъеме на высоту и при полете на больших высотах».
1 июля 1916 года Исполнительная комиссия при Военном ведомстве постановила создать при Аэродинамической лаборатории МТУ Авиационное расчетно-испытательное бюро (АРИБ) под руководством Н.Е. Жуковского. Ближайшими его помощниками стали: А.Н.Туполев—заведовал лабораторными установками, В.П. Ветчинкин—вычислительно-расчетной частью, Г.И. Лукьянов — аэродинамической частью, Н.И.Иванов— испытанием материалов. А.А.Архангельский, И.Н.Веселовский, В.Е.Лебедев, К.А.Ушаков, Г.М. Мусинянц и А.В.Раковский работали вычислителями и лаборантами. Финансировало и давало задания АРИБ военное ведомство. В основанных Н. Е. Жуковским лабораториях и кружках велись научные работы, направленные на улучшение летно-тактических качеств самолетов, решение вопросов аэродинамики и прочности конструкций. Указания и советы Жуковского помогали авиаторам и конструкторам в создании новых типов самолетов. Для этого были подготовлены авиационные инженеры-механики. Бюро сразу приступило к решению разнообразных практических задач, связанных с поверочными расчетами различных закупаемых за границей и строившихся в России самолетов: «Фарман-XXVH.-XXX», «Моска», «Анатра тип Д», «Ныопор X», «Hbionop-Xl.’XVll», «Сопвич» двухместный, «Виккерс», «Спад», DH-4 и других. Проделали аэродинамические расчеты самолетов Слесарева, братьев Касьяненко, Повалишина и многих других. АРИБ провело в своей Аэродинамической лаборатории все необходимые для военно-воздушного флота аэродинамические исследования—испытания моделей крыльев и фюзеляжей, определение качества тех или иных конструкций, исследования авиабомб и стрел. С участием АРИБ производились испытания самолетов в полете и исследования причин авиакатастроф. Частые аварии и катастрофы, привели к созданию в АРИБ возглавляемой Жуковским специальной комиссии. Исследования выявили конструктивный дефект, названный «игрой болта в трубе» малый момент инерции хвостовых стоек в перпендикулярном полету направлении вызывал их сильную вибрацию, «изъедая» и затем разрушая болты. Комиссия выдала заводу конструктивные, технологические рекомендации. Впервые установить нормативные требования к прочности самолета в АБИР попытались в конце 1916 г., тогда же создали Комиссию по вопросам норм прочности под руководством Жуковского в составе: Ботезат, Архангельский, Ветчинкин, Туполев, Тимошенко, Лукьянов и другие. Исследование прочности конструкций различных самолетов позволило уже летом 1916 г. определить первые наброски норм прочности. С начала своей деятельности АРИБ стало центром научных исследований по аэро- и гидродинамике, выполняло задания УВВФ по исследованию моделей самолетов Ижорского завода, самолетных лыж и различных типов винтов для Московского аэротехиического завода, крыльев и фюзеляжа гидроплана «К» для завода «Дуке»; проводило обследование Московских авиационных и моторных заводов; составило проект аэродинамической трубы для Николаевской физической обсерватории, проводило тарировку аэродинамических приборов для Киевской школы наблюдателей. Интересными исследованиями являлись работы по теории вариационных винтов, ставшие развитием вихревой теории гребного винта Жуковского.
За время своей работы Бюро выпустило много новых материалов по проектированию и расчету самолета, выработало новые профили крыльев, исследовало сопротивление фюзеляжей и хвостовых оперений существовавших тогда аэропланов. В 1916 г. Меллер пригласил Туполева возглавить отделение гидропланов «Дукса», и в АРИБ начали проектировать гидроплан и строить глиссер.
Главной заслугой деятельности АРИБ уже в 1916 г. явилось то, что при непосредственном участии его сотрудников были разработаны и 18 октября Техническим Комитетом ГВТУ одобрены новые «Правила испытаний аэропланов в полете». Теперь им должны были следовать летчики-сдатчики всех авиазаводов, поставлявших аэропланы военному ведомству. АРИБ активно функционировало на Ходынском поле в 1916— 1917 гг., пока в марте 1918 г не превратилось в «летучую лабораторию», а в декабре того же года основные работники Бюро под руководством Жуковского составили руководящее ядро вновь созданного Центрального аэрогидро динамического института (ЦАГИ). По сути, АРИБ вместе с Главным аэродромом явилось зародышем всех впоследствии созданных на Ходынке научных летно-испытательных организаций, таких как летный отдел Главвоздухофлота, Научно-опытный аэродром (позже—НИИ ВВС), Отдел эксплуатации, летных испытаний и доводок (ОЭЛИД) ЦАГИ и в 1940 г.— ЛИИ им. М.М. Громова в поселке Стаханово (ныне город Жуковский). На базе этой же лаборатории при ИМТУ были созданы теоретические курсы авиации, на базе которых впоследствии была организована Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского.
Мастерские училища изготавливали предметы военного снаряжения и обслуживали станки, изготовлявшие колючую проволоку в мастерских Главного Военно-технического управления. Госпиталь при ИМТУ функционировал в полном объеме, он размещался в студенческом общежитии и Политехническом обществе. С 14 апреля 1915 года по инициативе Н.Р. Брилинга начали функционировать при лаборатории двигателей внутреннего сгорания курсы по подготовке шоферов для службы во Всероссийском Земском Союзе. С апреля по инициативе полковника Д.В. Яковлева ИТУ по соглашению с акционерным обществом «Гном» предоставило последнему станки и персонал учебных мастерских для производства дефицитных деталей авиационных двигателей. К этим работам широко привлекались и студенты.
Грозные события лета 1915 года дали новое, более широкое направление работам ИМТУ на оборону. 20 июня директор В.И. Гриневецкий собрал экстраординарное совещание Учебного Комитета и частное совещание всех преподавателей Училища с обсуждением вопроса о привлечении всего коллектива ИМТУ к работам на оборону. Учебный Комитет ИМТУ после всестороннего обсуждения вопроса поручил А.Е. Чичибабину к осени 1915 года создать обширную лабораторию для производства взрывчатых веществ и других необходимых для армии веществ. Ф.К. Герке было поручено выехать на фронт для изучения проблем, связанных с удушливыми газами. Н.Ф. Чарновскому поручено расширить в учебных мастерских широкое производство снарядов с участием студентов. По инициативе В.И. Гриневецкого ученые и инженеры училища начали проектировать металлообрабатывающие станки для производства снарядов и деталей стрелкового оружия. В училище был организован ускоренный выпуск инженеров из студентов старших курсов. Учебный Комитет полагал, что все без исключения студенты ИМТУ должны были использоваться по военно-технической части и по возможности по своей специальности. Старшие и наиболее подготовленные студенты должны были использоваться в качестве инструкторов, а младшие – в качестве рядовых работников.
Учебным Комитетом ИМТУ была направлена «Записка о направлении сил и средств Императорского Московского Технического Училища по обслуживанию военно-технических потребностей», в которой говорилось о том, что высшая школа при некотором временном изменении учебных планов и учебного процесса может предоставить значительное число кадров со специальной научной и технической подготовкой из числа своих преподавателей и еще большее число в качестве исполнителей и инструкторов из студентов, которые могли бы использоваться при мобилизации промышленности, которая уже столкнулась с недостатком технических кадров при повышении интенсивности работы и создании новых специализированных предприятий. В этом документе указывалось, что «Временное введение работ для военных надобностей внутри высших школ, подготовка из студентов исполнителей и инструкторов таких работ, использование лабораторий и мастерских для работ научно-экспериментальных для учебно-инструктивных, наконец, использование свободных сил преподавателей для научно-технической и организационной работы в том же направлении – все это должно быть со стороны высших школ не только делом их гражданского долга, но и прямой педагогической задачей». 25 июня 1915 года во исполнение решений Учебного Комитета В.И. Гриневецкий поместил в московских газетах призыв к студентам Училища, желающих работать на оборону. Этот призыв нашел горячий отклик со стороны студентов, бросивших отдых, летние практики и явившихся в Училище с целью работать на снарядных заводах и готовиться в инструкторы. Избранная Учебным Комитетом Военно-Техническая Комиссия организовала краткосрочную подготовку и распределение этих студентов на такие заводы, как Брянский, Бежицкий, Коломенский, Сормовский и другие. В короткий срок к заводской работе были привлечены свыше 400 студентов ИМТУ, причем четвертая часть из них была подготовлена к инструкторской деятельности. Деятельность преподавательского состава концентрировалась в военно-общественных организациях: в Московском Военно-Промышленном Комитете, в Городском и Земском Союзах. Часть преподавателей ИМТУ приняли на себя руководство технической работой при Московском Уполномоченном по топливу, состояли членами Московского Заводского Совещания по обороне в качестве представителей Союзов и Военно-Промышленного Комитета.
К концу 1915 года почти 800 студентов 9более 30% списочного состава) принимали активное участие в работах на оборону. 225 студентов, пройдя автомобильные курсы, работали в тылу и на фронте в качестве водителей в автомобильном отделе Всероссийского Земского Союза и Главного по снабжению Армии Комитета Союзов. Более 50 студентов прошли школу летчиков при аэродинамической лаборатории. На заводах по снарядному производству по 15 декабря работало 397 студентов. На различных военно-технических работах Химического Отделения работало около 100 студентов.
Многими преподавателями и бывшими студентами ИМТУ сделан огромный вклад в развитие русской науки и техники России, их имена вписаны в историю мировой технической мысли. Современный МГТУ по праву стал преемником и наследником этих традиций. Так странно все переплелось в истории: Слободской дворец, расположенный в немецкой слободе, история которого началась в 1749 году, когда канцлер А.П. Бестужев-Рюмин начал строить здесь свой большой московский дом и огромный научный город XXI века, отстроенный вокруг этого дворца.
В истории первой мировой войны, в истории Москвы удивительным образом переплелись патриотизм, ничем не контролируемая ненависть, сила духа, милосердие ко всем обделенным и огромная вера в могущество своей страны, в ее непобедимости…
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
В День города в Москве снесен мемориальный объект Первой мировой войны – Госпиталь Красного Креста в Лефортове |
Пока столица веселится
В День города в Москве снесен мемориальный объект Первой мировой войны – Госпиталь Красного Креста в Лефортове
В начале сентября 2015 года в Департамент культурного наследия Москвы поступило заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия мемориала Первой мировой войны – Военного госпиталя центрального распределительно-эвакуационного пункта раненых Российского общества Красного Креста в Анненгофской роще (современный адрес – Красноказарменная ул., 14А, стр. 20). Заявление подано Московским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в его подготовке участвовала группа столичных градозащитников, в том числе и активисты «Архнадзора».
5 сентября в СМИ появилась информация, что вопрос о постановке здания на охрану будет рассмотрен Мосгорнаследием, а собственнику – девелоперской компании «Мортон» – направлено предписание о запрете проведения любых работ, способных причинить вред потенциальному памятнику.
Через несколько часов после публикации этой информации Госпиталь Красного Креста был снесен спешно подогнанными экскаваторами. Как обычно, без ордера на снос. Как обычно, в выходной день. Но на этот раз еще и в День Москвы.
Здание госпиталя поражало высокой степенью подлинности, хорошо сохранившимися интерьерами и конструкциями. Оно было построено на территории складов Красного Креста в Анненгофской роще в самом начале Первой мировой войны. Через располагавшийся здесь центральный распределительно-эвакуационный пункт прошли десятки тысяч раненых, доставлявшихся с фронта санитарными поездами по специально проложенной железнодорожной ветке.
Активное участие в создании «города раненых» в Анненгофской роще принял московский врач С.В. Пучков, один из основателей Братского кладбища Великой войны на Соколе. Сборный пункт в Анненгофской роще стал одним из важнейших центров оказания помощи раненым на полях Первой мировой. Помощь оказывалась и раненым из числа попавших в плен военнослужащих противника. Газеты того времени сообщают, что военный госпиталь в Анненгофской роще посещали император Николай II, императрица Александра с великими княжнами, а в домовом Никольском храме при госпитале молилась прославленная Русской православной церковью в лике святых великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
В 2014 году, во время празднования столетия начала Первой мировой войны, представители московских властей и лично мэр Сергей Собянин произнесли много прочувствованных слов об уважении памяти защитников Отечества и мемориалах Первой мировой войны. Но этот истинный мемориальный объект Первой мировой оказался на территории, отданной Правительством Москвы под застройку группе компаний «Мортон», планирующей возвести здесь элитный жилой комплекс.
Группа «Мортон» известна своими «подвигами» в Подмосковье, где она проектирует многоэтажное жилье между усадьбами Архангельское и Ильинское, строит с нарушением законодательства в зоне охраны Бутовского полигона, нанесла ущерб Акатовскому археологическому комплексу в Балашихе. Теперь «Мортон» пришёл в Москву. И сразу показал, чего в глазах девелопера стоит память войн, прославленных имён и событий.
Прибывшие на место сноса инспекторы Объединения административно-технических инспекций и Мосгорнаследия вынуждены были останавливать работы с привлечением полиции. Департамент культурного наследия г. Москвы выразил намерение добиваться привлечения собственника к ответственности за противозаконное уничтожение объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
Общественное движение «Архнадзор» призывает городские власти отозвать у застройщика градостроительный план земельного участка 14А по Красноказарменной улице. Мы также призываем инициировать пересмотр мер денежного штрафа за несанкционированные строительные работы и снос, так как практикуемые в настоящее время размеры штрафов смешны по масштабам строительного бизнеса. Ответом девелоперу на знак полного презрения к городу и горожанам может стать лишь радикальная перемена отношения самих городских властей к культурному наследию столицы. Необходим законодательный запрет на снос исторических зданий Москвы, построенных до 1917 года.
С Днём города!
PS: Мосгорнаследие сочло снос госпиталя вопиющим нарушением закона.
http://www.archnadzor.ru/2015/09/07/poka-stolitsa-veselitsya/
|
Метки: первая мировая война москва красный крест |
Встреча с князем А.Л. Оболенским |
Встреча с князем А.Л. Оболенским
В последние годы у меня установились теплые отношения с моими троюродными сестрами - Ольгой Борисовной Грудинской и Ириной Борисовной Грудинской, проживающими, соответственно, в Париже и Милане, а также их кузеном – князем Алексеем Львовичем Оболенским.
Отец моих троюродных сестер - Борис Григорьевич Грудинский, женатый на княжне Людмиле Владимировне Оболенской, приходился двоюродным братом моей матери – Елены Николаевны Григорьевой (в девичестве – Инштетовой). Их бабка – Александра Семеновна Грудинская (в девичестве – Инштетова) и мой дед – Николай Семенович Инштетов были родными сестрой и братом.
Схема родственных связей Инштетовых, Грудинских, Оболенских и Григорьевых прилагается.
В ходе переписки по обычной и электронной почте обмениваемся материалами, журнальными статьями, фотографиями и сведениями семейного характера.
В ноябре 2014 года во время моего пребывания с супругой Ольгой Кожедуб на Лазурном берегу состоялась встреча с князем А.Л. Оболенским у него дома в Ницце.
Краткая биографическая справка А.Л. Оболенского и фотографии, сделанные во время встречи, прилагаются.
Сергей Георгиевич Григорьев, правнук Семена Васильевича Инштетова
(член Российского дворянского собрания и
Российского исторического общества, доктор технических наук, профессор)
ОБОЛЕНСКИЙ Алексей Львович, князь (родился 12 августа 1945 года в Борм-ле-Мимоза, департамент Вар).
Филолог, преподаватель, певец, художник, скульптор, деятель церкви.
Сын Л.В. Оболенского и Е.Г. Оболенской, брат Ивана Л., Михаила Л. Оболенских. Муж З.А. Оболенской, отец Лидии А. д'Алоизио, Григория А., Бориса А. Оболенских.
Окончил университет в Экс-ан-Провансе (департамент Буш-дю-Рон), изучал языки и русскую литературу. В 1967 защитил диссертацию по теме «Образ праведника в творчестве Н.С. Лескова» («L'image du juste dans les œuvres de I.S.Leskov»). Преподавал французский язык на филологическом факультете Московского университета (1968-1969), с 1971 по 2004 профессор русского языка в университете Ниццы.
С 1978 участник (высокий тенор) вокального ансамбля «Quatuor Vocal Russe de Nice», исполняющего русскую духовную музыку. Выступает с Квартетом на фестивалях духовной музыки, на церковных и светских торжествах, участвовал в записи более десяти дисков. С ранних лет занимался живописью.
С 1975 проводит персональные художественные выставки на Ривьере и в Париже.
С 1983 работает в жанре терракотовой скульптуры. В 1994 создал скульптурную серию евангельских сюжетов (50 работ), оформил (стенная керамика) четыре католических храма в Ниццкой области (2002-2005), православный храм в Сен-Рафаэле, департамент Вар (2007); продолжает работать над евангельскими и ветхозаветными сценами.
В начале 1980-х работал с М. Шагалом над второй частью его книги «Моя жизнь».
С 2004 являлся старостой кафедрального собора Св. Николая Чудотворца в Ницце, а после передачи последнего Московскому патриархату с 2012 года является старостой Церкви Св. Николая и мученицы Александры в Ницце.
1. У А.Л. Оболенского
2. У А.Л. Оболенского
3. А.Л. Оболенский
4. С.Г. в мастерской А.Л. Оболенского
5. С.Г. с работой А.Л. Оболенского
6. Оля Кожедуб в мастерской А.Л.
7. Оля - отель Boscolo
1. У А.Л. Оболенского
2. У А.Л. Оболенского
3. А.Л. Оболенский
4. С.Г. в мастерской А.Л. Оболенского
5. С.Г. с работой А.Л. Оболенского
6. Оля Кожедуб в мастерской А.Л.
7. Оля - отель Boscolo
nsted.clan.su/index/vstrecha_s_kn_a_l_obolenskim/0-1
|
Метки: оболенские |
Мария София Фредерика Дагмар: ей не было суждено стать женой Николая II, ей было суждено его родить |
Мария София Фредерика Дагмар: ей не было суждено стать женой Николая II, ей было суждено его родить
Знакомьтесь, мои дорогие читатели. Эта прелестная девушка и есть Мария София Фредерика Дагмар, принцесса датская
Здравствуйте, мои уважаемые читатели! Спасибо, что поддерживаете меня и мой канал.
Ее называли невестой двух цесаревичей. Она пережила гибель сына-императора. Она пережила гибель целой империи. Она стала очевидцем зарождения новой власти в том государстве, где некогда сама была императрицей. Она – Мария София Фредерика Дагмар: русская императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III.
Родилась Мария София Фредерика в семье принца Кристиана Глюксбурского, будущего короля Дании Кристиана IX.
Ее родная сестра Александра Датская была женой британского монарха Эдуарда VII.
Мария София Фредерика была невестой цесаревича Николая Александровича. О нем вы сможете прочесть в этой статье.
Николай Александрович должен был стать императором Николаем II. Однако смерть цесаревича изменила намеченный ход истории.
Претендентом на престол стал младший брат Николая цесаревич Александр III.
«Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни (так звали Романова принцессу Дагмар), тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил мое счастье», - писал в своем дневнике цесаревич Александр Александрович.
В такую красавицу просто нельзя было не влюбиться
Между Александром и невестой его покойного брата вспыхнули чувства. Через год они объявили о помолвке и поженились.
Мария София Фредерика приняла православие и получила новое имя – княгиня Мария Федоровна Романова.
Бракосочетание было совершено 28 октября 1866 года. Жить молодые супруги стали в Аничковом дворце.
Мария Федоровна (давайте будем называть так будущую императрицу) была жизнерадостной девушкой. В столичном обществе ее полюбили сразу. В 1881 году Мария Федоровна стала императрицей.
Супруги Романовы Александр и Мария
Брак между супругами был удачным. Супруги прожили вместе 30 лет, сохранив привязанность друг к другу.
Мария Федоровна пережила мужа. Она стала вдовой в 1894 году.
На престол вступил ее старший сын цесаревич Николай Александрович. Его назвали в честь умершего дяди (читайте о цесаревиче Николае Александровиче выше).
После смерти супруга вдовствующая императрица покровительствовала искусству, в частности живописи. Она сама пыталась рисовать.
Покровительствовала Мария Федоровна Женскому Патриотическому Обществу, учебным заведениям, приютам для детей. Вдовствующая императрица активно участвовала в работе Российского общества Красного Креста (РОКК).
Об отречении своего сына, императора Николая II Мария Федоровна узнала, находясь в Киеве. Это был 1917 год. Мария Федоровна уже 2 года жила в Киеве, занималась созданием санаториев, госпиталей, где отдыхали и лечились раненые в Первую Мировую войну солдаты.
После смертей сына Николая и его семьи и сына Михаила Мария Федоровна не могла больше оставаться в России. В 1919 году императрица выехала с дочкой Ольгой и зятем, мужем дочери Ксении, Сандро в Крым. Оттуда Мария Федоровна отправилась на Родину, в Данию. Там она поселилась на вилле Видере.
Мария Федоровна, пережив своего сына-императора, не верила в то, что он и вся его семья были расстреляны большевиками. Также не верила она и в смерть сына Михаила.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна
Представители российской эмиграции попытались вовлечь императрицу в политическую борьбу с большевиками. Однако Мария Федоровна пожелала остаться в тени всех политических интриг.
Императрица Мария Федоровна умерла 13 октября 1928 года. Была похоронена в королевской усыпальнице в городе Роскилле рядом с родителями.
Все фотографии взяты из свободного доступа сети Интернет.
Дорогие мои читатели, чтобы поддержать меня и мой канал жмите "палец вверх", а также не забывайте подписываться. И ждите от меня новых публикаций. Не забывайте, история так интересна и увлекательна!!! Особенно, если она альтернативная!
https://zen.yandex.ru/media/id/5a3e77e9581669d671d...rodit-5c4824bc06f75c07de12cdfd
Смотрите также публикации по темам
|
Метки: романовы |