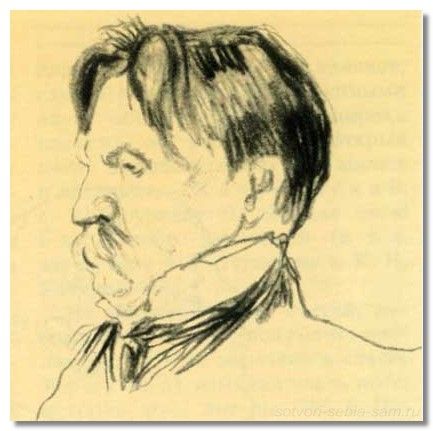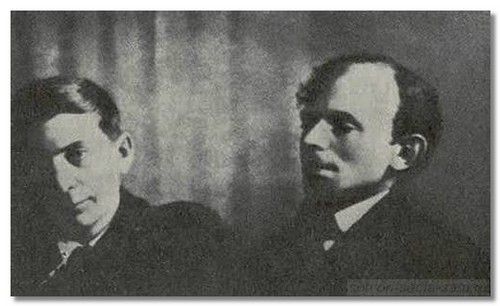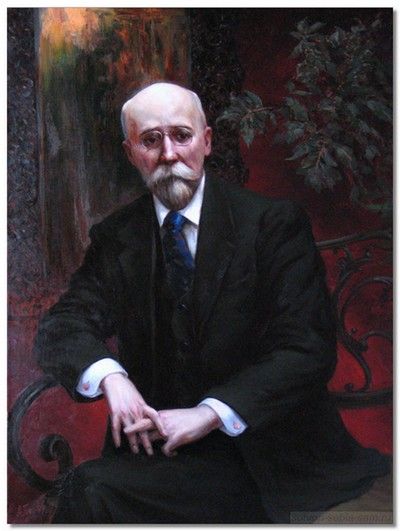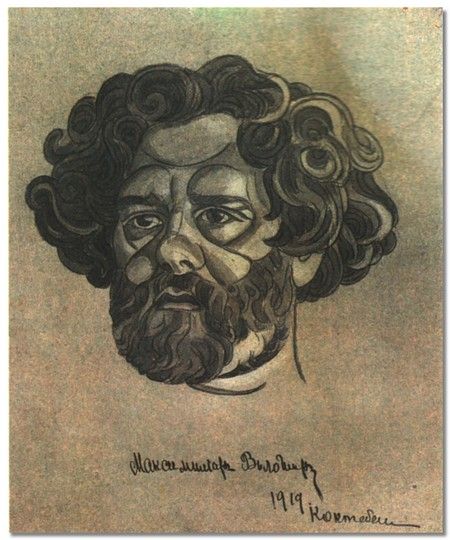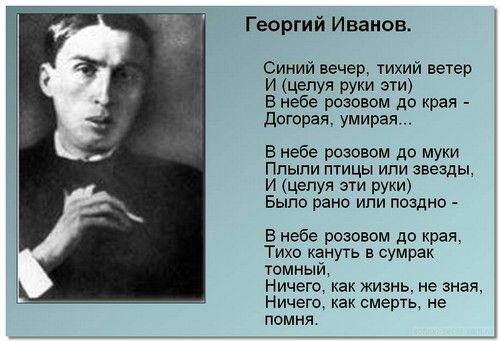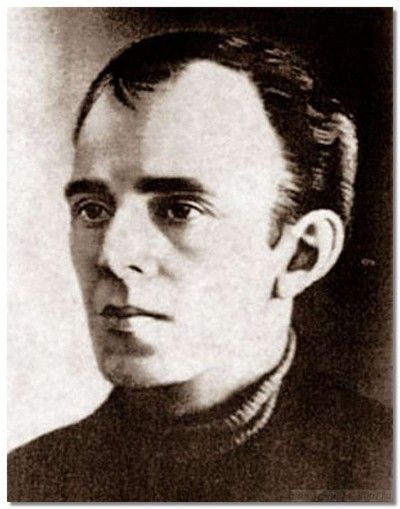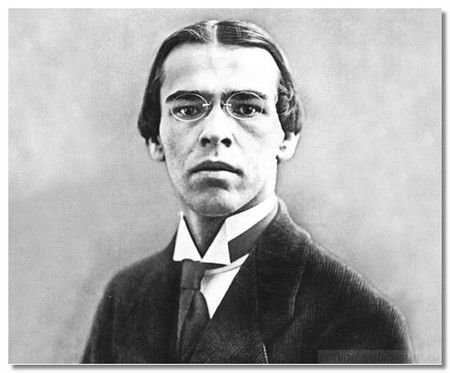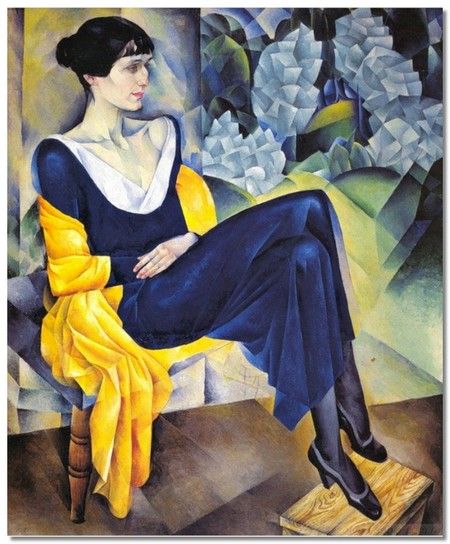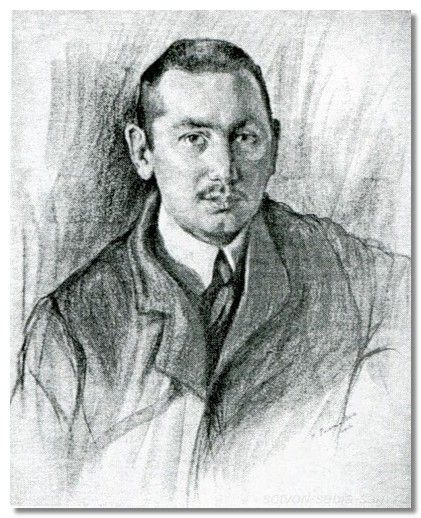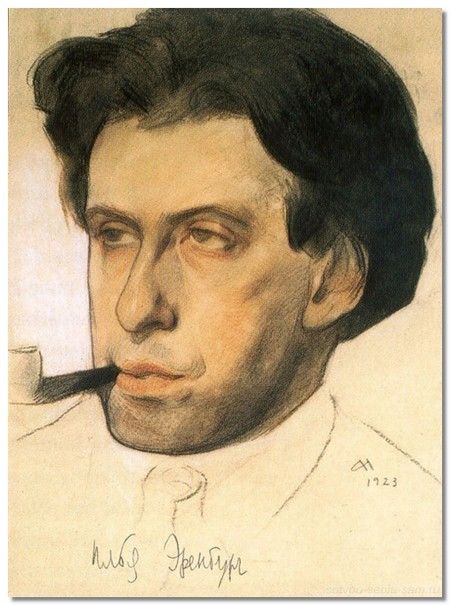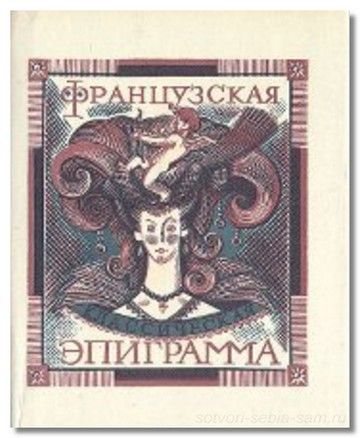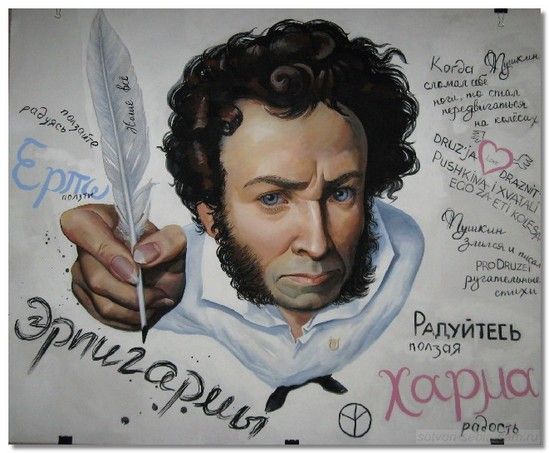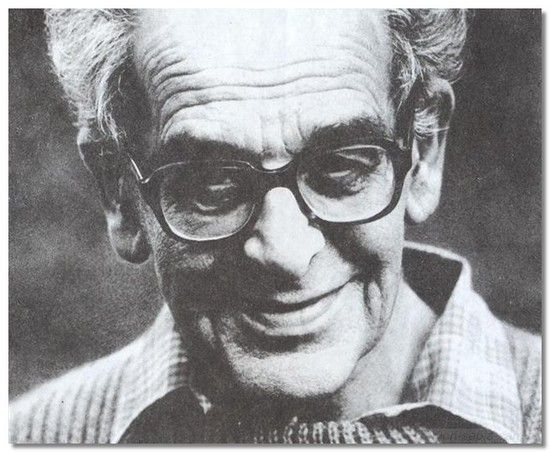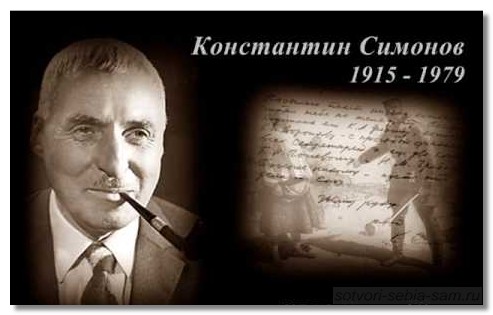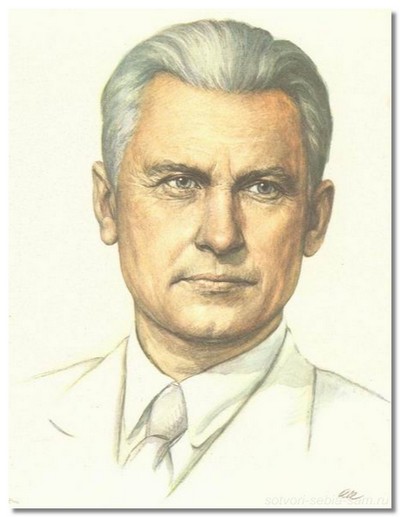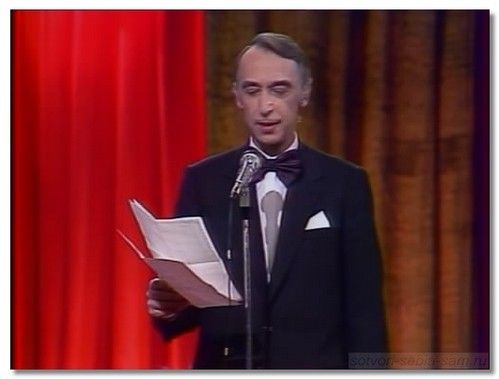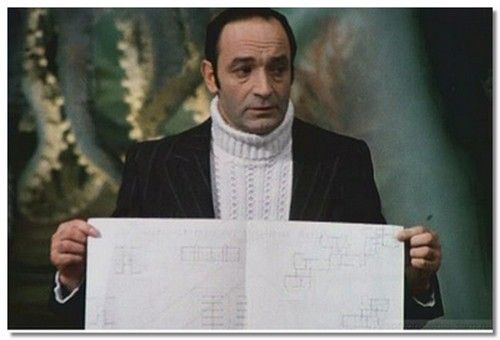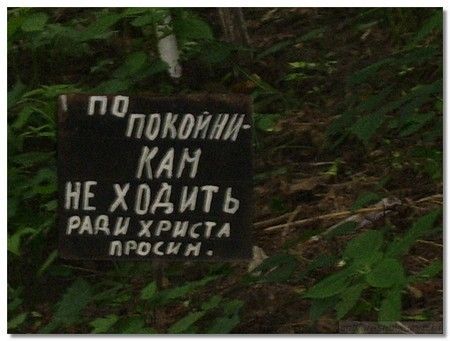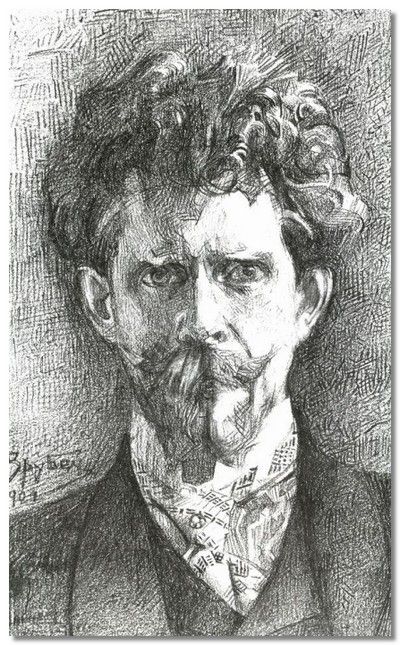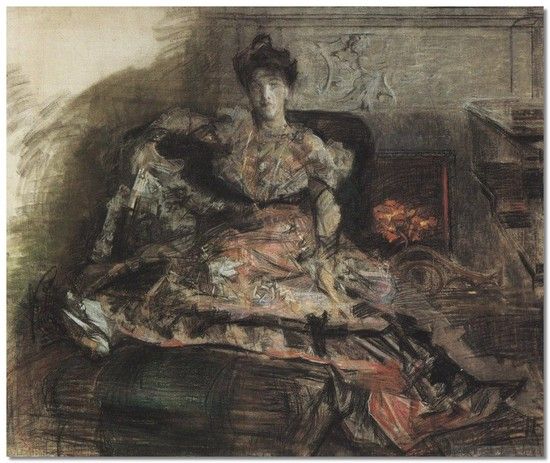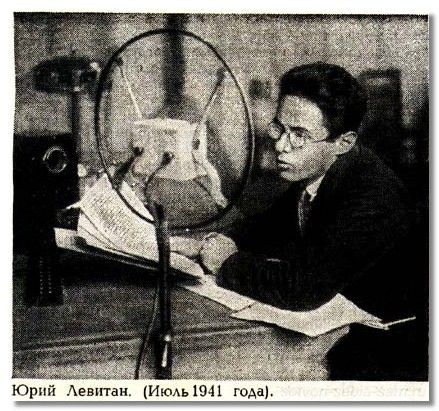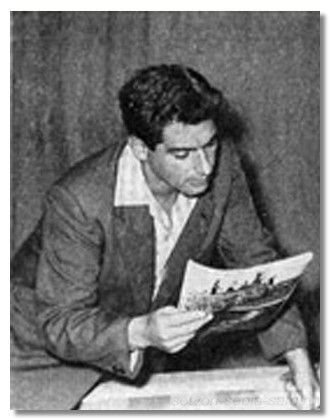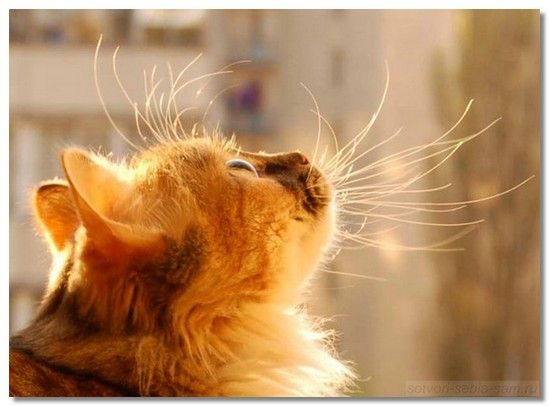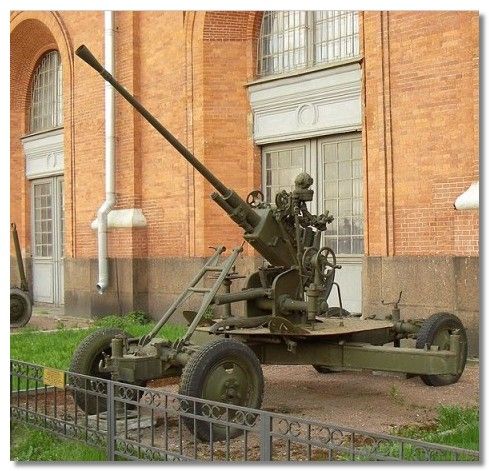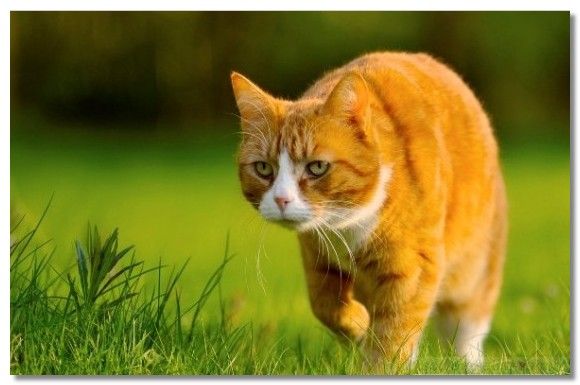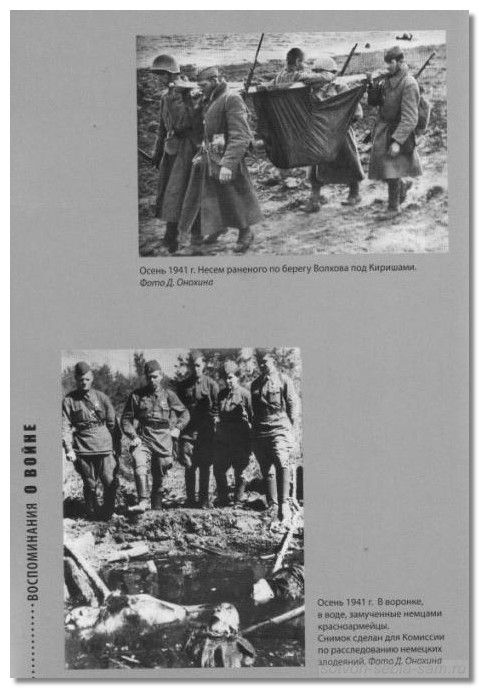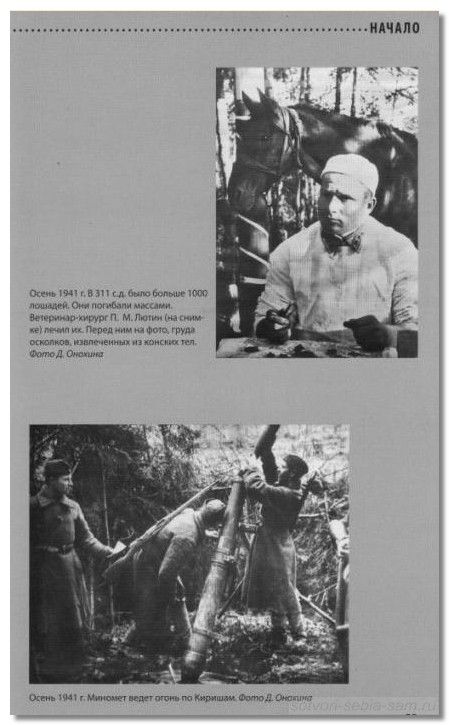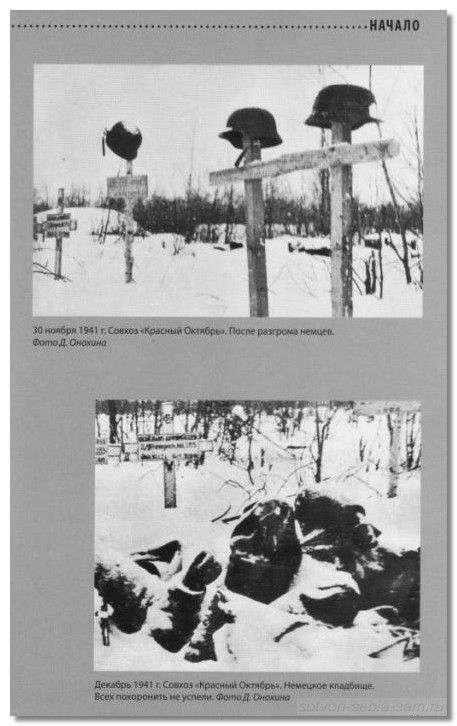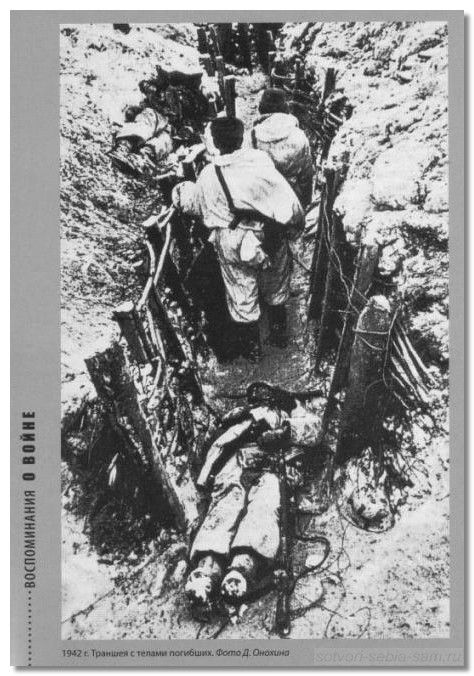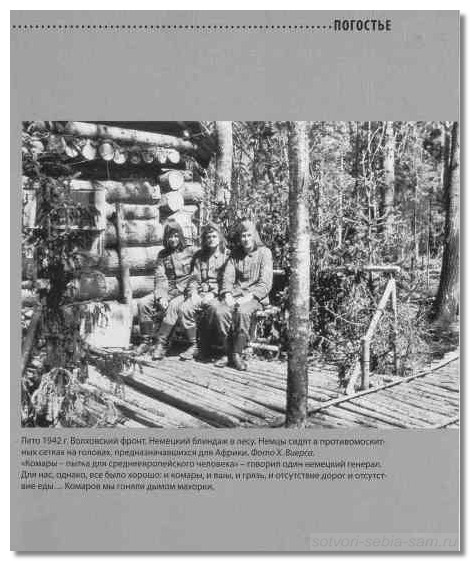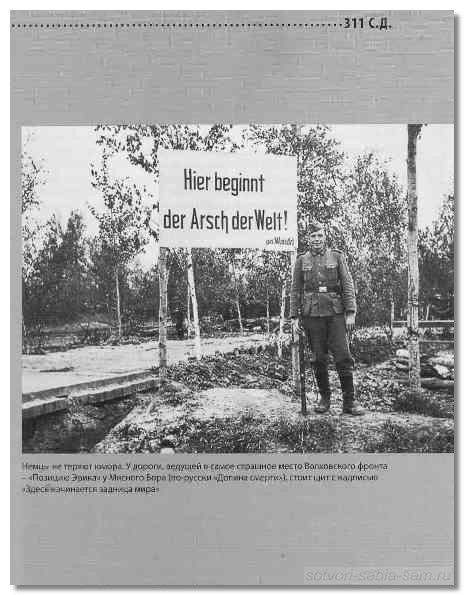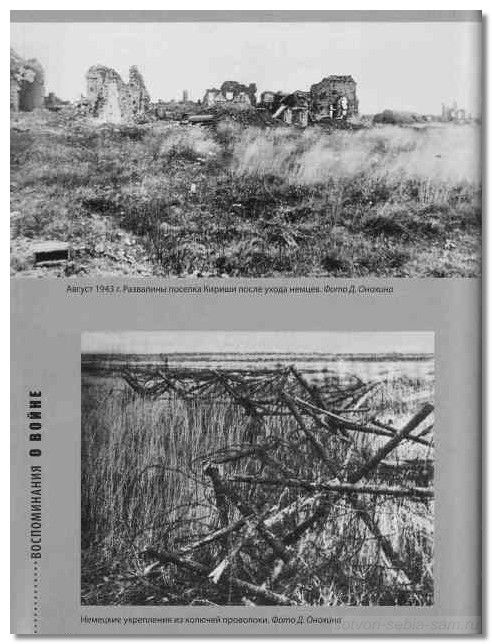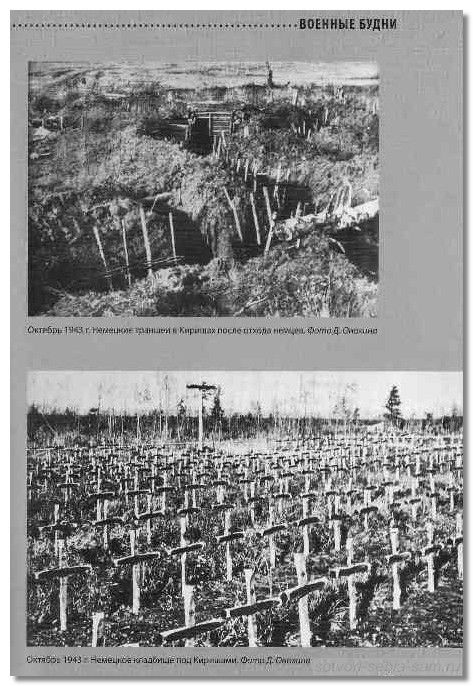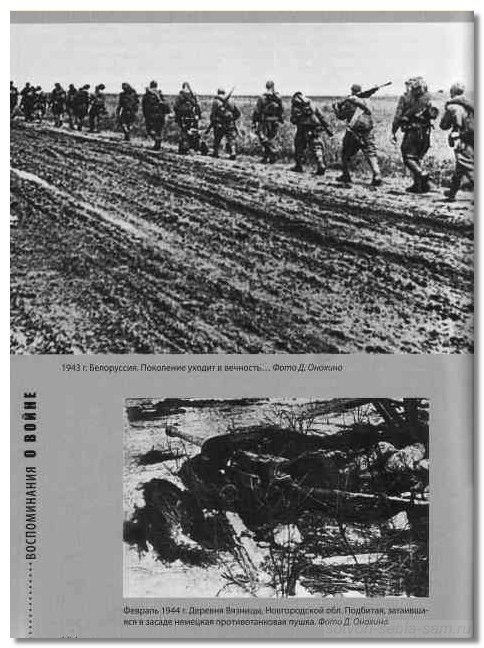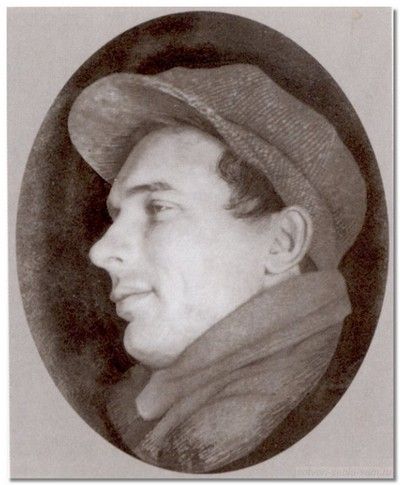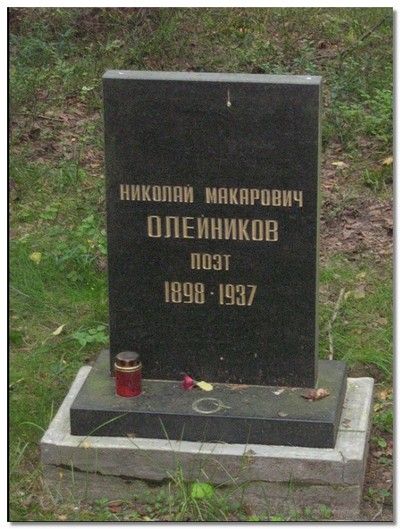-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Трансляции
-Статистика
Записей: 11167
Комментариев: 29536
Написано: 65885
Счастье – это крепкое здоровье и слабая память |
Немецкому философу Канту задали вопрос, какие женщины отличаются
большей верностью своим мужьям – брюнетки или блондинки?
- Седые, - ответил, не задумываясь, Кант.
На приеме в мэрии одного из английских городов начальник пожарной
команды, обратившись к Чарли Чаплину, ехидно спросил:
- А вот вы, господин актер, какую бы из этих дам вынесли сейчас из
огня, начнись пожар?
Внимательно посмотрев на присутствующих дам, Чарли Чаплин сообщил: -
Ту, которая легче.
Знаменитого композитора Гаэтано Доницетти пригласили прослушать его
оперу «Волшебный напиток» в одном из престижных театров Европы.
- Ну и как напиточек? – поинтересовались у автора репортеры.
Доницетти только всплеснул руками: - О, боже... - и здесь разбавляют!..
Однажды, когда великий Паганини ухитрился сыграть свой очередной
концерт на скрипке с одной струной, его невеста восторженно спросила:
- Дорогой, а ты смог бы сыграть вообще без струн?
- Конечно, - ответил великий скрипач, - на барабане.
- Какова ваша заветная мечта, Ваше Величество? – спросила как-то одна
из фавориток Людовика ХIV
- Я хотел быть Людовиком XV, - признался король.
Один журналист спросил у знаменитого миллиардера Рокфеллера: - Что
нужно сделать, чтобы стать богатым?
- Перестать считать, что бедность не порок! – посоветовал тот.
Когда знаменитый Ле Корбюзье спроектировал дом-башню с круглыми
комнатами, его спросили:
- Чем вызвано столь необычное архитектурное решение.
- В детстве меня часто ставили в угол, - признался знаменитый зодчий.
Во время съемок одной из сцен фильма Альфреда Хичкока актриса должна
была в суматохе прыгнуть
в глубокий бассейн с водой. Та начала отказываться, крича, что в
бассейне воды только по щиколотку.
- А вы что, хотите утопиться? – спросил великий режиссер.
Кардинал как-то завел с королем беседу на интимную тему и спросил:
- Ваше величество! Почему вы увлекаетесь другими женщинами, хотя
королева неописуемо красива, и нет женщины,
которая могла бы сравниться с ее красотой?
Король промолчал. Но с тех пор во время обедов и ужинов кормил его
одной сладкой индейкой.
Кардинал как-то подошел к королю и взмолился: - Ваше величество! Не
найдется ли в вашем доме говядины или хотя бы свинины?
- То-то же, - заметил король, - моя королева такая же сладкая индейка.
Когда Доницетти впервые услышал оперу Россини «Вильгельм Телль», он воскликнул:
- В афише есть неточность. Первый и второй акты, несомненно, написал
Россини, но третий акт написал сам Господь Бог!
Хемингуэя однажды спросили, что такое счастье.
- Счастье – это крепкое здоровье и слабая память, - последовал ответ писателя.
К английскому драматургу Бернарду Шоу, бывшему уже в летах, обратилась
одна дама:
- Извините за назойливость, мистер Шоу, но вы не скажете мне, сколько вам лет?
- Это зависит от ваших намерений, - ответил Шоу.
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как появляются открытия, которые
преображают мир. Ученый ответил:
- Очень просто. Все знают, что это сделать невозможно. Случайно
находится один невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Древнегреческий драматург Софокл сказал однажды, что три стиха стоили
ему трех дней труда.
- Трех дней! – воскликнул посредственный поэт, услыхавший эти слова. –
Да я в это время написал бы сто.
- Да, - ответил Софокл, - но они существовали бы только три дня.
Однажды Марк Твен получил в редакции пачку плохих стихов под
заголовком «Почему я живой?».
Возвращая рукопись неведомому стихотворцу, Твен написал ему: «Потому,
что послали стихи по почте,
а не пришли в редакцию лично».
Как-то Оскар Уайльд проиграл в казино все деньги, которые у него были с собой.
Когда швейцар распахнул перед ним дверь, Уайльд спросил его: - Вы не
могли бы мне одолжить двадцать франков?
- С удовольствием, - ответил швейцар и подал писателю деньги.
Уайльд вежливо отвел его руку и сказал: - Прошу оставить их себе. Это вам!
Однажды вечером Резерфорд зашел в лабораторию. Хотя время было
позднее, в лаборатории склонился над прибором
один из его многочисленных учеников.
- Что вы делаете так поздно? - спросил Резерфорд.
- Работаю,- последовал ответ.
- А что вы делаете днем?
- Работаю, разумеется, - отвечал ученик.
- И рано утром тоже работаете?
- Да, профессор, и утром работаю, - подтвердил ученик, рассчитывая на
похвалу из уст уважаемого ученого.
Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил: - Послушайте, а когда же вы думаете?
Картины нидерландского художника Рембрандта поражали современников мастерством.
Но однажды его упрекнули в том, что способ, которым он пользуется при
накладывании красок на полотно,
делает его картины «шероховатыми».
- Прошу прощения, - ответил с улыбкой Рембрандт. - Но я художник, а не
чистильщик сапог.
И заключительный :
На лекции датского астронома Ремера один из его слушателей спросил: -
Скажите, профессор, куда я попаду,
если я, допустим, из этого зала просверлю отверстие через весь диаметр Земли?
- Вы, молодой человек, попадете прямо в психиатрическую клинику,- ответил Ремер
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 6 пользователям
Мошенники! |
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с карты «Сбербанка»
Очень убедительно
В Facebook пользователь Владимир Дукельский рассказал о своем столкновении с мошенниками. Они пишут в мессенджер Viber якобы от номера 900, который использует «Сбербанк» для сообщений об операциях с картами. Но на самом деле имя состоит из девятки и двух букв «О». Также в профиле стоит логотип компании, для большей достоверности.
В сообщении говорится, что пользователю отправили перевод, и ниже указан номер отдела финансовой безопасности. По этому номеру работает автоответчик, который тоже похож на систему «Сбербанка». После трубку берет специалист, и он требует от звонящего данные банковской карты для подтверждения перевода, в том числе трехзначный CVV2 код.
Если пользователь отказывается называть банковские данные, мошенники начинают грубить и угрожать.
Будьте внимательны и не сообщайте персональные данные и информацию по карте неизвестным лицам по телефону.

|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 9 пользователям
Законы арабского базара |
Профессор кафедры востоковедения Еврейского университета в Иерусалиме Моше Шарон – один из ведущих арабистов и специалистов по исламу не только в Израиле, но и в мире. В прошлом советник Менахема Бегина и участник переговоров в Кэмп-Дэвиде, он знаток арабского языка, мусульманских методов ведения переговоров и психологии ближневосточных правителей.
Возможен ли мир на Ближнем Востоке? Возможен, считает профессор Шарон. И добавляет: если евреи исчезнут с лица земли или беспрекословно подчинятся воле арабов. Впрочем, в отличие от Запада и израильских политиков, арабы никуда не спешат. Они умеют выжидать…
Александр МАЙСТРОВОЙ
- Мирный процесс в его нынешнем виде – это пародия. Но возможен ли гипотетический мир с палестинцами?
- Я всегда был убежден и никогда не скрывал своего мнения, что нам не с кем и не о чем говорить. Я полностью согласен с тем, что сказал Авигдор Либерман, выступая в ООН. Могу только добавить, что мир с арабами невозможен ни завтра, ни послезавтра, ни через 50 лет. Он невозможен в принципе. Арабы не примирятся с существованием независимого еврейского государства. Это не тактическое, а принципиальное решение. Их цель – уничтожить эту страну. Мир, по исламским канонам, наступит только с триумфом ислама. И они идут к своей цели в Европе, России, а сегодня и в США. Прежде чем начинать переговоры, надо увидеть мир с точки зрения ислама. Для мусульман само существование Израиля – это реверс истории, вынужденное отступление с уже завоеванных позиций. Они не смирятся с этим ни при каких обстоятельствах. Хуже того, они не воспринимают евреев даже как народ, отрицают историю евреев, их существование как этноса.
- Но ведь ислам признает праотцев евреев и их пророков?
- Это не имеет значения. С точки зрения традиционных канонов ислама, именно эта религия является единственной правильной, а иудаизм представляет собой ее ложную, искаженную версию. Главная проблема – в разнице мировоззрений людей Запада и арабов. Западная культура, представляющая собой синтез культур греческой, римской, христианской, взращена на понятии относительной ценности тех или иных мировоззренческих подходов. Здесь верят, что в каждой из концепций есть своя правота. У мусульман нет понятия "относительно". В их представлении они носители не относительного, а абсолютного знания, и это наделяет их высшим правом в отношении "неверных". Согласно этой концепции, все, что арабы захватили в 7 веке, принадлежит исламу, в том числе Испания, Сицилия, не говоря уже о Земле Израиля. И это подход не тех, кого считают радикалами, а "умеренных" мусульманских деятелей, с которыми Запад столь охотно ведет переговоры. Возьмем, например, основателя "Кордовской инициативы" Абдулу Рауфа, по проекту которого на "Граунд Зиро" (участок в Нижнем Манхэттене площадью 65 000 м², на котором до 11 сентября 2001 года располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра –ГЛ).планируется возведение исламского центра с мечетью. Кто-либо на Западе задумывался, почему эта инициатива называется Кордовской? Вряд ли. А названа она так, потому что символизирует право мусульман на Андалузию, утраченную арабами во время реконкисты.
- Вы предлагаете вообще отказаться от переговоров с арабами?
- Переговоры можно и нужно вести, но не так, как это делают израильские политики. Мы не ведем переговоры – мы просто уступаем, даже не пытаясь назначить свою цену и поторговаться. Тем самым мы лишь разжигаем их аппетиты. Надо понять: арабы – древняя культура, и они очень сильны и изобретательны в политических играх. Они сообразили, что Израиль можно подорвать с помощью дипломатии и делегитимации, и здесь все средства идут в ход, начиная от раздувания антисемитских настроений и кончая использованием "полезных идиотов" на Западе и в самом Израиле. Арабы используют природное тяготение левых ко всем репрессивным тоталитарным режимам, сколь бы отвратительны они ни были. Они поддерживали и Гитлера, выдвинув его кандидатом на Нобелевскую премию. По времени это совпало как раз с Хрустальной ночью. Арабы умело используют стремление Запада к сиюминутным, скорым решениям. У нас это называется "шалом ахшав". Но в арабской политической культуре в принципе нет слова "сейчас". То есть оно существует, но в исключительно негативном контексте. "Поспешность – от Сатаны", - гласит арабская поговорка. Здесь никуда не спешат, а уж поспешность в решении политических проблем вообще немыслима. На Западе и в Израиле этого не хотят понимать. Более того, здесь проецируют свои чувства и желания на другую сторону. В свое время я написал статью о том, как ведутся переговоры на Ближнем Востоке. Они не ведутся, чтобы разрешить проблему здесь и сейчас. Переговоры ведутся ради самих переговоров. Это своеобразная игра, в которой главное – терпение и изощренность. Стороны стремятся заставить своего противника допустить оплошность и навязать ему свои условия. Мы же не просто допускаем оплошности - мы сами подставляемся под удары противника, и наша наивность, поспешность и глупость их просто ошеломляет. Когда я, будучи советником Менахема Бегина в 1977 году, вел переговоры с египтянами, Садат сказал мне: "Передай Бегину: это базар, и цена здесь высока". Бегин не услышал меня...
- Каковы же законы арабского "базара"?
- Они по сути те же, что и на обычном базаре.
- Как относиться к предложениям Либермана об обмене населением и территориями?
- Это тонкий ход. Он знает, что арабы никогда на это не пойдут, а раз так, они будут виноваты в срыве переговоров. Арабская культура ведения переговоров немыслима для западного человека. Например, в арабский сектор в Израиле вкладываются огромные средства, а налоги в муниципальную казну арабских городов практически не поступают. Это традиционный подход: взять, а потом кричать "нам не дают". Я помню, как ко мне обратились представители арабского сектора с жалобой, что у их муниципалитетов нет средств из-за отрицательного баланса. Я предложил: мы вкладываем шекель на каждый ваш шекель. Они важно поблагодарили и ушли. Потому что изначально не собирались платить налоги. Да и как они будут платить налоги, если власть там принадлежит нескольким кланам?! Значит, они должны собирать деньги со своих же членов семьи. Зачем, если они и так получат все, чего хотят? Когда осенью 2000 года они устроили вакханалию насилия, а полицейские убили 13 разбушевавшихся демонстрантов, Барак пообещал им в качестве компенсации 4 млрд. шекелей в качестве подарка. За что? За то, что они парализовали своими действиями полстраны? Разве это не абсурд? Я считаю, что закон о лояльности необходим: ты не можешь быть гражданином страны, которая тебя содержит, и одновременно поддерживать ее врагов.
- Насколько вероятно, с вашей точки зрения, осознание Западом угрозы, исходящей от ислама?
- Я не слишком оптимистичен. Социалистическая, либеральная идеология достигла предела своего абсурда. Политкорректность – ее порождение, связывающее руки Западу. Обама – воплощение этого мировоззрения, он первый антиамериканский президент Америки.
- Его поддерживают 80 процентов американских евреев…
- У евреев комплекс вины перед чернокожими, перед Третьим миром, перед всеми "угнетенными". Что касается Обамы и его окружения, трудно сказать, чего у них больше, ханжества или невежества. Он делает вид, будто не знает, что ислам узаконивает рабовладение. Во время речи в Каире он умудрился фактически сравнить Катастрофу и ситуацию в Газе. Такое еще недавно было немыслимо для американского государственного деятеля.
- Каковы ваши прогнозы относительно России?
- Не слишком радужные. Проблема здесь не в отсутствии национального самосознания, а в демографии. Россия так и не оправилась от потерь в годы войны, репрессий и сталинских лагерей, когда были уничтожены десятки миллионов молодых мужчин, цвет нации.
- Вы сказали, что практически все уступки были сделаны правыми. Значит ли это, что в Израиле фактически отсутствует правый лагерь?
- Теоретически в Израиле есть правые, но в реальности они поют под дудку левых. Это старое явление. Бегин, несмотря на победу "Ликуда" в 1977 году, пошел на переговоры только с согласия Моше Даяна. Хотя сегодня у власти правая коалиция, политический курс определяют левые. Тон задает Барак. Его поддерживают СМИ, богема, левые интеллектуалы, а за ними, в свою очередь, стоит Европа. У нас сложилась патовая ситуация: мы покинули Газу, где возникло откровенно враждебное террористическое образование, и при этом продолжаем поставлять им продукты и товары первой необходимости. Мы кормим и лечим террористов, которые хотят нас уничтожить. При этом европейцы отвергают инициативу Либермана о создании в Газе собственной экономики и инфраструктуры, чтобы она не зависела от Израиля. Европа создала абсурдное положение, при котором Израиль, не являясь оккупантом, продолжает быть им. Мы должны отменить, денонсировать все соглашения в Осло, которые отныне нас ни к чему не обязывают, так как в Газе создано враждебное образование, и объявить, что к определенному сроку (чтобы никто не мог обвинить нас в бесчеловечности), например, к маю 2011 года, граница с сектором будет полностью закрыта. Пусть палестинцы сами во главе с ХАМАСом или европейцы строят здесь электростанции, предприятия, современные больницы... США укрепляют границу с Мексикой, хотя мексиканские беженцы не представляют никакой угрозы безопасности США. Трагедия в том, что в Израиле идеология диктует политику. Хотя должно быть наоборот: государственные интересы должны определять идеологию.
- Последние события свидетельствуют, что Израиль вполне может сотрудничать с арабскими странами. Египет и Иордания, как и Израиль, заинтересованы в ослаблении ХАМАСа.
- Такое сотрудничество носит исключительно тактический характер. С Египтом было подписано много соглашений в самых различных областях, но выполняются ли они сегодня? Есть ли туризм из Египта? Любого желающего посетить Израиль будут допрашивать, зачем он едет в нашу страну. СМИ без устали пишут, что Израиль – мошенническое государство, а сами евреи – лгуны и негодяи. В Культурном центре Каира иврит изучают офицеры египетских спецслужб. На книжной выставке в Каире я видел Тору и "Протоколы сионских мудрецов", лежащие рядом. "Майн кампф" здесь – бестселлер. Ученые мужи Египта называют "Протоколы" серьезным исследованием и говорят, что даже если они вымышленные, то содержат правдоподобные факты.
- Насколько фундаменталистский ваххабитский ислам отличается от традиционного суннитского ислама?
- В исламе нет разделения на умеренное и радикальное направления. Умеренный ислам - выдумка Запада. Ислам изначально фундаменталистское учение, основывающееся исключительно на Коране и священных текстах. У него по определению нет иных версий. Есть еще суфии - мистики, но они не играют роли в определении религиозных и политических догматов. Если вы хотите сделать вывод о характере религии, обратите внимание прежде всего на эсхатологические пророчества. Согласно исламскому вероучению, мессия (мехди) не придет, пока не будут убиты евреи, а христиане не будут гореть в аду. Этому учат в школах, и не только ваххабитских.
- Тем не менее, в средние века ислам был толерантен к евреям.
- Во-первых, далеко не столь толерантен, как нам это пытаются представить, а во-вторых, и это главное, такая терпимость объяснялась подчиненным и униженным положением как евреев, так и христиан. Их терпели, пока хотели терпеть, не более и не менее.
- Вы считаете, Израиль должен нанести удар по Ирану, пока эта страна не получила в свое распоряжение ядерное оружие?
- Я категорически против каких-либо военных акций против Ирана. Это резко ухудшит наше положение, не изменив принципиально ситуацию. Бомбардировка ядерных объектов (даже если окажется удачной) приостановит иранскую программу на год, а вот политический ущерб будет колоссальным. Мы сплотим иранцев и окажемся в международной изоляции. Национальная гордость иранцев будет уязвлена, и всякое сотрудничество с оппозицией окажется невозможным. Конечно, после ухода американцев из Ирака Иран фактически установит контроль над своим соседом, и в этой стране начнется резня. Но это нас не касается. Стратегия должна выражаться в целенаправленной поддержке оппозиции. Однако европейцы слишком нерешительны, а Обама фактически поддержал правящий режим, не выступив в поддержку оппозиции после выборов. Санкции, введенные против режима, слишком ограничены и запоздалы. Кстати, знаете, как "Обама" переводится с фарси? "О" - означает "он", "ба" - "с", "ма" - мы. "Он с нами"…
"Новости недели"
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 5 пользователям
Без заголовка |
О поэтах Серебряного века с юмором
Поэты Серебряного века, как и поэты вообще, были людьми не от мира сего: рассеянными, чудаковатыми и почти все - озабоченными заработками на жизнь. Вот об этом - несколько смешных историй, которые собрал поклонник Серебряного века Николай Богданов.
«Ваше превосходительство! (Анненский занимал высокий пост в Министерстве просвещения.) Ваше превосходительство! Да ведь пальто-то — чужое?!» Анненский снимает и удивлённо рассматривает верхнюю одежду. «Действительно, пальто не моё... То-то я всю дорогу из Петербурга думал: что это за портсигар у меня в кармане появился?»
* * *
Созданное Борисом Прониным артистическое кафе «Бродячая собака» располагалось вблизи Михайловской площади, в подвале старого дома. Вход был с внутреннего двора. Поэты появлялись здесь в окружении некоторого числа поклонников или, чаще, поклонниц.
Как-то раз одна из восторженных почитательниц Константина Бальмонта, разгорячённая богемной атмосферой, бессонницей и вином, воскликнула, обращаясь к своему кумиру: «Ради вас я способна на всё! Хотите, я сейчас выпрыгну в окно?» - «Нет! — отрезал тот. — Здесь недостаточно высоко!»
* * *
Рассеянностью, даже большей, чем Анненский, отличался поэт Михаил Ковалёв, более известный под псевдонимом Рюрик Ивнев. Он мог, например, попытаться войти в комнату... через зеркало в передней.
Однажды в какой-то из редакций Рюрик Ивнев получал гонорар за статью, длинную и довольно-таки путано написанную. Пересчитав деньги, он удивлённо спросил своим высоким, несколько «птичьим» голосом: «Простите, сколько же редакция платит за строку?»
Услышав ответ, он изрёк: «В таком случае я должен был бы получить на 23 рубля 18 копеек больше: ведь в статье было 644 строки и 34 776 печатных знаков!» Получив разницу от изумлённых сотрудников редакции, Рюрик Ивнев поспешил удалиться. На этот раз он попытался выйти через... окно.
* * *
Кое-кто из современников подозревал Фёдора Сологуба в колдовстве. И вот как-то к нему в гости пожаловал сам Вячеслав Иванов. Беседа двух поэтов затянулась. Несмотря на всё своё красноречие, пришедшему не удалось убедить хозяина в своих заветных мыслях. Раздражённый и огорчённый этим Вячеслав Иванов собрался уходить.
Но тут за окном начался дождь, и выяснилось, что гость пришёл без зонта. Сологуб начал методично разрушать все дорогие Вячеславу Иванову представления об искусстве. Это было нестерпимо, но покинуть дом не представлялось возможным, ибо дождь за окном только усиливался.
Незадачливому визитёру стало казаться, что это сам хозяин нарочно насылает дождь, чтобы подольше его помучить. Наконец, Иванов не выдержал и решил уйти во что бы то ни стало. Однако все галоши в прихожей оказались подписаны, и на всех них почему-то стояло — И.С.
* * *
Не секрет, что многие литераторы того времени зарабатывали литературными концертами, с которыми им приходилось гастролировать по провинции. Как-то Максимилиан Волошин и Алексей Толстой отправились в подобный вояж. Для усиления программы они пригласили молодого певца-тенора и балерину, дающую отдельные концертные номера.
Гастроли были трудные. В одном городишке долго не удавалось получить помещение для выступлений. Наконец, зал был предоставлен, но только потому, что чей-то вечер, объявленный накануне, не мог состояться.
Концерт начался со вступительного слова Волошина о современной литературе. Оно не произвело на публику ни малейшего впечатления. Но когда на сцене появился худенький тенор, казавшийся вдвое тоньше своего предшественника, по залу прошёл лёгкий шум. В конце выступления, однако, аплодисментов не было.
Когда же перед зрителем предстал тучный Толстой со своим рассказом, публика пришла в восторг и начала хлопать. Завершение же чтения было опять встречено молчанием. Волошин и Толстой недоумевали. На сцену выбегает балерина — гром оваций и опять тишина по завершении номера. При появлении Волошина, читающего свои стихи, публика прямо-таки неистовствовала.
Позже выяснилось, что зрители приняли концерт за выступление иллюзиониста-трансформатора, способного быстро и значительно менять свой облик! Именно оно, объявленное накануне в этом зале, и не состоялось.
* * *
Заработать можно было и на издании альманаха — сборника стихотворений. Но для его успеха нужны были мэтры — поэты с “именем”. Для одного из таких изданий Георгий Иванов, тогда ещё начинающий поэт, ездил к самому Фёдору Сологубу.
Тот очень любезно принял молодого собрата по перу и предложил ему самому на свой вкус выбрать несколько стихотворений. Георгий Иванов выбрал четыре, очень, по его мнению, хороших.
Прощаясь, он сообщил Сологубу, что на первых порах редакция сможет заплатить только по полтиннику за строчку. Лицо мэтра стало каменным. «Анастасия Николаевна! — крикнул Сологуб жене. — Принесите мне стихи. Там, внизу лежат, вы знаете, где. Вот, — сказал он, обращаясь уже к Иванову, и ткнул ему в руки четыре листка. — Вот вам по полтиннику за строчку».
* * *
Специалистом по многочисленным альманахам, особенно по отысканию для их издания меценатов, считался Осип Мандельштам. И пусть фолиант, задуманный тиражом в тысячу экземпляров, на веленевой бумаге с водяными знаками и многокрасочными иллюстрациями,
выходил с чудовищным опозданием тоненькой газетно-бумажной тетрадочкой без всяких иллюстраций или не выходил вовсе — молодые поэты могли какое-то время предаваться свободному творчеству и не думать о деньгах.
«Ну как ваш альманах?» — спрашивали Мандельштама. «Я разошёлся с издателем во взглядах», — отвечал тот. «И что же, он ничего не издал?!» - Нет, почему же? Он издал... вопль!»
* * *
Захватив в свои сети очередного толстосума, Мандельштам долго и умело обрабатывал его, живописуя, сколь великолепным должен получиться очередной поэтический шедевр и каким событием станет его выход в свет. В наиболее патетических местах он даже читал свои новые стихи.
Как-то раз в подобную обработку попал известный меценат, отпрыск богатейшего клана купцов М*. От природы сентиментальный, он оказался прямо-таки раздавлен красноречием своего визави. Внимая стихам, меценат время от времени вздымал руки кверху и прочувственно выдыхал: “Крааааасииииивооооооо...”
«Чего же вы, собственно говоря, хотите?» — спросил он в конце беседы, как бы освобождаясь от сладкоречивого плена. «Поцеловать вас...» — ответил растроганный Мандельштам.
* * *
Парадоксальность мышления Максимилиана Волошина была широко известна и имела многочисленных ценителей. Далеко не все могли спокойно выслушивать его рассуждения об искусстве и тем более о жизни. Как-то раз он делал доклад на заседании Московского литературно-художественного общества. Речь шла о чём-то инфернальном в любви, вроде 666 поцелуев.
Как на грех, на заседание явился Владислав Ходасевич со спутницей и внушительным букетом жёлтых нарциссов. Случайно один из посетителей попросил цветок и вставил его в петлицу. Это понравилось ещё кому-то, и в результате несколько человек оказались украшенными жёлтыми цветами.
Выступление шло своим чередом, как вдруг вскочил журналист Сергей Яблоновский, очень почтенный человек, и, багровый от возмущения, заявил, что подобный доклад мерзок всем нормальным людям, кроме членов «гнусного эротического общества», имевших наглость украсить себя знаками своего «союза». При этом он указал на обладателей цветов в петлицах.
Зал взорвался бурей негодования. Однако после выступления многие из присутствующих в тот день на заседании истязали Ходасевича просьбами принять их в этот тайный «союз». Не желая объяснять каждый раз происшедшее недоразумением, он отказывал, говоря, что для принятия требуется чудовищная развращённость натуры. Но это не помогало: человек принимался убеждать, что в его случае это как раз имеется.
* * *
Авторитетнейшим журналом того времени была «Нива». Её редактор, господин Марков, деликатнейший и безотказный человек, работал по двенадцать, а то и более часов в сутки, утопая в корреспонденции.
С утра до позднего вечера он вскрывал письма, вытаскивал оттуда рукописи и, не читая их (где уж там читать!), запечатывал в редакционные конверты с одной и той же запиской редакции:
“Милостивый государь! Ваша рукопись, к сожалению, не подошла...” После этого оставалось только надписать адрес получателя.
Как-то одному из заправил «Нивы» пришло в голову - опубликовать на страницах журнала только начинавшую входить в моду Ахматову. На его предложение дать стихи, Ахматова, как и положено женщине, немного поломалась:
«У меня сейчас ничего нет... Я подумаю... Я пришлю позже...» И действительно прислала. А через месяц ей пришёл ответ: «Милостивый государь! К сожалению...» Маркова об Ахматовой не предупредили...
* * *
Граф Василий Комаровский, поражавший современников своими замечательными стихами, был очень больным человеком. Почти половину своей недолгой жизни он провёл в специальных лечебницах. «Несколько раз я сходил с ума, — признавался он своему другу князю Святополк-Мирскому. — И каждый раз думал, что умер. Наверное, когда я умру, мне будет казаться, что я просто сошёл с ума».
* * *
Едва дождавшись выхода из печати своей первой книги, Илья Эренбург поспешил отправить её на рецензию Максимилиану Волошину, уже обретавшему тогда репутацию маститого критика. Однако явиться самому за ответом у него не хватило смелости, и он отправил вместо себя сестру. Увы, книга не произвела благоприятного впечатления. Волошин упрекнул её автора в погоне за дешёвыми эффектами и даже в... ненужном кривлянии.
«Ты знаешь, — задумчиво делилась впечатлениями с Эренбургом донельзя огорчённая сестра, — а этот твой рецензент какой-то странный. Где ты его откопал? Ведь он читал твою книжку... вверх ногами!»
Много позже выяснилось, что к Волошину случайно попал бракованный экземпляр, страницы которого были неправильно вшиты в обложку. В свою очередь, именно это больше всего и не понравилось рецензенту».
Тина Гай
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 11 пользователям
Эпиграмма-хохотунья |
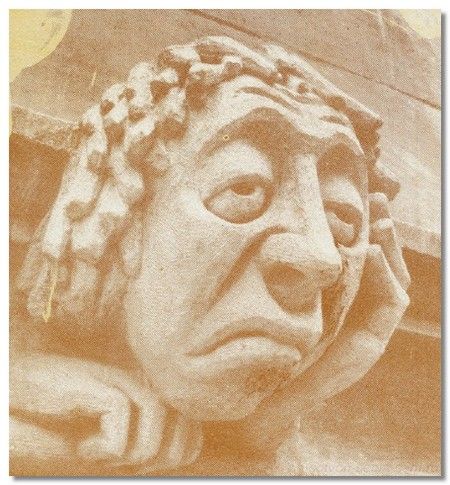 Эпиграмма в России утвердилась только в XIX веке, когда в моду вошло все французское, в том числе французское остроумие и легкий юмор. Но вот ирония судьбы: там, где эпиграмма получила свою современную форму, там она и тихо умерла.
Эпиграмма в России утвердилась только в XIX веке, когда в моду вошло все французское, в том числе французское остроумие и легкий юмор. Но вот ирония судьбы: там, где эпиграмма получила свою современную форму, там она и тихо умерла.
Как уходит жизненная сила из эпиграммы в течение трех веков, чувствуешь буквально физически, когда читаешь подряд французские эпиграммы с начала шестнадцатого века и до века девятнадцатого. Она постепенно мельчала и превращалась из общественно-значимой в своеобразный вид личной мести.
Лучшие же эпиграммы, даже если и были направлены против конкретного лица, несли в себе общий смысл и философское обобщение, затрагивающее гораздо более широкий круг проблем, чем указание на недостатки конкретного лица
Но отдадим должное французам: за триста лет французская эпиграмма выработала специфические черты, к которым относятся лаконизм, краткость, острота сюжета с обязательным неожиданным завершением, за которое иногда приходилось платить дуэлью. Вот только две эпиграммы XVI века:
Хоть воздает мое перо
Хвалу лишь одному Маро,
Ты на меня, собрат, не сетуй:
Тебя хвалить я был бы рад,
Но сам ты лучше во сто крат
Справляешься с задачей этой.
(Меллен де Сен-Желе. Некоему поэту)***
Не место тем за трапезой, кто сыт,
Тем на балу, кто плачет и скорбит,
Тем на войне, кто держится трусливо,
Тем при дворе, кто говорит правдиво.
(Ги дю Фор де Пибрак. Четверостишия)***
"Когда уместнее любовная игра?» —
Спросила у врача красотка.
На это врач ответил четко:
«Приятней с вечера, полезнее с утра».
Красотка молвила: «Ее, в конце концов, я
Могу с возлюбленным в тиши
Затеять на ночь для души
И снова утром — для здоровья
(Жан Воклен де Ла Френе)
В России настоящий расцвет эпиграммы начался только с А.С.Пушкина, превратившего ее в живую зарисовку. У Карамзина, Жуковского и даже у Тютчева она была скорее искусственно построенной рифмой без той изюминки, точнее, без перчинки, которая делает эпиграмму настоящей.
Пушкинская эпиграмма – это маленькие шедевры, легко запоминающиеся, схватывающие самую суть явления, события или человека. Эпиграммы Александра Сергеевича тем были хороши, что не требовали печати и передавались из уст в уста, что делало их, в силу легкости запоминания, жестоким оружием. Кто не знает четкой, как формула, эпиграммы на графа Воронцова.
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
Или на Аракчеева:
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,1
Бляди грошевой солдат.
Пушкин даже хотел издать сборник своих эпиграмм, для которого написал своеобразное предисловие:
О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
…………………………….Мир вам, несчастные поэты,
Мир вам, журнальные клевреты,
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята подлецы, —
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда!
Но если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!
Настоящая и хорошая эпиграмма не столько добрая хохотушка, хотя есть и такие, сколько оружие против пошлости, бездарности, глупости и политического мракобесия. Особенно действенны эпиграммы там, где есть сообщества, в которых эпиграмма рождается и молниеносно распространяется, иногда не имея даже автора.
В советское время эпиграмма была одним из самых популярных жанров, не в последнюю очередь потому что не требовала цензуры. Эпиграммы передавались из уст в уста, как анекдот, как фольклор,издевательски высмеивая то, что открыто сказать было невозможно. А наличие различных Союзов (кинематографистов, писателей, художников, композиторов и т.п.) способствовало их моментальному распространению.
Известный русский филолог, доктор наук, член Союза советских писателей, диссидент Ефим Эткинд, высланный из страны по политическим мотивам (защищал Бродского на суде, потом выступил в защиту Солженицына и Сахарова) собрал 323 эпиграммы, ходившие в двадцатые годы и вплоть до шестидесятых. Вот некоторые эпиграммы из этого сборника.
Я государство мыслю статуей,
Мужчина в бронзе — символ властности;
Под фиговым листочком спрятанный,
Огромный орган безопасности.
****
Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный!
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
***
Черепаха
Из чего твой панцирь, черепаха?
Я спросил и получил ответ:
Из пережитого мною страха
И брони надежней в мире нет.
Лев Халиф
***
Мы все евреи понемногу
Когда-нибудь и как-нибудь,
Так обрезаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.
Арго
***
О берег плещется волна
И люди от жары раскисли...
Как много плавает говна
В прямом и переносном смысле!
К. Симонов
***
Сказал однажды так Маршак,
Как мог сказать один Маршак:
— Я переводчик на Руси
И этим дорожу,
Но я, в отличье от такси,
Не всех перевожу.
Я. Козловский
****
Б. Пильняку
Хоть ты уже не молодняк,
Но цели главной не забудешь:
Чего ты ждешь, Борис Пильняк?
Борись, Пильняк, Максимом будешь!
1928
****
На Осипа Брика
Вы думаете, здесь живет Брик,
Исследователь языка?
Здесь живет шпик
И следователь из Чека.
****
Перед камнем сим остановись, прохожий:
Здесь Федин спит, на всех похожий.
****
На С.Я. Маршака
Уезжая на вокзал,
Он Чуковского лобзал,
А, приехав на вокзал,
«Что за сволочь!» он сказал ...
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
С.Липкин 30-годы
***
На Евгения Евтушенко
Я Евгений, ты Евгений,
Я не гений, ты не гений.
Я говно и ты говно,
Ты недавно, я — давно.
От имени Евг. Долматовского
***
На Ольгу Берггольц
Оля, Олечка, лю-лю,
Преисполнилась веселья.
Богородица с похмелья
Или ангел во хмелю?
М. Дудин
***
На А. Фадеева
Когда мы видим генерального?
Когда он выпьет минерального.
Когда ж он выпьет натурального,
То мы не видим генерального.
3. Паперный
****
На К.Симонова
Ему по-прежнему,
Как видно, хочется
Слыть либералом
Среди черносотенцев.
1956
****
На Вс. Кочетова
Живет в Москве литературный дядя,
Я имени его не назову.
Скажу одно: был праздник в Ленинграде,
Когда его перевели в Москву. 1955
***
На Сергея Михалкова
Что ему недоставало,
Он тотчас же доставал,
Самый главный доставала
Из московских доставал.
Лев Никулин
***
На В.Пикуля
Дорогой товарищ Пикуль,
Ты большой оригинал:
На евреев ты напикал.
А Россию обосрал.
***
На эмигрантские темы
Все поразъехались давным-давно,
Даже у Эрнста в окне темно.
Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер
вот кто остался еще в Эс Эс Эс Эр.
Булат Окуджава 1980
***
Писал эпиграммы и известный пародист Александр Иванов, но они у него скорее мягкие и добрые, чем жгучие и едкие, как у самого известного сочинителя эпиграмм – Валентина Гафта.
Ираклию Андроникову
Кипеньем, страстью, живостью
Его отмечен путь.
Чем-чем, а молчаливостью
Его не попрекнуть...***
Валентину Гафту
На Гафта? Эпиграмму? Ну уж нет!
Ведь от него же никуда не скроешься.
А Гафт, хоть он актер, а не поэт,
Так припечатает, что не отмоешься…
От Валентина Гафта действительно не отмажешься, потому что пишет он эпиграммы на своих товарищей – артистов и режиссеров - вовсе не такие добрые, как у Александра Иванова. Его саркастическими эпиграммами и завершаю этот коротенький пост о совсем не безобидном литературно жанре, каким являются эпиграммы. Своими когтями они попортили жизнь не одному деятелю искусств.
"Трем мушкетерам"
Пока-пока-покакали
На старого Дюма.
Нигде еще не видели
Подобного дерьма.
****
И. Смоктуновскому
Нет, он совсем не полоумный,
С театра в театр неся свой крест.
Всегда выигрывает в сумме
От этой перемены мест.
***
А. Миронову, М. Державину, А. Ширвиндту
А зря, собаку не считали,
Вам всем бы брать с нее пример.
Вы, чудаки, не замечали,
Что рядом умный фокстерьер.
Нет, братцы, вы не англичане,
Скажу об этом прямо вам.
Джером, как это ни печально,
Лишь фокстерьеру по зубам.
****
А. Мягкову
Не будь "иронии" в судьбе,
Мы б и не узнали о тебе.
***
В. Гафту (себе)
Когда ты сочиняешь эпиграммы,
Ты сам себе копаешь яму.
Тина Гай
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 10 пользователям
Православный юмор |
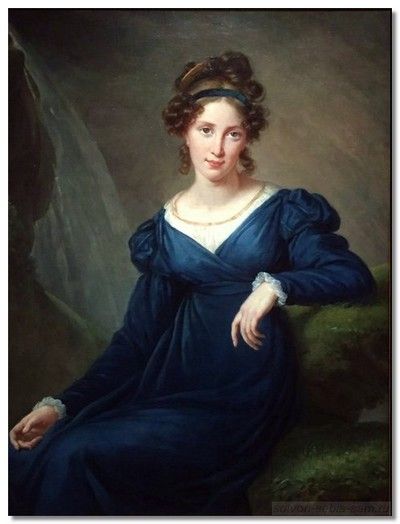 Очень люблю православный юмор. Считаю, что обижаются на него только фарисеи, заматеревшие в своей исключительности. Однажды на один из моих постов с православным юмором я получила сердитый комментарий со словами: "И откуда Вы только берете такие богохульные анекдоты?!" Богохульства нет. Во-первых, потому что смеемся над собой, своей безграмотностью. Во-вторых, что касается того, где беру? - из Интернета, вестимо. В том числе, с православных сайтов.
Очень люблю православный юмор. Считаю, что обижаются на него только фарисеи, заматеревшие в своей исключительности. Однажды на один из моих постов с православным юмором я получила сердитый комментарий со словами: "И откуда Вы только берете такие богохульные анекдоты?!" Богохульства нет. Во-первых, потому что смеемся над собой, своей безграмотностью. Во-вторых, что касается того, где беру? - из Интернета, вестимо. В том числе, с православных сайтов.
Милостивое внимание
В 1824 году действительный тайный советник Александр Михайлович Потемкин купил для своей жены, Татьяны Борисовны, старинное село Гостилицы, находящееся по дороге из Петербурга на Петергоф.
Татьяна Борисовна Потёмкина прославилась своей благотворительной деятельностью. Она никому не отказывала в помощи и неутомимо обращалась к сильным мира сего с ходатайствами. Особенно сердечно относилась Татьяна Борисовна к бедствующим лицам духовного звания и усердно за них хлопотала.
Несколько записок с просьбами она послала и митрополиту Никанору. Через некоторое время Татьяна Борисовна сама приехала к владыке в гости. В разговоре, между прочим, митрополит Никанор сказал ей: «А вы, матушка, Татьяна Борисовна, не извольте беспокоиться о просьбах, что вы мне дали. Они все порешены!»
«Не знаю, как и благодарить, Ваше Высокопреосвященство, за милостивое внимание Ваше»,— ответила растроганная Потемкина. «Благодарить нечего,— продолжал спокойно владыка,— всем отказано".
Толкование Евангелия
Служба в церкви. Заходит пьяный и тресь батюшку по морде со словами: «Бьют по щеке, подставь другую. Подставляй!» Батюшка хуком справа отвешивает пьяному леща и говорит: «Какою мерой меряешь, такой и тебе будет отмерено». Народ их окружил и с интересом наблюдает. Забегает милиционер: «Что происходит?» А толпа ему: «Не мешай, Евангелие толкуют…»
Совет бригадира
В одной деревне местный священник решил отреставрировать церковь и, естественно, координировать строительные работы пришлось ему самому. Однажды приехал он на пилораму проконтролировать погрузку лесоматериала... Мужики с борта складывают на кузов сосновые бревнышки, и попалось им одно уж очень упитанное, так сказать... Мучаются они с ним и так, и сяк, уже и священник помогать пытается и все никак не получается...
Тут бригадир подходит и советует закрыть борт, чтобы загрузить его с торца. Бригадир: "Вы чего паритесь? Поставьте его на попа и поверху затолкаете!" - "На хрен себе его поставь, Иуда!!!", - последовала реплика священника. Погрузку заканчивали со слезами на глазах и вынужденными остановками на очередной приступ хохота, глядя на красного, как рак, священника...
По новому курсу
На Страстной неделе некий проповедник оговорился и сказал, что Иуда продал Христа не за 30 сребреников, а за 40... Стоящий в народе купец наклонился к своему приятелю и тихонько промолвил: «Это, стало быть, по нынешнему курсу...»
От Тины Гай
|
|
Понравилось: 12 пользователям
Одиночество |
А вы боитесь одиночества?
 Как избавиться от одиночества?
Как избавиться от одиночества?
Когда женщина боится остаться одна, она начинает суетиться, совершать много лишних действий, вступать в отношения, в которые бы не вступила, если бы не этот страх. Она терпит то, что нельзя терпеть, забывая о своем достоинстве.
Не так давно на одной из консультаций мы затронули тему одиночества. Женщина испытывает сильный страх за то, что она не сможет найти мужчину и останется одна. В начале, я предложила подумать над фразой: «Я останусь одна». Что в этом страшного?
И вот, что женщина ответила: «Я останусь без общения, без тепла, без поддержки и буду несчастной. Мне будет так плохо и больно, что я не смогу нормально жить».
Когда мы одни, мы боимся испытать чувство пустоты, потерю смысла жизни. На уровне психики одиночество ассоциируется с чем-то тяжелым, смертельным, угнетающим и беспросветным.
Мы боимся не столько одиночества, сколько того чувства, которое давит изнутри своей пустотой, изоляцией и отсутствием близости, контакта и любви.
И вот, что важное мы открыли: если сидеть и ждать любви, заботы и внимания от других, как ребенок, то есть большая вероятность действительно остаться одной. Вас просто поглотит чувство заброшенности, пустоты и ненужности. Потому что не факт, что кто-то будет о вас заботиться, любить и радовать вас.
А если помнить о том, что вы взрослая и самой отдавать, самой идти на контакт, то это ужасающее чувство пустоты и заброшенности вам не грозит.
Особенно пугающе это чувство в детстве, потому что ребенок может рассчитывать только на взрослых, кроме взрослых у него больше нет опоры, и если они его оставляют, то это действительно страшно. У взрослого есть, прежде всего, опора на самого себя и об этом нужно почаще вспоминать: У меня есть я, и мы обязательно справимся с любыми вопросами.
Как избавиться от одиночества?
Если вы боитесь одиночества или уже одиноки. Вам придется изменить свое внутреннее состояние.
В вашей душе мало радости, счастья, гармонии. Много холода, страха и боли. Нужно себя отогревать. В сердце не может одновременно жить и страх и любовь. Выберите любовь. Пусть любовь расцветет в вашей душе и наполнит вас нежностью и красотой.
Измените поведение и начните уделять внимание вашим отношениям с людьми.
Начните делать шаги в сторону людей. В сторону доверия, любви, внимания. Напоминаю, если вы будете давать, вы никогда не останетесь одна, а если будете только ожидать, что вам кто-то что-то должен, то одиночество вам грозит на 100 процентов.
У нас у всех есть желание быть гостеприимными, но мы боимся и не приглашаем людей. Боимся, что мы плохо друг друга знаем, вдруг не поймут, у меня не сделан ремонт, вдруг меня осудят или я неважно готовлю, да и много найдется разных причин так никого и не пригласить.
Учитесь радоваться и получать удовольствие от жизни. Делайте шаги навстречу первой: пригласите в гости, скажите доброе слово, сделайте комплимент, улыбнитесь.
У меня есть подруга, она всем готова помочь, всегда готова к контакту, открыта. Недавно у нее была свадьба, ей 37 лет. Даже свекровь успела заметить ее контактность. Произнося тост за молодую невесту, она сказала такие слова: — Ты и на необитаемой планете не останешься одна.
Перестаньте нести в мир негатив. Если вы будете транслировать окружающим свои проблемы, свое несчастье, с вами никто не захочет общаться, вас будут избегать. И если вы хотите встретить достойного мужчину, то подумайте – хочет ли он встретить такую, как вы?
Становитесь счастливой. Счастливая женщина никогда не останется одна, все будут тянуться к вам и пытаться удержаться рядом.
Как избавиться от одиночества? - перестать жаловаться, грустить и ныть. Вам поможет только настрой на лучшее и светлое, только вера в то, что все будет хорошо, только настрой на счастье и на удовлетворение от жизни, чтобы ни происходило.
Пессимизм и негатив притягивает негатив и пессимизм. Запомните это!
Счастливая женщина никогда не будет одна. Потому что у нее всегда есть то, чем она может поделиться, то, что она может отдать. СЧАСТЬЕ! Как вы думаете, найдутся желающие получить СЧАСТЬЕ? Конечно!
В вашей душе должен быть покой, радость, любовь и счастье до встречи с мужчиной.
Вы сами попробуйте представить: мужчина вашей мечты, он ищет какую женщину жизнерадостную и жизнелюбивую или вечно ноющую, несчастную и обиженную?
Не делайте что-то, чтобы что-то получить. Например, пойду в кафе, чтобы познакомиться, надену платье, чтобы заметили и сделаю прическу, чтобы привлечь. Делайте все это, потому что это приятно делать, потому что все это украшает ВАШУ жизнь, делает ее намного ярче, веселее и светлее.
Часто за счет другого мы хотим решить свои проблемы, в том числе и одиночества. Но никто не хочет быть решением проблемы и быть использованным.
Еще раз: Не делайте ничего, чтобы привлечь, понравится, удержать. Вы будете исходить из недостатка, мужчина всегда это почувствует и уйдет от вас, даже несмотря на все ваши достоинства. Мужчины очень энергобережливы, если вы захотите наполниться за его счет, он быстро улизнет.
Исходите от избытка, удовольствия, радости, счастья, делитесь этим с окружающими.
Начните что-то делать, с любовью и со страстью. Любимое занятие, хобби, спорт, танцы, все то, что доставляет удовольствие и приносит радость. Купите себе то, о чем давно мечтали, но жалели денег, порадуйте себя тем, что доставит наслаждение. Сделайте это сами для себя. Никого не ждите! Вы должны понять, что одиночество – это не равно несчастье, сколько людей, которые не одиноки, но при этом несчастны.
Теперь вы знаете, как избавиться от одиночества, не остаться одной, а когда мы получаем знание, мы получаем веру, а вера растворяет страх. И нам становится легче жить, легче радоваться и быть счастливой.
Перестаньте бояться одиночества и жить из этого страха, удерживать мужчину, которого не нужно удерживать. Займитесь собой и своей жизнью. Сделайте свою жизнь счастливой!
Одиночество возникает от душевной лени, а душа должна трудиться. Каждый день!
Поэтому каждый день наполняйте свою жизнь красками, вкусом и светом, а свою душу миром и любовью. Без каких либо условий, просто так! Потому что это верный путь быть счастливой, а не одинокой.
Татьяна Дзуцева
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 6 пользователям
Геннадий Павлов. В час перед рассветом |
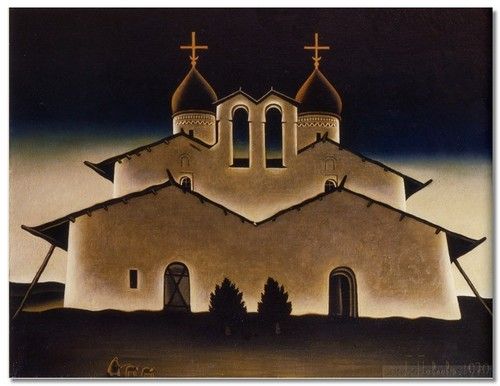 Геннадий Павлов родом из века семнадцатого, в лучшем случае – восемнадцатого, хотя родился в послевоенном сорок седьмом. Но укоренен он в иной традиции, в той культуре, которая сегодня почти скрылась в историческом тумане.
Геннадий Павлов родом из века семнадцатого, в лучшем случае – восемнадцатого, хотя родился в послевоенном сорок седьмом. Но укоренен он в иной традиции, в той культуре, которая сегодня почти скрылась в историческом тумане.
Имена художников той эпохи известны разве что только узким специалистам, а их работы в своем большинстве утрачены. На поверхности остались Рокотов, Боровиковский, Левицкий да еще с десяток имен. И Геннадий Павлов – тоже мало кому известен, о нём нет почти никакой информации, кроме официальной.
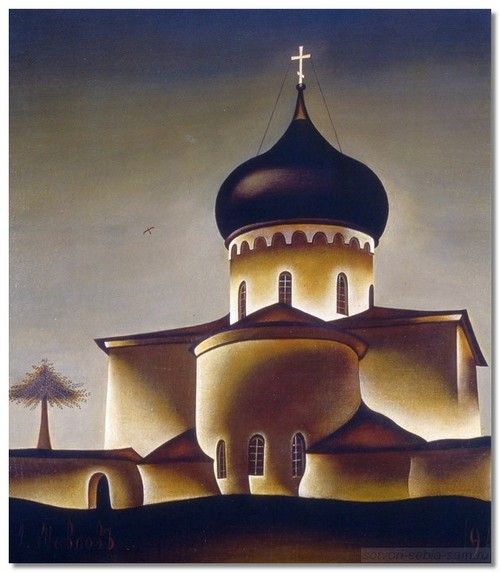 Ничего нет даже в вездесущем Интернете. Всего несколько слов: когда родился, где учился, сколько персональных выставок. Я набрела на имя Геннадия Павлова, разбирая в вынужденном многомесячном отпуске старые журналы, из которых выдирала все понравившиеся репродукции со статьями о художниках.
Ничего нет даже в вездесущем Интернете. Всего несколько слов: когда родился, где учился, сколько персональных выставок. Я набрела на имя Геннадия Павлова, разбирая в вынужденном многомесячном отпуске старые журналы, из которых выдирала все понравившиеся репродукции со статьями о художниках.
Я тогда, тридцать лет назад, и не предполагала, что сегодня мне они, ох, как пригодятся. Тогда, в восьмидесятые годы, всё было в дефиците, а многое - под запретом. Это сейчас можно найти на просторах сети практически любую информацию о многих, а тогда даже о древнерусской живописи и иконах надо было постараться, чтобы отыскать действительно профессионально написанное и интересное.
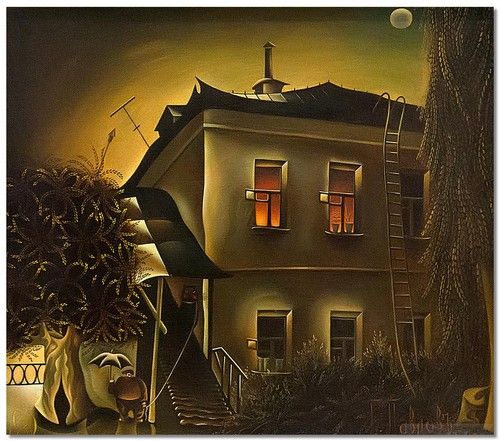 Но, оказалось, сегодня и в Интернете не всё отыщешь. Геннадий Матвеевич Павлов – москвич, что очень удивительно, если знать, о чем его странные картины. Его любимая книга – русского философа князя Евгения Трубецкого о русской иконе. Там – всё его, всё ему родное, всё, в чём укоренен и из чего растет его творчество.
Но, оказалось, сегодня и в Интернете не всё отыщешь. Геннадий Матвеевич Павлов – москвич, что очень удивительно, если знать, о чем его странные картины. Его любимая книга – русского философа князя Евгения Трубецкого о русской иконе. Там – всё его, всё ему родное, всё, в чём укоренен и из чего растет его творчество.
Простые по сюжеты и сложные по внутреннему смыслу, картины печальны, но печаль эта светла. В них царят тишина и безмолвие, мир и покой. Здесь нет людей, храмы и улицы пусты, но всё здесь светится Божественным светом, как на иконах, а русские храмы – те же лики святых, источающие Небесный свет.
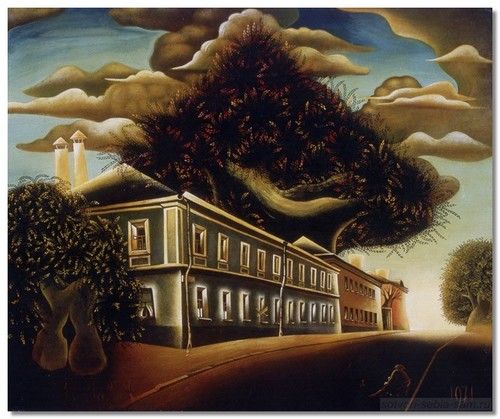 И Свет во тьме светит и тьма Его не объяла, хотя всё происходит в полутьме, в сумерках, то ли вечерних, то ли утренних, когда спускается ночь или когда вот-вот настанет утро. Или это лунный свет делает их сказочно-чудесными? Его храмы - живые, с мудрыми взорами, с расправленными крыльями, готовые взлететь Туда, откуда родом.
И Свет во тьме светит и тьма Его не объяла, хотя всё происходит в полутьме, в сумерках, то ли вечерних, то ли утренних, когда спускается ночь или когда вот-вот настанет утро. Или это лунный свет делает их сказочно-чудесными? Его храмы - живые, с мудрыми взорами, с расправленными крыльями, готовые взлететь Туда, откуда родом.
Московские дома и улицы тоже сказочные, и люди – необычны. Вот кто-то в полночь выгуливает на поводке своего кота-баяна, кто-то выгоняет скот на пастбища, кто-то рыбачит. Но все они по сравнению с домами, природой и животными очень маленькие, словно находятся на периферии мира. Здесь - не они главные.
 Нереальный мир Геннадия Павлова живет по иным законам, здесь всё таинственно и необычно, пришли они из обычной жизни, но из той, что уже давно канула в небытие – из улочек старой Москвы, многие из которых приказали долго жить, из той русской старины, к которой навсегда остался привязанным художник. И не он один.
Нереальный мир Геннадия Павлова живет по иным законам, здесь всё таинственно и необычно, пришли они из обычной жизни, но из той, что уже давно канула в небытие – из улочек старой Москвы, многие из которых приказали долго жить, из той русской старины, к которой навсегда остался привязанным художник. И не он один.
Картины заставляют задуматься, и смотреть их нужно не спеша, потому что наполнены трепетным отношением к миру, природе, к тому теплу, свету и тайне, что они источают. Мир Геннадия Павлова добрый, летний, уютный, мир старых маленьких двориков, великолепных деревьев и чистоты, дивных сказочно-красивых облаков с необычными очертаниями.
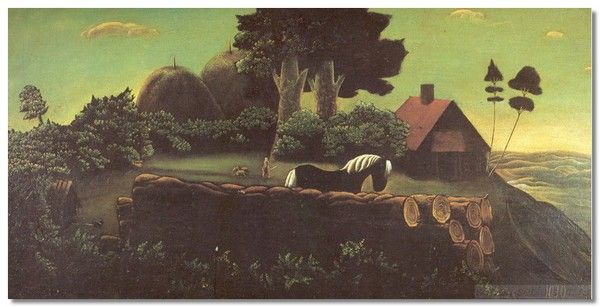 Все картины окрашены в меланхолическое настроение, но от этого они не становятся менее притягательными, скорее наоборот. Золотой сон, в котором современный мир с его железной хваткой преображается в инобытие, наполняясь духовностью. Именно ей, духовной жизни мира, природы, старинных улочек, домов и храмов посвящает сказочный художник свое творчество.
Все картины окрашены в меланхолическое настроение, но от этого они не становятся менее притягательными, скорее наоборот. Золотой сон, в котором современный мир с его железной хваткой преображается в инобытие, наполняясь духовностью. Именно ей, духовной жизни мира, природы, старинных улочек, домов и храмов посвящает сказочный художник свое творчество.
Во многом именно поэтому судьба художника складывалась очень непросто. Чиновники не жаловали его картины, с чванливостью вынося свой приговор: «Нельзя выставлять, темы какие-то непонятные: коты, кресты, странные улицы и чудаки».
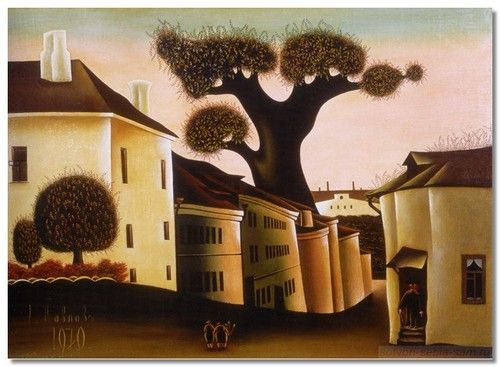 Но пришли иные времена, и через двадцать лет его картинам всё-таки нашлось место в выставочных залах: и в Третьяковке, и в частных коллекциях, и в провинциальных музеях, и в музеях запада, куда Геннадий Павлов с большой неохотой отдает свои полотна.
Но пришли иные времена, и через двадцать лет его картинам всё-таки нашлось место в выставочных залах: и в Третьяковке, и в частных коллекциях, и в провинциальных музеях, и в музеях запада, куда Геннадий Павлов с большой неохотой отдает свои полотна.
Тина Гай
|
|
Понравилось: 7 пользователям
Михаил Врубель. Последний акт |
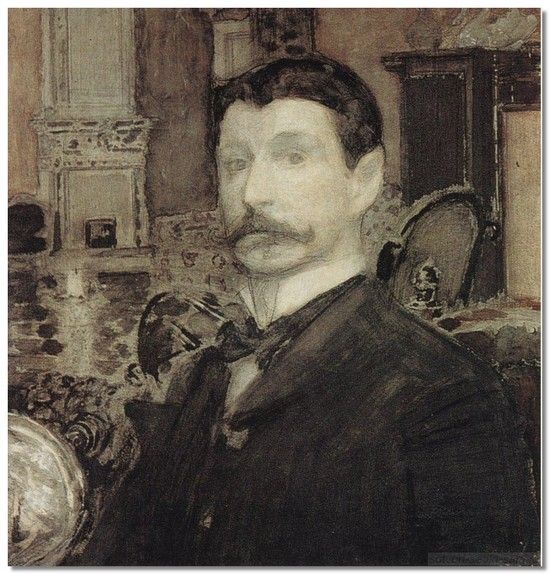 (Начало 1, 2, 3) Не будет преувеличением сказать, что Михаил Врубель большинству известен по этому, последнему акту его жизненной трагедии: тяжелой психической болезни, с которой боролся десять последних лет, сменив с десяток больниц в разных городах. По «Демону поверженному», которого, уже выставленного, постоянно дописывал и переписывал, меняя выражение лица; по слепоте, настигшей художника за четыре года до смерти.
(Начало 1, 2, 3) Не будет преувеличением сказать, что Михаил Врубель большинству известен по этому, последнему акту его жизненной трагедии: тяжелой психической болезни, с которой боролся десять последних лет, сменив с десяток больниц в разных городах. По «Демону поверженному», которого, уже выставленного, постоянно дописывал и переписывал, меняя выражение лица; по слепоте, настигшей художника за четыре года до смерти.
Часто вспоминают мрачное предзнаменование, бывшее ему, когда художник только-только приехал в Киев: разыскивая Кирилловский храм, он спросил, как добраться до него. Ему ответили: «Скажите извозчику, чтобы отвез Вас к дому умалишенных». Оказалось, что храм располагался на территории психиатрической больницы, в которой девятнадцать лет спустя Михаил Врубель окажется пациентом.
Но тогда он меньше всего связал это с будущим собственной судьбы, но круг жизни замкнулся именно на этой трагической ноте. Вообще, кроме антиномий, в его искусстве явно прослеживается круговая завершенность: начав творчество с религиозной тематики, он и закончил ею, написав последней картину на библейский сюжет «Видение пророка Иезекииля».
 Встретив впервые Надежду Ивановну в Петербургском театре, там же он видел ее и в последний раз: в начале 1906 года Врубель ослеп. Первые признаки сумасшествия у художника появились в 1901-м году. На него стали нападать приступы беспричинной агрессии, а когда выходил на улицу, то вымещал её на первых, попавшихся под горячую руку, людях: извозчике, репортёре, капельдинере театра...
Встретив впервые Надежду Ивановну в Петербургском театре, там же он видел ее и в последний раз: в начале 1906 года Врубель ослеп. Первые признаки сумасшествия у художника появились в 1901-м году. На него стали нападать приступы беспричинной агрессии, а когда выходил на улицу, то вымещал её на первых, попавшихся под горячую руку, людях: извозчике, репортёре, капельдинере театра...
В это время он работал над «Демоном поверженным», работал по двадцать часов в сутки, заглушая в себе боль от рождения сына с уродливой губой. Но Демон не давался, не давалось выражение человека, не желавшего смириться со своим поражением.
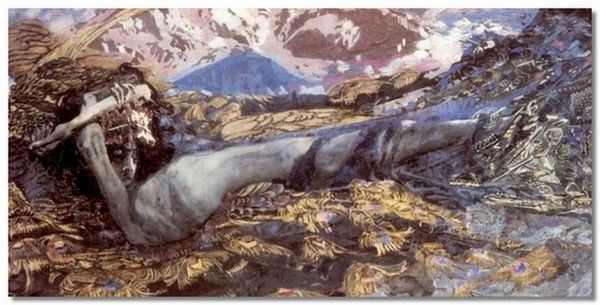 Михаил Врубель перестал есть, бриться, умываться; его мучила бессонница, а как только закрывал глаза, ему снился Демон, заставлявший вставать и продолжать работать. Началась лихорадка. В 1902-м консилиум врачей во главе с Владимиром Михайловичем Бехтеревым вынесло приговор: больного необходимо поместить в психиатрическую больницу:
Михаил Врубель перестал есть, бриться, умываться; его мучила бессонница, а как только закрывал глаза, ему снился Демон, заставлявший вставать и продолжать работать. Началась лихорадка. В 1902-м консилиум врачей во главе с Владимиром Михайловичем Бехтеревым вынесло приговор: больного необходимо поместить в психиатрическую больницу:
«Дорогая моя Надюша», - пишет из больницы жене Врубель. «Как бесценное здоровье твоё и Саввочки? …Я на новоселье в Клинике психиатрической (…плачу в 1 мес. вместо 200 руб. -9 руб.). Не дурно, экономно; здесь режим строже, в дортуарах курить запрещено, можно курить только в столовой, великолепной комнате с олеографиями и окнами, выходящими на великолепный парк с 200-летними липами, пропасть сиреневых кустов, то-то летом весело. …
Я поправил наконец свою ошибку, надо совсем забыть про работу, тогда время, на нее употребленное, войдет в норму 3-4-5 часов днём и главное не больше. Меня свалило то, что я после такого громадного труда, как Демон, стал еще работать по-прежнему по 15-20 часов в сутки; это было тем более глупо, что я покупкой Мекком «Демона» за 3000 руб. был совершенно обеспечен» (Москва, 07.09.1902)
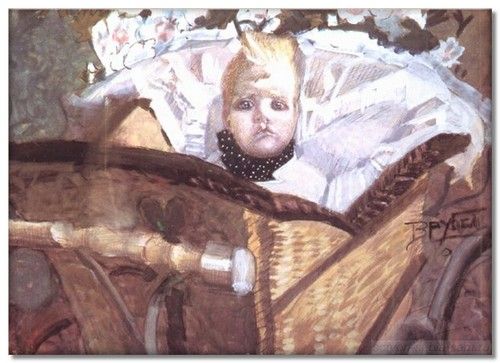 Через год художник вышел из больницы почти здоровым. О Демоне не вспоминал, обещая писать только сына и жену. Портрет сына написал быстро. Портрет поражал взрослыми глазами, наполненными смертельной мукой. Буквально через месяц Саввочки не стало. И опять он корил себя, что принял приглашение приятеля погостить с семьей в Киеве. Не надо было, т.к. сын был слегка простуженным, но он настоял на поездке.
Через год художник вышел из больницы почти здоровым. О Демоне не вспоминал, обещая писать только сына и жену. Портрет сына написал быстро. Портрет поражал взрослыми глазами, наполненными смертельной мукой. Буквально через месяц Саввочки не стало. И опять он корил себя, что принял приглашение приятеля погостить с семьей в Киеве. Не надо было, т.к. сын был слегка простуженным, но он настоял на поездке.
В поезде было холодно, простуда перешла в воспаление лёгких. Спасти мальчика не удалось, хотя до Киева они добрались, но слишком поздно…. Так Киев снова встретил Врубеля холодом. По городу он бродил, не помня себя от горя. И вдруг увидел ту самую Кирилловскую церковь, с которой всё начиналось, и вспомнил пророческие слова о сумасшедшем доме, на территории которого стоял храм.
Так он снова оказался в больнице. Потом опять были больницы: в Петербурге, в Москве, в знаменитой клинике Фёдора Арсеньевича Усольцева, что расположилась в Петровском парке. Он лечил его стихами, дождём, музыкой, прогулками и добрым словом, а Михаил Врубель называл его своим добрым демоном. В год смерти Фёдор Арсеньевич написал статью «Врубель», разместив ее в «Русском слове»:
«…Он творил всегда, можно сказать непрерывно, и творчество для него было также легко и также необходимо, как дыхание…Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить…
С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать последние по возникновению представления – эстетические – погибают первыми. Он знал природу, понимал ее краски и умел их передать, но он не был рабом ее, а скорее соперником… Он умер тяжко больным, но как художник он был здоров, и глубоко здоров».
Здесь Михаил Врубель рисовал портрет Валерия Брюсова, который потом вспоминал, подтверждая слова Усольцева, что как только художник брал в руки карандаш или уголь, она становилась твёрдой, а линии – безошибочными. Сила искусства пережила в нем его страшную болезнь.
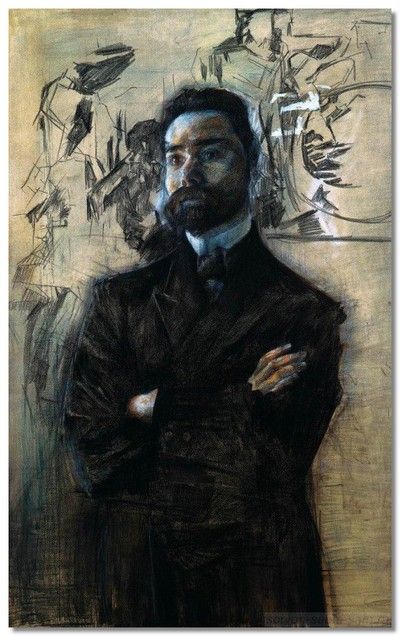 В эти годы его добрым ангелом стала любимая Надюша, которая постоянно ухаживала за ним, а он называл ее фиалкой, розой, бесценной драгоценностью. Ему достаточно было слышать ее голос, чтобы радоваться. Уже ослепнув, он продолжал диктовать ей письма. В последний год художник уже не хотел жить, устал и часами простаивал у форточки в надежде простудиться и умереть.
В эти годы его добрым ангелом стала любимая Надюша, которая постоянно ухаживала за ним, а он называл ее фиалкой, розой, бесценной драгоценностью. Ему достаточно было слышать ее голос, чтобы радоваться. Уже ослепнув, он продолжал диктовать ей письма. В последний год художник уже не хотел жить, устал и часами простаивал у форточки в надежде простудиться и умереть.
Не обрадовало Врубеля даже известие, что его произвели в академики Академии художеств. В конце концов он добился того, чего хотел: в феврале 1910-го у него появились признаки воспаления лёгких, а первого апреля его не стало. Надежда Ивановна пережила Михаила Врубеля всего на три года, умерев в 1913-м в возрасте 45 лет.
Тина Гай
|
|
Процитировано 8 раз
Понравилось: 22 пользователям
Гауди |
Безумец или гений?

Если вы узнали изображенного человека, то вы должны знать о том, что происходит в Москве прямо сейчас.
Он терпеть не мог черчение, мало кто знает, что Гауди провалил этот экзамен на подготовительных курсах при поступлении в Высшую Архитектурную Школу.
Пожалуй, прежде всего на Антонио повлияла местность, где он родился - Каталония. Многие бывали в Испании, в этом удивительном городе - Барселоне - столице Каталонии. Кто был, тот не даст мне соврать, что каталонцы довольно необычные люди. Их национальная гордость иногда граничит с абсурдом. Каталония держится особняком от остальной Испании.
Здесь не любят корриду. Кажется, здесь коррида, вообще, запрещена. И больше всего местные раздражаются, когда Каталонию называют Испанией.
Здесь говорят на своем, каталанском, языке. Здесь не танцуют фламенко, предпочитая сардану — групповой танец, похожий на греческий сиртаки. Стремление к независимости и превосходству у каталонцев в крови. А корни подобного к себе отношения уходят в глубь веков — во времена Великой Римской империи.
То есть, к моменту появления на белый свет Антонио Гауди, в 1852 году, в пригороде Барселоны, в городе Реусе, все это имело место быть и Антонио впитал чувство Национальной Гордости вместе с молоком матери.
Он был настолько упрямым националистом, что вполне мог поплатиться за это. Был такой случай. Когда Гауди уже был именитым архитектором и работал над своим самым крупным проектом Саграда Фамилиа, Барселону посетил Король Испании. Гауди отказался разговаривать с королем на испанском. Король прекрасно понимал каталанский, и они так и разговаривали, король по испански, а Гауди с ним по каталански. Беседа затянулась на несколько часов. Видимо, Король Испании был очень мудрым и спокойным человеком. Представляете, что сделал бы Петр I, если бы при знании языка с ним пожелали бы разговаривать, скажем, на армянском.
Итак, Антонио Гауди появился на свет 25 июня 1852 год. У его матери, Антонии были тяжелые, травматические, затяжные роды... Ребенок родился настолько слабым, что его крестили на следующий день, так боялись, что не выживет. Он был не первым ребенком в семье, у него был брат на год старше, и сестра младше его, но до этого все дети в этой семье умирали, едва родившись.
Родители его очень любили, отец часто брал с собой на работу, в кузницу, где мальчик мог наблюдать, как раскаленная медь или железо становятся пластичными и превращаются в удивительные предметы, к примеру дверные ручки или решетку ограды.
В детстве у Гауди было слабое здоровье, ревматические боли в ногах не давали свободно двигаться. И как это бывает у таких детей, Гауди брал умом там, где другие побеждали проворством. Антонио любил рисовать с малых лет. Однажды, в школе детям задали нарисовать город Вифлием в момент Рождения Христа. Дети стали смеяться над странными домиками Антонио, но учителю рисунок понравился своей лаконичностью и точностью.
Мать Гауди, Антония, прививала мальчику любовь к религии. Она внушила ему, что раз уж господь оставил ему жизнь, то он, Антонио, обязательно должен выяснить для чего. Единственное развлечение в маленьком провинциальном городе Реусе, где жила семья Гауди, был воскресный поход в церковь.
Христианская доктрина, христианская мораль и история религии составляли существенную часть среднего образования в то время. Большую часть учебного времени дети распевали псалмы. Думается,что это тоже наложило свой сильный отпечаток на восприятие мира будущим архитектором.
Все это он изучал наряду с греческим языком, латынью, геометрией, историей, риторикой и поэзией. Неудивительно, что любимым предметом у Гауди была геометрия.
Однажды он подслушал разговор родителей и доктора, который сказал, с таким букетом болезней Антонио проживет пять-семь лет. Сам Гауди вспоминал, что в этот момент он почувствовал непреодолимое желание жить. Он всегда был склонен к фатализму, с самого рождения он воспринимал происходящие с ним события, как судьбу или рок. Тогда, подслушав разговор родителей, он решил жить. Жить, во что бы это ни стало! И позднее, он был твердо уверен, что его жизнь - это знак Божий.
Не обращая внимание на боли и приступы он много ходил по окрестностям вместе с друзьями. Когда же он не мог передвигаться, он фантазировал и наблюдал за природой. Врачи предлагали ему костыли, но он был упрям и отказывался от них. Больше всего Гауди любил наблюдать за облаками, лежа на траве. Может быть там он и подсмотрел идеи для своих будущих архитектурных шедевров?
Маленький Гауди смотрел на горы, и ему говорили, что когда-нибудь он сможет отправиться туда и увидит своими глазами святыню, парящую в вышине громаду горы Монсеррат.
Нужно отдать должное родителям Антонио Гауди, они совершили настоящий подвиг, сумели дать детям высшее образование! Старший брат Гауди получил высшее медицинское. В то время иметь начальное образование было более, чем достаточно, особенно для потомственного кузнеца, сына простого ремесленника. Закончить школу - означало быть уважаемым образованным гражданином, ну, а высшее, слов нет, открывало дорогу в жизнь! Для Франсиска, отца Антонио, образование детей обошлось очень дорого, ему пришлось продать кузницу и земли в Реусе. Но отец был твердо уверен в том, что его дети должны добиться большего, чем быть просто ремесленниками.
Гауди всегда гордился своей родословной: «Своим хорошим пространственным воображением я обязан тому, что я сын, внук и правнук котельщика. Мой отец был кузнецом, и мой дед был кузнецом. Со стороны матери в семье тоже были кузнецы; один ее дед бондарь (мастер выделывающий бочки, иногда мастер по изготовлению корабельных мачт), а другой - моряк — а это тоже люди пространства и расположения. Все эти поколения дали мне необходимую подготовку».
Антонио Гауди курит на заднем плане, отец в центре, племянница и старший брат Франсиск.
Приехав в Барселону Гауди окунулся в водоворот событий. В это время в Европе набирала обороты промышленная революция. Барселона стала значительным индустриальным центром, где процветало производство вина, железа, пробкового дерева и хлопка. Также росла и культурная значимость города. Появлялись богатые буржуа, которым требовались красивые дома. Стремление разбогатевших горожан выделиться, пустить пыль в глаза, открывало широкие возможности для архитектора. Множество прекраснейших зданий, подстегивало фантазию Антонио.
Старая Барселона, очень узкие улицы, прохладно и интересно. Ему хотелось просто заблудиться в бесконечных лабиринтах улиц. Гауди покорила готика, по-каталонски, массивная, нарочито тяжеловесная, с квадратными формами и явным устремлением вперед.
Высшая Архитектурная Школа в Барселоне славилась своими талантливыми выпускниками, и поступить туда было не так то просто. У Гауди ушло пять (!) лет на подготовку к поступлению. Он брался за любую работу, за все возможные заказы, чтобы как - то свести концы с концами. Он был полон амбиций и жажды жизни, не смотря на свое скромное материальное положение, одевался, очень изысканно. Антонио был настоящим красавцем!
Его темно-каштановые волосы с медным отливом и ярко-голубые глаза могли сразить наповал. Он покупал себе исключительного качества лайковые перчатки на улице Рамбла и там же, в самом дорогом шляпном ателье, для него держали индивидуальную болванку, как для постоянного клиента.
Антонио Гауди, 26 лет.
Наконец, после пяти лет подготовки, в возрасте 22 лет Гауди поступил в Высшую Архитектурную Школу.
Это было учебное заведение нового типа, преподаватели делали все, чтобы обучение не превратилось в рутину. В Школе студенты поощрялись, имея возможность участия в настоящих проектах, а практический опыт всегда очень ценен для архитектора. Учился Антонио с удовольствием и энтузиазмом, по вечерам засиживался в библиотеке, выучил немецкий и французский языки, для того чтобы иметь возможность читать литературу по профилю. Антонио был одним из лучших учеников, но никогда не был любимым.
Студенческая работа Гауди. Дверная кованая ручка.
Его сложный, непокладистый характер, склонность любой ценой добиться признания своей правоты, настраивали преподавателей против него. Однажды ему поручили разработать проект кладбищенских ворот, а он принялся рисовать похоронную процессию во всех подробностях. Преподаватель возмутился его подходом к делу, а Гауди заявил, что преподаватель ничего не смыслит в красоте и покинул аудиторию, хлопнув дверью.
Именно в это время и родилась фраза: «Гений или сумасшедший», (которая цитируется во всех статьях о Гауди). Так преподаватели отзывались об упрямце, который, впрочем, знал все предметы назубок и экзамены сдавал на «отлично»… Если дело не доходило до принципиальных споров. Тогда Гауди был бескомпромиссен. И отличная оценка тут же превращалась в неудовлетворительную.
Пожалуй, это время было самым счастливым в его жизни. Гауди снимал квартиру вместе со своим братом Франсиском, они носили один гардероб на двоих, поэтому казалось, что у Антонио несметное количество одежды. Они вместе ходили на вечеринки, участвовали в общественных мероприятиях. Молодые люди украшали карнавальные платформы и разыгрывали политические и исторические пародии из жизни известных в Каталонии людей, путешествовали по Каталонии. К ним часто приезжал отец, а мама каждый день писала письма.
Студенческий проект Уличные Фонари для Пла де Палау и Пласа Реаль.
Внезапно все оборвалось. Скоропостижно скончался старший брат Антонио - Франсиск. Все случилось настолько быстро, что врачи не успели поставить диагноз. Многообещающая медицинская карьера Франсиска оборвалась так и не успев начаться. Антонио обезумел от горя. Для него Франсиск был самым близким человеком. Гауди всегда выглядел старше своих лет, а тут он просто в одночасье постарел. Едва оправившись от этого горя, семью Гауди постигает новый удар. Умирает мама, которая так и не смогла перенести потерю старшего сына. Вне себя от горя Антонио углубляется в учебу, в свободное время бесцельно бродит по Барселоне, пока держат ноги, а приходя домой, он падает без сил, забываясь тяжелым сном до следующего дня.
Через некоторое время Гауди решает перевезти к себе в Барселону отца и младшую сестру Розу с дочерью. Одиночество для него невыносимо. После переезда семьи Антонио приходится работать гораздо больше, чтобы прокормить всех. Кроме этого, ему нужно готовить дипломный проект. Для проекта он выбрал как раз те злополучные кладбищенские ворота, из-за которых было столько споров.
С большим трудом, преодолев препятствия обиженных преподавателей, в 1878 году Антонио Гауди получил диплом архитектора.
Один из первых его проектов был рабочий поселок Матаро, проект поселения, созданный Гауди по заказу рабочего кооператива. Этот поселок остался лишь на бумаге и в макете. Но для того, чтобы понять что нужно рабочим, которые трудятся на заводах и фабриках Гауди посещал рабочие слободки в пригородах Барселоны.
В одном из таких поселков Антонио познакомился с Жозефиной Морей. Жозефина работала в поселке учительницей.Она была на несколько лет старше его, и гораздо опытней, поскольку была разведена. Жозефина имела строптивый характер, прекрасно развитое чувство пространства и ощущение прекрасного. Она была прелестна. Темные волосы до плеч, тонкие черты лица и умение дать отпор любому, кто попробует посягнуть на ее свободу. Гауди был по-настоящему очарован.
Удивительна история и самой Жозефины.
Будучи шестнадцатилетней девушкой, Пепита (ее уменьшительное имя) влюбилась во французского красавца моряка и сбежала из дома своего зажиточного папаши. Быстро поженившись молодые поселились в Марселе, крупном морском портовом городе Франции. Супруг Пепиты нещадно пил и поколачивал молодую жену, а вскоре записался на уходящее судно и отбыл в неизвестном направлении.
Сильный характер и хорошее образование не дали Жозефине скатиться на самое дно. Она зарабатывала себе на жизнь в трактирах Марселя игрой на фортепиано, пением и испанскими танцами. Через некоторое время Жозефина связалась с отцом и выпросив у него прощение, вернулась домой в Барселону. Знание французского очень пригодилось ей в жизни. Получив образование, она стала работать в школе учительницей математики и французского языка.
(Ни одной фотографии Жозефины не сохранилось. Но она могла выглядеть примерно так.) Эдуард Мане.1881 год "Жанна".
Однажды Гауди получил заказ на оформление витрины магазина перчаток. Как всегда, наш герой подошел к выполнению работы с большой фантазией. Он решил изобразить перчаточный город. Одни перчатки были у него деревьями, другие улицами и домами, третьи изображали влюбленные парочки, прогуливающиеся по бульвару, а четвертые он впрягал, как лошадей в экипажи, которые тоже были... перчатками. Антонио так увлекся работой, что никого и ничего не замечал. Его отвлек владелец магазина с просьбой познакомиться с господином...
"- Эусебио Гуэль", - представился тот, "Мне нравится, как вы работаете!"
"Вообще-то, я архитектор!", - гордо ответил Гауди.
Гуэль спросил есть ли у Гауди проекты и пригласил его к себе домой на ужин. Так Гауди встретил своего друга, главного заказчика, покровителя и мецената.
Эусебио Гуэль .1881 год.
По сути дела, эта встреча была главной в жизни Гения Антонио Гауди, потому что каждый мастер знает, что какой бы гений и талант не родился на свет, без воплощения своих идей, он мало чего стоит.
Все проекты Гауди стоили баснословных вложений. И без Гуэля, вполне возможно, мы бы с вами и не узнали, что на свете жил такой архитектор, как Антонио Гауди.
По свидетельствам близких и современников, характер Гауди представлял собой клубок противоречий: гордый и мелочный, щеголь и бродяга, мудрый и чувствительный, остроумный и скучный. Все эти наблюдения принадлежат людям, которые хорошо его знали.
Эусебио Гуэль настолько значимая фигура в жизни Гауди, что хотелось бы остановиться на его жизни подробнее.
Гуэль сын разбогатевшего крестьянина, сколотившего свое состояние на Кубе. Эусебио получил прекрасное экономическое и юридическое образование, продолжил учебу во Франции и Англии, владел тремя языками. В доме Гуэля бывал весь интеллектуальный цвет Барселоны. Здесь постоянно звучали стихи. Гуэль был старше Гауди всего на шесть лет и неудивительно, что они быстро подружились. Побывав впервые в доме Гуэля и встретив там радушный прием, Гауди пришел еще раз, потом еще. И — стал самым желанным гостем в доме своего покровителя и мецената. Гуэль с большим интересом просматривал наброски Антонио, которые тот приносил ему во время каждого визита. Выделил один, самый масштабный — проект кооператива Матаро. И сказал, что если его доработать, то вполне можно участвовать с ним на Всемирной выставке в Париже.
Гауди с вдохновением взялся за доработку. Гуэль был членом городского совета Барселоны, депутатом и сенатором законодательного собрания Каталонии. За его заслуги король Альфонс присвоил ему дворянское звание. Именно Гуэль похлопотал перед комиссией, чтобы проект никому не известного Гауди попал на Всемирную выставку в Париже. Учитывая то, что выставку посетили три миллиона человек и проект Гауди был действительно очень интересным, Антонио Гауди в одночасье стал известным архитектором.
Гуэль рекомендовал Гауди Висенсу Монтанера, крупному фабриканту керамической плитки, и Гауди получил свой первый крупный заказ.
Дом Висенса 1888.
Гауди был счастлив! У него стало получаться, жизнь налаживалась!
Милая Жозефина, Эусебио Гуэль, семья, первые заказы, все это до краев наполняло его жизнь. Теперь в гости к Гуэлю он приходил с Жозефиной, которой нравилось, что ее принимают в высших слоях общества. Частенько Гауди приглашал Жозефину на прогулки вдоль моря, во время которых рассказывал о своих идеях, которые он мечтал воплотить в архитектуре. Речь шла о гиперболических параболоидах и их сечениях, гиперболоидах и геликоидах. В переводе на человеческий язык, параболоиды это пространственные фигуры, которые имеют форму седла или форму перевернутой рюмки
Гауди мог рассчитывать такие пространственные формы в уме, не делая вычислений и чертежей на бумаге, в этом тоже было проявление его гения. Имея математическое образование Жозефина иногда спорила с Антонио, Гауди был в восторге, потому что она действительно понимала о чем идет речь. Им было хорошо вместе, Жозефина ждала предложения руки и сердца. Но Антонио не спешил жениться. Он хотел быть уверенным в своем материальном положении.
Эусебио Гуэль очень хорошо умел считать деньги. Но при этом не стремился получить выгоду мгновенно. Он отлично понимал, что самым надежным вложением капитала является недвижимость. И не просто дома, а уникальные архитектурные сооружения, несущие в себе уникальный стиль создавшего их человека. Рожденный и воспитанный в Барселоне, Гуэль знал толк в хорошей архитектуре. Вскоре Гуэль поручил Гауди строительство усадьбы.
Усадьба Гуэля 1884 год.
В то время Гауди еще работал чертежником в архитектурном бюро у своего бывшего преподавателя Высшей Архитектурной школы Вильяра. И это тоже сыграло интересную роль в дальнейшей жизни Гауди. Строительство Собора Сограда Фамилия шло уже несколько лет. Стал вопрос о замене архитектора. Вильяр посоветовал кандидатуру Гауди. И, как ни странно, Церковный Совет ее принял. Так Гауди возглавил строительство Великого Собора Святого Семейства.
По совету Гуэля Гауди оставил работу у Вильяра, основал свое архитектурное бюро, набрал штат помощников и с головой окунулся в работу.
Часто упоминают о фантастических способностях Гауди строить дома без чертежей, пользуясь только набросками в импрессионистском духе или создаваемыми по ходу работ моделями так, что незаконченные архитектором здания не мог закончить больше никто. Например, макет будущего Храма Святого Семейства, составленный из подвешенных мешочков с песком, смогли "прочитать" только современные компьютеры.
Соединив точки-мешки исследователи получили пространственную модель собора. А чтобы не "резать" помещение на части, он придумал собственную безопорную систему перекрытий, и только через 100 лет появилась компьютерная программа, способная выполнить подобные расчёты. Это программа НАСА, рассчитывающая траектории космических полётов.
Макет Собора Сограда Фамилия.
Гауди не вылезает со строительных площадок. Он носится с объекта на объект, и с горящими глазами отдает распоряжения.
Новый удар для Антонио. Умирает его младшая сестра Роза.
Да и племянница не радует, частенько Антонио вытаскивает ее, пьяную, из близлежащих заведений. Болеет отец, ему тоже нужно уделять внимание.
Возможно, Антонио пропустил момент, когда отношения с Жозефиной стали прохладными. Он не мог уделить ей должного внимания, и она стала отдаляться. Когда Гауди это понял, то решился сделать ей предложение. Но было уже слишком поздно. Жозефина отказала ему. Уже немного зная характер нашего героя, неудивительно, что услышав отказ, Антонио покинул дом Жозефины Морей, чтобы никогда уже туда не возвращаться. Он не предпринял ни одной попытки, чтобы вернуть любимую. Нервный и физический срыв сильно выбивают Антонио из колеи. Он покидает Барселону на два месяца, живет у монахов, постится, горячо молится и возвращается в Барселону другим человеком. Со своей склонностью к фатализму он решает, что разрыв с Жозефиной - это Знак Божий и отныне у него только две Любви - это Религия и Архитектура.
Он с головой уходит в работу. Но не забывает общаться с отцом, чтобы быть с ним больше времени он перетаскивает свой рабочий стол, в комнату, где лежит отец.
В это время он принимает участие во Всемирной Ярмарке в Барселоне. Он представляет экспозицию Испании.
Фото из удостоверения участника Всемирной Ярмарки.
Гауди все меньше и меньше думает о себе. Одевается как попало, становится жестким вегетарианцем. Питается орехами, фруктами, молоком и хлебом. Это и понятно, Гауди одинок, а трапеза подразумевает общение близких да столом. Любящая женщина должна была встретить его, усталого, дома, улыбнуться и велеть быстро мыть руки и садиться к столу, потому что она сегодня приготовила его любимую паэлью. Гауди-младший должен был бы забраться ему на колени и спросить, заглядывая в глаза, о том, как там строятся его кривые домики, а он должен был, улыбаясь, объяснять, что кривое это красиво. потому что в природе нет прямых линий.
В это время он проектирует дом Кальвет.
Он посвящал чертежам каждый час бодрствования, вечно искал совершенства, никогда не колебался делая выбор и не оглядывался назад, если выбор был сделан. Часто исправляя проекты, он упорно начинал заново, обнаруживая новую возможность, погружался в нее целиком. Иногда он врывался на стройплощадку и распоряжался рушить только что возведенную стену, потому, что ему ночью пришла в голову новая идея. Он становился совершенно нетерпим, ссорился с заказчиками, заявляя, что если они хотят, чтобы на них работал сам Гауди, они должны всецело ему доверять.
Гуэль заказывает Гауди парк. В 1900 году Эусебио Гуэль решил воплотить в жизнь грандиозный план, рассчитывая на талант и трудолюбие своего лучшего друга Антонио Гауди… Гуэль, который в то время увлекался утопическими идеями «идеального поселения", вознамерился превратить унылую гору в зеленую загородную зону. Здесь, по его задумке, должны были появиться сорок домов — с садами, удобными дорожками, полянами для игр и отдыха.
Выбор места с точки зрения Гуэля был идеальный семейный дом Гуэлей. К слову, Гауди переезжает жить в один из домов, с отцом и племянницей.
Собор Святого Семейства строился на пожертвования Граждан, и когда не было средств на строительство, стройка останавливалась. В это время Гауди брал светские заказы. Так был построен дом Батло.
Заказчик, крупный промышленник дон Хосе Батло Касанавас. Мастер оставил нам совершенно фантастический дом Батло, с волнистой чешуйчатой крышей наподобие гигантского змея и башней в виде копья, вонзающегося в драконье тело с балконами, похожими на карнавальные маски, и плиточной облицовкой богатейшей цветовой гаммы, от бело-голубой до насыщенно-синей.
Дом Батло 1904-1906
Последний светский проект Гауди, это Дом Мила, Каса-Мила, жилой дом, построенный в 1906-1910 Гауди для семьи Мила. Он интересен нам, поскольку раскрывает его отношение к деньгам. Строительство Собора Святого Семейства опять остановилось, а он чувствовал себя все хуже.
Гауди нужны были деньги для строительства Собора Святого Семейства. Он строил его почти сорок лет, отдавая на строительство свои гонорары, зарплату и милостыню, которую просил на улицах. Дом Мила он построил за три года, так торопился. Пока все это сооружалось, богатый Пере Мила стал бедным, поскольку уже заплатил 100 тысяч песет за нарушения Гауди норм строительства. Поэтому ближе к завершению сказал вдруг: платить не буду. А Гауди сказал:" Ну, сам и достраивай." И они разошлись, похлопывая по пустым карманам, понося друг друга и передав дело в суд. Тяжба началась. Гауди включил в сумму иска все штрафы, 1916 году из суда сообщают, что Пере Мила проиграл и оставшийся без гонорара архитектор может получить свои кровные 105 тысяч песет. Шла Мировая война, у Пере Мила богатства не росли, и, чтобы отдать сумасшедшему Гауди сполна, он заложил свой доходный Каса Мила, оставшись полностью разорен. И жестокий Гауди не пожалел бедняка. Недрогнувшей рукою он взял деньги и понес их... в кассу Храма....
Через некоторое время Гауди сильно заболел. Подхватил бруцеллез, или мальтийскую лихорадку, диагностировать которую трудно и сегодня. Медики считают, что «бруцеллез отличают резкие смены настроения, приводящие к суицидальной депрессии. Перемежаясь со вспышками гнева и периодами рассеянности, это подавленное настроение сопровождается физическим истощением, мучительными головными болями и болезненным артритом» Лекарств против этой болезни не было.
Может быть этим и можно объяснить, почему Гауди так сильно изменился в худшую сторону, пока еще были живы племянница с отцом, что-то его еще держало в этой жизни, но когда он остался совсем один, он перестал замечать себя.
Он разгуливал в каких-то обвисших, в пятнах плесени, пиджаках, брюки болтались вокруг ног, которые он от холода обматывал бинтами. И никакого нижнего белья, да и верхнюю одежду не менял, пока не превращалась в лохмотья. Ел то, что сунут в руку, обычно кусок хлеба, шел и ел на ходу. Если ничего не совали, ничего не ел. Пил воду. Когда очень долго ничего не ел, ложился и начинал умирать. Но приходил кто-нибудь из учеников, менял на нем одежду, (новая вскоре опять превращалась в нечто непотребное), кормил, и он поднимался.
Комната Гауди, где он жил в последние годы
Он не проповедовал, ни к кому не приставал с гениальными идеями, не пророчил и не оглашал улицы и площади проклятиями. Он протягивал руку и смотрел на встречного совершенно не испанскими, выцветшими синими глазами. Глазами стрелка. Без пощады. Рафолс, его помощник, утверждал, что у него были «неотразимые глаза пророка», нет, самым жутким для встречных было другое: «казалось, он способен глазами передвигать предметы и людей».
Он никого и никогда не хвалил. Однажды замучил всех, заставляя раз двадцать переделывать винтовую лестницу, и когда озверевшие рабочие наконец позвали его: «Сеньор Гауди, мы сделали все, как вы хотели!» — и он пришел, все поняли, что, тьфу-тьфу-тьфу, удалось. Ему явно нравилось. Но, взглянув на их довольные физиономии одним глазом, как курица, он буркнул злобно: сломайте все! Нет-нет, был случай, когда одному каменщику он сказал: «Хосе, ты хороший работник!» И этот Хосе заплакал...
И вот стоит перед вами такое создание. Безумно смотрит и протягивает руку. Ему нужны деньги на строительство Храма. Поэтому встречные, завидев его, сразу переходили на другую сторону улицы или прятались, так он и шел по пустеющим впереди улицам, протягивая руку каждому. Так шел он и в тот июньский день 1926 года, никого не видя и ничего не замечая, не заметил он и трамвай, который пустили в тот день в Барселоне. Водитель потом рассказывал, что этот бродяга сам кинулся ему под колеса. А три дня спустя Антонио Гауди, Великого Зодчего, хоронила вся Барселона.
Могила Гауди в крипте церкви
Гению тесно в рамках времени, стиля и традиций. В творчестве им движет внутренняя сила, потребность души, не зависящая от внешних обстоятельств. Как бы к Гауди не относились, он делал свое дело, потому что именно для этого он и родился на этот Свет.
Достаточно интересно взглянуть на экспонаты выставки в ММОМА - уникальная возможность вспомнить дух Барселоны прямо в центре Москвы.
Источники: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 5 пользователям
Левитан и Дудник |
Случаи из жизни времен Великой Отечественной-2
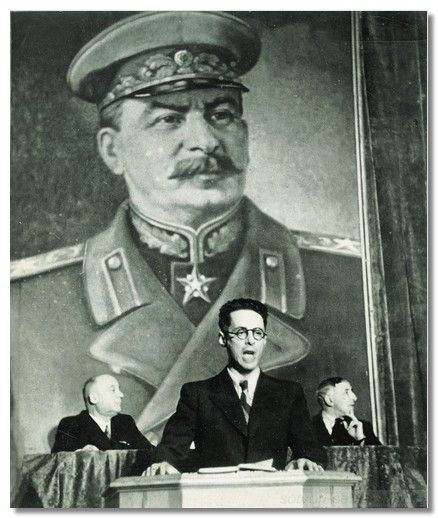 (начало здесь) Случай из жизни Юрия Левитана, к голосу которого вождь был неравнодушен, подтверждает, что все, кто попадал в поле зрения Сталина, так или иначе начинали ощущать холодок "Беленькой", которая в любой момент могла пройтись косой по их головам.
(начало здесь) Случай из жизни Юрия Левитана, к голосу которого вождь был неравнодушен, подтверждает, что все, кто попадал в поле зрения Сталина, так или иначе начинали ощущать холодок "Беленькой", которая в любой момент могла пройтись косой по их головам.
Оказаться в таком положении, при всех благах, почестях и регалиях, которые сулила «любовь» вождя, мало кто хотел. Но ладно бы еще только наш герой попал как кур в ощип, но и все, кто с ним работал – тоже. Тогда им явно было не до смеха, с которым сейчас, спустя более шестидесяти лет, воспринимается этот случай из жизни известного диктора.
Но как вышли из этой неприятной ситуации!Это говорит о многом. В том числе и о безграничной изобретательности человека: когда на кону жизнь, еще не то придумаешь. Итак, рассказывает Юрий Левитан.
Случилось это в 1952 году, еще при Сталине. Хоть он и был отъявленный антисемит, но голос мой по радио ему импонировал. Говорят, еще до войны, он сказал на Политбюро: "Я думаю, что все важные сабития должэн гаварить по радио товарищ Левитан".
Я читал в Отечественную войну все сообщения Совинформбюро и в "Последнем часе", перечислял, когда и из скольких орудий будет салют. Радио начинало говорить в шесть утра. Когда было важное правительственное сообщение, мне с вечера звонили в мою коммунальную квартиру и сообщали, что в полпятого утра за мной заедет машина.
Если трубку брал мой сосед-алкаш, он кричал мне: "Борисыч, тебя с радива. Пойдешь ротом деньги зарабатывать". И вот, звонят мне с вечера - завтра читать что-то важное. А выступали тогда только в прямом эфире, записей еще не существовало, да и документ давали в последний момент.
А часов в двенадцать - у меня сердечный приступ. Вызвали "скорую". Врач: "Немедленно в больницу". Я говорю: "Да вы что? Мне правительственное сообщение в шесть утра читать". Врач: "Какие там шесть утра. Дай вам Бог вообще оклематься".
Я потерял сознание. Очнулся в больнице. В голове страшные мысли: что будет, если я утром не выйду в эфир. Это же смерть без всякого инфаркта. Проносится такая картина: товарищ Сталин в шесть утра включает радио и слышит, что читает не еврей Левитан, а кто-то другой. Вызывает Берию:
"Лаврентий, а пачему не Левитан гаварит по радио?" - "Он заболел, товарищ Сталин". - "Нам не нужны бальные дикторы. У нас нэт нэзаменимых людей". - "Понял, товарищ Сталин. Примем меры". И вот я уже на нарах.
Вскоре приехали в больницу первый зам. Председателя Всесоюзного радио и главный редактор "Последних известий". Стали умолять врачей, чтобы отпустили меня хоть на один час. Те отвечают: "Берите, но мы гарантируем, что живым вы его не довезете. Он не транспортабелен".
И вот - шесть утра. Позывные Москвы. Естественно, я не сплю. Сердце сжалось еще больней. Что-то сейчас будет. И вдруг... я слышу свой собственный голос, читающий новое Постановление ЦК. Сомнений нет - это я. Все мое. И тембр, и интонации, и паузы, и даже вдох мой. Показалось, что я схожу с ума. Или уже сошел. На худой конец - слуховые галлюцинации.
Что же произошло? Ночью на радио объявили аврал. Начальники знали, что и они тоже будут ходить в виноватых. По телефону вызвали всех работников. Вопрос один - что делать?
И тут кто-то вспомнил, что на одном актерском сборище щупленький еврей, недавний выпускник ГИТИСа, делал пародии на Бориса Андреева, Петра Алейникова, Василия Меркурьева и других, в том числе и на меня. Один в один.
Но ни имени его, ни где живет - никто не знает. Есть только описание внешности. Тотчас разбудили директора ГИТИСа. Он уже будил, кого ему надо. Вычислили. В общем, часа в четыре домой к молодому актеру заявились два чекиста, разбудили - парень, конечно, страшно перепугался - его в машину и на радио.
Дали текст, заперли на ключ в дикторской, чтобы он текст освоил. Минут через сорок он попросил послушать, как он читает. Повели в студию, и он через микрофон прочитал все Постановление.
Слушавшие минуту молчали, потом зааплодировали. У женщин выступили слезы. Спас всех. Это был в дальнейшем известный артист эстрады, непревзойденный мастер пародий Геннадий Дудник. Позднее мы с моим дублером познакомились, и я подарил ему золотую печатку с надписью: "За спасение диктора".
Тина Гай
|
|
Понравилось: 7 пользователям
Рыжик |
Случай из жизни времен Великой Отечественной
Жизнь богаче любых придуманных сюжетов и случай из жизни поражает не меньше, потому что он настоящий. Накануне праздника Победы хочется вспомнить удивительные истории, смешные и не очень, которые дают почувствовать, что, несмотря на войну, люди жили, выживали, как могли, стараясь забыть, что вокруг вовсе не благостная идиллия.
Так, наверное, себя чувствуют сегодня люди на востоке Украины. При первой же мирной передышке стараются вернуться к обычной жизни: восстанавливают разрушенное в надежде, что бомбить больше не будут.
Я решила сделать подборку интересных случаев из жизни времен Великой Отечественной, одни из которых – страшные, другие – смешные, а третьи – просто курьезные, как, например этот, напечатанный в одной из местных газет под названием «Рыжий УКВ-радар» и уже давно шагающий по Интернету.
Но я все равно его размещаю, уж очень трогательный случай. Что-то подобное произошло с моей любимой кошкой лет двадцать пять-тридцать назад (сейчас у меня кошка Сашка). У нас, в Татарстане, случилось удивительное явление - землетрясение. Землетрясение в степном городе, где никаких гор и прочих тектонических разрывов. Но произошло. Так вот. Незадолго до начала толчков, моя Чернышка зарычала, шерсть у нее встала дыбом и она начала метаться, ища убежище.
Говорят, что это обычная реакция животных, они всегда чуют беду, но вот на войне, где взрываются бомбы постоянно, все-таки этот случай из жизни времен Великой Отечественной не назовешь обычным.
Лето 1944 года. Белоруссия, через спалённое село шла батарея МЗА. Батарея серьёзная и заслуженная, 37- мм зенитные пушки держали тогда самый опасный диапазон высот: 2000-3000 метров.
Короткий привал на развалинах у колодца. Единственная душа - рыжий котёнок. Пожилой старшина накормил его остатком обеда, нарёк кота Рыжиком и объявил его седьмым бойцом расчёта. К зиме вырос в здорового рыжего котяру со скромным, покладистым характером, чем и расположил к себе всех бойцов.
Во время налётов вражеской авиации Рыжик исчезал неизвестно куда и появлялся на свет только тогда, когда зачехлят пушки. Тогда же за котом и была замечена особенно ценная особенность. А особенность эту заметил старшина: за полминуты до налёта ( и перед тем как смыться) Рыжик глухо рычал в ту сторону, с которой появятся вражеские самолёты. Выходило так, что его дом был разбомлен немецкой авиацией. И звук, несущий смерть, он запомнил навсегда.
Такой слух оценила вся батарея. Результативность отбоя редеющих атак противника выросла на порядок. Во время войны никому не приходило в голову послать в действующую часть инспектора по чистоте подворотничков и зелёности травы. По этой причине Рыжик и дожил до своего звёздного часа.
В конце апреля батарея отдыхала. Было это в Германии. Война шла к концу. За последними фрицами в воздухе шла настоящая охота, поэтому батарея МЗА ПВО просто наслаждалась весенним солнышком, и Рыжик откровенно жал на массу на свежем воздухе, исключая законное время приёма пищи.
Но вот айн секунд, Рыжик просыпается, даёт шерсть дыбом и недобро рычит строго на восток. Невероятная ситуация, ведь на востоке свои. 37-мм можно привести в боевое положение из походного за 25-30 сек, в данном случае за 5-6. Тишина, стволы на всякий случай наведены на восток.
С дымным шлейфом появляется наш ястребок. За ним висит на минимальной дистанции FW-190. Батарея вклинилась двойной очередью, и Фокер без лишних телодвижений воткнулся в землю за 500-700 м от наших позиций. Ястребок на развороте качнул с крыла на крыло и ушёл на аэродром. Благо, все базы рядом.
А на следующий день пришла машина, полная гостей, и привезла лётчика - грудь в орденах с чемоданом подарков и спиртом. На лице написано: "Кому сказать спасибо?" Ему сказали, что Рыжику. Лётчик недоумевает, думает что разыгрывают. И старшина рассказывает ему полную версию. На следующий день лётчик вернулся с двумя кг свежей печёнки. И уже не шутил, угощая кота. Поверил и благодарил. Судьба дело тонкое.
Демобилизовавшись, старшина забрал Рыжика с собой.
Тина Гай
|
|
Понравилось: 6 пользователям
Что лечили в Лопухинке? |
Краеведческий музей г. Ломоносова
Некоторое время назад я писала о так называемом Радоновом озере в Лопухинке, где в 40 - е годы XIX века была устроена водолечебница, действовавшая по 80-е годы XIX века. Тогда радон еще не был открыт наукой, но старожилы говорили о целебной силе Лопухинских источников. Врачи водолечебницы, один из них доктор Е.Е. Венцель, возглавлявший ее в 1840-е годы, лечили по методу немецкого целителя Венцеля Присница (1799-1851), который считается основателем современного водолечения. На основании своего опыта доктор Е.Е. Венцель написал первую непереводную книгу по водолечению «Гидроятрия. Руководство к правильному употреблению при лечении больных по Присницу», которая была издана в Санкт-Петербурге в 1846 году. Интересна эта книга не только тем что, в ней автор обобщил предшествующий опыт водолечения, рассказал об его истории, но и подробно описал состояние больных, прибывших на водолечение в Лопухинку и успешно завершивших лечение.
Из их числа в качестве примера можно привести случай 35-летнего А.Х., принятого на лечение в мае 1841 года. По словам больного он был здоров до 1828 года, когда сильно повредил себе грудь при рубке леса на Кавказе (Из этих слов мы узнаем, что больной скорее всего был солдатом, поскольку во время Кавказкой войны войска использовались для прокладки просек в лесах). От полученной травмы у него появилось кровохарканье, от которого он полтора месяца лечился во Владикавказском госпитале. С этого момента А.Х. стал страдать от возвращающихся болей в груди, из-за которых он должен был делать кровопускания из руки. В 1831 году он три месяца провел в госпитале, лечась от «нервной лихорадки», затем по неизвестной причине у А.Х. появился сухой лишай на передней поверхности левого бедра. Лишай вызывал сильный зуд и больной страдал от него в течение 10 лет. Лечение продолжалось с мая по декабрь, в ходе его него был достигнут значительный прогресс. Удалось полностью очистить лишай, кожа А.Х. на ощупь стала мягкой и гладкой, зуд исчез и больной был выписан из лечебницы как совершенно здоровый.
Что же ещё лечили в Лопухинке? Современному человеку после знакомства с перечнем заболеваний, может показаться, что почти всё: различного рода лихорадки и воспаления, ревматизм, мигрень, некоторые роды головных болей, лишаи, «шелудивость», чесотку, золотуху, болезни от злоупотребления лекарств, преимущественно меркуриальных, т.е. имеющих в своем составе ртуть, ипохондрию, истерику, «девичью немощь» (анемию) и многое другое.
Естественно, водолечение не всегда приводило к полной победе над болезнью, иногда оно приносило лишь облегчение, а бывало вообще не имело успеха. Случались и смертельные исходы. Но это не означает, что больным приносили вред. Врачи прекрасно осознавали ограничения применимости своего метода. В лечении многих заболеваний, например, туберкулеза в последней стадии (тогда это заболевание называли гнойной чахоткой легких), вода пусть и целебная, оказывалась бессильна. Среди противопоказаний врачи лечебницы называли неизлечимые болезни, высокую степень слабости, истощение и те болезни, при лечении которых нельзя применять холодную воду.
Всего, согласно ведомости о больных, лечившихся в Лопухинке с мая 1841 года по март 1848 года из 164 воспитанников военно-учебных заведений и морского кадетского корпуса выздоровело 105, 55 – получили облегчение, 4 – без успеха, умерших, переведенных в другие лечебницы, продолжающих лечение не зафиксировано. Преобладающий вид заболевания среди них – лишай – 25 больных, причем 20 – выздоровело, а 5 получили облегчение. С опухолью и отвердеванием шейных желез поступило 25 больных. Здесь результаты хуже, поправились только 14, а 11 получили облегчение. Диагноз – золотушная язва был поставлен 21 воспитанникам, в результате – 11 выздоровели, 10 получили облегчение. 21 человек был болен костоедою (воспаление костной ткани, сопровождающее ее разрушением), 10 выздоровели, 11 получили облегчение. Были пациенты с ревматизмом – 8, параличем - 1, ипохондрией - 1, «трепетанием сердца» (возможно, так называли аритмию) - 1 и др.
Лопухинские врачи большое значение придавали диете. Больным, за исключением тех, что страдали острыми недугами, разрешалось есть почти все кроме соленого, копченого мяса и рыбы. Сыр и другие продукты брожения тоже были противопоказаны. Не употребляли алкогольные напитки (пиво, вино, водку), а также крепкий чай и кофе. На завтрак, который приходился на 10 или 11 часов утра подавали молоко с хлебом и в большом количестве местную ключевую воду. Тем, кого не устраивал холодный завтрак, разрешалось пить ржаной или ячменный кофе, «жидкий чай» и какао.
Обед состоял из простых блюд: супа без пряностей, свежих или кислых щей, жаркого, приготовленного из говядины, телятины, курицы, цыплят, рябчиков, уток. Также врачами дозволялись «салаты и всякая зелень», «легкие пирожные», зрелые, сладкие и кисловатые плоды, яйца, простокваша, сыворотка.
Если воспитанников военных учебных заведений лечили бесплатно, то другим желающим восстановить здоровье в Лопухинке приходилось раскошелиться. Стоимость лечения с питанием за неделю составляла около 10 рублей серебром, включая переезд в Лопухинку и обратно. Каждый больной, отправляясь на лечение, должен был взять с собой матрац, 6-8 простыней, «довольно широких и не слишком тонких» и 2-3 шерстяных одеяла.
Но это не пугало желающих исцелиться. Согласно ведомости с мая 1841 по март 1848 года поступило на лечение 682 частных лица, из которых только 17 не имели успеха в лечении и трое умерли. Подчеркивается, что в 1846 году из 18 тифозных больных умер только один старик, которому было 80 лет.
Эти статистические данные показывают, что лечение приносило результаты. Возможно, большую роль здесь сыграли свежий воздух, правильное питание и спокойный размеренный образ жизни, который вели пациенты лечебницы, но эффективность радоновой воды тоже нельзя отрицать.
Подробнее о методах лечения, которые применяли в Лопухинке, будет рассказано в следующей статье.
Зав. экскурсионным и лекционным отделом Краеведческого музея г. Ломоносова Ксения Владимировна Ермолаева.
|
|
Понравилось: 4 пользователям
Великая Отечественная |
Случаи из жизни времен Великой Отечественной-3
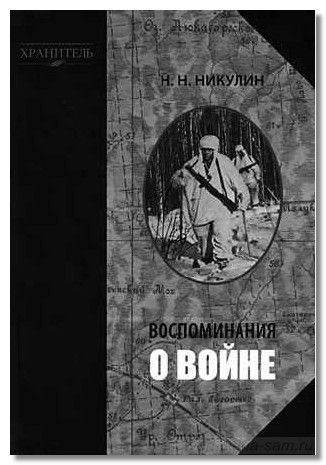 (Начало 1, 2) Самые страшные случаи из жизни во время Великой Отечественной – случаи из жизни ленинградцев. Десять лет назад купила книгу Михаила Шкаровского о церкви времен войны, основанной на документах тех лет.
(Начало 1, 2) Самые страшные случаи из жизни во время Великой Отечественной – случаи из жизни ленинградцев. Десять лет назад купила книгу Михаила Шкаровского о церкви времен войны, основанной на документах тех лет.
Кроме ужасающей статистики, в ней много частных деталей, мелочей и воспоминаний простых людей, из которых складывается страшная картина жизни в блокадном Ленинграде и на оккупированных территориях.
Особенно поразила история Псковской миссии: почти все служившие в ней и оставшиеся в живых, после осовбождения этих территорий трагически погибли в застенках НКВД.
Единственный фильм, краешком затронувший эту историю, был фильм «Поп», который меня мало тронул: в ней не хватило настоящего трагизма той истории. Но об этом – в следующий раз. Сегодня – о другой книге, книге Николая Николаевича Никулина «Воспоминания о войне».
Вчера о ней сообщила в комментарии одна из читательниц блога, откликнувшаяся на начало моей серии «Случаи из жизни времен ВОВ». Книга потрясающая!!! Страшно, жутко, позорно, стыдно… Стыдно, что девятое мая для большинства всего лишь очередной день отдыха, в который можно поехать в огород, на дачу, в лес, на шашлыки, полежать на диване, посмотреть фильмы, в большинстве из которых мало что о войне настоящей.
Войне, ломающей человека, уничтожающей в нем представления о добре и зле, границах дозволенного, что можно, а чего нельзя, превращающей человека в зверя с единственным желанием – выжить, любой ценой.
Стыдно за сегодняшних политиков всех мастей, воспользовавшихся этим днем, чтобы устроить антироссийский шабаш на крови погибших. Стыдно, что есть страшные истории деяний русских солдат в Германии, о которых не принято говорить, но они действительно были, и несправедливо закрывать на это глаза, но понять это возможно, если только знать, что было в 41-43 годах в России.
Понять и почувствовать то, что пережили все участники той трагедии, помогают воспоминания очевидцев, такие, как воспоминания Николая Николаевича Никулина. Это воспоминания не просто очевидцев, а очевидцев из простых людей, попадающих у политиков и историков в разряд "народные массы". Мое глубокое убеждение, что только они могут передать атмосферу той войны, в которой выживали, спасаясь часто случайно. Это и сейчас кажется чудом и Небесным даром.
Книга Николая Николаевича о войне, как она есть и глазами тех, кто оказался в той страшной мясорубке и чудом выжил. Я еще не дочитала эти воспоминания до конца, одним залпом их не одолеешь, становится страшно и подсознание отказывается принимать, но даже половины хватило, чтобы понять, насколько это было жутко.
К книге Никулина можно относиться по-разному: как к бреду интеллигента, как к сломавшемуся на войне человеку, как к мнению частного лица и т.д. Но это его правда, правда не стороннего наблюдателя, а ее участника. Да, она - одна из многих и такая она не только у него. Например, Виктор Астафьев писал в одном из ответов своему читателю:
Сколько потеряли народа в войну-то? Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве один из главных пунктов «правил» гласит: «не выписывать компрометирующих сведений о командирах совармии».
Когда закрыла книгу Никулина, невольно посмотрела на нашу мирную жизнь их глазами. Я думала, насколько все-таки мы далеки от понимания цены, которую они заплатили, насколько мелки все наши проблемы, как много пошлого и мелочного в нашей сегодняшней жизни… И в память о них, не только погибших, но и спившихся, сломавшихся, израненных душой и павших духом размещаю всего несколько отрывков из книги, несколько случаев из жизни тех времен на передовой, услышанных и увиденных молодым солдатом в те страшные годы.
На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме.
Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию... «Вперрред!!!», и все.
Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал.
Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое.
Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные — «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий.
Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа — бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в Погостье, когда почти все забыли эту маленькую станцию. И уже притупились тоска и отчаяние, которые пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать.
Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп.
Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать.
Опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи, в смраде. И смерти твоей никто не заметит: ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми в липкой жиже погостьинских болот.
Бедные, бедные русские мужики! Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм, а теперь, в 1941-1945, Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась Победа, так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех кто остался? И вообще, что будет с Россией?
Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО!
Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа... Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом.
Откуда же сейчас… опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет.
Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь...
***
Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрел род человеческий. Подавляет на войне не только сознание неизбежности смерти. Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы... Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду — вода с водою, а рядом офицер жрет масло. Ему полагается спецпаек да для него же каптенармус ворует продукты из солдатского котла.
На тридцатиградусном морозе ты строишь теплую землянку для начальства, а сам мерзнешь на снегу. Под пули ты обязан лезть первым и т. д. и т. п. Но ко всему этому быстро привыкаешь, это выглядит страшным лишь после гражданской изнеженности. А спецпаек для начальства — это тоже историческая необходимость. Надо поддержать офицерский корпус — костяк армии. Вокруг него все вертится на войне. Выбывают в бою в основном солдаты, а около офицерского ядра формируется новая часть...
***
Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем.
Хватали каких-нибудь хилых доходяг или тех, кто что-нибудь сболтнул, или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквой «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами — больший, чем перед немцами.
А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заградотряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск.
***
Были самострелы, которые ранили себя с целью избежать боя и возможной смерти. Стрелялись через буханку хлеба, чтобы копоть от близкого выстрела не изобличила членовредительства. Стрелялись через мертвецов, чтобы ввести в заблуждение врачей…. Санитары рассказали мне следующую историю.
Некто Шебес, писарь продовольственного склада, был переведен в разведку. Здесь он узнал, что на передовой стреляют и можно погибнуть. Тогда Шебес забрался в дзот, высунул из амбразуры кулак с запалом от гранаты и взорвал его. Солдаты, ничего не подозревая, отправили Шебеса, как раненого, в медсанбат. И уехал бы он в тыл, домой, если бы не старший лейтенант Толстой — наш контрразведчик. Это был прирожденный мастер своего дела, профессионал высокого класса. Один вид его приводил в трепет. Огромные холодные глаза, длинные, извивающиеся пальцы... Толстой пошел на передовую, нашел дзот, нашел оторванные пальцы, разорванную перчатку и успел догнать Шебеса в медсанбате. Увидев его, Шебес забился в истерике и во всем сознался. Позже его расстреляли.
***
Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед по койке: «В сорок первом нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненный в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, вьюга выла, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный, добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было почти невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик: "Есть кто живой? Выходи!" Это приехали санитары. Из землянки выползло человека три-четыре, остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт и замерзшие здесь... Как оказалось, и дивизия почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный. Я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами...».
***
Странные, диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обратно тянули раненых. А по обочинам происходила суета. Вот, разостлав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой.
Потом куски и «опилки» разделяют на равные части, один из присутствующих отворачивается, другой кричит: «Кому?» Дележ свершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец пока он не оттает. Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю...
Вот закапывают в снег мертвеца, недовезенного до госпиталя раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь...
***
Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девчушка-санинструктор. Ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней не мытому лицу. Руки дрожат, растерялась. Жалкое зрелище! Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре и еще находит силы утешать и уговаривать девицу:
«Дочка, не бойся, не плачь!»... Не женское это дело — война. Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это! Тяжело им было в окружении мужиков.
Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус: и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или Лермонтова...
И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из пятидесяти прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но «уехать по приказу 009» — это самый лучший выход. Бывало хуже.
Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ, а если сопротивлялись — на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!
***
В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть и двигался все медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение.
Двести тысяч лучших, цвет города. Но вот нож остановился. Был он, однако, еще прочен, назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 1942 год лилась и лилась кровь, все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа...
***
Из Послесловия к книге: Я спасался работой и работой, но когда страшные сны не давали мне жить, пытался отделаться от них, выливая невыносимую сердечную боль на бумагу. Конечно, мои записки в какой-то мере являются исповедью очень сильно испугавшегося мальчишки...
Почти три десятилетия я никому не показывал эту рукопись, считая ее своим личным делом. Недавно неосторожно дал прочесть ее знакомому, и это была роковая ошибка: рукопись стала жить своей жизнью — пошла по рукам. Мне ничего не оставалось делать, как разрешить ее публикацию. И все же я считаю, что этого не следовало делать: слишком много грязи оказалось на ее страницах.
Война — самое грязное и отвратительное явление человеческой деятельности, поднимающее все низменное из глубины нашего подсознания. На войне за убийство человека мы получаем награду, а не наказание. Мы можем и должны безнаказанно разрушать ценности, создаваемые человечеством столетиями, жечь, резать, взрывать. Война превращает человека в злобное животное и убивает, убивает...
Самое страшное, что люди не могут жить без войны. Закончив одну, они тотчас же принимаются готовить следующую. Веками человечество сидело на пороховой бочке, а теперь пересело на атомную бомбу. Страшно подумать, что из этого получится. Одно ясно, писать мемуары будет некому...
Между тем, моя рукопись превращается в книгу.
Не судите меня слишком строго...
Тина Гай
(Все фотографии взяты из книги Н.Н.Никулина)
|
|
Понравилось: 4 пользователям
Николай Олейников |
До сих пор Николай Олейников - поэт малоизученный, остающийся на периферии внимания литературоведов. Да и у многих читателей, наверное, возникнет вопрос: «А кто такой Олейников?» Гораздо больший интерес вызывают у тех, и у других обэриуты: Хармс, Введенский, Заболоцкий. Николай Олейников тесно связан с этими именами, хотя он никогда не был обэриутом, находясь только рядом с ними: художественно, социально, интеллектуально.
Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте глупый грешник,
Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир.
(Д.Хармс, 1935)
Просуществовав всего два года, группа обэриутов распалась, образовав новое литературно-философское сообщество чинарей. В нее входила часть распавшейся группы с присоединившимися к ней новыми членами, в числе которых был Николай Олейников.
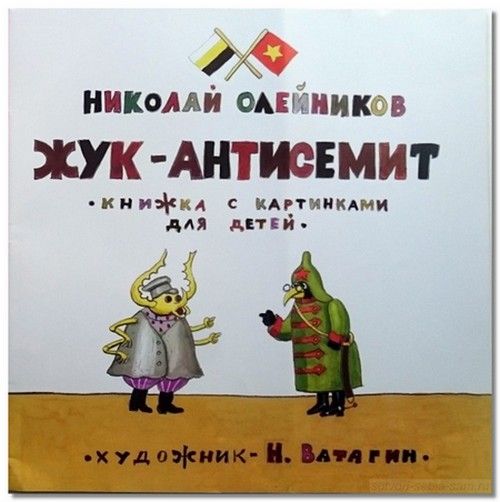 Те и другие, чинари и обэриуты, относятся к русскому поэтическому авангарду, выдающемуся явлению начала двадцатых-тридцатых годов XX века. Судьба каждого из них сложилась примерно одинаково: все они были репрессированы, большинство расстреляно или погибло в тюрьмах, их творчество на многие годы попало под запрет как чуждое соцреализму.
Те и другие, чинари и обэриуты, относятся к русскому поэтическому авангарду, выдающемуся явлению начала двадцатых-тридцатых годов XX века. Судьба каждого из них сложилась примерно одинаково: все они были репрессированы, большинство расстреляно или погибло в тюрьмах, их творчество на многие годы попало под запрет как чуждое соцреализму.
Николая Олейникова расстреляли по наговору его друга Д.Жукова первым - в 1937-м. Вместе с его арестом была разгромлена и вся детская редакция, в которой работали поэты-авангардисты. После реабилитации поэта в 1957 его стихи по-прежнему оставались под официальным запретом, но, что удивительно, они не переставали ходить по рукам в списках, становясь почти фольклорными.
Пищит диванчик
Я с вами тут.
У нас романчик,
И вам капут.Вы так боялись
Любить меня,
Сопротивлялись
В теченье дня.
(Любовь, 1927)
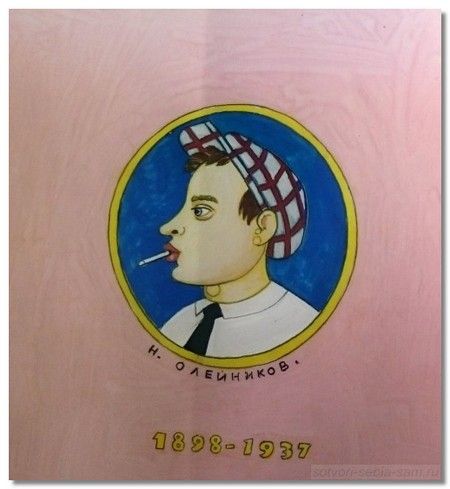 Их читали в клубах, на дружеских посиделках, они заучивались и переписывались, в отличие от стихов обэриутов, которые никогда не ходили в списках. Большой интерес к поэзии Николая Олейникова стали проявлять только в конце шестидесятых-начале семидесятых. В 1975 году в Германии вышел первый сборник стихов поэта, потом, в 1982-м, второй - в Нью-Йорке.
Их читали в клубах, на дружеских посиделках, они заучивались и переписывались, в отличие от стихов обэриутов, которые никогда не ходили в списках. Большой интерес к поэзии Николая Олейникова стали проявлять только в конце шестидесятых-начале семидесятых. В 1975 году в Германии вышел первый сборник стихов поэта, потом, в 1982-м, второй - в Нью-Йорке.
В России первый сборник поэта появился в 1988-м, спустя более полувека после расстрела, последний - в 2015-м. В августе будущего, 2018, года исполняется сто двадцать лет со дня рождения (1898) этого выдающегося поэта, а в этом, 2017-м восемьдесят - со дня его расстрела.
При жизни Николая Олейникова было опубликовано всего пять «взрослых» его стихотворений и то не в Ленинграде, где он жил и работал, а в Москве, и не в толстом журнале, а на последней странице научно-общественного журнала в разделе «Юмор». Стихотворения тут же попали под град резкой критики и уже никогда при жизни не печатались.
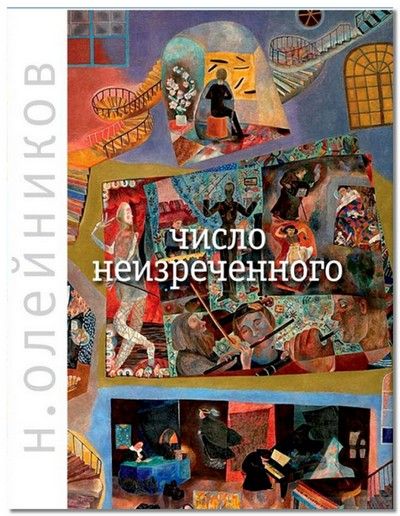 Николай Олейников был человеком непростым, язвительным, не щадившим ни своих, ни чужих, т.к. органически не переносил пошлость. Он всегда подчёркивал отличие своей эстетики от эстетики обэриутов, едко их пародируя. Они же старались его понять и не понимали. Вот, например, его пародия на известное стихотворение о чижах Хармса:
Николай Олейников был человеком непростым, язвительным, не щадившим ни своих, ни чужих, т.к. органически не переносил пошлость. Он всегда подчёркивал отличие своей эстетики от эстетики обэриутов, едко их пародируя. Они же старались его понять и не понимали. Вот, например, его пародия на известное стихотворение о чижах Хармса:
Чиж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот
О поэте осталось очень немного воспоминаний. Те, что сохранились, все говорят о его резком и даже злом аналитическом уме. В своем кругу его звали математиком, т.к. он проявлял большой научный интерес к числам и к науке вообще. В этом, и не только, он являлся последователем Хлебникова.
«Смех сквозь слёзы» - так можно охарактеризовать поэтику Николая Олейникова, продолжателя сатирическо-пародийной линии Козьмы Пруткова, Саши Черного и более позднего Михаила Зощенко. Он смешивает смешное и грустное, серьезное и несерьезное, комичное и трагичное, разворачивающиеся на фоне обыденных ситуаций.
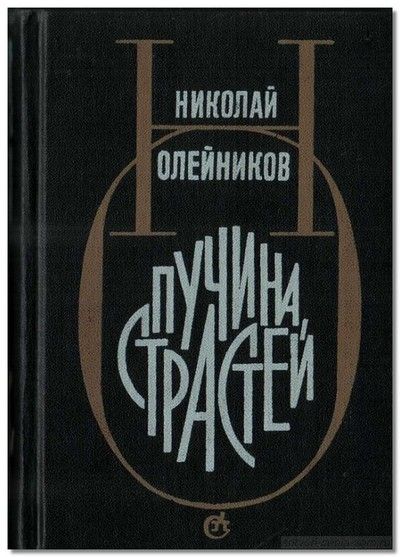 Смешение превращает их в нечто третье, двусмысленное. Двуплановость – главное в поэзии Николая Олейникова: сквозь явное всегда просвечивает неявное, сквозь смешное – серьезное. Ирония стала его инструментом защиты от пошлости, от той жизни, где уже ничего не произнесешь с чистым сердцем.
Смешение превращает их в нечто третье, двусмысленное. Двуплановость – главное в поэзии Николая Олейникова: сквозь явное всегда просвечивает неявное, сквозь смешное – серьезное. Ирония стала его инструментом защиты от пошлости, от той жизни, где уже ничего не произнесешь с чистым сердцем.
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался Он в капкане
И теперь он казни ждет
….Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнутьИ, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню
…От увечий и от ран
Помирает тараканОн внезапно холодеет,
Его веки не дрожат
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.
…И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
(Таракан, 1934)
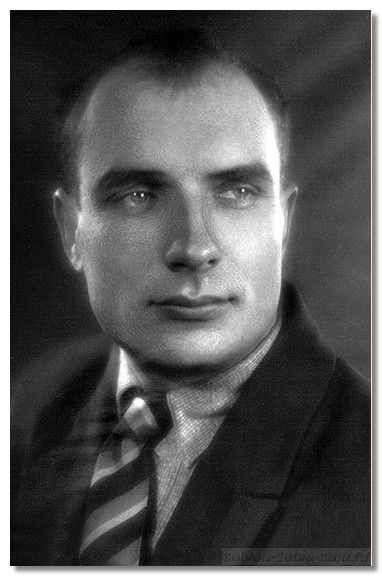 Поэтому многие говорят о беспросветности его мировосприятия: своим острым умом поэт чувствовал и умел передать весь ужас того абсурда, который разворачивался перед глазами. Он пишет простые и незамысловатые, на первый взгляд, стихи, от которых волосы встают дыбом.
Поэтому многие говорят о беспросветности его мировосприятия: своим острым умом поэт чувствовал и умел передать весь ужас того абсурда, который разворачивался перед глазами. Он пишет простые и незамысловатые, на первый взгляд, стихи, от которых волосы встают дыбом.
Николай Олейников органически не переносил красивость эстетствующего мещанина, который старался подражать дворянам, высшим социальным слоям, но сквозь словесную мишуру всегда были видны уши галантерейного человека с его стремлением захапать, нажраться, встать в очередь за очередным пайком. Насколько же актуально звучит сегодня его простое четверостишье:
Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
...Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.
(Неблагодарный пайщик, 1932)
Николай Олейников чувствует неадекватность красивых культурных слов их смыслам. Пародируя эстетство, поэт совмещает несовместимое, низкий стиль – с высоким. Он скрывается то за одной маской, то за другой, меняя их и играя ими. Но у него всегда есть точка, в которой смешное заканчивается, переходя в трагедию и тоску.
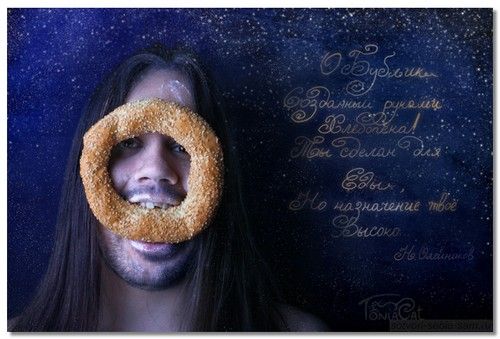 Излюбленный жанр Олейникова – басня, в которой под личиной насекомых, жучков и паучков, маленьких и убогих, видна трагедия беззащитного человека, которого безжалостно и жестоко уничтожает страшная сила («Карась», «Таракан» и другие).
Излюбленный жанр Олейникова – басня, в которой под личиной насекомых, жучков и паучков, маленьких и убогих, видна трагедия беззащитного человека, которого безжалостно и жестоко уничтожает страшная сила («Карась», «Таракан» и другие).
Жареная рыбка,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?
…..Злые люди взяли
Рыбку из сетей,
На плиту послали
Просто, без затей.Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки...
….Так шуми же, мутная
Невская вода.
Не поплыть карасику
Больше никуда.
(Карась, 1927)
Поэзия Николая Олейникова пропитана кафкианскими экзистенциальными мотивами одиночества, он – поэт трагический с трагическим мироощущением и судьба его так же трагична, как и его поэзия.
...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, -
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут…
….Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!
(Генриху Левину, 1932)
Тина Гай
|
|
Понравилось: 7 пользователям
ВЕЛИКИЙ МАСТЕР - ВЛАДИМИР ДЕМИХОВ |
О Венце творения ...
Когда в 1996г в Москву приехал легендарный Майкл Дебейки чтобы подстраховать наших врачей которые делали шунтирование сердца Ельцину он сказал журналистам что хотел бы поклониться Мастеру. Ни один из журналистов не знал этой фамилии, тогда Дебейки повторил
по слогам, пологая что его просто не понимают. Дебейки жалел что Мастер не врач, а биолог и не может продемонстрировать свою виртуозную технику операции на человеке.
А Мастер в то время доживал свой век в маленькой однокомнатной квартире со старой мебелью. Он был выжат до дна бесконечной травлей. Последние годы даже не выходил из дома, потому что мог запросто заблудиться. Так закончил свою жизнь человек который изменил
мир.
Южно-африканский всемирно известный хирург Кристиан Барнарде, который в 1967 г. первым в мире пересадил сердце человеку - по его собственным словам, был учеником Мастера и перед тем, как решиться на свой исторический эксперимент, дважды приезжал к русскому
учёному. Не удивительно: никто другой в то время не обладал большим опытом в таком сложном и туманном деле, как пересадка и трансплантация внутренних органов.
Мастер, который придумал и сделал -
1937 г. — первое в мире искусственное сердце;
1946 г. — первая в мире гетеротопическая пересадка сердца в грудную полость;
1946 г. — первая в мире пересадка комплекса сердце-легкие;
1947 г. — первая в мире пересадка изолированного легкого;
1948 г. — первая в мире пересадка печени;
1951 г. — первая в мире ортотопическая пересадка сердца без использования искусственного кровообращения;
1952 г. — первое в мире маммарно-коронарное шунтирование (1988 год — Государственная премия СССР);
1954 г. — пересадка второй головы собаке (всего им было создано 20 двухголовых собак).
В 1934 году Мастер поступил в Московский государственный университет на физиологическое отделение биологического факультета и очень рано начал научную деятельность.
В 1937 году, будучи студентом-третьекурсником, он сконструировал и собственными руками изготовил первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Собака жила два часа. Что-б сделать это сердце, Мастер продал свой костюм, и купил необходимые серебряные
пластины.
В 1940 году он окончил университет, написал первую научную работу. Начавшаяся война прервала научные поиски. В 1941—1945 годах Мастер служил в действующей армии в анатомической лаборатории.
С 1947 по 1954 годы учёный осуществил первую в мире пересадку лёгкого, трансплантацию предплечья. Ему удалось поддерживать жизнь собаки без головы.
В 1951 году на сессии Академии медицинских наук СССР в Рязани он пересадил донорское сердце и лёгкие собаке Дамке. Она прожила семь дней. Это был первый случай в мировой медицине, когда собака с чужим сердцем жила так долго. Сообщают, что она жила в холле того
здания, где проводилась сессия и после операции чувствовала себя вполне хорошо. Повреждение же гортани, от которого она умерла, было непреднамеренно ей нанесено во время операции.
В том же году великий хирург создаёт первый совершенный протез сердца, работавший от пневмопривода (пылесоса) и проводит первую в мире замену сердца на донорское без аппарата искусственного кровообращения.
В 1956 году он подсадил второе сердце дворняжке Борзой, которая после этого прожила больше месяца. Этот эксперимент привлёк значительное внимание мировой медицинской общественности, но на родине к деятельности хирурга по-прежнему относились холодно, а часто
— враждебно.
Академик В. В. Кованов, директор Первого медицинского института имени Сеченова, где одно время работал Мастер, назвал последнего «шарлатаном и псевдоучёным». Н. Н. Блохин, президент Академии медицинских наук, считал, что "этот человек — просто «интересный экспериментатор».
Многие считали саму идею пересадки сердца человеку, которую защищал учёный, аморальной. Кроме того, как уже говорилось, у великого хирурга не было медицинского образования, что давало многим повод упрекать исследователя в несерьёзности.
Тем временем, видные медики Чехословакии, Великобритании и США приезжали в СССР лишь для того, чтобы присутствовать на операциях Мастера. Ему присылали персональные приглашения на симпозиумы в Европе и США, причём принимающая сторона нередко соглашалась взять
на себя все расходы. Однако, Мастера выпустили за границу только однажды. В 1958 году он выехал в Мюнхен на симпозиум по трансплантологии. Его выступление там произвело сенсацию. Однако, чиновники министерства здравоохранения посчитали, что Мастер разглашает
советские секретные исследования, и больше он за границу ездить не мог. (Отношение к нему советского Минздрава было до смешного грустным. Тогдашний глава минздрава назвал опыты Мастера "антинаучными, шарлатанскими и вредными, но при этом выезд за границу ему
был запрещен за то что он на конгрессе в ФРГ продемонстрировал свои опыты, за это его обвиняли в разглашении гос. тайны. Так и хочется спросить: так лженаука или гос. тайна?)
После смерти академика Вишневского, в 1960-м году из-за обострения отношений с директором института В. В. Ковановым, который не допускал к защите диссертацию Мастера "Пересадка жизненно важных органов в эксперименте", вынужден был перейти в Институт скорой
помощи имени Склифосовского. Там для него открыли «лабораторию по пересадке жизненно важных органов». В реальности это было помещение площадью пятнадцать квадратных метров в подвале флигеля института, половину которого занимали аммиачная установка и шкаф с
препаратами и инструментами. Плохое освещение, сырость, холод. Ходили по доскам, под которыми хлюпала грязная вода. Оперировали при освещении обычной лампой. Аппаратуры никакой. Самодельный аппарат искусственного дыхания, списанный кардиограф, все время ломавшийся.
Вместо компрессора использовали старый пылесос. Под самыми окнами «лаборатории» кочегарила котельная, заполняя помещение едким дымом. Никто из ассистентов в дымной темной каморке больше получаса выдержать не мог. Помещения для содержания экспериментальных
собак не было, животные ели, пили, принимали лекарства и процедуры и оправлялись тут же, в «лаборатории». Операции проводились на деревянных столах. Собак, участвовавших в экспериментах, учёный выхаживал после операций у себя дома.
Михаил Разгулов, один из учеников Мастера, вспоминал о том, как впервые студентом попал в его лабораторию. В старом дворе Склифа он спрашивал всех, кто ему попадался, как пройти в лабораторию. Никто не знал. Только один старый санитар, указал на маленький полуразвалившийся
флигель. Домик оказался пустым, только из подвала доносились голоса. Разгулов решил, что над ним подшутили, однако все-таки спустился вниз. В тускло освещенном подвале сидел Мастер…Правда, позже под лабораторию дали полторы комнатки этажом выше. Вот в таких
условиях советский ученый ставил эксперименты, о которых потом говорил весь мир.
В 1960 году Мастер выпустил монографию «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Она стала единственным в мире руководством по трансплантации. Книга была переведена на несколько языков, вызвав живейший интерес в медицинских кругах. В нашей стране
этот труд остался почти незамеченным. Кроме того, в это же время предпринимались попытки закрыть лабораторию из-за «шарлатанства».
В 1962 году Мастер подсадил второе сердце собаке Гришке. Пёс прожил после операции более четырёх месяцев. Это стало мировой сенсацией.
Лишь только в 1963 году Мастер, причём в один день, смог защитить сразу две диссертации (кандидатскую и докторскую).
Лаборатория под руководством Мастера работала до 1986 года. Разрабатывались методы пересадки головы, печени, надпочечников с почкой, пищевода, конечностей. Результаты этих экспериментов были опубликованы в научных журналах.
Работы учёного получили международное признание. Ему присвоено звание почётного доктора медицины Лейпцигского университета, почётного члена Королевского научного общества в Уппсале (Швеция), а также Ганноверского университета, американской клиники Майо. Он
является обладателем почетных дипломов научных организаций разных стран мира. Он был лауреатом «ведомственной» премии имени Н. Н. Бурденко, присуждавшейся Академией медицинских наук СССР.
Кристиан Барнард вошел в список 200 самых значимых людей 20 века....
18 июля исполнилось 102 со дня рождения крупнейшего русского гения, который не прооперировав ни одного человека спас миллионы жизней это Владимир Петрович Демихов. Демихов - отец трансплантологии. Большинство своих экспериментов он провел в сырой подвальной
лаборатории размером пятнадцать квадратных метров Института Склифософского.
27 июня 2016 года в Москве, в новом здании НИИ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Петровичу Демихову
|
|
Понравилось: 5 пользователям
Карвинг |
Съедобные шедевры от Daniele Barres
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
Мастер карвинга, или художественной резки по фруктам и овощам, Daniele Barresi создаёт удивительно детализированные фигурные узоры на различных плодах и других продуктах питания. Его работы выглядят настолько потрясающе, что их рука не поднимается съесть.

Авокадо.

Арбуз.

Арбуз.

Папайя.
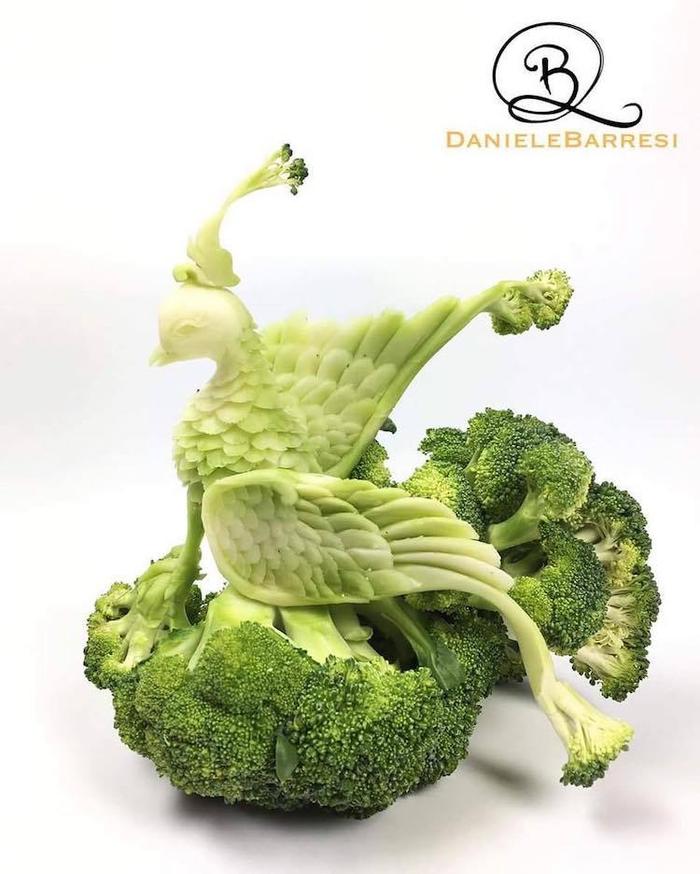
Брокколи.

Медовая дыня.

Медовая дыня.

Чеснок.

Тыква.

Тыква.

Папайя.

Груша.

Груша.

Медовая дыня.

Сыр.

Брокколи.

Батат.
Выброшенный продукт. Съесть его - рука не поднимется.

|
|
Понравилось: 5 пользователям
арочка вещей для позитива |
_Настоящих друзей - нет._
_Хорошей зарплаты - нет._
_Машины приличной - нет._
_Квартиры достойной - нет._
_Молодости - уже нет._
_И надежды все это заиметь когда-нибудь - тоже нет!_
И полненький такой приятный психолог с бородкой поправил очки и сказал благодушно:
_"Конечно, у вас много чего нет. И можно продолжить список.:
Тяжелой неизлечимой болезни - нет.
Долгов миллионных - нет.
Ответственности за кого-то, за больного родственника или слабоумного старичка - нет.
Горба - нет.
И инвалидности - нет.
Очень много чего у вас нет. И, если записать, чего у вас нет, то настроение улучшится у вас сразу. И надежда появится, что этого не только нет, но и не будет."_
И дама подумала, в уме посчитала и улыбнулась.
_"Так что у нас много чего нет. И не надо. А все остальное можно заработать, улучшить, получить в подарок или просто обойтись временно; ничего страшного.
Главное - быть живым и здоровым. И чтобы близкие были живы и здоровы. И плохого не было. И это - уже хорошо.
С этого и начнем, как говорится, перечисление того, чего у нас нет..."_
*Всем чудесного дня, давайте ценить то, что у нас есть!*
2. Перестаньте беспокоиться по поводу финансовой ситуации ваших детей или внуков, не стыдитесь тратить свои деньги на себя! Вы занимались детьми долгие годы, научили их многому, дали им образование, кормили их, поддерживали их и давали им приют. Теперь наступила их очередь начать зарабатывать самим.
3. Ведите здоровый образ жизни, обязательно занимайтесь зарядкой, но не переутомляйте себя. Заболеть легко, гораздо труднее оставаться здоровым. Поддерживайте себя в форме,
4. Для своих драгоценных половинок покупайте только лучшее. Самое главное – уметь получать наслаждение от радости, которую испытает ваш партнер, получив подарок!
5. Не переживайте по поводу мелочей! Вы так много уже всего пережили за свою жизнь; можно вспомнить много хорошего, можно вспомнить плохое, но самое главное, что вы по-прежнему вместе. Не позволяйте грузу прошлого забыть о будущем. Почувствуйте прелесть настоящего!
6. Независимо от возраста, любите жизнь. Любите своего партнера, любите жизнь, свою семью, своих соседей и помните: «Человек не стареет, пока его ум активен и он любит…
7. Гордитесь собой – внутренне и внешне. Не переставайте ходить к своему стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе свой любимый парфюм. Если вы ухожены снаружи, то внутри рождается чувство самоуважения и силы.
8. Не упускайте из виду модные тенденции, но придерживайтесь своего чувства стиля.
11. Никогда не говорите: «Вот в мое время…». Ваше время – сейчас. Пока вы живы, вы - часть этого времени. Наслаждайтесь жизнью.
13. Не поддавайтесь соблазну жить вместе с детьми или внуками. Конечно, жить в окружении любящих родственников приятно, но каждый из нас имеет право на своё личное пространство. Им оно тоже требуется.
14. Не отказывайтесь от своих хобби. Если у вас их нет, заведите себе такие привычки.
16. Не обращайте внимания на то, что о вас говорят, и еще меньше – на то, что о вас могут подумать. Они все равно будут это делать, а вы гордитесь собой и свой жизнью. Пусть говорят, вас это не должно беспокоить. Они не знают, через что вам пришлось пройти, не знают того, что знаете вы.
Наступило время наслаждаться покоем, миром и счастьем!
И ПОМНИТЕ: "ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ ПИТЬ ПЛОХОЕ ВИНО!"
Sofia Divgun
|
|
Понравилось: 5 пользователям
Валериана |
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 4 пользователям
Шквал в Кронштадте и Сестрорецке! |
Шкваловый ворот в Кронштадте и Сестрорецке. Фото
На снимки жителей Петербурга и Ленобласти накануне вечером, 5 августа, попало страшно красивое зрелище: массивный шкваловый ворот в Кронштадте и Сестрорецке.





Фото: Интересные события в Санкт-Петербурге
|
|
Понравилось: 1 пользователю
К вопросу о правильном питании! |
Пожилой паре было по 85 лет, и они были женаты шестьдесят лет. Хотя они были далеко не молодыми, они оба были в очень хорошем состоянии, в основном из-за настойчивости жены на здоровой пище и физических упражнениях в течение последнего десятилетия.
Но однажды их хорошее здоровье не помогло, когда они отправились в отпуск, их самолет разбился, отправив их на небеса.
Они добрались до жемчужных ворот, и Святой Петр сопроводил их внутрь.
Он отвел их в красивый особняк, украшенный золотом и прекрасными шелками, с полностью укомплектованной кухней и спальнями.
Они с изумлением ахнули, когда он сказал: «Добро пожаловать на небеса. Теперь это будет ваш дом».
Старик спросил у Петра, сколько все это будет стоить.
«Нисколько, — ответил Петр, — помните, это ваша награда на небесах».
Старик выглянул в окно и там он увидел поле для гольфа невероятных размеров, которых он не видел на Земле.
«Сколько стоит поиграть на этом поле?» — проворчал старик.
«Это рай, — ответил святой Петр. -- Вы можете здесь играть бесплатно каждый день».
Затем они отправились в клуб и увидели невероятный «шведский стол», там была еда на любой вкус, от морепродуктов до стейков и экзотических фруктов до самых разных напитков.
«Даже не спрашивайте, — сказал св. Петр этому человеку, — это небеса, для вас все бесплатно.
Старик оглянулся и нервно взглянул на свою жену.
«Ну, а где продукты с низким содержанием жира и низким содержанием холестерина и чай без кофеина?», — спросил он.
"Это лучшая часть, — ответил Святой Петр. -- Вы можете есть и пить столько, сколько хотите, и вы никогда не станете жирными или больными. Это -- рай!»
Старик спросил: «И никакого спортзала?»
«Нет, если вы не хотите», — ответил он.
«Вы не будете проверять мой сахар или давление, или…»
«Никогда больше. Все, что вы здесь делаете, это наслаждаетесь.»
Старик посмотрел на свою жену и сказал: «Если бы не ты и твои овсяные хлопья, мы могли бы быть здесь еще десять лет назад!»
|
|
Понравилось: 5 пользователям
Двустишия |
Пришли Альцгеймер с Паркинсоном
и долго руку мне трясли
Того кто из народа вышел
в народ обратно не загнать.
Я обещал вчера жениться ?
Ну извините. Психанул.
У женщин нету недостатков.
А вот особенности - есть.
Ничто не вечно под луною
завёл мой врач издалека.
О том что я вас пожалела
я пожалела много раз.
Сиюминутные порывы
нередко штопаешь всю жизнь.
Насчёт спиртного — норму знаю
но выпить столько не могу.
У Ольги каменное сердце
вам лучше в голову стрелять.
.
Есть всё же разум во вселенной
раз не выходит на контакт.
Всего что нам наобещали
никто у нас не отберёт.
Весь день как проклятый сегодня
сидел не покладая рук.
Да я сулил златые горы,
но вот о шубе речь не шла.
есть сотни субъективных мнений
и объективное моё
раздался крик стреляй в засранца
и каждый третий лёг ничком
хотел вас встретить хлебом солью
да хлеб в берданку не впихнёшь
враги сожгли родную хату
и больше негде жить врагам
ум нужен людям чтобы выжить
по крайней мере из него
вы не машите кулаками
вы тут на ринге не один
придётся выпить за здоровье
само то ведь оно не пьётся
а вот и пятница товарищ
кончать работу начинай
у истинной домохозяйки
и педикюр под цвет борща
я сквозь наркоз хирурга слышу
вот это мурке отдадим
я мыслю значит существую
а вот обратное не факт
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 19 пользователям
Моим друзьям |
- Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Элеонора Рузвельт.
- Воспитайте в себе одну очень хорошую черту характера. Никогда не выясняйте отношений с людьми, которые вас разочаровали. Просто молча оставьте их вместе со всем их негативом наедине.
- Не жалейте о том, что стареете - многим в этом было отказано. Жизнь даётся всем, старость -избранным...... Ольга Аросьева
- Самое важное - это навести порядок в душе. Соблюдаем три "не" : не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся. Бернард Шоу.
- Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. ... Оскар Уайльд.
- Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи: во-первых, жить, а во-вторых, радоваться.
- Никогда не стыдись того, что тебе нравится и того, во что ты веришь.
- Относись ко всему с позитивом. Если тебя кто-то послал - почувствуй себя посланником...
- Не трать деньги на лишнюю одежду. Лучше путешествуй! Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу.
- Само приплывает только д...мо. А за жемчугом нырять надо.
- Никогда не оборачивайтесь назад. .... Там все без изменений.
- Уважать или не уважать человека - твоё дело. Относиться уважительно - твоё воспитание.
- В какую бы позу тебя не поставила жизнь - стой красиво.
- Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена. .... Мексиканская пословица.
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 15 пользователям
Гордитесь, люди, гордитесь! |
Лиза ЮДИНА
Устав от всяких перипетий нашей бурной жизни, малость подустав от яростных схваток на виртуальных интернетовских полях сражений, начитавшись и насмотревшись наших израильских новостей, хочется пару минут посидеть в тишине, запустить в себя хоть немного позитива…
Мы родились с вами в стране победившего социализма. И плохого, и хорошего там было в достатке. Я уже говорила, что не приемлю, когда все хают «там» и восхваляют «здесь», равно как и терпеть не могу, когда наоборот.
Сегодня, с высоты своих четверти века, прожитых в Израиле, думаю, что одно из самых серьезных и нужных «вливаний», что мы получали в СССР, это была пропаганда. И не международная, а внутренняя. Нас буквально заставляли гордиться своей страной. Нам «втирали» с утра до вечера, что лучшего, чем у нас в мире просто не бывает. Мы знали, что мы «самые читающие», «самые миролюбивые», «самые культурные», «самые передовые». Непобедимые, нерушимые, великие и свободные. Короче, «…и даже в области балета мы впереди планеты всей…». Неважно, что, как многие понимали потом, большая часть из этого не соответствовала действительности. НАС ЗАСТАВЛЯЛИ ГОРДИТЬСЯ СТРАНОЙ. И надо признать – получалось это неплохо.
В Израиле дела обстоят несколько наоборот. Я говорю мягко «несколько» лишь потому, что у меня, как и было заявлено в начале, «запуск позитива».
Я хочу гордиться Израилем. Мне так легче жить. Мои дети родились здесь, в Беэр-Шеве. Да и не только мои дети, все младшее поколение нашей, некогда большой семьи, родилось в Израиле.
Прошу обратить внимание, речь идет не о еврейском народе, давшем миру… Господи, чего только не давшем… Я сегодня говорю конкретно о Государстве Израиль.
Итак, что дал миру современный Израиль?
Начнем, я думаю, с медицины. Не растекаясь мыслью по древу – конкретно.
· Израильская компания «Given Imaging» разработала крошечную, расположенную в пилюле видеокамеру, использующуюся для осмотра тонкого кишечника изнутри для обнаружения раковых опухолей и причин расстройств пищеварения.
· Компьютеризированная, нерадиационная аппаратура для диагностики рака груди.
· В Израиле разработан способ ранней диагностики рака легких.
· Израильские исследователи создали новый прибор, помогающий сердцу качать кровь, с потенциалом сохранить жизнь людям, страдающим сердечной недостаточностью. Новый прибор также синхронизирован с камерой, помогающей докторам следить за операцией на сердце с помощью сложной системы датчиков.
· Группа израильских исследователей разработала технику безопасной заморозки донорской печени, позволяющую сохранить необходимый для пересадки орган на длительный срок.
· Уникальная разработка израильтян — эндоскопический степлер для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
· Приспособление «ReWalk», созданное израильской компанией «Argo Medical Technologies» — оригинальный «внешний скелет» для парализованных ног с электронным контролем.
· СF 102 – препарат для лечения рака и воспалительных заболеваний печени.
· Известная всем нам фармацевтическая компания «Тева» — самая крупная в мире фирма, занимающаяся исследованиями в области генетической медицины. Производитель новейших медикаментов. Здесь создано новое лекарственное средство, используемое в лечении болезни Паркинсона.
· В Израиле создан препарат, предотвращающий слепоту.
· «Lifekeeper» — приспособление для спасения жизни. Наклейка размером в монету 10 агорот, со встроенным сверхчувствительным датчиком, измеряющим параметры деятельности организма: сердцебиение, температура, уровень содержания сахара в крови и т.д. Наклейка способна выдать и передать в виде послания на мобильник ранний диагноз инфаркта, а уж с мобильника предупреждение будет разослано по инстанциям, прежде всего — в «скорую помощь» и лечащему врачу данного пациента.
И, как вы понимаете, все перечисленное здесь – такая капля в море… Никакой газетной площади не хватит, чтобы рассказать о том, что дали миру израильские ученые в области медицины.
Технологии:
· Первый в мире флэш-диск.
· Знаменитая «аська» — компьютерная программа ICQ.
· Большая часть операционной системы Windows XP.
· Мобильный телефон, без которого мы сегодня не представляем себе жизнь, разработан израильским отделением компании «Моторолл».
· Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino спроектированы и созданы в Израиле.
· Технология речевой почты.
Это только малая часть того, чем каждый современный человек пользуется в обыденной жизни. О специальных проектах и изобретениях я не говорю, нам все равно в этом не разобраться. Достаточно будет упомянуть, что Израиль занимает второе место в мире (после Японии) по количеству патентов на душу населения, а по эффективности запатентованных изобретений — 1-е место в мире. По количеству компьютеров на душу населения Израиль занимает первое место в мире.
Оборона и безопасность.
Это наш конек. Понятно, что рассказывать можно до завтра. В двух словах – самое основное.
· Израиль разработал наиболее совершенную систему безопасности на авиалиниях. Этой системой пользуются сегодня во многих аэропортах мира.
· Автомат «узи», танки «меркава» и множество других видов вооружения, включая роботов, автоматику и т.д.
· Беспилотное воздушно-транспортное средство — может парить, приземляться или взлетать вертикально. Ему не нужна взлетно-посадочная полоса или посадочная площадка. Этот аппарат создан для оказания помощи больным, особенно, солдатам, в так называемый «золотой час», 60 минут сразу после травмы или ранения.
· Оптика для самолетов — покупают во всем мире, включая Россию.
· В начале июня прошлого года военное управление по исследованию и разработке вооружений представило разработанную совместно с учеными Техниона новинку – робота-змею. В ходе создания робота, существующего на данный момент в единственном экземпляре, ученые и разработчики наблюдали за поведением настоящих змей. В итоге им удалось создать машину, способную залезть практически в любую щель. Робот оснащен аудио и видеоаппаратурой, и предназначен в первую очередь для разведки в застроенной местности – туннелях, бункерах, баррикадах. Кроме того, робота-змею планируется использовать во время спасательных работ в обрушившихся зданиях, а в случае необходимости он может стать «ликвидатором-самоубийцей».
Хозяйство:
· Арбузы без косточек – наше изобретение.
· Солнечные бойлеры.
· Капельное орошение.
· Технологии для садоводства и растениеводства в условиях пустыни.
Надо обязательно сказать, что мы — единственная страна в мире, вошедшая в 21-й век с приростом количества деревьев, что особенно замечательно, если учесть, что это достигнуто в стране, где большой процент площади занимает пустыня.
Прошу заметить, я говорю только о том, чем сегодня пользуются во всем мире.
Предупреждаю сразу желающих гордо задрать нос и присвоить все заслуги представителям Большой алии – ребята, и до нас здесь была жизнь. Ничуть не умаляя вклад репатриантов из СССР-СНГ, замечу только, что многие вещи, о которых я сегодня рассказала, были разработаны, изобретены, внедрены задолго до нашего с вами появления на Земле Обетованной.
А теперь, еще немного информации для укрепления возникшего чувства гордости за свою страну.Продолжаем, так сказать, позитивно заряжаться.
· Израиль занимает четвёртое место в мире по величине военно-воздушных сил (после США, России и Китая).
· Израиль имеет в своём арсенале свыше 250 F-16 — вторые в мире после США.
· Израильские вложения в экономику превышают вложения всех соседних арабских стран взятых вместе.
· Израиль занимает первое место в мире по количеству лиц с высшим образованием на душу населения.
· Израильтяне публикуют научных статей на ту же душу больше, чем любая страна в мире, причём, с большим отрывом — 109 статей на 10,000 человек.
· В Израиле самое большое в мире количество музеев на душу населения.
· Израиль занимает ведущее место в мире по количеству учёных и техников, 145 на 10,000 человек. Для сравнения: 85 в США, свыше 70 в Японии, и менее 60 в Германии.
Гордитесь, люди, гордитесь! Есть чем. Это все сделано нашими соседями, коллегами по работе, знакомыми, их родителями, бабушками-дедушками. Всего за шесть десятков лет. Несмотря на все войны, операции, обстрелы, возмущения мирового сообщества, бойкоты и прочие изыски…
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 6 пользователям
ГАФТ |
https://www.youtube.com/watch ?v=GNdycPscSwg
|
Валентин Гафт читает стихи.
|
||
|
|
Понравилось: 3 пользователям
Удивительные фото - ссылка |
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 6 пользователям
Латинизация |
Неизвестная история
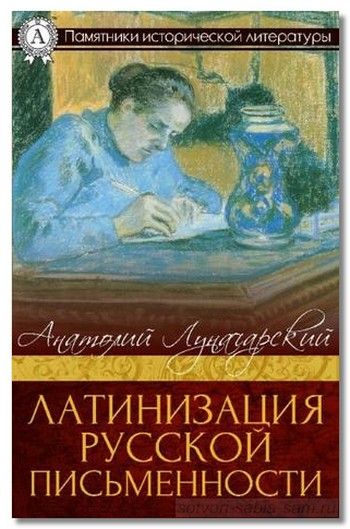 Столетний юбилей Октябрьской революции, очень неоднозначной и трагической страницы в истории России, дает повод затронуть многие вопросы, в том числе и такие, которые долго находились под запретом, а теперь числятся под грифом «неизвестная история».
Столетний юбилей Октябрьской революции, очень неоднозначной и трагической страницы в истории России, дает повод затронуть многие вопросы, в том числе и такие, которые долго находились под запретом, а теперь числятся под грифом «неизвестная история».
Одной из таких засекреченных и неизвестных историй является попытка власти большевиков отказаться от кириллицы, заменив ее на латиницу. Я лично узнала об этой истории совершенно случайно, всего несколько месяцев назад, слушая программу «Нацвопрос», что идет по субботам на радио «Вести FM».
И это меня сначала очень и очень удивило, зная негативное отношение православия к латинянам и католичеству, а потом - заинтересовало. Стала копаться и нашла довольно много материала, раскрывающего эту довольно сомнительную попытку "демократов", пришедших к власти, отказаться от русской письменности, созданной на основе кириллицы.
Во главе комиссии, которая разрабатывала в 1929-1930-м годах программу латинизации русского языка и 72-х языков народов России, стояли известные лингвисты-филологи, в частности, Николай Феофанович Яковлев, дед известной ныне писательницы Людмилы Петрушевской.
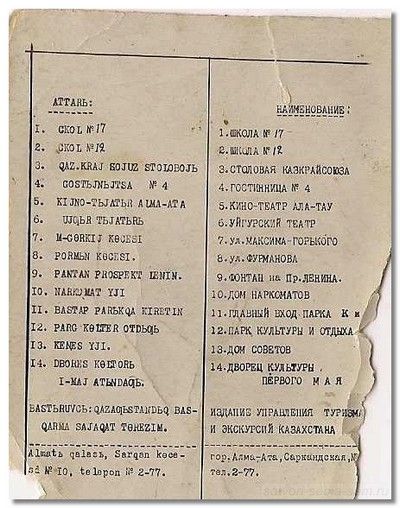 Но на фигуре этого выдающегося филолога, теоретика языкового строительства в молодой советской республике, остановлюсь чуть позже. Проект оказался не таким неудачным, как кажется. Всего за несколько лет удалось перевести на латинский шрифт 50 из 72 языков народов России.
Но на фигуре этого выдающегося филолога, теоретика языкового строительства в молодой советской республике, остановлюсь чуть позже. Проект оказался не таким неудачным, как кажется. Всего за несколько лет удалось перевести на латинский шрифт 50 из 72 языков народов России.
Еще чуть-чуть и Россия лишилась бы самого главного – русского языка, по крайней мере, в том виде, в каком мы его знаем. Тогда Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова и Достоевского пришлось бы читать в переводе. То была борьба интернационалистов, сторонников мировой революции и демократии, с одной стороны, а с другой – патриотов и сторонников сохранения русской идентичности и русского языка в его кириллическом изводе.
Во главе первых стояли Ленин и Луначарский, во главе вторых – белое движение и патриоты России. Спас русский алфавит, как ни странно, Сталин, который к тридцатому году уже понял, что мировой революции не получится и что надо строить социализм только в одной стране. В результате он не подписал готового постановления о латинизации, ждавшего в январе 1930-го только подписи высочайшего лица.
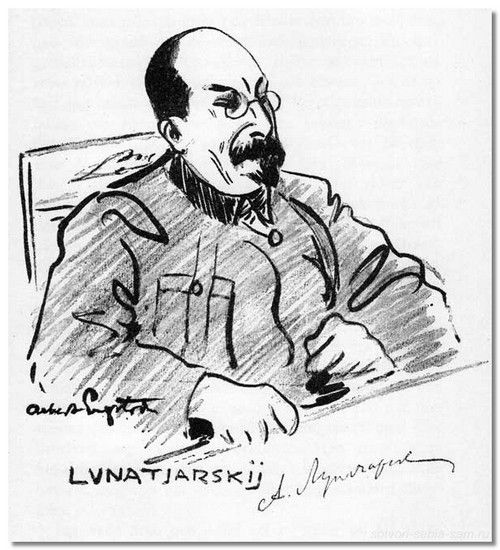 Разработчики были уверены, что это всего лишь формальность, что вопрос уже решен.И какого же было их удивление, когда всего через десять дней от вождя была получена резолюция: «Прекратить все работы по латинизации». Еще через шесть лет вышло другое постановление - об обратном переводе на кириллицу алфавитов народов России, которые уже перешли на латиницу. Кампания по обратной кириллизации завершилась накануне войны – в сороковом году.
Разработчики были уверены, что это всего лишь формальность, что вопрос уже решен.И какого же было их удивление, когда всего через десять дней от вождя была получена резолюция: «Прекратить все работы по латинизации». Еще через шесть лет вышло другое постановление - об обратном переводе на кириллицу алфавитов народов России, которые уже перешли на латиницу. Кампания по обратной кириллизации завершилась накануне войны – в сороковом году.
Но на этом история латинизации не закончилась. Вернемся в наше время. В 1991 году, когда в Беловежской пуще был подписан договор о роспуске СССР, через десять дней Г.Алиев издает указ о переводе азербайджанского алфавита на латиницу. За ним последовали Узбекистан и Туркмения, а в апреле 2014 года Нурсултан Назарбаев издает указ о переводе на латиницу казахского языка и о завершении процесса к 2025-му году. Чуть раньше, в 2012 году, он сказал:
"Нам необходимо приступить к переводу нашего алфавита на латиницу, на латинский алфавит. Это создаст условия для нашей интеграции в мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета, и самое главное – это даст толчок модернизации казахского языка." (Из Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 14 декабря 2012 г.)
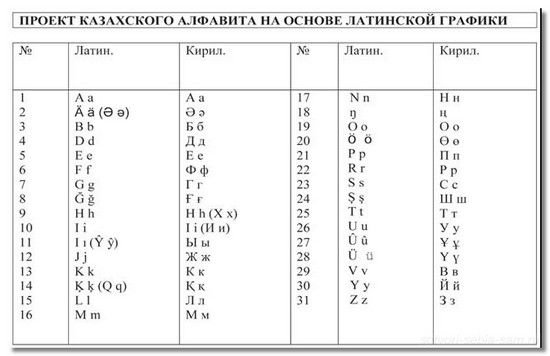 Так что история латинизации, начатая большевиками в 1919 году, еще не завершена. Она имеет своё продолжение сегодня в возникших на обломках СССР молодых государствах, прежде всего, с арабскими корнями. Интересно, что Грузия и Армения, две христианские страны с давней историей, всегда оставались верными своему языку и своей азбуке. Их алфавит никогда не подвергался ни кириллизации, ни латинизации, как, впрочем, еврейский и немецкий языки.
Так что история латинизации, начатая большевиками в 1919 году, еще не завершена. Она имеет своё продолжение сегодня в возникших на обломках СССР молодых государствах, прежде всего, с арабскими корнями. Интересно, что Грузия и Армения, две христианские страны с давней историей, всегда оставались верными своему языку и своей азбуке. Их алфавит никогда не подвергался ни кириллизации, ни латинизации, как, впрочем, еврейский и немецкий языки.
Чем же объяснить живучесть идеи латинизации, особенно среди тюрко-язычных народов? Одна причина – как можно дальше отойти от России и порвать с "имперским прошлым". Ленин называл это борьбой с великодержавным русским шовинизмом и с православием.
В случае победы латинизации русский язык уравнивался бы со всеми другими языками, а русское население переставало бы быть государствообразующей нацией. Большевики с упорством выставляли русский народ диким, необразованным, а его историю как связанную самодержавным гнётом и насильственной русификацией нерусских народов.
Новая власть была продолжательницей идей Петра I, мечтавшего слиться с Европой и много потрудившегося на этой ниве. В первые годы революции нарком просвещения А.В.Луначарский, главный идеолог этой затеи, писал о необходимости постоянной борьбы с дурной привычкой предпочитать всем и всему русскую мысль и русское слово.
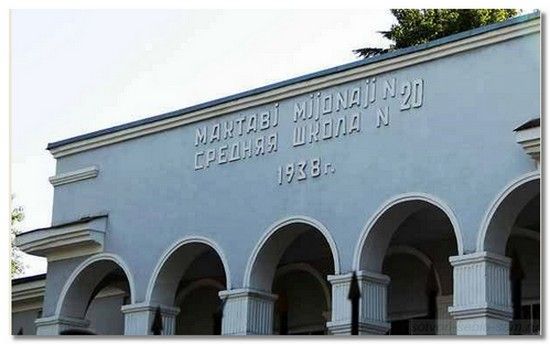 Идея латинизации просуществовала недолго, с 1919 по 1930-й. Комиссия, специально созданная под проект в 1929-м году, объявила кириллический алфавит чуждым социалистической революции и назвала его пережитком помещиков и буржуазии.
Идея латинизации просуществовала недолго, с 1919 по 1930-й. Комиссия, специально созданная под проект в 1929-м году, объявила кириллический алфавит чуждым социалистической революции и назвала его пережитком помещиков и буржуазии.
Под лозунгом разрушения старого мира и создания нового большевики к тому времени уже перешли на новый календарь, новую систему мер и весов, совершили орфографическую реформу русского языка и, наконец, решили вовсе упразднить кириллицу, заменив ее латинским шрифтом.
Причина латинизации русской письменности лежала не только в борьбе с великодержавным шовиизмом. Большую роль играла другая идея - мировой революции и присоединения России к «цивилизованным» западно-европейским народам, а латинизация должна была обеспечить объединение всех народов на основе единого языка.
Под разработку новых алфавитов для народов России в 1919 году при наркомпросе создается специальная подкомиссия, в 1927 году – Всесоюзный ЦК нового алфавита (ВЦКНА), ставший центром борьбы с русской основой языков других народов СССР. Седьмого августа 1929 года эпопея латинизации вышла на финишную прямую: было подписано постановление ЦИК и СНК, придававшее латинизации официальный статус.
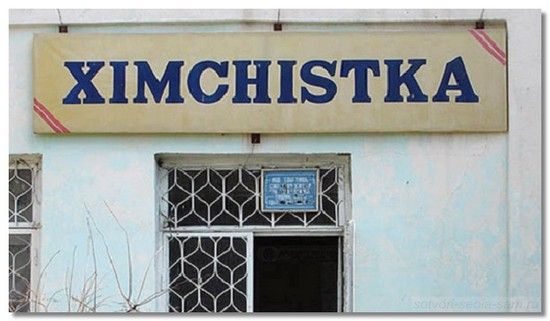 Первыми переходили на латинский алфавит народы с арабской письменностью. Комиссия под руководством известного к тому времени доктора филологических наук, выдающегося советского лингвиста Н.Ф.Яковлева, разработала алфавиты для пятидесяти народов.
Первыми переходили на латинский алфавит народы с арабской письменностью. Комиссия под руководством известного к тому времени доктора филологических наук, выдающегося советского лингвиста Н.Ф.Яковлева, разработала алфавиты для пятидесяти народов.
В 1917 году Яковлев совсем еще молодой человек: ему 25 лет (всего лишь на год младше Мандельштама). Родился в семье донского помещика, с энтузиазмом и совершенно искренне принял революцию, комиссарствовал, в частности, по партийному заданию ликвидировал одну из старейших газет «Русские ведомости», в которой работали такие корифеи, как М.Салтыков-Щедрин, Г.Успенский и В.Короленко.
Вскоре ему надоело размахивать маузером и он решил вернуться в науку, для чего вышел из партии и довольно скоро стал известным специалистом по грамматике кавказских языков. Ему-то и суждено было сыграть огромную роль в разработке и продвижении проекта латинизации России. В связи с этой задачей он писал:
«Территория русского алфавита представляет собою в настоящее время род клина, забитого между странами, где принят латинский алфавит Октябрьской революции, и странами Западной Европы, где мы имеем национально-буржуазные алфавиты на той же основе… Сейчас должен быть создан новый алфавит – алфавит социализма».
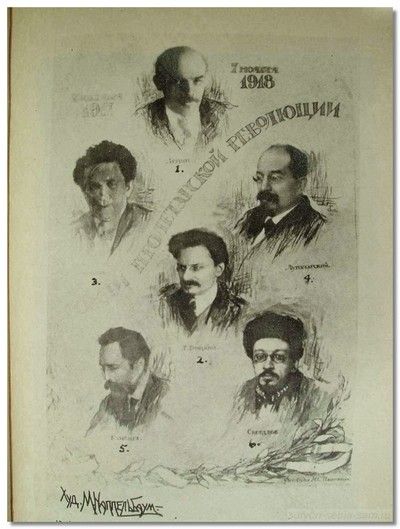 Алфавит социализма был им создан и с научной точки зрения был отлично обоснован. Создан в трёх вариантах, но беда была в том, что он совершенно не брал в расчет традиции и историю русского языка и русскоговорящих. Сталин поставил крест на всех этих разработках, как и на проекте латинизации в целом.
Алфавит социализма был им создан и с научной точки зрения был отлично обоснован. Создан в трёх вариантах, но беда была в том, что он совершенно не брал в расчет традиции и историю русского языка и русскоговорящих. Сталин поставил крест на всех этих разработках, как и на проекте латинизации в целом.
В конечном итоге Николай Феофанович Яковлев плохо кончил. После закрытия комиссии по латинизации в 1930-м, он продолжал писать научные статьи и издаваться, но его научная карьера стала рушиться: через двадцать лет, в начале пятидесятых годов, его отовсюду уволили.
Вскоре у него появились признаки психического расстройства и до самой смерти, в 1974-м году, почти четверть века, Яковлев так и не смог оправиться от болезни и вернуться в науку. Вместе с ученым бесславно ушли в небытие и все созданные им алфавиты социализма. Вместе с ним канула в Лету неизвестная история с латинизацией, которая позднее была засекречена и пребывала в библиотеках несколько десятков лет под грифом «Не выдается».
Тина Гай
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 5 пользователям
Удивительные фото: не пожалеете смотреть |
http://static.uglyhedgehog. com/upload/2017/1/18/h1- 456416-doc_20170113_wa0013.pdf
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Стенфордский университет |
Фамилию этой женщины с фото, в выцветавшем платье, знает весь мир. Уже догадались, кто она?
Женщина в выцветшем платье, в сопровождении своего мужа, одетого в скромный костюм, сошли с поезда на Бостонском вокзале и направились к офису президента Гарвардского университета.
Им не была назначена встреча. Секретарь с первого взгляда определил, что таким провинциалам нечего делать в Гарварде.
— Мы бы хотели встретиться с президентом, — сказал мужчина низким голосом.
— Он будет занят целый день, — сухо ответил секретарь.
— Мы подождем, — проговорила женщина.

В течение нескольких часов секретарь игнорировал посетителей, в надежде, что в какой-то момент они разочаруются и уйдут. Однако, убедившись, что они никуда уходить не собираются, он все же решился побеспокоить президента, хотя очень этого не хотел.
— Может, если вы примете их на минутку, они скорее уйдут?», — спросил он у президента.
Тот с негодованием вздохнул и согласился. У такого важного человека как он, точно нет времени принимать у себя людей одетых в выцветшие клетчатые платья и бедные костюмы.
Когда посетители вошли, президент, с суровым и высокомерным видом посмотрел на пару. К нему обратилась женщина:
— У нас был сын, в течение одного года он учился в вашем университете. Он любил это место и был очень счастлив здесь. Но, к сожалению, год назад неожиданно умер. Мой муж и я хотели бы оставить о нем память на территории университета.
Президент совсем этому не обрадовался, а даже наоборот стал раздраженным.
— Госпожа! — высокомерно ответил он, — мы не можем ставить статуи всем, кто учился в Гарварде и умер. Если бы мы делали так, то это место походило бы на кладбище.
— Нет, — поспешила возразить женщина, — мы не желаем устанавливать статую, мы хотим построить новый корпус для Гарварда.
Президент осмотрел выцветшее клетчатое платье и бедный костюм и воскликнул:
— Корпус! Вы представляете, сколько стоит один такой корпус? Все Гарвардские здания стоят более семи миллионов долларов!
Женщина помолчала.
Президент улыбнулся. Наконец-то они уйдут!
Женщина повернулась к мужу и тихо сказала:
— Так мало стоит построить новый университет? Почему же тогда нам не построить свой университет?
Мужчина утвердительно кивнул.
Президент Гарварда побледнел, он выглядел растерянным.
Мистер и миссис Стэнфорд встали и вышли из кабинета.
Они основали в Пало-Альто, в Калифорнии в память о своем любимом сыне университет, который носит их имя — Стэнфордский университет.

Из Википедии:
Стэнфордский университет — частный исследовательский университет, один из самых престижных в мире институтов, занимающий верхние позиции в многочисленных академических рейтингах вузов США и мира.
В 2011 году Стэнфордский университет занял вторую позицию в Академическом рейтинге университетов мира, пятое место в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes, четвёртое место в национальном рейтинге от издания Washington Monthly и пятое место в рейтинге U.S. News & World Report.
Расположен возле города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско), штат Калифорния, США.
Основан в 1891 году железнодорожным магнатом, сенатором США и бывшим губернатором Калифорнии Леландом Стэнфордом и его женой Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их единственного сына Леланда Стэнфорда (младшего), умершего в 1884 году и не дожившего до 16-летия. Стэнфорды решили посвятить университет своему единственному сыну, и Леланд сказал супруге: «Дети Калифорнии будут нашими детьми».
Поделись этой интересной историей с друзьями,пусть они тоже узнают про это!
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 25 пользователям
Дети у властных людей |
• Макрон , вновь избранный президент Франции, не имеет детей.
• Канцлер Германии Ангела Меркель не имеет детей.
• Британский премьер Тереза Мэй не имеет детей.
• Итальянский премьер Паоло Джентилони не имеет детей.
• также … Голландии Марк Рютте,
• также … Швеции Стефан Лёвен,
• также …Люксембург Беттель,
• …Шотландии Никола Стерджен также не имеют детей.
• Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, не имеет детей.
«Таким образом, непропорционально большое число людей , принимающих решение о будущем Европы не имеет прямую личную заинтересованность в этом будущем.»
|
|
Понравилось: 5 пользователям