-Рубрики
- Ювенальная юстиция (48)
- ЮЮ за рубежом (13)
- Ювенальная юстиция в действии (8)
- Разное (17)
- Страна (11)
- Здоровье (7)
- Большой Брат (6)
- Электронное правительство (3)
- Чипы и чипизация (3)
- Образование (4)
- История (4)
- Закон о репродуктивном здоровье (2)
- Как нам морочат голову (2)
- Документы (1)
- Лица (1)
- Мир (1)
- Книги (0)
- Фильмы (0)
- Видео (0)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Два папы и я – здоровая семья |
28.01.09
Социальные службы Эдинбурга приняли решение передать двух детей, находящихся под опекой бабушки и дедушки, гомосексуальной паре. Как пишет в среду газета The Daily Telegraph, социальные работники посчитали, что 59-летний дедушка и его 46-летняя супруга уже слишком стары, чтобы опекать 5-летнего внука и его 4-летнюю сестру. Оба ребенка были переданы под опеку после того, как их мать отправилась лечиться от наркотической зависимости. Дети провели под опекой ровно два года, но вскоре эдинбургские социальные работники, узнав, что опекуны, «помимо преклонного возраста», обладают еще и слабым здоровьем, решили детей забрать. «Их дедушка постоянно простужается, а его супруга страдает от диабета», – объяснили сотрудники соцслужбы.
В итоге на минувшей неделе им удалось отсудить у пожилой пары право опеки над двумя детьми, и вскоре бывших опекунов известили, кому переходят права на содержание их внуков. Новыми опекунами суд назначил пару геев. «Когда я узнал, кто будет заботиться о малышах, у меня было готово разорваться сердце. Я не страдаю от предубеждений, но мне неясно, почему суд принял такое решение», – жалуется дедушка детей, из-за которых было затеяно длительное судебное разбирательство. Сотрудники социальной службы, впрочем, оговариваются, что заявки на опекунство над двумя детьми подавали и гетеросексуальные пары, но победили в итоге гомосексуалисты. Однополая пара пока отказывается от комментариев, зато бывшие опекуны не молчат. «У ребенка должны быть мама и папа. Когда он будет рисовать на бумаге двух пап – будет странновато. Это клеймо на всю жизнь», – считают они.
Серия сообщений "ЮЮ за рубежом":
Часть 1 - Норвегия - без права критиковать темно режимов
Часть 2 - Социальные службы украли детей ночью!
...
Часть 4 - В первый день после...
Часть 5 - Чем женщина отличается от человека.
Часть 6 - Два папы и я – здоровая семья
Часть 7 - Британские супруги, у которых по ошибке отобрали детей, не получат их назад
Часть 8 - Как узнать, что твои родители – террористы?
...
Часть 11 - Преследуемые сужбой защиты детей
Часть 12 - Норвегия: Комитет по защите прав детей (Barnevern) против детей
Часть 13 - Ювенальная Юстиция, дети и родители - как воспитывать ребенка - Германия
|
Метки: ювенальная юстиция |
Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 3 |
http://oodvrs.ru/article/index.php?i...id_article=646
В ответ на постоянно множащиеся примеры ювенальных бесчинств на Западе отечественные сторонники этого «требования времени» любят говорить, что у нас все будет по-другому. Однако постоянно множащиеся примеры того, что (пока еще в качестве подготовки почвы) происходит у нас, не дает оснований для оптимизма. В Таганроге, где уже существует ювенальный суд, школьник подал иск на учительницу, которая наказала его за хулиганское поведение, не взяв на экскурсию. Возмущенный попранием своих прав ребенок (надо полагать, не без содействия заинтересованных взрослых) потребовал компенсации морального ущерба в размере 70 000 рублей. Суд смилостивился над ответчицей и уменьшил сумму до 30 000. Учительница после этого уволилась. Как чувствует себя несовершеннолетний истец и какой урок получили остальные учителя, думаем, читатель представит, не слишком напрягая воображение.
Другая история произошла в Москве, которая, между прочим, тоже относится к ювенально-пилотным регионам. Отец, воспитывая 13-летнюю дочку один, приучал ее бегать по утрам. Соседки пожаловались в органы опеки, что он «мучает» ребенка. Они вообще-то и раньше любили жаловаться. Молодая женщина, поведавшая нам эту историю, рассказала, что они когда-то доносили и на ее мать. В тот раз им не нравилось, что ребенка «мучают» уроками музыки, лишая детства. Но 20 лет назад права детей у нас в стране еще не были на должной высоте, и сигнал остался без ответа. Зато сейчас ответ последовал незамедлительно. Отец и глазом моргнуть не успел, как его лишили родительских прав, а девочку поместили в детдом. Потом она, правда, как нидерландская Ирина, сбежала домой. А поскольку ювенальное законодательство у нас еще не принято и в деле было допущено множество нарушений, от этой семьи отстали. Девочка опять живет с отцом. Он потребовал возвращения ему родительских прав, но оказалось, что вернуть права куда сложнее, чем их лишиться. По крайней мере, спустя полтора года после начала этой истории отец в своих правах еще не был восстановлен.
В Псковской области практически одновременно у двух матерей-одиночек пытались отнять детей: у одной троих, у другой четверых. Мотив - бедность, потеря работы. Точь-в-точь как во Франции, судя по документам французской ассоциации «Защита», приведенным в книге Г. Пастернака («Пастернак против Нидерландов». М.: «Эра», 2007). «Французская система социальных служб незаконно отнимает детей у родителей, потерявших работу», - говорится в обращении этой ассоциации.
Снова вернемся в столицу. Мать троих дочерей. Средняя дочь, ей 16 лет, связалась с дурной компанией и «села на иглу». Мать обратилась за помощью в наркодиспансер и получила ответ, что девочку можно попробовать полечить, но только если она не знает своих прав и ее удастся как-то заманить на лечение. Если же она свои права знает (а та девочка знала), то дело плохо: в демократической России принудительное лечение запрещено. (Трудно удержаться от комментария и не напомнить, что апологет ювенальной юстиции О.В. Зыков категорически против принудительного лечения алкоголизма и наркомании, о чем не устает заявлять везде, где только можно.)
Мать пошла в милицию, поскольку девочка не только принимала наркотики, но и, как это часто бывает, еще скандалила и дралась. Когда-то у соседки тоже были похожие проблемы с сыном-подростком, и инспектор по делам несовершеннолетних нашел к нему подход. Но теперь (вероятно, опять-таки потому, что Москва - пилотный регион?) женщина услышала примерно следующее: «Мы, конечно, можем передать Ваше дело в Комиссию по делам несовершеннолетних. Но учтите, сейчас такая ситуация... Короче, ребенка могут отнять, потому что у вас маленькая жилплощадь».
«Представляете? - возмущалась потом женщина. - Вместо того чтобы улучшить наши жилищные условия, говорят, что они не соответствуют правам ребенка!.. Нет, я, честно говоря, даже не против, чтобы Люду забрали в какой-нибудь хороший интернат и вложили ей ума. Может, она хоть чужих людей будет слушаться? Но сейчас, говорят, новые порядки. Если забирают - то всех. Старшую, положим, не заберут, ей уже 18. А младшую-то почему я должна отдавать? Она и учится хорошо, и в церковь ходит, и музыкой занимается. Если ее оторвать от семьи, мало ли что с ней будет? С Людой я не справляюсь. А Варя-то тут при чем?»
Беседуя с этой женщиной, мы, естественно, вспомнили французскую мать, у которой второго ребенка, онкологическую больную, тоже отняли «за компанию». Вспомнили и русского отца, о котором шла речь в одной из телепередач. После смерти жены он остался с восемью детьми. Органам опеки и соцзащиты не пришло в голову оказать ему материальную поддержку или выделить социального работника в помощь осиротевшим детям. Зато пришло в голову отнять всех восьмерых - для их же собственного блага. В рамках борьбы с бедностью.
Так что в вышеописанных случаях никакой российской специфики не наблюдается. Хотя она, конечно, не исключена. Но проявляться может, на наш взгляд, в другом. На Западе отнятых детей за границу не продают. Наоборот, там готовы покупать сирот. Откуда угодно: из Азии, из Латинской Америки, из Африки. Осенью 2007 года разгорелся международный скандал из-за попытки французской гуманитарной ассоциации похитить в африканской Республике Чад 103 ребенка, которых хотели переправить во Францию для продажи усыновителям.
Дети из России - очень желанный товар. Сколько нам на протяжении последних 15 лет рассказывали в СМИ о благородных иностранцах! Они, якобы, забирают в основном детей-инвалидов, которые здесь никому не нужны, а там обретают дом, семью, медицинскую помощь. Поэтому для нас, признаться, явились неожиданностью официальные данные. Нет, мы, конечно, могли подозревать, что журналисты несколько преувеличивают. Но чтобы до такой степени! Из доклада председателя Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей на I Всероссийской конференции «Семья, дети и демографическая ситуация в России», состоявшейся 17 октября 2006 года: «В то время как мы говорим о проблеме миграции, о повышении рождаемости, из страны тысячами вывозятся российские дети, усыновленные иностранцами. Хотя число иностранных усыновлений в 2005 году все-таки снизилось на 2,5 тыс. по сравнению с 2004 годом, но остается достаточно высоким - 7,5 тысяч детей. Вывозятся из России, в основном, маленькие дети, 70 % от всех усыновленных, они практически здоровы или имеют заболевания, которые лечатся в России. Дети-инвалиды составляют лишь только 2,5 %. Мы проанализировали, какие заболевания имеют дети: это, например, анемия, гастрит, рахит, астигматизм. Разве таким детям нельзя помочь у нас в России? Конечно, можно» (Сб. докладов Ι Всероссийской конференции «Семья, дети и демографическая ситуация в России». М., 2007. С. 7).
Видимо, в ожидании ювенальной юстиции и, соответственно, в предвкушении богатого улова в России открываются иностранные агентства по усыновлению. Говорят, это поможет упорядочить процедуру. Что ж, и вправду, поможет: отняли ребенка и быстро переправили в Париж, Франкфурт или Амстердам. А там - ищи ветра в поле. Сколько наших женщин годами не может вернуть детей, вывезенных за границу мужьями-иностранцами! И ведь этих женщин никто не лишал родительских прав, но они все равно бесправны. Что же говорить о тех, кого лишат?
Вполне возможно, российская специфика ювенальной юстиции проявится и в разрешении донорства детских органов, за которое летом 2007 года начала агитировать замминистра здравоохранения О.В. Шарапова (между прочим, активная и достаточно давняя сторонница «планирования семьи», а значит, и секс-просвета в школах. Как говорил вождь Октябрьской революции, «узок круг этих революционеров»).
Озабоченный состоянием детского здоровья Минздрав примерно в то же время вышел и со второй, не менее важной инициативой, предложив узаконить медицинские эксперименты на детях. Якобы иначе нельзя испытывать новые лекарственные препараты. У взрослых же другой организм! Хотя еще недавно это не мешало вполне эффективно лечить детей. По крайней мере, детская смертность в Советском Союзе была одной из самых низких в мире.
Нам могут возразить, что в разрешении детского донорства и медицинских опытов над детьми как раз никакой российской специфики нет. Наоборот, этим мы приведем свое законодательство в соответствии с европейскими нормами. Так-то оно так, да только Запад, в отличие от России, не выступает в роли поставщика сырья. Так что без российской специфики все же не обойдется...
Попутно зададим вопрос не совсем по теме: где же лучше соблюдаются права детей? Там, где они выступают в роли подопытных кроликов, или где закон это не разрешает?
Конечно, у всех детей не отнимут. Но жизнь в условиях «постоянного мониторинга» (а ювенальщики уже не раз проговаривались, что в идеале каждая семья должна быть под контролем) качественно изменится. Самая большая для нас загадка - почему безмолвствуют граждане либеральных убеждений, для которых свобода есть главная жизненная ценность? Неужели Запад до сих пор их так магически зачаровывает, что они готовы приветствовать все, раз оно исходит оттуда?
Мы, например, себя к либералам не причисляем, да и маленьких детей, которых можно отнять, у нас уже нет. Но жизнь под контролем и по указке ювенальных служб представляется нам крайне унизительной. На наш взгляд, это недопустимое ущемление человеческой свободы, человеческого достоинства.
Дело в том, что любой взрослый человек воспринимает свой дом как территорию свободы. Это в подростково-юношеском возрасте многие жаждут вырваться из дому на волю, поскольку их стесняет главенство родителей. Но, обретя свой дом и тем более свою семью, человек именно там чувствует себя наиболее свободным, так как там он обустраивает все по собственному разумению. И попытки постороннего вмешательства в виде критики и особенно навязывания своих понятий или вкусов могут восприниматься довольно болезненно. Даже когда эти попытки исходят от близких родственников, которым позволено куда больше, чем чужим.
И самое, пожалуй, ценное для современного семейного человека на домашней территории свободы - это дети и право их воспитывать так, как он считает нужным. Безусловно, существуют определенные нравственные ограничения, но для нормальных людей это не проблема, поскольку они с ними согласны без принуждения извне. А в остальном воспитание детей представляет собой широкое поле для свободы и творчества взрослых. Причем сегодня многим взрослым больше негде насытить эту живущую в каждом человеке потребность в творческой реализации. Далеко не у всех работа творческая и интересная. Даже наоборот, многие, окончив институт, работают не по специальности на работе, не требующей ни высшего образования, ни каких-то творческих проявлений. Не все, конечно, но многие жертвуют своими профессиональными интересами ради достойного обеспечения семьи. И, может быть, поэтому воспитание детей сейчас представляет для значительного числа молодых родителей особую ценность.
Но даже для тех, кто не жаждет творчески заниматься своими детьми, все равно очень важно чувствовать себя дома свободно, расслабленно. Словом, отдыхать от напряжения, накопленного за день. И, переступая порог, как бы давать самому себе команду «вольно».
Жизнь по указке ювенальных служб и тем более по решению ювенального суда эту домашнюю вольницу упразднит. Дом, семейная жизнь, воспитание детей перестанут быть территорией свободы и, напротив, превратятся в источник постоянной тревоги, постоянного напряжения, постоянного страха. Вероятно, люди с либеральными установками думают, что их ювенальный контроль не коснется, поскольку они как раз воспитывают детей в духе времени, не ущемляя их в современных развлечениях типа компьютерных игр или дискотек, не видя ничего страшного в сексуальных отношениях подростков и т.п. Может быть, они не одобряют крайностей, но в целом их современная жизнь вполне устраивает. Поэтому в либеральном стане нет никакого волнения по поводу ювенальной юстиции.А зря! Жизнь может повернуться совсем по-другому. Да и уже поворачивается...
Вот пример не из возможного будущего, а практически из настоящего. Министерство образования уже постановило ввести во всех школах обязательный предмет «Духовно-нравственное воспитание». Для родителей-атеистов собираются предусмотреть вариант безрелигиозной этики. Но и в этом альтернативном варианте вряд ли будет много либерализма. Если государственная установка на укрепление семьи сохранится, то любые программы духовно-нравственного воспитания будут осуждать «свободную любовь», «пробные браки», разводы и уж тем более содомию. Но пока нет ювенальной юстиции, свободомыслящие родители могут безбоязненно выражать дома по всем этим вопросам свое личное мнение, которое необязательно совпадает с «генеральной линией».
С установлением ювенального режима свободомыслие придется ограничить, иначе маму с папой могут обвинить в том, что они отказываются от сотрудничества со школой и тем самым препятствуют реализации права ребенка на качественное образование.
Только очень легкомысленные люди могут считать, что наши опасения - алармистская антиутопия. Даже во Франции, где традиционно почитают закон, в ювенальных делах царит произвол, который может быть обусловлен характером судьи, ее сегодняшним настроением, ее неудавшейся личной жизнью. Главное, что создается механизм, позволяющий этот произвол осуществлять. Борец за введение ювенальной юстиции О.В. Зыков сказал на одном из заседаний, посвященных этому вопросу, что его дети хорошо воспитаны и потому не будут жаловаться на него в суд. Большевики, запуская механизм репрессий, тоже думали, что он будет направлен только на «плохо воспитанных» классовых врагов. Но вскоре сами оказались жертвами собственного законотворчества.
Не подменяет, а подминает
И тут возникает необходимость рассмотреть еще одну проблему. Быть может, самую важную, но о которой пока почему-то молчат. Впрочем, молчат не все. На круглом столе на тему «Становление ювенальной юстиции в России: опыт, проблемы и перспективы», состоявшемся в Госдуме 20 марта 2006 года, председатель Комитета по законодательству В.Н. Плигин выразил обеспокоенность, не начнет ли суд выполнять функции других систем власти. «Получается, - сказал он, - что мы предлагаем суду выполнять не роль правосудия, собственно говоря, а мы предлагаем в настоящее время суд обозначить как координатора по всем случаям, которые попадают в поле зрения суда».
Вразумительного ответа на свой вопрос он не получил. Нет, конечно, его постарались успокоить. «Суд не будет заменять никакие ведомства, - сказала председательствовавшая на круглом столе Е.Ф. Лахова. - Министерства образования, здравоохранения, внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, службы занятости и т.д. - все знают, что им делать. И каждый год эти ведомства отчитываются о проделанной работе...» «Но суд, - добавила она, - должен быть над всеми, независимо от того, совершено или не совершено ребенком правонарушение... Суд должен быть над всеми ведомствами. Именно суд должен сказать сегодня, что делать, какое ведомство не доработало». Помимо ведомств, кстати, были упомянуты и родители.
Однако суд, напоминаем в который раз, не только высказывает свое мнение, но и взыскивает. И его решения, снова напоминаем, обязательны. Таким образом, под лозунгом защиты прав ребенка делается попытка построить параллельную вертикаль власти. Что означает тезис «суд должен быть над всеми ведомствами» и говорить, что им делать и кто что не доработал? Пока что ведомства подчиняются своим главам - министрам, те - премьер-министру, тот - президенту. И о недоработках речь идет на их заседаниях. Никакой суд не указывает им, что делать. Хотя проворовавшегося министра теоретически можно отдать под суд.
Выходит, в новой ювенальной реальности нарушается принцип разделения властей? Судебная власть подминает под себя исполнительную. А если решения министра не совпадет с решением ювенального суда, кто будет главнее? И кем будет управлять президент, если ведомства будут подчиняться ювенальному суду, а ведь судебная власть президенту не подчиняется?
Причем в перспективе планируется создание семейного суда, который вберет в себя функции ювенального и, кроме того, будет рассматривать все дела, в которых так или иначе затронуты интересы несовершеннолетних. А ведь это подавляющее большинство судебных дел, поскольку у большинства наших граждан есть дети или внуки, а заметное число людей связано с детьми по роду работы. Таким образом, новый суд может подмять под себя не только министерства образования, здравоохранения и внутренних дел, но и Министерство финансов (интересы детей практически всегда связаны с финансовым обеспечением) или, скажем, Министерство обороны. А почему нет? У многих призывников есть братья или сестры - вот вам и основания.
О демократии, естественно, придется позабыть. Узурпация власти судом - это уже совсем другая песня. Не мягкая стилистика плюрализма, а жесткий стиль диктатуры. Во время судебного заседания, как известно, судья может удалить человека из зала за малейшее, на его взгляд, нарушение. И тот, как миленький, удалится. Иначе выведут под руки. А тут вся жизнь будет проходить в этом директивно-карательном режиме. Ведь это только к малолетним преступникам не будут применять «репрессивный» подход. А родителям, бабушкам-дедушкам и прочим взрослым гражданам придется отвечать «по всей строгости закона».
«В ноябре 1996 года, - пишет в своей книге "Смерть Запада" (М., 2003) видный американский политик П.Дж. Бьюкенен, - отец Ричард Джон Нойхаус, редактор журнала "Ферст Тингс", организовал конференцию "Конец демократии? Судебная узурпация власти". Главный тезис конференции, созванной после очередных скандальных решений Верховного суда, был сформулирован так: "Правительство Соединенных Штатов Америки уже не управляет страной с согласия управляемых... Подлежит изучению вопрос, достигли мы или нет того поворотного момента в развитии демократии, когда сознательные граждане уже не желают выражать поддержку правящему режиму". <...> Среди участников конференции был Роберт Борк, известный американский судья, который писал: "Когда пришло известие из Виргинского военного института, моя жена заметила: ″Судьи ведут себя как горстка бандитов″.
Бандит - человек, который преследует других людей, не обращая внимания на законы. Именно так ведет себя большинство членов Верховного суда". Бывший член апелляционного суда США предположил, что приближается пора, когда официальные лица страны наконец-то вмешаются в происходящее и приструнят Верховный суд: "Быть может, официально избранный представитель власти однажды откажется принять к исполнению решение Верховного суда... Это предположение выглядит фантастичным, но на самом деле оно таковым не является. Мне могут возразить, что неисполнение решения в данном случае равнозначно гражданскому неповиновению; отвечаю: Верховный суд, принимающий решения, которые не подкреплены авторитетом закона, точно так же демонстрирует гражданское неповиновение". <...> Учитывая, что судебная власть в нашей стране приобрела диктаторские замашки, что нам остается делать, кроме как сожалеть о ней?» (С. 346-347).
У нас (вероятно, с поправкой на российскую специфику) роль такого диктатора на местах призван сыграть ювенальный суд. Хотя вертикаль, естественно, простроена до конца: в Верховном суде предусмотрена ювенальная судебная коллегия, которая будет рассматривать дела в качестве второй инстанции. Выше - кассационная коллегия Верховного суда, а еще выше - президиум, куда, надо полагать, если закон о ювенальных судах будет принят, введут специалистов по правам детей. А может, будет немного по-другому. Предоставим слово специалистам. Вот что говорит заместитель председателя межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних В.К. Чернобровкин: «Начинаем пока с судов... Но это только одно из звеньев ювенальной юстиции. В будущем необходимо учредить специализированный суд по гражданским делам, связанный с защитой прав и интересов несовершеннолетних, и многое другое вплоть до специализированного Верховного суда. Ювенальная юстиция - это пирамида, где суд наверху, а далее вниз - вся система специализированных государственных органов по линии несовершеннолетних плюс общественные организации по данной проблеме» (Информационная подборка к «круглому столу» по теме «Ювенальная юстиция в Российской Федерации: проблемы правового обеспечения». Федеральное собрание РФ: Парламентская библиотека. 2007. Октябрь. С. 51).
Говорят, что всю эту «ювеналку» на Западе (например, во Франции) лоббируют троцкисты. Может, оно и так. Разрушение семьи, огосударствление детей... Да, похоже на идеи Троцкого. Но определенно мы этого все же утверждать не можем. А вот то, что Россия диктатуру уже проходила, факт неоспоримый. В отличие от Запада, у нас в XX веке был этот трагический опыт. В толерантном отношении к «секс-меньшинствам» мы, конечно, немного отстали от цивилизованного мира. Можно сказать, мы в этом отношении еще дети. Зато опыт жизни по Оруэллу у нас будет посолидней. Тут мы - умудренные опытом старики. И добровольно согласиться повторить этот кошмар означает впадение в детство. Иначе говоря, старческий маразм. Чего, право, не хотелось бы.
Ирина Медведева, Татьяна Шишова
Метки: ювенальная юстиция |
Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 2 |
Жизнь по решению суда
01 / 07 / 2008
Ну, а теперь давайте представим себе самую обыкновенную семью, каких в нашей стране огромное множество. Мать, отец, ребенок. Родители не наркоманы, не алкоголики – в общем, не маргиналы. А с другой стороны, и ригоризмом особым не отличаются. Со школьным секс-просветом не воюют. Не возражают и против компьютерных игр. Музыку, которую слушают подростки, и фильмы, которые они смотрят, считают ерундой, но не такой вредной, чтобы сильно волноваться. В церковь заходят нечасто. В основном, на чье-то отпевание, за крещенской водой да на Пасху. При этом нельзя сказать, что они совсем не занимаются воспитанием или что у них отсутствуют представления о должном и недолжном. Есть вещи, на которые они не собираются смотреть сквозь пальцы. Им хочется, чтобы ребенок хорошо учился, и не хочется, чтобы он прогуливал школу. Не хочется, чтобы матерился, а разговаривая с ними – в особенности. Не хочется, чтобы превращал свою комнату в хлев и на любую просьбу помочь по хозяйству отвечал: «А почему я?» Согласитесь, это очень скромные и очень естественные требования. Так сказать, минимальный стандарт. Конечно, в нормальной культурной семье требования должны быть больше, но мы возьмем хотя бы этот набор.
Теперь давайте представим себе довольно распространенную, по нынешним временам, ситуацию. Сын, войдя в подростковый возраст, запускает учебу, может прогулять школу, хамит, огрызается. Просьб родителей выполнять не желает, зато часто и настойчиво требует денег. В какой-то момент, когда ситуация уже зашкаливает, родители решают проявить твердость и говорят, что так дальше дело не пойдет. Подтянешь учебу – получишь деньги на апгрейд компьютера. А принесешь еще одну двойку – даже не проси. И ни с какими друзьями ты никуда не пойдешь, пока не приберешься в комнате.
В обычных условиях, то есть без ювенальной юстиции, этот, в общем-то, заурядный бытовой конфликт может разрешиться двояко. Либо взрослым удастся переломить ситуацию (для чего требуются выдержка, твердость и в то же время такт, умение пойти на разумный компромисс), либо они, спасовав перед истерическим напором, сдаются, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но в любом случае решение принимают они. Даже если оно неправильное, оно все равно их собственное. Никто извне не диктует им, как жить, не посягает на их роль главных в семье и, соответственно, не навязывает им план воспитания ребенка. Если они обращаются за помощью к психологу или к психиатру, то все рано делают это по своей доброй воле и могут воспользоваться советами специалиста, а могут ими пренебречь.
Как же будет развиваться сей популярный детско-родительский конфликт в условиях ювенальной юстиции? Парень жалуется в соответствующие органы, что родители его притесняют: заставляют убираться в комнате, не пускают гулять с друзьями да еще не дают карманных денег. Отца с матерью вызывают «куда следует» и популярно объясняют, что комната – личная территория их сына, где он волен устраивать то, что ему хочется. Беспорядок больше соответствует его нынешнему настроению, его индивидуальности и помогает самореализации. Запрещать прогулки с друзьями нельзя. Ребенок должен дышать свежим воздухом и не должен испытывать дефицита общения. Что же касается денег, то лишать ребенка средств на карманные расходы – значит препятствовать его социализации. Деньги надо давать независимо ни от чего, причем не меньше, чем в среднем получают одноклассники, чтобы мальчик не чувствовал себя ущербным.
«Но ведь он хамит, обзывается, школу прогуливает, двоек нахватал!» – пытаются оправдать свои воспитательные меры родители.
И слышат в ответ, что, во-первых, уважение следует заслужить. Они же, судя по всему, не сумели этого сделать. Во-вторых, надо учитывать особенности подростково-молодежной лексики. 30 лет назад матерные выражения считали чем-то ужасным, а сейчас критерии изменились. Насчет школы – да, тревога обоснованная. У нас обязательное среднее образование, поэтому с мальчиком будет проведена разъяснительная работа. Но добиваться хороших оценок, если сын их не получает, не только бессмысленно, но даже вредно. Завышенные требования травмируют психику и могут привести к школьному неврозу. В общем, родители попадают под прицел ювенальных служб. Их предупреждают, что за семьей теперь будет вестись постоянная слежка (неприятное слово, правда, заменяется более политкорректным «мониторинг»). И если сын будет и впредь недоволен своим положением в семье, родителей придется лишить родительских прав.
По меньшей мере озадаченные, а скорее, подавленные происходящим родители возвращаются домой, обдумывая по дороге, что они скажут своему отпрыску. Но оказывается, ему в ювенальном суде уже все сказали. Они еще не успевают раскрыть рот, как слышат: «Ну что, съели?» И начинается новая жизнь. Парень делает, что хочет. Родители безропотно дают деньги. Прогулы школы, правда, продолжаются, но психолог и ювенолог в одном лице загадочно отвечают, что они над этим работают. И работа действительно ведется. На зимние каникулы парня отправляют в подростково-молодежный лагерь для проблемных детей. Там у него появляются новые друзья. Причем, у родителей возникает тревожное впечатление, что некоторые из этих друзей уже больше походят на «лиц, находящихся в конфликте с законом» (так теперь предлагают в духе политкорректности называть несовершеннолетних преступников). Но поговорить на эту тему с сыном им не удается, так как он всякий раз посылает их подальше, заявляя о своем праве дружить с кем хочет и размахивая перед их носом бумажкой, полученной в суде.
Через некоторое время они обнаруживают у сына наркотики. Тут уж они дают волю гневу и идут в ювенальный суд требовать объяснений. Дескать, посмотрите, до чего вы довели мальчишку, связав нам руки! На это им холодно отвечают, что довели как раз они – тем, что недолюбили ребенка. Выясняется, что ювеналы, «осуществляющие сопровождение» их сына, давно знают о потреблении им психоактивных веществ (ПАВ) опийной группы. Но родителям не сообщали об этом вполне сознательно, чтобы не обострять и без того конфликтные отношения в семье. Да и стоит ли так волноваться? Во-первых, у взрослых своя жизнь, а у ребенка своя. Он имеет право на свой опыт, на свои ошибки. Во-вторых, наркоаддиктов сегодня немало, это один из популярных молодежных стилей жизни. Подрастет – образумится. А пока, если они настаивают на коррекционных мерах, мальчика можно включить в программу снижения вреда. А если адекватным наркологам удастся внедрить заместительную терапию, ему будут давать вместо героина метадон. Хоть и наркотическое вещество, но менее токсичное. И тогда проблемы будут решены.
История эта хоть и сконструирована нами, но в ней нет никаких элементов фантастики. Скорее, она созвучна направлению, которое принято называть «критическим реализмом». Диктата ювенального суда, правда, пока нет, и это очень существенный момент. Но по отдельности все фрагменты нашей собирательной истории уже наличествуют. Помните, мы приводили цитату про то, что ювенальный суд – это стержень, на который все будет нанизано? Так вот, стоит появиться стержню, и он обрастет именно такими деталями.
Свидетельство тому – вполне реальная история (одна из многих, весьма типичная!), произошедшая в Голландии и описанная в книге «Пастернак против Нидерландов» (М.: «Эра», 2007). Однофамилец поэта в начале 1990-х покинул родную Одессу и уехал с семьей в эмиграцию. Когда его дочери исполнилось 14 лет, она попала под влияние более «продвинутой» подруги, сдала в учебе, начала прогуливать школу, требовать денег – в общем, все, как и в нашей гипотетической истории. И хотя родители почти ни в чем ее не ограничивали (например, Ирина совершенно не помогала по хозяйству) и даже чрезмерно баловали (скажем, если девочке не нравилась еда, приготовленная матерью, она фыркала и демонстративно отправлялась есть к отцу, с которым мать к тому времени уже была в разводе), Ирине хотелось еще большей свободы. Она начала жаловаться в инспекцию по делам несовершеннолетних. Ее там, естественно, поддержали. Вот она, приоритетность прав ребенка в действии!
И когда отец вопиющим образом «нарушил права» Ирины, попытавшись ваткой стереть с ее лица чересчур, на его взгляд, вульгарную косметику, ее укрыли от «жестокого обращения» в приюте. Когда же родители попытались вернуть дочку, их лишили родительских прав. Пастернаки обращались во всевозможные инстанции, дошли до голландской королевы и Европейского суда. Всего ими было написано порядка 60 жалоб. Результат был всегда один и тот же – нулевой. «Всех, кому мы отправляли факсы и письма, – свидетельствует Г. Пастернак, – мы просили о встрече, чтобы подробнее рассказать и показать факты беззакония. Но инстанции вновь и вновь писали нам стандартные ответы, а все наши жалобы пересылались тем, на кого мы жаловались – и все оставалось по-прежнему» (С. 96). Спасло ситуацию только то, что примерно через год Ирина вернулась домой сама. Если бы не это, родители не увидели бы ее как минимум до совершеннолетия. Некоторые колоритные подробности лучше дать в изложении самого автора.
«Нам было сказано, – вспоминает Г. Пастернак, – что нас приглашают на беседу в отделение полиции по работе с подростками… Мы, довольные, буквально побежали на эту встречу, надеясь на то, что сейчас все закончится, но в этом отделении нас ждал заранее подготовленный сюрприз. Нас встретили двое полицейских: Ханс Кромдайк и Ес Еммерих. Мы им подробно рассказали о случившемся и показали документы. В ответ они начали нам угрожать и сказали, что дочери у нас опасно находиться, вы, мол, угрожали дочери, потому она и убежала, и вы должны честно в этом признаться. Тогда я объяснил Кромдайку, что мы хотим сделать заявление на работников Комиссии о подаче ложных сведений судье. В ответ мне: “Заткни пасть, иначе вообще выгоню. По закону ты никто, только биологический отец”. Ольга на это сказала, что мы можем высказывать свое мнение. И она как мать, и я как отец. Кромдайк с ехидной улыбкой ответил, что здесь, в бюро, им нельзя указывать, что и кто может. Второй полицейский сначала молчал. А потом вдруг тоже стал кричать и угрожать: “Будете много выступать – и второго ребенка заберем”» (С. 72).
«Ольгу временно лишили родительских прав на год. Это лишение прав означало, что ребенку назначается опекун, что родители не могут оказывать на ребенка никакого влияния, но по-прежнему несут за него полную ответственность. И финансовую в том числе: они вынуждены оплачивать содержание ребенка в приютах. Кроме того, решения в экстремальных случаях должны принимать опять-таки они, а не назначенный опекун. Например, когда дочь хотели положить в больницу, согласия на госпитализацию все равно требовали у Ольги» (С. 91-92).
«Люди в платьях судей лишают родителей детей, а детей – родителей. Эти организации ссорят семьи, вместо того чтобы их мирить, как декларируется в брошюрах. “Миротворцы” делают так, что потом дети и родители видеть друг друга не хотят. Я <…> видел и голландские семьи, пострадавшие от произвола Инспекции. У одной женщины было дело (весьма прибыльное): она занималась лошадьми. И она в конце концов осталась без ничего.
Детей отнимают либо у иностранцев – их используют как дармовую рабочую силу, либо у богатых голландцев – из них можно сосать деньги. И лишают их этих денег. Они уходят на переписку, на адвокатов, на содержание детей в приютах. И родителей попросту раздевают: те остаются без средств, но детей они до 18-летия так и не видят. А после 18-летия эти дети, завидев родителей, просто убегают от них.
Так вот, у этой женщины-коннозаводчицы дочь, с которой ее разлучили, работала после выхода из приюта в магазине кассиром. Когда мать вошла в магазин, девушка бросила открытую кассу и убежала. Как от “врага народа” во времена оные. До такой степени вливают в детей эту желчь работники, призванные защищать детство» (С. 95).
А вот описание механизма и последовательности действий тех инстанций, которые участвуют в процессе защиты детей от родителей. Из письма, которое Григорий Пастернак вручил судье: «Уже восемь месяцев я, как комиссар Каттани (герой популярного итальянского телесериала “Спрут”. – И.М., Т.Ш.) веду борьбу за правду и справедливость против легальной мафии, прикрывающейся высокими должностными лицами. <…> Это сплоченная группа, стряпающая “дела” против семей. Бовенс и Вассинк – ищут и заманивают детей, обещают родителям обследование, без разрешения родителей прячут ребенка в секретное место. Когда родители начинают жаловаться – переправляют ребенка в Комиссию.
Хафманс, Бюрен, Мадерн – подхватывают ребенка из лап Инспекции и дальше ведут “дело”, не стесняясь в средствах. Мадерн даже спрашивала, почему мы в Голландии, а не в Израиле, и предлагала нам адреса организаций, где мы можем решить вопрос о переезде в Израиль. Она же пыталась выпытывать у ребенка грязную информацию о родителях. Для этого она принесла дочке фрукты и различные подарки. Об этом мы узнали уже потом от дочки. Комиссия очень много говорила дочке о ее правах, но ни слова об обязанностях. Мадерн настраивала Ольгу против меня; говорила дочери, что мать (Ольга) не хочет ее видеть, а Ольге – что дочь не хочет видеть ее. Настроила дочь написать матери неприятное письмо на голландском языке, а потом использовала это письмо как документ.
Полиция по делам несовершеннолетних: “объяснили” ребенку, что в Нидерландах не обязательно идти домой к родителям, если ребенок этого не хочет. <…> Судьи по делам несовершеннолетних: Херретсе-Фиссер – выносит решение суда по документам, пришедшим на следующий день после принятого решения. Выносит решение предварительного опекунства без всяких на то оснований. Судья Де Хроот – без веских оснований продлевает решение суда о засекречивании адреса пребывания ребенка, выносит решение об опекунстве. В это же время дочь не посещает школу. Закон о всеобщем обязательном образовании бездействует. <…> Опекун Схаутенс: ее незаконно и безосновательно нам навязали. Она выполняла свою работу следующим образом: разрешила дочке находиться у Лорны Грази (той самой подружке, которая дурно влияла на Ирину. – И.М., Т.Ш.), несмотря на то, что не только мы (родители), а и классный руководитель бы против их “дружбы” даже в школе» (С. 115–117).
На суде опекун не выступала, но зато загодя уверила Ирину, что решение суда против родителей уже принято, а родителям сообщат об этом через две недели, чтобы они думали, что все будет серьезно рассмотрено.
«Ира, когда вернулась домой, много рассказывала о том, как жила в приютах, – пишет Г. Пастернак. – Она была недовольна этой жизнью. Сказала, что попалась на рекламу, считала, что там будет действительно так хорошо, как обещали. А обещали, что будет много лучше, чем дома. Живешь, мол, сам себе хозяин: никто не зудит, не говорит, что хорошо, что плохо. Квартира – своя, денег дают на еду и на развлечения. Хочешь – учись, хочешь – работай. А можешь вообще ничего не делать. Разве трудно соблазнить таким заманчивым предложением юное сердце?
А на деле? Одна большая ложь. И попытки всеми способами не допустить возвращения “реквизированного” ребенка в семью.
Даже во время второго суда (кстати, она присутствовала в зале) в помещении было оборудовано нечто вроде сцены, на ней устанавливалась ширма, за ширмой – дочь. Но мы об этом и не предполагали поначалу. Мы сидели, а судья задавал нам каверзные вопросы, для того чтобы мы что-нибудь наговорили на ребенка (а она бы это услышала). Но мы, естественно, ничего плохого не говорили, да и не могли сказать – и этот их план провалился» (С. 121).
Впечатляют и другие зарисовки, характеризующие тех достойных людей, которые изымают детей из семьи, и тех, которые заменяют изъятым детям родителей. Вернувшись из приюта, Ирина написала воспоминания о том, что с ней случилось за год, проведенный в отрыве от родных. «Там, кстати, описано, – говорит Г. Пастернак, – и то, как женщина, назначенная ей опекуном – вроде как бы “мамой” – приносила ей сигареты и убеждала, что ни в коем случае дочке не надо контактировать с родителями. <…> Она даже не поинтересовалась, как Ирина себя чувствует, когда та попала под машину. Даже посторонняя свидетельница этого происшествия – пожилая дама – пришла к Ире в больницу и поинтересовалась ее самочувствием. А та, которой это по должности положено, – нет» (С. 122–123).
Когда Ирина вернулась домой, опекунша позвонила и сказала ей: «Что ты наделала? Как теперь быть с твоим дальнейшим переселением от родителей?»
В книге дан краткий, но емкий портрет человека, который пытается воспитывать родителей: «Однажды… когда мы в очередной раз были в полиции, полицейский уговаривал меня, чтобы я не слишком реагировал на странное поведение дочери. На то, что она обратилась в Инспекцию. Говорил, что это просто такой возраст. Переходный подростковый возраст. У него, мол, самого дочь тоже курит, красится и принимает наркотики. Что ничего страшного. Потом пройдет. Просто в 14–15 лет все девочки становятся стервами. Ты, мол, плохо знаешь свою дочь и не умеешь ей доверять. Будто бы он своим “доверием” воспитал образец для подражания» (С. 128).
Актриса Наталья Захарова в своих интервью говорит, что во французской прессе на тему незаконного изъятия детей из семьи и «беспредела» ювенальных судей негласно наложено вето. Григорий Пастернак свидетельствует то же самое о Голландии: «Люди отчего-то очень злятся, когда спрашиваешь что-то на эту тему (о произволе, царящем в области защиты прав детей. – И.М., Т.Ш.). Все стараются не обращать внимания на негативные стороны жизни. Это мне напомнило время, когда я искал редакцию газет, где могли бы о нашем деле напечатать. Ответ из большинства редакций был следующий: “Нам это неинтересно, мы печатаем только положительное”» (С. 166).
(Окончание следует.)
Ирина Медведева, Татьяна Шишова
Метки: ювенальная юстиция |
Царство судей. Еще раз о ювенальной юстиции. Часть 1 |
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080630100000.htm
30 / 06 / 2008
«И что вас так пугает?..»
Когда сталкиваешься с каким-то новым сложным явлением, сколько его ни рассматривай, сколько ни анализируй, обязательно что-то упустишь из виду. Особенно если его суть старательно утаивают, и правду приходится добывать по крупицам, с большим трудом. Казалось бы, мы достаточно подробно разобрали, что такое ювенальная юстиция. Писали и про невозможность воспитывать детей, когда в них будет поощряться доносительство на родителей и педагогов. И про то, что в современном контексте понимается под правами ребенка. (Например, право на личную жизнь, включая ранние половые связи; право на выбор сексуальной ориентации или на свой стиль жизни, в том числе на стиль, связанный с наркотиками; право на досуг, который может протекать где и как угодно; право на информацию, которая может быть какой угодно, и т.п.).
Мы писали также, что жертвами ювенальной юстиции станут прежде всего культурные родители и неравнодушные педагоги, пытающиеся в очень трудных условиях, при нынешнем разгуле вседозволенности удерживать детей от соблазнов. Высказали предположение, что истцами, обращающимися в ювенальные суды, станут в основном избалованные, развинченные, демонстративные дети, а вовсе не истинные жертвы родителей-злодеев (которых, впрочем, вполне можно наказывать в рамках уже существующих законов). Писали мы и об опасности отказа от «репрессивного» подхода к несовершеннолетним преступникам на фоне заметного роста и «помолодения» преступности.
Однако самый, может быть, важный аспект ювенальной юстиции мы все же упустили из виду. А вернее, не имели возможности его увидеть, поскольку у нас не было данных, которые бы направили внимание в нужную сторону. И помогли нам заметить этот аспект сами защитники ювенальной юстиции.
Как-то раз в одной из оживленных дискуссий они дали, по их выражению, «алгоритм» действия этой новой системы. Текст, как и все подобные «общечеловеческие» казенные бумаги, был безупречно гладкий, гуманистичный, акцентированный на интересах ребенка. Если читать его по диагонали, он вряд ли чем-то насторожит.
Но мы будем читать его по-другому: внимательно, по пунктам, уже немного представляя себе тот реальный контекст, в котором эти пункты будут воплощаться. Итак: «Основой системы помощи детям группы риска вместо ведомственных структур становится судебное решение, содержащее индивидуальный план реабилитации конкретного ребенка».
Главной целью лоббистов ювенальной юстиции на данный момент является создание в России ювенального суда. Закон о ювенальном суде пока окончательно не принят, но уже прошел полпути – два чтения в Государственной Думе. В дебатах на тему, нужны ли нам ювенальные суды, обычно слышишь: «А что вас так пугает? Разве плохо, если делами несовершеннолетних будут заниматься специальные судьи в отдельном здании и даже на отдельном этаже?» То есть проблему пытаются свести фактически к территориальной, чтобы выставить тех, кто выступает против, какими-то идиотами. Действительно, что плохого в отдельном помещении?
Между тем в материалах «для внутреннего пользования» не раз проскальзывала мысль, что закон о ювенальном суде – это стержень, на который будут впоследствии нанизываться остальные законы, касающиеся прав несовершеннолетних. И что без введения ювенального суда коренные реформы в этой области невозможны. Так что речь, конечно, не только и не столько об отдельном помещении, а о гораздо более серьезных вещах, в которых мы и попытаемся разобраться.
«Основой системы помощи детям группы риска становится судебное решение»… Да… Похоже, реформа действительно коренная. В функцию судов, насколько мы понимаем, раньше входило определить степень виновности человека и, исходя из этого, назначить ту или иную меру наказания (или отпустить на свободу, если доказана невиновность). При рассмотрении гражданских дел, связанных с детьми (развод, определение, с кем останется ребенок, лишение в исключительных случаях родительских прав, раздел жилплощади), суд никакого плана реабилитации не назначал.
Но это пока не было ювенальной юстиции. А теперь, утверждают ее сторонники, «нужна система обязательной, а не добровольной, как сейчас, психологической реабилитации» («Информационная подборка к круглому столу по теме “Ювенальная юстиция в Российской Федерации: проблемы правового обеспечения”». Федеральное собрание РФ: Парламентская библиотека. 2007. Октябрь. С. 70). И «ювенальные суды должны в полной мере брать на себя воспитательную функцию хотя бы потому, что другие суды с этой функцией пока не справляются».
Ну и что, казалось бы, такого? Разве детей группы риска не надо реабилитировать, то есть помогать им исправиться? И чем плохо, если план исправления будет исходить от суда?
А тем, что решение суда обязательно к исполнению. Это вам не рекомендация врача, педагога или психолога, которой хочешь воспользуйся, а хочешь – нет. Конечно, бывают случаи, что решения суда не выполняются. Но это когда «хромает» механизм контроля за выполнением решений. Например, пока не заработал институт судебных приставов, взыскивать с ответчика денежную компенсация было порой весьма затруднительно. Когда же приставы появились, дело пусть не всегда гладко, но пошло. Касательно ювенальной юстиции можете не сомневаться, что контроль за выполнением решений будет налажен неплохо. Благо есть обширный международный опыт. Да и отечественный потихоньку накапливается в многочисленных пилотных регионах.
«Ну и что? – опять возникнет возражение. – Очень даже хорошо, что решение суда обязательно надо выполнять. Больше будет порядка. А то развели тут анархию, никто ни за что не отвечает…» Но порядки бывают разные. Некоторые ничуть не лучше, а то и хуже анархии. В современной западной реальности, откуда приходит к нам ювенальная юстиция, реабилитация подростков группы риска строится на вполне определенных принципах. Они, эти принципы, достаточно хорошо известны и у нас, поскольку десять с лишним лет длится в нашей стране противостояние таким, к примеру, реабилитационно-профилактическим программам, как «снижение вреда».
«Главная суть программ снижения вреда состоит в попытках внедрить заместительную терапию: заменить героин на тяжелый наркотик метадон с его последующим легальным ввозом. Такая практика применяется на территории ряда европейских стран. В России метадон запрещен. Российские медики считают, что наркотик героинового ряда метадон ничем не лучше героина. Генерал-лейтенант А. Михайлов из Госнаркоконтроля назвал представителей программ снижения вреда “откровенными пропагандистами наркомании”. Кроме заместительной терапии представители ВССВ (Всероссийской сети снижения вреда) устраивает растлевающие молодежь акции по раздаче шприцев на “полевых точках доверия”. То есть если ваш ребенок, на дай Бог, попробовал наркотик, представители вышеупомянутой программы любезно предоставят ему бесплатный шприц для следующей дозы под предлогом борьбы со СПИДом. Кроме того, в рамках программ снижения вреда делаются попытки легализовать проституцию в России и даже сформировать “трудовые династии секс-работниц” – как указано в издаваемом Всероссийской сетью снижения вреда бюллетене (2006, март, № 17). Представители ВССВ издают и распространяют огромное количество буклетов, обучающих “грамотному” сексуальному бизнесу и рекламирующих метадон. На обложке значится: брошюра выпущена АНО “Центр АнтиСПИД” при содействии фонда “Открытый институт здоровья населения” и при поддержке института “Открытое общество” (фонд Сороса – Россия) и департамента международного развития Великобритании» (Чалых М.А., член Центрального совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское родительское собрание». «Россия в объятиях Сороса»).
Сеть снижения вреда создала в интернете правозащитную библиотеку, заведующий которой Лев Левинсон выступает за смягчение наказаний для малолетних преступников. Естественно, на данном сайте размещаются и сообщения, касающиеся ювенальной юстиции.
Нет, конечно, есть и другие методы реабилитации. Например, усиленно рекламируемая сторонниками ювенальной юстиции отправка несовершеннолетних преступников в альпийский турпоход или принудительное посещение спортивной секции. (Подобные методы поддерживает и только что упомянутый Лев Левинсон. По его мнению, оптимальное воздействие на малолетних правонарушителей – «пробуждение у них позитивного интереса, когда общественная организация в качестве наказания за кражу или за драки наказывает подростка спортклубом, джаз-бендом, походами на байдарках; и даже ребенок-убийца может найти не надзирателя, а наставника и будет жить с ним на пасеке»).
В Швеции, где ювенальных судов не существует, но ювенальные подходы действуют вовсю, самым тяжелым наказанием является помещение в закрытый воспитательный дом, этакий своеобразный санаторий с замком на дверях. На выходные и праздники юных преступников отпускают по домам, периодически вывозят то покататься на лыжах в Альпы, то развлечься дайвингом на греческие острова. Правда, эффективность такой реабилитации, на наш взгляд, весьма сомнительна: треть осужденных малолетних преступников совершает повторные преступления в течение первых трех лет после наказания («Информационная подборка…». С. 72). Но мы сейчас не об этом, а о том, что в подобных «санаториях», можете не сомневаться, вкупе с турпоходами применяются все те же программы снижения вреда и программы сексуального просвещения, без которого образование в цивилизованных странах уже немыслимо.
По свидетельству очевидцев, столкнувшихся с реабилитационными программами, проводящимися по решению судов по делам несовершеннолетних во Франции и некоторых других европейских странах, в ряде программ в качестве «реабилитаторов» выступают уголовники, недавно выпущенные из тюрем. Считается, что для них общение с подростками – тоже своеобразная реабилитация.
Об участии в реабилитационно-профилактической работе с девиантными подростками наркоманов, «находящихся на пути к исцелению» (которое может длиться всю жизнь), даже как-то неудобно говорить, настолько это общее место в западной недирективной педагогике.
В объятия к дедушке Фрейду
В истории российской борьбы с растлением детей важную роль, помимо Православной Церкви и неравнодушных родителей, сыграли педагоги. Многие из них отказывались преподавать на уроках «теорию и практику секса» (выражение из учебной программы тех лет). Они созывали конференции, обращались по инстанциям, писали в газеты, присылали материалы на экспертизу. А еще больше учителей протестовало скрыто: не отказывались от преподавания какой-нибудь там валеологии, но ничего гадкого детям не сообщали. Не работали по той методичке, по которой их обязывали работать.
Ювенальная юстиция лишит их этой свободы неучастия во зле. Потому что «каждое судебное решение дает возможность корректировать поведение и функции отдельных служб и ведомств через механизм частных судебных определений». В переводе с юридического языка на обычный это означает, что если, например, несовершеннолетнего наркомана решат «реабилитировать» по программе снижения вреда, то педагоги, работающие в центре реабилитации, не смогут отказаться и применить вместо нее программу, больше соответствующую их профессиональным и нравственным понятиям. Ведь что такое «частное определение»? Это указание суда по какому-то конкретному поводу. В разбираемом случае – по поводу того, как следует поступать с несовершеннолетним наркоманом.
И уже бессмысленно будет созывать конференции и писать письма в РУНО, Минздрав или Госнаркоконтроль. Они не только не смогут повлиять на суд, но и в определенных случаях должны будут «скорректировать свое поведение и функции», подстраиваясь под судебный вердикт. Госнаркоконтроль, скажем, будет против программы снижения вреда (во многих регионах так оно и есть), а суд – за. И решение суда перевесит полномочия ведомства.
Или возьмем нейролингвистическое программирование (НЛП). Не все специалисты к этому методу относятся положительно. Верующие же психологи в массе своей и вовсе его отвергают, считая неприемлемым для себя манипулировать психикой пациента в обход его сознания и воли. Пока что психологи и социальные работники, занимающиеся коррекционной работой с детьми и подростками, вольны отказаться от этого или какого-то другого метода, вызывающего у них возражения. И никто их за это с работы не выгонит. Но если суд, разрабатывая конкретную программу реабилитации, найдет нужным применение НЛП либо, скажем, психоанализа, тут уже никуда не денешься. Или применяй, или увольняйся.
Кстати, в аспекте ювенальной юстиции уже совсем не абсурдным, а очень даже дальновидным представляется указ, подписанный самолично Б.Н. Ельциным, о том, что в России необходимо как можно шире распространять психоанализ. Когда-то нам казалось (о чем мы написали в статье «Башня терпимости»), что это неуклюжая попытка удружить кому-то из своих, а заодно хоть частично ослабить напряжение в обществе. Психоанализ ведь склонен объяснять беды и трагедии человека (в том числе и социальные) нижепоясными проблемами, обусловленными «ранними сексуальными травмами», вина за нанесение которых, как правило, возлагается на родителей.
Правда, в 1990-е годы сей метод не приобрел в нашей стране той популярности, на которую рассчитывали вдохновители указа. Не побежали обездоленные «совки» к психоаналитикам. Что поделать! Дремучий у нас народишко… Но если введут ювенальную юстицию, то перед отечественными психоаналитиками откроются широчайшие перспективы. Поскольку один из главных постулатов «ювенальщиков» – «во всем виноваты родители», то метод психоанализа подходит тут просто идеально. Тема родительской вины в нем разработана многопланово и в деталях. В Германии – по крайней мере, в 1990-е годы, но, думаем, и сейчас – он насаждался прямо-таки железной рукой. Психологи, с которыми мы там контактировали, жаловались, что им не оставляют свободы выбора: по страховке оплачивается лишь коррекционная работа по психоаналитическим методикам или по методу игротерапии. Конечно, если у тебя частная практика, ты волен работать, как тебе заблагорассудится, но далеко не все в состоянии приобрести лицензию, да и «клиенты» в массе своей не готовы платить. Широко применяется психоанализ и в других странах. Почему же в России, пытающейся взять за основу западную модель ювенальной юстиции, должно быть иначе?
Ну, а применение знаний в области «планирования семьи» может напрямую предписываться законом. Во всяком случае, статья 22 законопроекта «Основы законодательства о ювенальной юстиции» (под ред. Н. Мелешко) гласит: «В системе ювенальной юстиции должны работать специалисты, владеющие знанием социологии, педагогики… планирования семьи». Те, кто не будут владеть этими знаниями (и, соответственно, применять их в работе с подопечными), не смогут пройти аттестацию. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, кому будет отдана на откуп реабилитационная работа. Недаром бывший исполнительный директор Российской ассоциации «Планирование семьи» (РАПС) И.И. Гребешева высоко оценила в своем официальном отзыве законопроект о ювенальной юстиции.
Не позавидуешь и медикам, которым придется работать по указке ювенальных судов. Пробьют, например, в России применение риталина (метилфенидат, возбуждающее средство, производящее фармакологические эффекты, подобные воздействию кокаина и амфетамина) или метадона – будь любезен, применяй, забыв не только об индивидуальном врачебном искусстве, интуиции, но и о главной врачебной заповеди: «Не навреди!». Мало ли что риталин – препарат наркотический, после которого дети обычно «пересаживаются» на героин? А в решении суда сказано: «Применить». Еще вопросы есть? Иди и выполняй.
А ну-ка, возрази!..
Но не надо думать, что ювенальная юстиция создается только для малолетних наркоманов, хулиганов и преступников. «Ювенальный суд прежде всего рассматривает дела несовершеннолетних, находящихся в ситуации опасности, то есть детей, еще не совершивших правонарушений. Таким образом, реализуется профилактическая функция судебного решения».
В ситуации опасности, по отзывам специалистов, в России находятся практически все дети. Довелось как-то выступать вместе с бывшей (а может, и нынешней?) сподвижницей Е.Ф. Лаховой Э.С. Кумулдиновой, много лет проработавшей в аппарате Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей. Она весьма проникновенно говорила о том, что жизнь в России такая тяжелая, такое огромное количество социально незащищенных семей, столько сирот, бедных, многодетных, столько разведенных, столько алкоголиков, наркоманов и прочего негатива, что фактически 100% детей находится в ситуации опасности. «Ребенок в опасной ситуации» – это уже не просто фигура речи, а юридическое понятие, включенное в российское законодательство. А поскольку от опасности надо спасать, то таким спасением и занимаются во всем мире ювенальные службы. Суммируя вышесказанное, нетрудно сделать вывод, что когда ювенальная юстиция заработает (если мы допустим) в России на полную мощь, ее представители получат беспрепятственный доступ в каждую российскую семью.
Пока что социальный работник не может прийти в любой дом, рыться в шкафах, заглядывать в холодильник, допрашивать детей, как к ним относятся родители, не нарушают ли их права. Такое возможно лишь в исключительных случаях: или когда дети живут в действительно неблагополучных семьях, или когда они уже стоят на учете в милиции. Но большинство семей не относятся ни к той, ни к другой категории. Взрослые члены этих семей расценили бы такой приход «спасателей» как грубейшее вторжение в частную жизнь и не пустили бы их на порог. И что самое важное – никто им пока за это ничего не сделает!
В ювенальной реальности все по-другому. На Западе вы не можете не пустить к себе работников служб, которые занимаются защитой детей. А если не пустите, вам же хуже. Они ведь не просто приходят с инспекцией, а составляют рапорт, от которого зависит судьба вашей семьи. Напишут, что все у вас хорошо, – ребенок останется с вами. Придерутся к чему-нибудь – и у ювенального суда появятся веские основания изъять ребенка из семьи. Ведь его необходимо защищать от опасности!
Таким образом, практически любая семья лишается независимости. Твой дом уже не твоя крепость. Отец с матерью уже не главные в своей семье, а главные – сотрудники ювенальных служб, которые лучше знают, как правильно воспитывать ребенка, чем его кормить, чему учить, как лечить и одевать. Чтобы нас не обвинили в некомпетентности (этот аргумент обычно используют, когда нечего сказать по существу), сошлемся на заключение, составленное весьма компетентными юристами НП «Родительский комитет». Эти люди именно профессионально, пользуясь российским законодательством, противодействуют либеральным тенденциям, направленным на разрушение семьи. Выдержка из заключения: «В рамках проектов ювенальной юстиции родители превращаются из законных представителей, обладающих правом на преимущественное воспитание своих детей, в мишень для правовых органов и социальных служб. Не может не волновать каждого родителя то, что данными законопроектами ставится под угрозу независимость семьи, ее право самостоятельно решать вопросы семейной жизни, право родителей определять приоритеты воспитания и устройства семейной жизни, традиционные детско-родительские отношения, исходящие из подчинения младших старшим. Возможность неконтролируемого вмешательства разнообразных структур в дела семьи и ограничение естественного права родителей на воспитание ребенка в избранной ими системе ценностей ведут к размытию функций семьи, ее естественных прав на независимое и саморегулируемое устройство, нивелируют конституционные принципы, Закон о семье. К примеру, по мнению авторов проекта федерального закона “Об основах системы ювенальной юстиции”, предметом регулирования данного закона становятся “отношения, складывающиеся в ходе реализации и обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка судами, иными государственными органами, органами местного самоуправления при участии неправительственных организаций”». То есть родители не только фактически устраняются от решения вопросов защиты прав своих детей, но становятся предметом пристального контроля со стороны этих самых органов.
В интернете имеется примерный контракт одного муниципального образования с неправительственной организацией на продвижение ювенального проекта стоимостью более чем в миллион рублей. А ведь такие деньги надо освоить. Значит, нужны конкретные дети. Чем больше выделено денег, тем больше детей и родителей требуется вовлекать в эту систему (надзирать, проверять, лишать родительских прав и т.д.) (Раздаточный материал конференции «Родительское общественное движение: семья и образование» XVI Международных образовательных Рождественских чтений. М., 2008).
Изъять ребенка из семьи при переходе на ювенальную юстицию будет гораздо проще, чем сейчас. Пока что для этого нужны очень весомые аргументы, доказательства фактически преступного отношения родителей к детям. Но это только до тех пор, пока жив традиционный взгляд на семью. Пока общество и государство убеждены, что родную мать, даже не очень хорошую, никто не заменит. Что самые лучшие, самые богатые и образованные приемные родители не могут дать ребенку того, что дает ему кровная семья. И ее поэтому нужно сохранять до последнего.
Ювенальная юстиция смотрит на проблему совершенно иначе. Кровное родство – ничто или почти ничто. Недаром словосочетание «родная мать» так назойливо заменяется вроде бы более современным, наукообразным, а по сути оскорбительным – «биологическая мать». Потеря «биологической семьи» никакая не трагедия, неизбежно откладывающая отпечаток на всю последующую жизнь ребенка, а наоборот, это защита ребенка, находящегося в опасном положении. И чем скорее его удастся защитить, тем лучше. А поскольку современные родители якобы ничего не умеют (тема их несостоятельности, некомпетентности педалируется вовсю), опасную для детей ситуацию «ювенальщик» волен усмотреть на каждом шагу. Идеология и практика применения ювенальных законов таковы, что позволяют весьма расширительно толковать понятия прав ребенка, физического и психического насилия, а также опасной ситуации. Слишком многое тут зависит от настроя, взглядов и произволения судьи и сотрудников социальных служб. Мы хотим лишний раз подчеркнуть: корень этой коренной реформы в области защиты прав детей в том, что резко принижается, фактически обесценивается роль настоящих, кровных родителей. Ребенок искусственно вычленяется из семьи, наделяется приоритетными правами и противопоставляется родителям. Они же фактически лишаются права голоса и вынуждены подчиняться диктату всемогущих и всёведающих специалистов, которые не только не видят никакой особой разницы между родной семьей и приемной, а даже считают приемную семью предпочтительней, поскольку легко изымают детей из родной семьи и отдают в приемную или в приют.
Конечно, пока они еще не осмеливаются четко и определенно заявить об этом вслух. Могут, наоборот, уверять, что они всемерно стараются наладить, укрепить семейные отношения. Но реальность свидетельствует об обратном. Официальная причина, по которой у актрисы Н. Захаровой отняли во Франции, где она жила, выйдя замуж за француза, трехлетнюю дочь, – это «удушающая материнская любовь». Так было написано в решении суда. Вдумайтесь в этот вердикт! Мать сочли недостойной воспитывать свою девочку, потому что она слишком сильно ее любила. Разве можно себе представить, что в системе, сохранившей нормальный, традиционный взгляд на роль матери в жизни ребенка, особенно такого крошечного, избыток материнской любви стал бы основанием для отнятия дочери? В ювенальной же Франции подобные случаи отнюдь не единичны. Преступным в поведении Натальи Захаровой сочли и то, что она купила ребенку такую же кофточку, как себе. Сотрудники социальных служб обвинили ее в том, что она хочет подавить индивидуальность ребенка, сделать ее похожей на себя. У другой французской матери отняли сына за то, что она слишком долго, по мнению защитников прав несовершеннолетних, держала его без движения в прогулочной коляске. Она делала это, чтобы он не бегал по онкологической клинике, куда она приезжала вместе с ним навестить больную раком старшую дочку. Но ее доводы не были приняты во внимание. Кстати, дочку тоже отняли – заодно, реализовав, вероятно, таким образом, «профилактическую функцию судебного решения».
В Америке, где запрещено оставлять без присмотра детей до 12 лет, родителям предстоит серьезное разбирательство «за создание ситуации, опасной для жизни ребенка», если они отлучатся даже совсем ненадолго. «Российской матери бы и в голову не пришло вызывать няню или, как принято называть, беби-ситер, чтобы она присматривала за одиннадцатилетним ребенком, пока она будет выносить мусор», – пишет в апологетической статье «Полная free (свобода) под строгим соблюдением law (закона)» Джамиля Сайрамова (Учительская газета. Приложение «Модернизация – шаг в будущее». Вып. 4 (10).
Список родительских «злодеяний» можно продолжать до бесконечности. Все, что угодно, может стать основанием для отнятия ребенка. Было бы желание ювенального суда… В Австралии подросток решил отпраздновать свое 15-летие в «Макдональдсе», пригласив 30 человек гостей. Отец возразил, что это многовато, он такую сумму «не потянет». Мальчик пожаловался защитникам детских прав, и отец был поставлен перед выбором: либо он все-таки изыскивает деньги на детский банкет, либо ему придется распрощаться с сыном. Ребенок ведь не должен чувствовать себя хуже других. Если в их классе так принято отмечать день рождения, значит, отец своим отказом наносит ему психологическую травму. Соответственно, психическому здоровью подростка угрожает опасность.
Честно говоря, для нас долго оставалось загадкой, почему западные родители не восстают против растления детей под видом sex-education. Неужели они и вправду, как уверяют нас его сторонники, поголовно «за»? Случай с баварской школьницей прояснил ситуацию. Родители-католики, узнав, что их 15-летней дочке Мелисе Бусекрос демонстрировали на соответствующем уроке фильм с половыми актами, перестали пускать девочку на уроки. Администрация школы, озабоченная тем, что нарушаются права ребенка на получение образования и в том числе информации о здоровье (репродуктивном, сексуальном и, вероятно, нравственном, поскольку школьная программа утверждена наверху и по определению не может никого растлить), обратилась в соответствующие инстанции. Девочку отвезли к психиатру. Он поставил диагноз «фобия школы», возникновение которой, естественно, бросало тень на родителей. После обследования Мелису отправили домой, но через некоторое время, поскольку она упорствовала в своем нежелании ходить в школу, ее изъяли из семьи и поместили в клинику для душевнобольных. А что еще оставалось делать? Девочка впала в депрессию, пыталась покончить с собой. Когда же попытка не удалась, Мелиса написала письмо в группу защиты прав ребенка, умоляя воссоединить ее с родителями. Но, как было сказано в публикациях на эту тему (см.: интерент-сайты «World Net Daily», «Седмица.Ru», а также: «Православная газета для простых людей». 2007. № 2), власти не спешат вернуть девочку в семью, мотивируя это заботой о состоянии ее здоровья. За год до этого других немецких родителей и вовсе посадили в тюрьму за то, что их ребенок получал образование дома. В Германии, где сексуальное просвещение школьников обязательно (идеал, которого пока не удается достичь у нас), образование на дому считается тяжким преступлением.
Так что, похоже, единодушная или почти единодушная поддержка западными родителями детского секс-просвета и прочих либерально толкуемых прав ребенка (включая усиленно утверждаемое в последние годы право на выбор сексуальной ориентации) весьма сродни тому, как при тоталитарных режимах народ всегда единодушно одобряет очередные решения очередных партсъездов. Не потому, что народ такой монолитный, а потому, что рыпаться опасно.
Кстати говоря, случай с Мелисой прекрасно иллюстрирует еще одну специфическую особенность ювенальной юстиции: «Система ювенальной юстиции решает не проблемы детей вообще, но проблему конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации, что в конечном итоге позволяет решать проблемы детей вообще». Немецкие родители получили на конкретном примере несчастной Мелисы наглядный урок, который, можно не сомневаться, будет полезен и германским чиновникам системы образования в решении «проблем детей вообще», а именно: проблемы дальнейшего внедрения сексуально-просветительских фильмов в школы страны.
Продолжение
Ирина Медведева, Татьяна Шишова
Метки: ювенальная юстиция |
Чем женщина отличается от человека. |
Эта история не относитс напрямую к ЮЮ. Но в чем-то иллюстрирует сам принцип работы системы ради самой себя.
Александр Никонов
Как происходит защита женщин и детей в США:
Вот вам поразительная история о том, как одну женщину «защитили»…
История началась с того, что муж героини, придя однажды домой под хмельком, наорал на жену. Не бил. Просто наорал, потому что она ему что-то не в ту степь сказала. Дело было возле крылечка, на улице. Случайный прохожий позвонил по 911 с сообщением, что по такому-то адресу происходит насилие.
Пробив по базе дом и узнав, что у супругов есть дети, полиция после своего визита сообщила о происходящем в DSS (Department of Social Services – Департамент социальной защиты). Хотя детей эта мимолетная ссора супругов никак не задела – 16 летнего сына не было дома (он находился в отъезде), а 7 летняя дочь во время инцидента спала на верхнем этаже и ни о чем не подозревала.
Тем не менее, сигнал прошёл. И через некоторое время на пороге дома возникла работница Департамента. Она порекомендовала «избитой женщине» походить на психологические тренинги в общественную организацию «Дом независимости» – местное бабоубежище. Героиня в доступной форме объяснила работнице Департамента, что избитой женщиной она не является, что муж ею по жизни не управляет, не управляет он также и её деньгами, что былой конфликт давно исчерпан и что если она будет нуждаться в помощи, то прекрасно знает, как набрать 911.
Услышав все это, работница патронажа в полном соответствии с методическим пособием по работе с избитыми женщинами сделала в своем кондуите пометку – «женщина в отрицании». После этого на протяжении нескольких месяцев работница приходила к героине и уговаривала походить на тренинги в Дом независимости. Героиня отказывалась. И каждый раз после разговора с ней работница DSS заполняла строчки кондуита. Дело героини пухло на глазах.
В один из её приходов героиня сказала работнице службы соцзащиты, что, исключая тот единственный инцидент, когда муж наорал на неё, он обращается с ней очень хорошо, что они любят друг друга и вовсе не хотят разводиться. Выслушав все это, работница DSS записала в кондуит: «защищает обидчика, нуждается в лечении». После чего стала… жаловаться на своего бывшего мужа, говоря, что тот «тоже был насильником».
Выслушав эти признания соцработницы, героиня сказала, что в её случае ситуация, слава Богу, другая. Что с мужем у неё отношения прекрасные и он не насильник. В ответ работница сунула в руки героине «сервис-план» – предписание пройти особые психотерапевтические курсы в Доме независимости для того, чтобы «понизить отрицание» и «поднять чувство собственного достоинства».
Героиня вздохнула и ещё раз терпеливо объяснила, что не хочет идти на промывание мозгов. Работница взяла ручку и записала в её личное дело: «муж контролирует и держит в изоляции». После чего, понизив голос, предложила встретиться подальше от дома, чтобы героиня «могла говорить свободно». Всё это уже начинало напоминать паранойю.
Далее соцработница побеседовала с детьми. Дети сказали, что семья у них прекрасная, никакого насилия со стороны отца ни они, ни их мама не испытывают. И страха перед папой тоже не испытывают. После этого в личном деле героини появилась запись «вся семья находится в отрицании из страха перед мужем».
При очередном визите соцработницы, отвечая в тысячный раз на одни и те же вопросы, героиня попыталась зайти с другой стороны – она указала на то, что в городке её семью все знают и уважают. И что её дом находится на главной улице городка, рядом – здания полиции, суда, пожарная часть. Скрыть в таких условиях вопли, крики и прочие атрибуты домашнего насилия было бы просто невозможно. Так что лучше соцработнице не заниматься переливанием из пустого в порожнее, а найти настоящие проблемы. Скорбно поджав губы, работница записала в кондуит: «домашнее насилие не прекращается».
Нет, она вовсе не была злонармеренной или сумасшедшей, эта дура из DSS. Она просто внимательно изучила методичку, составленную для работы с избитыми женами. А составлена методичка так, что не даёт жертве вырваться: если женщина утверждает, что её бьют, значит, её нужно срочно изолировать от мужа в бабоубежище и/или выписать против мужа оградительный ордер (выселить его на улицу). Если же она утверждает, что муж её не бьёт, значит, у женщины «стадия отрицания» – она запугана мужем и её опять-таки нужно срочно увозить в бабоубежище на промывку мозгов, чтобы «понизить уровень отрицания».
Между тем преследование всё нарастало. Сменяя друг друга, работницы из DSS звонили героине, приезжали к ней домой и уговаривали встретиться на нейтральной территории, чтобы «поговорить свободно». Потом начались прямые угрозы…
Однажды позвонил работник Департамента соцзащиты и сказал, чтобы женщина немедленно пошла в суд и получила против мужа ограничительный ордер. Терпение героини лопнуло, и она вежливо послала служащих к такой-то матери, сказав, что семейная жизнь – её личная проблема и чтобы они перестали её беспокоить.
…Как она ошибалась! Семейная жизнь в Америке – давно уже не личное дело! А очень даже общественное. И то же самое, кстати, сейчас призывает сделать в России Маша Арбатова. Один из её любимых тезисов, украденных за океаном, – «нужно сделать личное – общественным, как в цевилизованных странах»…
Едва героиня положила трубку, как телефон зазвонил снова. Тот же голос предупредил, что если она не возьмёт ордер и не выселит мужа из дома, у неё заберут детей. Пришлось идти.
В суд героиня пришла вместе с мужем. Судья удивился и сказал, что впервые видит такое – чтобы супруги вместе приходили за ограничительным ордером. Героиня объяснила, что её преследует DSS. Судья поморщился и признался, что он сам не в восторге от диктата DSS в своём су-де, но если он не выдаст ордер, героиню совсем затретируют. И выдал ордер сроком на год.
Увы, получение ордера не спасло героиню от киднеппинга. Напротив, со стороны DSS это был только хитрый ход! Потом, после того как они все-таки украли у героини ребёнка и поместили девочку в приют, работники DSS размахивали этим ордером в суде как козырной картой: видите, она сама просила суд выселить насильника из дома! Обстановка в доме нездоровая!.. Впрочем, не будем забегать вперед.
Через несколько месяцев (!), когда героиня уже и думать забыла об этой истории, в её дом вошли две строгих дамы из Департамента SS. Сохраняя абсолютно суровое выражение лица, они сказали, что сейчас будут спасать женщину, – та только должна взять узелок с вещами, забрать детей, и они немедленно пойдут, как выразились эсэсовки, «в секретное место». Не бойтесь, сказали они, мы не дадим вам контактировать ни с кем из вашего бывшего окружения – никто вас не найдёт.
– А если вы с нами не пойдете, наш юридический отдел начнёт процедуру по изъятию ваших детей.
Разговор слышал 16 летний сын героини. Он сказал эсэсовкам, что если они заберут 7 летнюю девочку, это нанесет ей сильную психологическую травму, поскольку ребёнок очень привязан к родителям. В этот момент как раз пришла из школы девочка. Увидев чужих теток, она спряталась за маму. Девочка была так напугана, что даже не хотела утром следующего дня идти в школу. Мама успокоила её и сказала, что папа с мамой девочку любят и никому-никому её не отдадут.
Девочка была похищена из школы. Её арестовали прямо в классе во время урока и посадили в приют.
– Теперь-то, милочка, вы у нас будете посещать Дом независимости, иначе никогда больше увидите своего ребёнка! – радовались работники SS (Так у автора!!!) .
Героине пришлось покориться. Отныне она стала практически поднадзорной, каждую неделю женщина была вынуждена отмечаться в общественной организации – Доме независимости. Каждый прогул добавлял бы ей штрафных очков и снижал шансы на встречу с дочерью. Кстати, в личном деле героини было отмечено, что она обратилась к промывщикам мозгов по собственной инициативе.
Женщины, посещавшие собрания «избитых женщин» в Доме независимости были, по словам героини, «в основном одержимы, невротичны и мстительны». Большинство из этих женщин развелись со своими мужьями 7–8 лет назад, но исправно продолжали посещать бабоубежище. «Они были настолько фанатичными и одержимыми, что просто пугали меня, – рассказывает героиня. – Некоторые раскачивались на полу и слегка подвывали, другие сворачивались в позу эмбриона и громко кричали на протяжении всего собрания».
Собственно, доведение женщин до состояния перманентной ополоумевшей жертвы и было целью секты под названием Дом независимости. Вместо того чтобы купировать их постразводное состояние, местные психологи пролонгировали его – порой на долгие годы. Потому что для секты главное – не терять клиентуру. И если для этого нужно сделать из человека завывающего идиота, почему бы не сделать?
Причем, что самое любопытное, – многие женщины признавались героине, что мужья никогда не причиняли им никакого физического насилия! Они просто не соглашались с женами по тем или иным вопросам. Последнее было расценено женщинами как насилие – и привело их в каморку бабоубежища. Ещё любопытнее, что некоторые из женщин «даже не знали, что с ними плохо обращаются, пока им не объяснили этого в Доме независимости».
…Спасибо добрым людям, подобрали, обогрели…
«Я чувствовала себя так, словно я была в аквариуме с пираньями во время кормленья, – рассказывает героиня. – Бывали вечера, когда вся группа находилась в состоянии депрессии, хором плача и рыдая. Время от времени мне казалось, что я вот-вот начну орать. Чтобы спастись от этого сумасшествия, я хотела просто начать составлять список покупок на листке бумаги. Но служащая сказала мне, что писать не разрешено… поскольку моего ребёнка держали фактически в качестве заложника, я готова была делать всё, что мне приказывали».
Каждую неделю нашей героине звонил Ларри Уэйдбонкер – её личный надзиратель из DSS – и ругал её за то, что героиня не поддаётся психологической обработке. И что если у героини не будет «прогресса», ей ни за что не вернут ребёнка. Героиня однажды попыталась рассказать надзирателю, какой кошмар творится в бабоубежище, но он резко оборвал её словами: «Нет! Это не то, что на самом деле происходит в Доме независимости!»
Кстати, в бабоубежище героиню уверили, что всё, рассказанное женщинами на психологическом тренинге, является тайной и за пределы комнаты, где встречается группа, выйти не может.
Это типа как врачебная тайна, успокойтесь, будьте откровенными… Однако вскоре наша героиня заметила, что сказанное ею на собраниях становится известным чиновникам DSS. Когда чиновники укоряли героиню в плохой работе в группе, они почти дословно повторяли слова героини, сказанные ею на тренингах в бабоубежище. Две подряд разборки с директором бабоубежища Натали Дупресс ни к чему не привели: директриса «ушла в отказ» – напрочь отрицала возмож-ность стука в органы.
Тогда героиня решила провернуть чисто разведчицкий приём – пустить дезу. Она на тренинге говорила какую-нибудь ахинею про себя, а потом ждала возврата. И ахинея возвращалась к ней. Со стороны чиновников Департамента, разумеется.
…В конце концов, видя такую несгибаемость и настырность «пациентки», бабоубежище сдалось и отпустило её с миром. Заправилы секты просто испугались, ведь героиня могла запросто начать рассказывать клиентам, что их речи попадают не только в уши психологам, но и транслируются прямиком в органы. И потом могут быть использованы против них же.
Читатель может задать вопрос: в чем же причина такой подозрительной любви Департамента SS к общественной организации. Она проста – бабки. Дом независимости финансируется следующим образом: две трети всех денег в бюджет бабоубежища поступает по разнарядке DSS через Департамент здравоохранения, треть – от частных пожертвователей. В течение года Департамент SS перечислил «борцам с насилием» 13 миллионов долларов. Вот за что идёт борьба! Вот в чём причина любви к насилию! Насилие кормит борцов с насилием. Именно поэтому борцы и выискивают это насилие там, где его нет, выкручивая руки судам и властям, ломая людские судьбы.
А вы думали, в бабоубежищах работают голозадые фанатички? Возможно, всё и начиналось с фанатичек. Но теперь фанатичные профборцы с мужской тиранией ездят на «Лексусах» и пилят бабки, откатывая Департаменту SS, который поставляет им клиентуру. Больше клиентуры – больше финансирование. Отсюда приписки, искусственное раздувание статистики жертв… Отличный симбиотический бизнес – DSS + Дом независимости!
Нашей героине ещё повезло. Обычно если женщина начинает артачиться, DSS через суд ли-шает её родительских прав. Причем настаивать в суде на необходимости этой меры соцработники будут с помощью следующих аргументов:
1) женщина посещала убежище, значит обстановка в семье далека от нормальной (при этом сам же Департамент и вынудил её туда пойти под угрозой киднеппинга);
2) женщина получила ограничительный ордер на мужа (сам же Департамент заставил женщину добиться этого ордера под угрозой того же).
Впрочем, иногда женщина может отделаться малой кровью: её не лишают детей при одном условии – если она разведётся с мужем. Вот как об этом пишет наша героиня, навидавшаяся видов в SS: «Женщинам приказывают бросить мужей даже при полном отсутствии реального домашнего насилия или плохого обращения со стороны мужа. Им велят не позволять отцам видеться с детьми, – в противном случае DSS снова выдвинет обвинение в плохом отношении к детям. Женщинам приказывают покинуть дома и порвать все контакты с друзьями».
Последнее нужно, чтобы окончательно вырвать женщину из привычного круга, лишить всех прежних зацепок и превратить в послушное орудие. Оказавшись в пустоте, женщина понимает, что надеяться ей, кроме как на своих мучителей из DSS, больше не на кого. И для того, чтобы получить кров над головой, продуктовые талоны, медицинскую помощь, наличные деньги, она должна утверждать, что была жертвой домашнего насилия. В противном случае она окажется на улице (если ты не жертва, что тебе делать в убежище?). И, разумеется, в этом случае детей из гуманных соображений у неё отберут (не могут же дети жить на улице!).
…Бог весть, сколько матерей по всей Америке сейчас разлучены со своими детьми и сколько плачущих детей оказались в сиротских приютах только ради того, чтобы работники бабоубежищ, созданных феминистками, продолжали кататься на своих «Лексусах»…
Серия сообщений "ЮЮ за рубежом":
Часть 1 - Норвегия - без права критиковать темно режимов
Часть 2 - Социальные службы украли детей ночью!
Часть 3 - О защите детей - Норвегия
Часть 4 - В первый день после...
Часть 5 - Чем женщина отличается от человека.
Часть 6 - Два папы и я – здоровая семья
Часть 7 - Британские супруги, у которых по ошибке отобрали детей, не получат их назад
...
Часть 11 - Преследуемые сужбой защиты детей
Часть 12 - Норвегия: Комитет по защите прав детей (Barnevern) против детей
Часть 13 - Ювенальная Юстиция, дети и родители - как воспитывать ребенка - Германия
|
|
Ювенальная юстиция - это доносы детей на родителей и учителей. |
http://oodvrs.ru/article/index.php?id_article=197
В данной статье я с некоторыми комментариями изложу два доклада: "Мифы ювенальной юстиции" и "Омбудсмены - тайная канцелярия в школах России", сделанные известными российскими детскими психологами и писательницами Ириной Яковлевной Медведевой и Татьяной Львовной Шишовой. Оба доклада поднимают одну тему, поэтому не вызывает труда их объединить.
Ювенальная юстиция, которая сейчас как эксперимент вводится в некоторых регионах, - это весьма опасная инициатива. Она, как и пресловутый секспросвет, прячется в гуманистическую оболочку и направлена на несовершеннолетних. Ей принадлежит очень красивый девиз: "Семья существует для ребёнка".
Упор ювенальной юстиции делается, якобы на реабилитацию "трудных" подростков. Основополагающий "научный" довод для неё - измышление о том, что наказание и запреты в воспитании ничего не дают и являются сутью репрессивного мышления. Этим ложным доводом, к сожалению, сегодня заражены многие, хотя никто точно не может сказать, где, когда и кем был выведен этот социально-психологический "закон".
Если взять отечественную педагогику, применяемую в воспитании "трудных" подростков, например, авторитетные макаренковские методы, то наряду с трудовым воспитанием и доверием к личности, мы находим и наказание. Если рассматривать опыт других стран, то там тоже видим: ужесточение наказаний за преступления и система запретов дают положительные результаты. В США недавняя так называемая профилактика курения увеличила число курильщиков, о чём свидетельствует статистика. А последующие запреты и штрафы уменьшили число курящих.
Вся история человечества говорит о том, что система запретов и наказаний необходима не только, пока ребёнок растёт и набирается ума, но и во всю его последующую жизнь. Человек - носитель злого и доброго. И только тогда, когда в обществе существуют чёткие указатели на то, чего делать нельзя, иначе: свято соблюдаются Божии заповеди, когда общество способно законодательно оградить себя от проявления злого в индивидууме, только тогда можно надеяться, что человечество не вымрет, не превратится в стадо животных.
Те, кто активно продвигает ювенальную юстицию в российское общество, по существу ловко манипулируют сознанием масс, говоря об особой "реабилитации" малолетних преступников. Они провозглашают приоритеты прав ребёнка. И это даже вроде хорошо звучит. Но задумаемся: ведь это приоритеты над чьими-то правами. Защитники ювенальной юстиции в некоторых публикациях даже договариваются до того, что любой ребёнок всегда прав, а родители, учителя, другие взрослые, которые его неправильно воспитывают, неправы. Но что получается на самом деле? Для детей с девиантным поведением понимать, что они во всём правы и ни за что не будут наказаны, значит вдохновлять их на дальнейшие проступки и преступления.
Любой ребёнок, пока не стал самостоятельным и дееспособным человеком, нуждается в твёрдой взрослой руке, в том, чтобы кто-то самые серьёзные жизненные решения принимал за него. А девиантный ребёнок нуждается в жёсткой взрослой руке. Но нам предлагают совсем опустить эту руку. И что? Подросток всё равно будет её искать. И найдёт, но не там, где нужно.
Ювенальная юстиция - это совершенно другая система взаимоотношений родителей и детей, педагогов и учащихся. Ведь приоритетность прав ребёнка даёт ему возможность подавать в суд на взрослого. В экспериментальных регионах это уже практикуется, и детей давно втихую (по всей стране!) информируют об их преимущественных правах перед всеми взрослыми, чем отменяется пятая заповедь о почитании родителей.
Психологи особо подчеркнули, что дети, которые действительно испытывают жестокость со стороны родителей или других взрослых, никогда не подадут на них в суд, потому что запуганы. Пример с усыновлённым ребёнком в США, которого приёмные родители долго истязали, а общество узнало об этом только тогда, когда варвары-"родители" отрезали ему ухо.
Не дитё, а другие взрослые должны бить тревогу об этом. А ювенальная юстиция реально даёт права тем подросткам, которые научились, или которых научили "качать" эти самые права. Это дети истеричные, демонстративные, своевольные, избалованные.
В законодательстве нашего государства то разрешено, что не запрещено. И тому, как этим пользуются, есть немало примеров. Например, достаточно фактов, связанных с гомосексуализмом. Гейпарады сегодня идут во многих крупных городах. Или наркомания. Она у нас не запрещена, значит - разрешена. Любой подросток может быть наркоманом, и его за это никак не накажут.
Более того, многие недобросовестные или просто неграмотные взрослые предлагают ребятишкам делать "свой выбор" относительно наркотиков, гомосексуализма и раннего начала половой жизни. А "свой выбор" в условиях ювенальной юстиции - это детский беспредел и абсолютная беспомощность взрослых.
Как такое выглядит в жизни? Ребёнок имеет право не хотеть учиться. А родители не имеют права поощрять его к этому отеческим наказанием. Между тем, мы на собственном опыте знаем, что многие дети, прежде всего мальчики, дозревают до осознания необходимости учёбы позже других, ближе к старшим классам. Или ребёнок имеет право пойти на сомнительную вечеринку, не ночевать дома, вступить в половую связь с кем-либо. А родитель не имеет права выставить этому какие-либо запретительные меры или наказание. Он рискует оказаться за решёткой, как родитель, совершивший преступление.
Нашему правительству международным сообществом, вернее, определёнными заинтересованными кругами предлагается подписать так называемую Социальную хартию, одно из положений которой предполагает обязательное сексуальное просвещение в школе, то есть преподавание знаний и навыков "безопасного" секса, научение бесстыдству и разрушение охранительного для детской психики целомудрия. И ювенальная юстиция объявит вне закона тех, кто будет препятствовать всему этому.
Недавний пример из жизни германского общества. У почтенных родителей, проживающих в Баварии, отобрали дочь только за то, что они запрещали ей посещать уроки сексуального просвещения. Девочку насильно изъяли из семьи, хотя она не хотела расставаться с родителями. Живя отдельно от них, просила, чтобы её вернули в семью. Но её просьбе не вняли (вот она, другая сторона "прав" детей!). И девочка предприняла попытку самоубийства. Только поэтому общество узнало эту историю.
Ювенальная юстиция в Западных странах, как говорится, набирает обороты. Там родителей подводят под статью, если они вместо сумки на колёсах купили своему малышу ранец, который "вредит" его здоровью, если отпустили гулять ребёнка без взрослого сопровождения. Чувствуете, к какому общечеловеческому финалу это ведёт? Авторитета семьи, а значит, и самой семьи не должно быть. Есть государство, которое более чем кто-либо "заботится" о детях. Оно устанавливает для всех единые правила жизни, невзирая на семейные и национальные традиции, родственные привязанности, а в дальнейшем - и на границы. Единое государство - без каких-либо (не только географических) границ! Понятно, что в данном контексте речь идёт не только об огосударствлении детей. Речь идёт о манипулировании всем человечеством через систему определённых, специально написанных, в красивую обложку упакованных законов о взаимоотношениях между самыми близкими людьми.
Далее рассмотрим повнимательнее, вместе с клиническим психологом И.Я.Медведевой, какие процессы, благодаря ювенальной юстиции, произойдут и уже происходят в семье и в школе, а затем и в глобальном масштабе.
Воспитание детей практически станет невозможным. "Отвязанные" дети не дадут родителям жить. К тому же, они доносчики. А раз первый ребёнок растёт неуправляемым, и закон не разрешает им управлять, то кто же решится на второго и третьего?! Это один из наилучших рычагов в сдерживании рождаемости и в формировании пресловутого "золотого миллиарда" планеты.
Как затронет ювенальная юстиция российскую среднюю школу? Уже сейчас многие преподаватели жалуются, что они боятся делать замечания подросткам. Это результат той работы, которая многие годы исподволь проводится среди наших детей по формированию у них "правильного" отношения к сексу, наркомании, гомосексуализму, когда им говорят, что они сами в праве делать "свой выбор" и постоянно напоминают о праве на информацию, которое записано в Международной конвенции. Правда, для детей не уточняется, что эта информация не должна быть вредной для их здоровья и развития.
В ближайшем будущем нашу школу может ждать ещё одна грустная картина. Как, например, в США, где в школах дежурят "команды "стоп" из полицейских. Учитель не имеет права как-либо наказать школьника, даже выставить его за дверь. Если ученик сильно расшалился, мешает учебному процессу или ударил, оскорбил самого учителя, то преподаватель может вызвать команду полицейских, и только она имеет право вывести подростка из класса или применить к нему другие меры.
Сейчас по западным школам, а кое-где уже и в России, начинают вводиться так называемые "омбудсмены" или специальные уполномоченные, а проще - "правозащитники" детей, непосредственно связанные с государственными правозащитниками, а те в свою очередь - с международными. Уполномоченный не боится ни директора школы, ни родителей. Он собирает анонимную информацию от детей на директора школы, преподавателей и родителей. Причём, в этой анонимной информации заранее предполагается абсолютная правота "беззащитных, попираемых всеми", маленьких, социально-уязвимых граждан страны, которых в современных условиях должно быть всё больше и больше. Опять же, кто из детей пойдёт на контакт с омбудсменами? В первую очередь те, кому не нравится порядок.
- Юристами и психологами России достаточно изучен закон ювенальной юстиции, - сказала Ирина Яковлевна, - его разрушительное влияние на наши семьи, устои и традиции, его пагубное влияние на безопасность страны. Мы не должны его пропустить.
Проталкивают этот закон в Россию всем известная Екатерина Лахова, а также руководитель комитета по социальной защите Валентина Петренко и член общественной палаты, активный помощник Лаховой, Олег Зыков.
О последнем из них следует сказать особо. О.В.Зыков возглавляет молодёжный центр, существующий при Свято-Даниловом монастыре. Имея активную и бурную натуру, этот человек смог ввести в заблуждение многих, он направил личное письмо президенту В.В.Путину с просьбой принять ювенальную юстицию. Этому человеку ничего не стоит говорить от имени Русской Православной Церкви там, где его недостаточно хорошо знают, и ему могут поверить.
У Олега Зыкова есть работа "12 шагов" о так называемой независимой реабилитации наркоманов, которая, по мнению иеромонаха и доктора медицинских наук Анатолия Берестова, по меньшей мере, не представляет ценности.
Закон ювенальной юстиции прошёл в нашей стране уже два чтения. В Интернете о нём очень мало конкретной информации. Родители-юристы Бурятского отделения всероссийского родительского Движения активно искали сведения о нём, но они весьма скудны. Надо полагать, им просто не дают, до определённого времени, просочиться в широкую аудиторию, чтобы принятие закона в нашей стране прошло под шумок, без обсуждения в обществе.
Что можем мы в создавшихся условиях? Прежде всего, поспешить рассказать обо всём другим родителям, учителям. Необходимо поднимать этот вопрос на родительских собраниях, собирать подписи против принятия Госдумой РФ закона ювенальной юстиции.
В Центральном Совете нашего Движения, я надеюсь, тоже поспешат с общероссийской родительской акцией, так как именно к этому и призвали всероссийское родительское собрание докладчики Т.Л.Шишова и И.Я.Медведева.
Любовь Шигина,
председатель БРО
ООД "Всероссийское родительское собрание".
Метки: ювенальная юстиция |
ДОКЛАД О стратегических оценках последствий изменений климата в ближайшие 10-20 лет |
Наблюдения за состоянием климата на территории Союзного государства проводятся гидрометеорологическими службами России и Беларуси на базе сети наземных метеорологических станций, образующих единую государственную сеть наблюдений, по единым методикам. Оценки изменения состояния климатической системы проводятся на основе сравнения данных ежегодных наблюдений со среднеклиматическими характеристиками за предшествующие годы, а также климатическими нормами, вычисленными по 30-летним периодам предыдущих рядов наблюдений. Оценки ожидаемых изменений климата и проявления их последствий для природной среды и экономической деятельности являются результатами научных исследований, основанных, как правило, на результатах расчетов по климатическим моделям.
Достоверность прогностических оценок изменения климата, связанного с антропогенным воздействием, на короткий период (до 10-20 лет) является весьма высокой и мало зависит от сценариев эмиссий парниковых газов в первые десятилетия 21-го века. Это подтверждается близостью оценок, полученных по различным климатическим моделям для разных сценариев антропогенных эмиссий как российскими и белорусскими, так и зарубежными исследователями (рис.1).
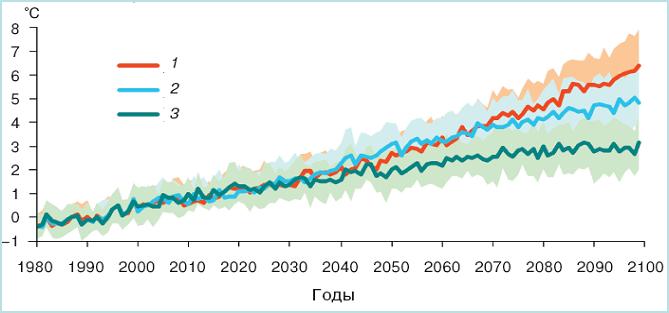
Рисунок 1. Изменение средней годовой температуры приземного воздуха (°С) на территории РФ в 21-м веке по отношению к базовому периоду (1980–1999 гг.) для сценариев А2 (1), А1В (2) и В1 (3). Жирные линии характеризуют средние распределения по ансамблю из 16 МОЦАО CMIP3. Цветом выделены области стандартных отклонений, характеризующих межмодельный разброс.
Наблюдаемые изменения климата на территории Союзного государства характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, при одновременном увеличении интенсивности экстремальных (ливневых) осадков, в том числе в регионах с нарастающей засушливостью.
Годовой сток большинства крупнейших рек Союзного государства увеличивается (рис.2). При этом на реках восточной части РФ увеличились частота и мощность наводнений, обусловленных заторами льда. Годовой сток большинства крупных рек Беларуси увеличился на 5-20%, за исключением Немана и Западного Буга, где наблюдается уменьшение стока от 10 до 25%. Основной особенностью современных изменений сезонного стока рек является увеличение водности в зимний сезон практически на всей территории. Наиболее четко рост зимнего стока прослеживается для Европейской территории России от верхней части бассейна Северной Двины до низовьев Дона и Волги. Здесь для большинства рек выявлены значимые положительные тренды зимнего стока при доверительной вероятности 95%. Следует особо подчеркнуть, что реакция стока на происходящее потепление, в зависимости от конкретных физико-географических особенностей регионов, далеко не однозначна. Так, для рек западной части страны, на общем фоне повышения водности, очень четко прослеживается значительное увеличение вариации стока зимних месяцев (рис. 3). Здесь, наряду с очень высоким зимним стоком, формирующимися в период участившихся длительных оттепелей, в отдельные холодные зимы с устойчивыми отрицательными температурами воздуха сток, в том числе и минимальный, резко снижается достигая наименьших значений, наблюдавшихся за предшествующий многолетний период. В последнее десятилетие в ряде регионов страны прошли выдающиеся паводки при которых отмечались самые высокие максимальные расходы воды за весь многолетний период наблюдений.

Рисунок 2. Аномалии среднего годового стока рек за период 1978–2005 гг. (процент нормы за 1946–1977 гг.).
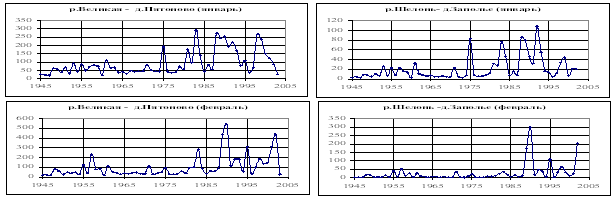
Рисунок 3. Динамика стока зимних месяцев рек западной части Европейской территории России (м3/с)
На многих участках криолитозоны происходит повышение температуры верхнего слоя многолетнемерзлых грунтов и увеличение глубины сезонного протаивания.
Во второй половине XX века в Северном полушарии наблюдалось сокращение площади морского льда на фоне значительной межгодовой изменчивости. Особенно быстро в последнее тридцатилетие сокращалась минимальная в сезонном ходе (сентябрь) площадь морского льда. Абсолютный минимум площади льда за весь период наблюдений был достигнут в сентябре 2007 г. (рис. 4)

Рисунок 4. Площадь морского льда в Северном полушарии (млн. км2) по данным Национального центра данных о морском льде США в сентябре за период 1979–2008 гг.
Опасные гидрометеорологические явления демонстрируют тенденцию роста (рис.5). По оценкам экспертов Всемирного банка (2005 г.) ежегодный ущерб от воздействия опасных гидрометеорологических явлений на территории России составляет 1-2 млрд. долларов США, в Республике Беларусь – порядка 90 млн. долларов США.
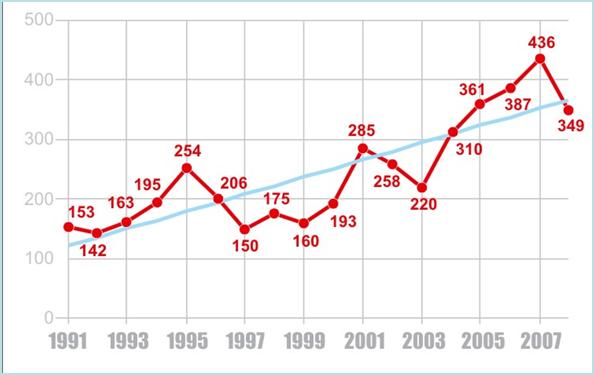
Рисунок 5. Распределение суммарного числа случаев опасных явлений на территории РФ за 1991–2008 гг.
Ожидаемые в ближайшие десятилетия на территории Союзного государства изменения климата, в целом, продолжат тенденции, наблюдавшиеся в последние десятилетия, а по своим масштабам и интенсивности с высокой степенью вероятности будут их превосходить.
В 21-м веке средняя температура приземного воздуха в целом по территории Союзного государства будет продолжать повышаться. Наибольшего потепления следует ожидать в Сибири и в северных регионах Союзного государства, а также в Арктике. На фоне среднего потепления в 21-м веке практически повсеместно увеличивается число дней с экстремально высокими суточными температурами, а также продолжительность непрерывных эпизодов с экстремально высокой температурой – волн тепла.
Зимой на территории Союзного государства повсеместно ожидается рост осадков. Летом осадки будут увеличиваться только в средней полосе и на севере России. В Республике Беларусь летом можно ожидать несущественное увеличение осадков в отдельные месяцы. В южных регионах Союзного государства, прежде всего – российских, следует ожидать развития засушливых условий. При этом в ряде регионов, в том числе засушливых, летом ожидается рост интенсивности ливневых осадков. В тех регионах, где уже существует достаточное или избыточное увлажнение, будет происходить увеличение водных ресурсов (рис.6). В Сибири, где преобладают твердые осадки, масса снега будет возрастать, в результате чего в сочетании с ускорением ее таяния весной увеличивает риск наводнений.

Рисунок 6. Изменение водных ресурсов (стока рек) к середине 21-го в.: (%, по отношению к 1980-1999 гг.).
Деградация многолетней мерзлоты и сокращение ледяного покрова Северного Ледовитого океана продолжатся в течение всего 21-го века, причем в некоторых расчетах к концу 21-го века Арктика летом может полностью освобождается от морского льда.
Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата различных частей территории Союзного государства, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и экономическую деятельность. Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления), и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство, энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), водопользование и водопотребление, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также – на здоровье людей.
При выработке мер по обеспечению устойчивого развития регионов в условиях меняющегося климата необходим совместный учет региональных особенностей изменений климата и особенностей структуры и направлений развития экономики и социальной сферы в регионах Союзного государства. Применительно к каждой из сфер экономики конкретных регионов предполагаемые изменения климата могут оказать как позитивное, так и негативное воздействие.
Сельское и лесное хозяйство
Ожидаемые климатические изменения для территории Беларуси и Нечерноземной зоны ЕТР в целом являются положительными. Прогнозируемый рост теплообеспеченности и продолжительности вегетационного периода (рис. 7) при достаточном увлажнении способствует расширению и улучшению структуры растениеводства, продвижению на север традиционных агроклиматических зон.
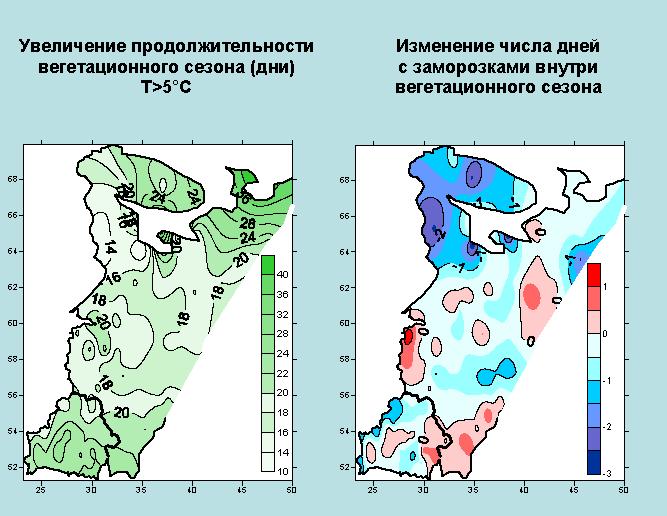

Рисунок 7. Увеличение продолжительности вегетационного сезона (дни, слева) и теплообеспеченности (суммы активных температур >10°С, °С, справа ) на территориях Республики Беларусь и российского Нечерноземья к 2030 г.
В частности в Республике Беларусь на юге Полесья образовалась новая более теплая агроклиматическая область (рис.8). В Российской Федерации граница выращивания среднеспелых сортов кукурузы и позднеспелых сортов подсолнечника продвигается к северу до широты Москвы – Владимира – Йошкар-Олы – Челябинска. Складываются благоприятные условия для расширения посевов озимых культур на Северном Кавказе, в степных районах Поволжья, на Южном Урале и в отдельных районах Западной Сибири. Продолжится улучшение условий перезимовки озимых культур; снижение затрат на стойловое содержание скота, вызванных повышенным температурным режимом в зимние и первые месяцы весеннего периода; более раннее наступление весенних процессов и сроков сева яровых культур; ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки. Вместе с тем, наблюдающееся потепление в ряде регионов азиатской части России не всегда сопровождается повышением урожайности.
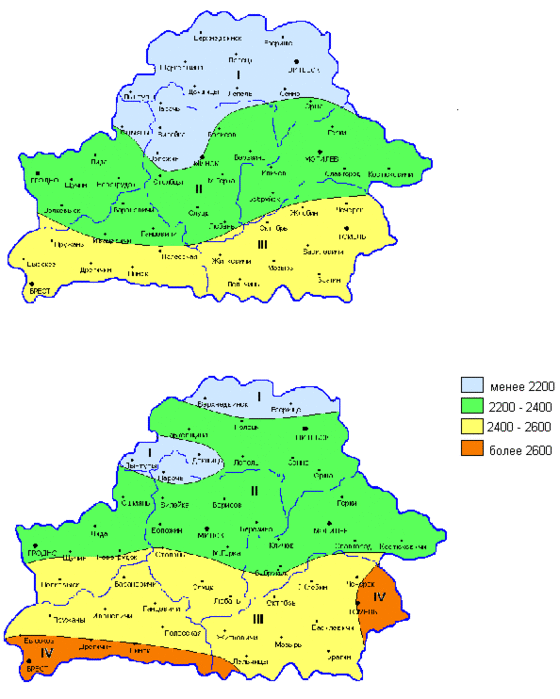
Сумма температур воздуха выше 10ºС
Рисунок 8. Изменение границ агроклиматических областей Беларуси
а) границы агроклиматических областей по А.Х. Шкляру (1973 г.)
б) границы агроклиматических областей по В.И. Мельнику за период 1989-2008 гг.
Агроклиматические области: I – Северная, II – Центральная, III – Южная, IV –Новая.
Так, на территории Прибайкалья и Забайкалья, в условиях летнего потепления, наблюдается тенденция к падению урожайности зерновых культур. Важнейшей негативной особенностью ожидаемых изменений климата является сопровождающий процессы потепления рост засушливости в южных регионах Союзного государства. Ожидаемый рост засушливости климата может привести к снижению урожайности в основных зернопроизводящих районах России (потенциальные ежегодные потери объемов сбора зерновых культур при сохранении существующей системы землеобработки и применяемых селекционных видов могут в ближайшие 5-10 лет достигать в отдельные годы до 15-20% валового сбора зерна),, но не окажет, по-видимому, значимого отрицательного влияния на сельское хозяйство достаточно увлажненной Нечерноземной зоны. В Республике Беларусь и ряде регионов ЕТР ухудшатся условия произрастания и формирования урожая средних и поздних сортов картофеля, льна, овощных культур (капуста), второго укоса трав. С целью использования дополнительных ресурсов тепла целесообразно увеличение удельного веса более теплолюбивых и засухоустойчивых культур (кукуруза, просо, сорго, подсолнечник и др.); внедрение более позднеспелых сортов (гибридов), которые лучше используют растущие тепловые ресурсы территории; расширение пожнивных (поукосных) посевов, расширение объемов ирригационных работ и внедрение систем капельного орошения.
Потепление климата приведет в целом к повышению продуктивности бореальных лесов Союзного государства. Вместе с тем, будет продолжаться, отмечаемый уже сейчас общий рост пожарной опасности в лесах и на торфяных болотах. Из-за изменения уровня грунтовых вод во многих лесных областях (в первую очередь в центре и на северо-западе России) во все больших масштабах будет отмечаться нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими, в частности, увеличатся вероятности массовых размножений вредителей леса. Значительный ущерб может быть нанесен и заповедным и особо охраняемым территориям.
Адаптация в области лесного хозяйства и в сфере экологии должна быть направлена в первую очередь на выработку и реализацию упреждающих заблаговременных мер по снижению негативных последствий климатической изменчивости.
Топливно-энергетический комплекс
Сокращение средней продолжительности отопительного периода и повышение температуры наружного воздуха в зимний период создает условия для уменьшения потребления тепловой энергии (рис. 9). Однако наибольшая величина сокращения ожидается в районах с малой плотностью населения, что влияет на абсолютную величину возможного уменьшения затрат. В ближайшие два десятилетия продолжительность отопительного периода на территории Союзного государства уменьшится от 0 до 20 дней. В большей части административных областей, расположенных в южных и центральных районах РФ и в Республике Беларусь продолжительность отопительного периода уменьшится на 4-8 дней. В северных административных областях РФ (Ненецкий АО, в северной части республики Коми, западной части Ханты-мансийского АО, в Корякском, Чукотском АО и на северо-востоке республики Саха), а также в южных прибрежных районах (р. Дагестан и Краснодарский край) ожидается уменьшение отопительного периода на 8-12 дней.
Для достижения реальной экономии при сохранении устойчивого теплоснабжения необходима разработка и широкое внедрение эффективных систем автоматического регулирования подачи тепла.
В связи с ростом летних температур возможно изменение структуры электропотребления (рис. 10). Целесообразно перспективное планирование энергозатрат с учетом увеличения электропотребления в летнее время года на кондиционирование. Актуальна задача проектирования и производства систем охлаждения энергетических установок, ориентированных на высокие температурные максимумы.

Рисунок 9. Ожидаемые изменения продолжительности (дни, слева) и средней температуры отопительного периода (°C, справа) для территорий Республики Беларусь и Северо-запада Российской Федерации к 2030 г.
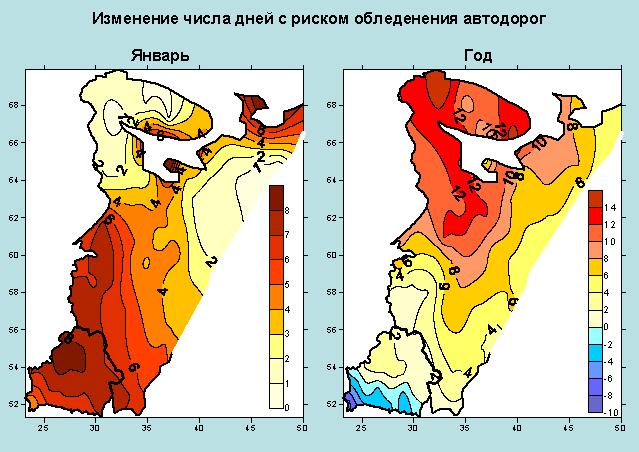
Рисунок10. Ожидаемое изменение индекса потребления топлива (ИПП, «градусодни») для холодного (<18.3°C, слева) и теплого (>18.3°C, справа) сезона для территорий Республики Беларусь и Северо-запада Российской Федерации к 2030 г. ИПП есть сумма абсолютных отклонений средних суточных значений температуры от порога комфортности (18.3ºC) за рассматриваемый период года. Наряду с уменьшением ИПП в холодный сезон, ожидается летний рост ИПП в центральных и южных регионах Союзного государства, имеющих высокую плотность населения, который потребует увеличения энергозатрат на кондиционирование. Например, в 2002 г. в Москве летний максимум электропотребления впервые превысил зимний.
На большей части территории Союзного Государства увеличение годового стока рек улучшает условия развития гидроэнергетики (рис. 11). Исключение составляют южные регионы Российской Федерации и, в меньшей степени, Республики Беларусь, где водно-энергетический потенциал сокращается.


Рисунок 11. Ожидаемое изменение выработки электроэнергии на ГЭС (%) на территории Республики Беларусь (слева) и Российской Федерации (справа) к середине 21-го века по сравнению с 1981-2000 гг.
Потепление климата увеличивает риск повреждений трубопроводов в зонах вечной мерзлоты и подводных переходах. Аварии на ЛЭП, связанные с изменениями гололедных нагрузок, могут вызвать отключение энергоснабжения компрессорных станций. В частности, возрастание средней годовой температуры на 2.4°С на территории Республики Беларусь приведет к увеличению гололедной нагрузки, возможной 1 раз в 5 лет, на провода ЛЭП на 20%. Создается угроза энергобезопасности.
Сокращение ледяного покрова Северного Ледовитого океана облегчает доступ к арктическим шельфам и их освоение, в том числе в части добычи ископаемого топлива.
Топливно-энергетический комплекс является одним из основных источников загрязнения окружающей природной среды. Внедрение энергоэффективных технологий и использование возобновляемых источников энергии позволят снизить экологическую нагрузку на природную среду. Проведение региональной энергетической политики должно быть направлено на более широкое использование основных видов возобновляемых источников энергии – солнца, ветра и воды.
На территории Союзного Государства целесообразно использование солнечных коллекторов для отопления и особенно для горячего водоснабжения. Удельная годовая выработка тепловой энергии солнечными коллекторами, выпускаемыми в СГ, в южных районах России составляет 850 кВт.ч/м2, в более северных районах (около 60о с.ш) – 450-500 кВт.ч /м2, на территории Беларуси в среднем 670 кВт∙ч/м2. Прогнозируемый рост температуры воздуха будет способствовать повышению выработки тепловой энергии. Использование солнечных коллекторов в теплое время года позволит покрыть нагрузку горячего водоснабжения в южных районах России на 70%, в Беларуси – до 60%.
В ближайшей перспективе для экономики Союзного Государства значительная роль отводится использованию энергии ветра. Зона с наибольшим ветровым потенциалом на Европейской территории России охватывает участки мелководных акваторий южной части Финского залива и Ладожского озера, Черного и Азовского морей. Рациональное распределение на этих территориях мегаваттных ветровых установок позволит получать 100-150 млрд.кВт∙ч энергии в год. В Азиатской части России перспективными для ветроэнергетики являются залив Петра Великого и прибрежная часть Охотского моря. В республике Беларусь на побережьях и прибрежных акваториях озер (озеро Нарочь, система озер в районе Лепеля, Ветрено, Новолукомля) целесообразно возведение ветровых парков, состоящих из десятков ветроэнергоустановок (ВЭУ) мощностью около 400 кВт, что позволит получать в год около 10 млрд.кВт∙ч энергии.
Строительство
Рост числа переходов температуры воздуха через 0°С (рис. 12) в сочетании с увеличением количества жидких осадков в холодное время года приведет к ускоренному старению зданий и сооружений и потребует дополнительного увеличения эксплуатационных расходов. Для увеличения долговечности строящихся объектов в условиях усиления разрушающего воздействия среды желательно использование в строительстве материалов, рассчитанных на увеличенное число циклов замораживания и оттаивания.

Рисунок 12. Ускорение старения зданий и сооружений (ноябрь-март): ожидаемые изменения числа переходов средней суточной температуры воздуха через 0°C (слева) и числа внутрисуточных переходов температуры воздуха через 0°C (справа) для территорий Республики Беларусь и Северо-запада Российской Федерации к 2030 г.
В связи с актуальностью проблемы уменьшения потребления энергии на отопление (в том числе и для уменьшения выбросов парниковых газов) повсеместно на территории Союзного государства целесообразно повышение требований к тепловой защите зданий и использование соответствующих нормативных значений климатических параметров температуры наружного воздуха. Для поддержания оптимального микроклимата внутри зданий в условиях происходящего потепления необходимо создание и использование эффективных систем вентиляции. На севере Западной Сибири и северо-востоке Европейской территории России деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций, а также увеличение снеговых нагрузок на строения на большей части территории Союзного государства, в особенности в связи с экстремальными погодными явлениями, требуют пересмотра существующих строительных норм и правил с учетом меняющегося климата. В частности, на мерзлоте стоит множество городов, проложены тысячи километров трубопроводов, а также автомобильных и железных дорог (около 80% БАМа проходит по вечной мерзлоте). Четверть жилых домов, построенных в Тикси, Якутске, Воркуте и других населенных районах окажутся полностью негодными в ближайшие 10-15 лет.
Транспорт. Коммунальное хозяйство
Проектирование транспортной инфраструктуры, канализационных сетей и др. целесообразно осуществлять с учетом ожидаемого увеличения интенсивности осадков и изменения соответствующих нормативных параметров. Усложнение условий эксплуатации дорог и коммуникаций в зоне деградирующей вечной мерзлоты повлечет дополнительные расходы на их содержание.
В северных регионах Союзного государства увеличится опасность на дорогах в связи с гололедицей (рис. 13), экстремальными осадками и т.п. В арктических морях облегчение ледовой обстановки приведет к улучшению условий транспортировки грузов.
Изменение климата приведет к улучшению водообеспеченности населения Союзного государства в целом (при образовании региональных дефицитов в южных регионах Российской Федерации и, в меньшей степени, в Республике Беларусь). Увеличение произойдет на Севере и северо-западе Республики Беларусь и ЕТР, в Поволжье, в Нечерноземном центре, на Урале, на большей части Сибири и Дальнего Востока, т.е. в тех регионах, где формируется более 95% водных ресурсов Союзного государства. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов Черноземного центра России (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области), Южного (Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) и юго-западной части Сибирского (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) федеральных округов РФ, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, в ближайшие десятилетия следует ожидать их дальнейшего уменьшения (10–20%). Это необходимо учитывать при разработке условий дальнейшего социально-экономического развития этих регионов, при возрастании потребностей в водообеспеченности и увеличения нагрузки на водные ресурсы (от 5 до 25% и более). В указанных регионах может отмечаться серьезный дефицит воды и необходимость строгого регулирования и ограничения водопотребления, а также привлечения дополнительных источников водообеспечения; нехватка воды в них становится фактором, сдерживающим экономический рост и повышение благосостояния населения. В Алтайском крае, в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях уменьшение водных ресурсов хотя и не приведет к низким значениям водообеспеченности и к высокой нагрузке на водные ресурсы, тем не менее, весьма серьезные водные проблемы в маловодные периоды имеют место здесь и в настоящее время, и они могут приобрести особую остроту в перспективе. Это, прежде всего, связано с большой изменчивостью водных ресурсов во времени и по территории, а также с тенденцией к увеличению интенсивности использования стока трансграничных рек в Китае и Казахстане. Для решения этих проблем необходимо рассмотреть возможности регулирования стока и заключение международных договоров по совместному использованию водных ресурсов Иртыша. Несмотря на прогнозируемое заметное увеличение водных ресурсов в столичных мегаполисах Союзного государства, в результате развития экономики, увеличения численности и повышения благосостояния населения в ближайшие десятилетия можно ожидать значительного увеличения нагрузки на водные ресурсы и снижения водообеспеченности.

Рисунок 13. Ожидаемое изменение числа дней с риском обледенения автодорог для января (слева) и в целом за год (справа) для территорий Республики Беларусь и Северо-запада Российской Федерации к 2030 г.
Здравоохранение
Ожидаемое смягчение климатических условий на севере Союзного государства будет сопровождаться уменьшением комфортности проживания на юге (в связи с увеличением числа, продолжительности и интенсивности непрерывных эпизодов с экстремально высокой температурой – волн тепла) (рис. 14). Принятие заблаговременных мер руководством городов и органов здравоохранения (реагирование на предупреждения о приближении "волн тепла", разработка рекомендаций по поведению населения в условиях критических температур воздуха, повышение готовности медицинского персонала, архитектурно-строительные решения, взаимодействие со СМИ и др.) может снизить эффект негативного влияния высоких температур воздуха на самочувствие населения, что особенно важно для детей и пожилых людей. Потепление климата приведет, с одной стороны, к появлению новых территорий, пригодных для реализации рекреационных программ, а с другой – к нарушению традиционных укладов жизни, в особенности в северных регионах. Смещение климатических зон увеличивает риск появления новых инфекционных и паразитарных болезней, что также потребует принятия мер по упреждающей адаптации со стороны органов здравоохранения..
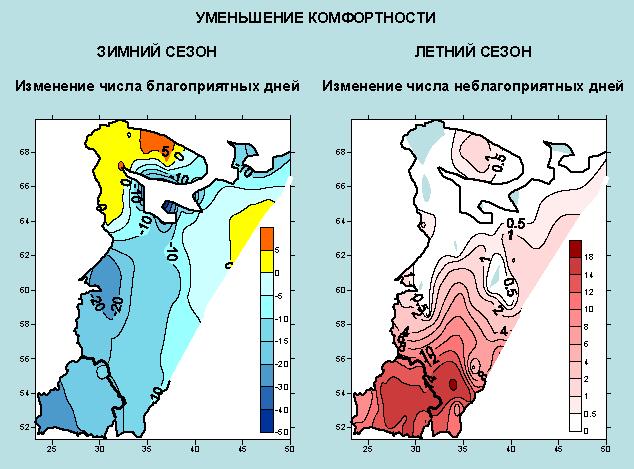
Рисунок 14. Ожидаемое уменьшение комфортности проживания: изменения числа благоприятных (зимний сезон, слева) и неблагоприятных (летний сезон, справа) дней для территорий Республики Беларусь и Северо-запада Российской Федерации к 2030 г. Используемые биоклиматические индексы: зима – число дней со средней суточной температурой -5 – -15°C; лето – число дней с максимальной температурой >+25°C
Необходимые меры
Представленная картина последствий изменения климата для природной среды и экономики Союзного государства нуждается в дальнейшем уточнении (уменьшении неопределенности) количественных оценок как собственно будущих изменений климата, так и их последствий, в особенности, в финансовом измерении. Улучшение знаний о климатической системе является необходимой предпосылкой формирования и реализации независимой, научно и нравственно обоснованной политики Союзного государства в области климата.
Одним из важнейших условий снижения ущербов от опасных климатических явлений призвана стать система гидрометеорологической безопасности, одним из главных элементов которой являются системы обнаружения и предупреждения об опасных изменениях климата.
Систематические наблюдения за климатом, фундаментальные и прикладные исследования, связанные с его изменениями, обеспечивают поддержку процессу принятия решений, а также повышение осведомленности органов государственного управления, субъектов экономики, научной общественности, средств массовой информации, населения о происходящих и будущих изменениях климата и их последствиях, о возможностях адаптации к этим изменениям и возможностях их смягчения.
Экономика предъявляет новые и все более жесткие требования к науке о климате, что объективно обусловлено усложнением производственных процессов, ростом потенциальных ущербов от стихийных явлений, потребностью в количественных оценках рисков и другими причинами. Однако прогностическая информация используется потребителями часто неполно, а иногда и неправильно, в результате чего эффективность принимаемых решений существенно снижается. Поэтому возникла необходимость в развитии экономических исследований и экономической оценки использования климатической информации в решении хозяйственных, технологических и политических задач в целях адаптации к изменяющимся климатическим условиям для устойчивого развития общества. Учет климатических ресурсов и рисков является обязательным компонентом климатической экспертизы отраслей экономики и должен происходить на всех этапах планирования, организации, управления и развития хозяйственно-производственной деятельности. Эффективная стратегия использования климатических сведений не сводится лишь к количественным оценкам экономической полезности климатической информации. Необходимы модели учета основных показателей влияния климатических условий в хозяйственных региональных и федеральных программах. В случаях, связанных с наиболее значительными и неотвратимыми (адаптация)/предотвратимыми (защита) рисками, долгосрочные программы развития должны учитывать различные сценарии климатических изменений и их последствий. Под риском понимается произведение вероятности некоторого негативного последствия изменения климата (например, вероятности увеличения частоты гололедицы вследствие смягчения зим, что может увеличить материальные потери, связанные с увеличением частоты ДТП или закрытием аэропортов) на величину стоимости соответствующих материальных потерь. При таком определении величина риска имеет денежное выражение, что позволяет сравнивать различные негативные последствия изменения климата. Аналогичным образом можно определить выигрыши от благоприятных последствий изменения климата.
Адаптация к изменению климата потребует создания механизмов снижения рисков природных и техногенных катастроф, связанных с факторами изменяющегося климата, в целях повышения уровня защищенности и уменьшения потенциала возможного ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций. Некоторые оценки показывают, что механизмы страхования рисков могут оказаться недостаточными из-за нехватки ресурсов. Изменение климата может приводить и к более мягким, но более обширным по масштабу, неблагоприятным последствиям, чем катастрофы и чрезвычайные ситуации. Адаптация к таким последствиям приведет к определенным сдвигам в экономике и потребует дополнительных финансовых и иных ресурсов для обеспечения капитальных и эксплуатационных затрат на заблаговременное повышение защищенности. Затратность адаптационных мер потребует разработки соответствующих правовых регуляторов в различных секторах экономики. Упреждающая адаптация необходима в сферах ответственности большинства министерств и ведомств, а также в большинстве отраслей экономики.
Таблица 1. Потенциальные выгоды, угрозы и вызовы отраслям экономики Союзного государства, связанные с ожидаемыми изменениями климата
|
Отрасли экономики |
Потенциальные выгоды |
Угрозы и вызовы |
|
Сельское хозяйство |
Улучшение структуры и расширение зоны растениеводства. Повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и принятии ряда мер). Повышение продуктивности бореальных лесов |
Рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других. Повышение пожароопасности в лесных массивах и на торфяниках. Нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими. |
|
Топливно-энергетический комплекс |
Сокращение расходов энергии в отопительный период. Облегчение доступа к арктическим шельфам и их освоения. В ряде регионов –улучшение условий развития гидроэнергетики |
Увеличение риска повреждений трубопроводов в зонах вечной мерзлоты и подводных переходах. В ряде регионов – увеличение ветровых нагрузок и ледовых отложений на ЛЭП. Увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов. |
|
Транспорт. Строительство. ЖКХ. |
Облегчение режимов речного судоходства. Улучшение ледовой обстановки и условий транспортировки грузов в арктических морях. |
Деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций в северных регионах. В ряде регионов увеличение опасности на дорогах в связи с гололедицей, экстремальными осадками и т.п. В ряде регионов увеличение снеговых нагрузок на строения. |
|
Здравоохранение |
Перемещение к северу северной границы зоны комфортного проживания в результате смягчения климатических условий. Улучшение водообеспеченности населения (для страны в целом, при образовании региональных дефицитов). Появление новых территорий, пригодных для реализации рекреационных программ. |
Рост числа и интенсивности волн тепла. Новые инфекционные и паразитарные болезни, несвойственные определенным регионам. Нарушение традиционных укладов жизни в ряде регионов. |
Определенные шаги по смягчению последствий изменения климата уже предпринимаются. В 2008 году разработана и утверждена Правительством Республики Беларусь Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2008-2012 годы. Программа включает систему мер правового, финансово-экономического и организационного характера, которые направлены на предотвращение негативных последствий изменения климата для социально-экономического развития Республики Беларусь и использование положительных последствий изменения климата (адаптация к климатическим изменениям).
В 2008 г. Росгидрометом был опубликован фундаментальный Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Этот доклад может послужить научной основой реальных программ и проектов в контексте принятой концепции социально-экономического развития РФ до 2020 г. В 2009 г. Правительством Российской Федерации была одобрена Климатическая доктрина, которая задает вектор развития нормативно-правовых, экономических и иных инструментов, призванных обеспечить защищенность государства, экономики и общества от неблагоприятных последствий изменения климата и создать предпосылки для эффективного использования потенциала благоприятных последствий изменения климата. Непосредственными следствиями принятия Климатической доктрины Российской Федерации должны стать разработка и принятие детализированной государственной стратегии ее реализации и – на ее основе – еще более детализированных федеральных, региональных и отраслевых программ и планов действий.
Учитывая возрастающее влияние климата и его изменений на устойчивость развитии экономики и социальной сферы Союзного государства, представляется необходимым при разработке проекта концепции социального развития Союзного государства на период 2011-2015 гг. предусмотреть включение задач, связанных с изменением климата.
Метки: документы |
«Сколько по России отнято детей – государственная тайна» |
АЛЕСЯ ЛОНСКАЯ
http://www.newizv.ru/news/2010-01-14/119960/
14 Января 2010 г.
В начале декабря прошлого года в материале «Неестественный отбор» «НИ» писали о семье Вороновых из Белгорода, которая, помимо семерых родных детей, растила трех больных приемных девочек. Органы опеки отобрали их лишь потому, что одна из девочек упала на тренировке и набила синяк. Председатель совета Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» Татьяна БОРОВИКОВА в интервью «НИ» рассказала о серьезных проблемах в работе с семьями органов опеки и соцзащиты.
– Насколько часто поводы для отъема детей из семьи являются надуманными?
– Я очень хорошо знаю ту же семью Вороновых. Я помню, как они брали этих девочек с серьезными болезнями, младшую – с пороком сердца. Вороновы были образцовой семьей. 50 родителей собрали подписи в подтверждение того, что мать не бьет детей. Но они ничего не смогли сделать. И эта семья не единственная. За последний год по одной только Новосибирской области к нам пришло около 70 обращений. Эти дела идут по одной схеме. Считаются синяки: сколько на этой коленке, сколько на той. Тут же появляется какой-нибудь сосед-алкоголик, которому мешают дети, и он пишет заявление, что они все время кричат и плачут.
– То есть чиновникам выгодно отбирать детей, чтобы их потом «пристроить»?
– Чиновники сами говорят: детскому дому тоже дети нужны. К тому же сейчас дополнительно открыли несколько агентств по иностранному усыновлению, и в этом активно участвовали сотрудники Министерства образования. Я думаю, что здесь конкретный интерес: есть спрос на русских детей. Наша система получения ребенка – магазин по распродаже детей. Люди, контролирующие базу данных, имеют неограниченную возможность для фальсификации любых документов – справок, диагнозов.
– Сколько всего детей за последний год оказались помещены в приют при живых родителях?
– Общую статистику по отъему нам никто не дает, хотя мы за ней обращались. Говорят, государственная тайна. Я слышала, что в прошлом году в России было изъято 170 тысяч детей. Там разные обстоятельства. Насилие – это не доминирующая статья. Доминирующая – алкоголизм.
– То есть большинство изъятий все-таки оправданны?
– Я не говорю, что нельзя изымать детей. Иногда детей нужно изымать гораздо раньше, чем это происходит. Но сотрудники опеки в наркопритоны не торопятся. Там опасно. А дети там могут жить годами, как собаки. Когда наши волонтеры начинают развозить горячую пищу по деревням, они видят детей, которые живут в собачьей будке или под крыльцом. У них родители спившиеся. И органы опеки ими не интересуются. Сейчас мы посылаем в Кострому продукты и одежду, потому что некоторым там есть нечего – дети буквально силос едят. Один многодетный отец организовал там благотворительную столовую.
– 2008-й был объявлен Годом семьи…
– В Москве награждали одни и те же «дежурные» многодетные семьи, которые выставляли напоказ чиновники. Эти семьи продолжают ездить отдыхать, ходить на елки, на встречи с Дедом Морозом. Уже вроде и дети выросли, а их все водят на елки. По-настоящему бедными семьями власти и депутаты интересуются только в том ракурсе, чтобы они не бузили.
– Сколько в России многодетных семей находятся в бедственном положении?
– Сколько всего, сказать сложно. Наша организация знает о ста семьях, не пьяниц, не маргиналов, а просто бедных. Но им никто не помогает. Теоретически они могут прийти в собес. Им дадут тысячу рублей, но за эту тысячу, которая не спасет ситуацию, им придется принести кучу справок. Одна многодетная семья все лето жила в часовне Дмитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря, потому что их выкинули из квартиры за долги. И слава Богу, священник дал им свой дом в Ростовской области, и они поехали туда зимовать.
Серия сообщений "Ювенальная юстиция в действии":
Часть 1 - Норвегия: Комитет по защите прав детей (Barnevern) против детей
Часть 2 - Норвегия - без права критиковать темно режимов
Часть 3 - Одержала победу над социальными службами
Часть 4 - Неестественный отбор
Часть 5 - «Сколько по России отнято детей – государственная тайна»
Часть 6 - Игорь Михайлов: Права человека нарушаются по закону, а восстанавливаются в порядке ис
Часть 7 - В Финляндии у еще одной россиянки отбирают ребенка
Часть 8 - Движение ювеналки в России — жестко, нагло, неумолимо
|
Метки: ювенальная юстиция |
Неестественный отбор |
Органы опеки стали отнимать приемных детей из-за единственного синяка
http://www.newizv.ru/news/2009-12-03/118395/
3 Декабря 2009 г
Борьба за трех усыновленных девочек развернулась между органами опеки Белгородской области и семьей, в которой малышки прожили шесть лет. Как выяснили «НИ», Опекунский совет счел необходимым изъять всех трех усыновленных детей после того, как младшая девочка упала на тренировке и набила синяк. Детей поместили в реабилитационный центр, где им не дают видеться с бывшей семьей. Правозащитники отмечают, что счет отнятых по надуманным причинам сирот пошел на сотни. А органы опеки могут разлучать семьи без суда и участия психологов.
В семье Вороновых семеро своих детей. Семья благополучная и имеет хозяйство: рядом с коттеджем обустроен сад, растут овощи, гуляют куры и индейки. Когда Галина и Виктор шесть лет назад взяли на воспитание троих больных и отстающих в развитии девочек, они даже купили козу, чтобы отпаивать дочек молоком. Шесть лет женщина выхаживала Машу, Дашу и младшую Настю, у каждой из которых было по шесть диагнозов. Теперь многие диагнозы врачи сняли. Счастье сломалось этой осенью. Настя упала на тренировке по бальным танцам и набила синяк. «Дети видели, что Настя упала сама. А в детском саду написали в опеку, и ребенка прямо из детского сада отвезли в реабилитационный центр. После этого Опекунский совет по городу Белгороду решает всех троих детей забрать», – рассказывает «НИ» председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского сообщества «Много деток – хорошо!» Марина Ганичева. Приемная мать Галина Воронова в беседе с «НИ» путается в словах и едва сдерживает слезы: «Дети очень плакали, когда их забирали».
В психолого-педагогической характеристике Насти, данной детским садом (имеется в распоряжении «НИ») написано: «Жилищные условия хорошие, отношение к ребенку доброе». Чуть дальше про девочку сказано: «Нередко бывали ушибы из-за нескоординированных движений. В пространстве не ориентируется, внимание неустойчивое». Позже, по словам матери, сотрудники детсада стали настаивать, что девочку избили родители. Заведующая детсадом в беседе с «НИ» сообщила, что она «человек подневольный» и говорить ничего не может.
Директор белгородского Центра социальной помощи семьи и детям Ирина Севостьянова заявила «НИ», что «исполняла распоряжение главы администрации города», когда лишала Вороновых права опеки. Непонятно только, какое отношение к опеке детей имеет глава администрации. О том, как власти обосновали свое решение об отъеме детей, мы узнали от старшей дочери Вороновых: в распоряжении было написано, что при проживании в семье существует «непосредственная угроза жизни и здоровью» девочек. Между тем явная угроза их психическому здоровью – разлука с семьей. Марина Ганичева навестила детей в реабилитационном центре вместе с Вороновыми. «Увидев Вороновых, Даша и Маша бросились к ним на шею. Персонал грозился вызвать милицию. Настю три человека из персонала волоком тащили в дверь заведения, но она все равно рвалась из рук и кричала: «Пустите меня к маме!», – рассказывает Марина. Встретиться с детьми Вороновым позволили только раз. В остальных случаях малышки в слезах смотрели на маму из окон заведения, а персонал задергивал жалюзи.
Старшая дочь Вороновых – Наталья, юрист по образованию, за несколько месяцев до изъятия сестренок стала бороться за права усыновленных детей в Белгороде. Она выяснила, что по отношению к ним не соблюдается закон Белгородской области «О приемной семье». Например, ни одна семья не получала пособие на покупку школьных принадлежностей, а родителям не давали положенный по закону отпуск воспитателя в 42 дня. Наталья обратилась с этим в органы опеки. Спустя некоторое время в закон внесли изменения: продолжительный отпуск приемному родителю теперь не положен.
Как выяснили «НИ», случай Вороновых весьма расхожий. «Это массовая ситуация, когда по непонятным причинам органы опеки пытаются изъять детей, – говорит «НИ» председатель совета Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» Татьяна Боровикова. – Специалистов опеки проинструктировали, как забирать детей, и они делают это по любому поводу: если ребенка заставляют мыть посуду или шлепают по попе».
В Ставропольском крае, Новосибирской, Белгородской и Ростовской областях в год по надуманным причинам отнимают не один десяток детей. «Это не маргинальные семьи, мы эти семьи хорошо знаем», – подчеркивает г-жа Боровикова. «Сейчас детей отбирают под видом их защиты от приемных родителей, – подтверждает исполнительный директор общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. – И это получает размах всероссийской кампании». По словам г-на Альтшулера, к работе с семьей нужно допустить психологов и социальных работников. Пока же органы опеки даже не советуются с ними, когда забирают ребенка из семьи.
А вот тут на форуме есть обсуждения и материалы по этому случаю
http://www.mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=67&t=18868
Серия сообщений "Ювенальная юстиция в действии":
Часть 1 - Норвегия: Комитет по защите прав детей (Barnevern) против детей
Часть 2 - Норвегия - без права критиковать темно режимов
Часть 3 - Одержала победу над социальными службами
Часть 4 - Неестественный отбор
Часть 5 - «Сколько по России отнято детей – государственная тайна»
Часть 6 - Игорь Михайлов: Права человека нарушаются по закону, а восстанавливаются в порядке ис
Часть 7 - В Финляндии у еще одной россиянки отбирают ребенка
Часть 8 - Движение ювеналки в России — жестко, нагло, неумолимо
|
Метки: ювенальная юстиция |
КАИРСКОЕ ИГО В плену чуждых решений |
Бойко Н.Н. директор ПМПЦ «Жизнь»
http://ethnocid.netda.ru/articles/boiko050505.htm
3-4 ноября 2004 г. в Москве состоялся Всероссийский национальный форум «Настоящее и будущее народонаселения России», посвященный 10- летнему юбилею Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире. Это срединный рубеж 20-летней Программы действий Международной конференции в Каире.
В ознаменование этого события ЮНФПА провел глобальное обследование по реализации Программы действий среди 165 стран. Рассматривались и достижения России в свете выполнения Программы действий Каирской конференции. Нужно признать, что выполнение решений Каирской конференции по народонаселению и развитию действительно за 10 лет привело в нашей стране к определенным результатам. Впрочем, на них и рассчитывали непосредственные исполнители, как за рубежом, так и в России. Усилия в проведении демографической коррекции в нашей стране у них были общие, и радость по этому поводу тоже общая.
Допустим, радости заокеанских руководителей удивляться нечего – нас становится меньше! Но свои-то что ж веселятся! Услужили в очередной раз чужому дяде? Скорректировали свой народ, разрушили здравоохранение, развратили молодежь, предостерегают ее от перспективы вернуться вновь к «некоему идеальному представлению о семье»? Так есть ли чему гордиться доморощенным «планировщикам»?
«Планирование семьи является КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ нашей всеобъемлющей политики», - заявил президент США Билл Клинтон.- «Мы подтверждаем, что США будут и впредь играть руководящую роль в мире по предоставлению добровольной помощи в области планирования семьи».
Вопрос народонаселения в первую очередь – вопрос политический, от него зависит национальная безопасность страны. В США тщательно изучалось и изучается влияние роста мирового народонаселения на их безопасность и соблюдение их международных интересов. Многолюдная и сильная Россия представляет угрозу безопасности США!
Поэтому и появилась необходимость внедрения в России программ «устойчивого развития» и « действий по регулированию народонаселения», включающих в себя: сексуальное просвещение, контрацепцию и противородовую пропаганду («ориентировать новые поколения на создание малодетной семьи»). Такие программы хорошо продуманы. Сами идеологи этих программ относят их к сфере контроля рождаемости, т.к. направлены они, кроме прочего, на изменение репродуктивных установок семьи в сторону уменьшения числа детей.
Программа «устойчивого развития» была принятая в 1994г. на Каирской конференции, проходившей под эгидой ООН. Она была навязана миру и фактически повторяет американский Меморандум национальной безопасности 1974 года. (Меморандум был составлен Советом по национальной безопасности, являющимся высшим уровнем руководства в правительстве США. Возглавил Совет сам президент. Задача Совета – координировать ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ всех подразделений правительства США).
Таким образом, 10 лет назад в Каире правительства 179 стран согласились с тем, что для успешной политики развития необходимо учитывать проблемы народонаселения. На Каирской конференции впервые прозвучали впоследствии навязанные России понятия: «репродуктивные права», «репродуктивное здоровье», «право на свободный выбор рождения детей». Как основные элементы, рассматривались права, когда следует рожать и следует ли это делать вообще. По мнению людей, проводящих демографическую коррекцию в нашей стране, «это, несомненно, способствовало демократизации нашего общества…».
Каковы принципы Каирской конференции?
1. Содержание требования невмешательства государства в деятельность служб планирования семьи.
2. Службы планирования семьи не должны подчиняться демографическим целям государства. (Чьим целям должны подчиняться?).
3. Требования, обязывающие нации при проведении демографической политики учитывать уровень благосостояния соседей всего мира.
(Хоть мы и вымираем, но интересы США и Европы – превыше всего!).
4. Должна быть обеспечена официальная законодательная база, способствующая распространению служб планирования семьи в России.
(Была попытка принять закон «О репродуктивных правах граждан», дававший «планировщикам» неограниченную власть.).
5. Должны быть устранены ненужные медицинские и законодательные ограничения к сервису по планированию семьи.
(Полная свобода действий, вплоть до принудительной стерилизации, попытка ввести которую и была предпринята в 1997 г. в России.).
6. Обеспокоенность по поводу низкой рождаемости и сокращения численности населения ни коим образом не должна лишать людей возможности основного репродуктивного права – планирования семьи.
7. Правительства и неправительственные организации ДОЛЖНЫ поощрять предоставление услуг в области планирования семьи.
8. «Предоставление людям возможности выбирать размер семьи замедлит рост численности населения». (Т. Обайд, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения).
Итак решение максимально сократить население России принимается на самом высоком уровне. Каков же состав активных участников программ демографической коррекции в России?
Это:
- Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) – головная организация по снижению рождаемости в мировом масштабе;
- московское бюро ЮНЕСКО;
- Всемирный банк;
- ВОЗ;
- ЮНИСЕФ;
- МФПС;
- Совет по народонаселению;
- Институт развития ресурсов;
- Фонд Рокфеллера;
- АЙПАС – некоммерческая, неправительственная организация, находящаяся в Чэпел Хил, Северная Каролина, США.
- и даже Международный институт сельского хозяйства.
Метки: закон о репродуктивном здоровье |






