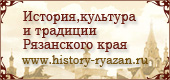-Метки
-Рубрики
- Про оформление дневника. (2)
- Новосёлки. (60)
- Родственники и друзья,соседи и земляки. (13)
- История села. (17)
- Книга памяти. (32)
- Пироговы. (16)
- В родословную Пироговых. (1)
- Пирогов Григорий Степанович. (3)
- Пирогов Александр Степанович. (9)
- Пирогов Алексей Степанович. (2)
- Пирогов Михаил Степанович. (1)
- Пирогов Ярослав Алексеевич. (1)
- Друзья и родственники. (1)
- Шустовы. (3)
- Александровы. (1)
- Родные места. (3)
- Псков. (1)
- Город Остров и окрестности. (2)
- Рязань. (1)
- Разное. (5)
- Загадки истории. (5)
-Фотоальбом

- Григорий Пирогов
- 13:03 13.09.2011
- Фотографий: 19
- Александр Пирогов
- 03:00 01.01.1970
- Фотографий: 0
- Алексей Пирогов
- 03:00 01.01.1970
- Фотографий: 0
Наша Марина. |

Эмансипацию придумали мужчины
Марина Шустова - владелица изысканного мурманского бутика, бывший офицер милиции, ведущая авторской программы на радио, эксперт в области моды и стиля. Однако главным смыслом своего бизнеса Шустова считает просвещение.
- Марина Игоревна, почему российские женщины, которых порой называют самыми красивыми в Европе, в большинстве своем столь плохо одеты?
- Потому что несчастливы. Человек, который не хочет утром смотреться в зеркало, просто умылся и пошел, себя не любит. Иногда причины этого в детстве, в школе. Бедные женщины, которые так живут. Причем дело вовсе не в нехватке денег. Да, все давно стали жертвами глянцевых журналов, но главное - просто полюбить себя.
- С чего начинается любовь к себе?
- С того, что ты себя принимаешь. Смотришь на себя - и любишь. Честно говоря, я сама себя не очень люблю... Нужно найти, за что полюбить. Научиться жить в мире с собой. Быть самой собой - всего сложнее, ведь мы пытаемся примерять чужие роли. Как платье, которое категорически не идет, но ты из последних сил пытаешься в него влезть в надежде, что где-то ушьешь, где-то расставишь, рюши приделаешь. Платье кажется пропуском в счастливый мир - мы же все мечтательницы. Русские женщины трогательнее других, более мягкие, красивые, только очень неуверенные в себе. Чтоб это исправить, надо просыпаться и радоваться, что на улице солнце. Некоторые вместо этого пытаются изменить внешность: силикон, ботокс - в этом мы ведем себя, как индейцы. Ведь природа - лучший скульптор, и каждый красив по-своему, надо просто увидеть и подчеркнуть достоинства. Цветом волос, помады, шейным платком... Женщины у нас перестали носить платья - это катастрофа! Поэтому я, можно сказать, занимаюсь просветительской деятельностью: у нас в бутике продаются в основном платья. Клиентки, надевая их, теряются. Глаза распахиваются, походка меняется... Пусть не купила, но запомнила это мгновение! Увидеть себя в зеркале в новом платье - своего рода реинкарнация.
- Как произошла ваша «реинкарнация»?
- Я окончила Академию МВД, работала в городском УВД психологом и знаю, что такое форма, как мы ее ушивали, укорачивали юбки, чтобы хоть немного на женщин походить. Правда, к тому времени за спиной было три года на московском подиуме. Я считала, что, если не могу принять действительность, буду в нее играть. Потом ушла в бизнес, стала коммерческим директором крупной компании. А через 10 лет, глянув в зеркало, поняла, что это не я. Удобная, немаркая и строгая одежда, обувь без каблука - человек в футляре. Что не смогла сделать милицейская форма, сделал большой бизнес. И я сказала: «Хватит!» Восемь лет назад появился бутик. Идея его необычного формата в том, чтобы действительность оставалась за порогом. В сумасшедшем мире должно быть место, где время останавливается.
- Северянки считаются «продвинутыми»: многое покупают за границей, толпами ходят на лекции Александра Васильева - почему же на практике редко применяют полученные знания?
- Можно посетить все лекции Васильева и даже прикупить себе два винтажных воротничка, но прежде всего надо воспитывать чувство стиля. Мы же все недонаряжались в свое время из-за дефицита. Плюс быт. Нельзя быть его рабой. Хотя на российскую женщину мужчины свалили такой груз... Утром детей отвести в садик, под ногами грязь, чумазый троллейбус, потом работа, потом убрать-постирать-накормить... Когда тут прилично одеться?
- Россия - женский ад?
- Да. Уверена, эмансипацию придумали мужчины, чтоб ничего не делать. Если мужчина хочет, чтоб рядом была женщина, пусть относится к ней, не как к тягловой лошади. Пусть горящих изб и скачущих коней будет меньше. У нас, выходя из дома, любая вынуждена доказывать, на что способна. Играть в мужские игры. Подавлять женское начало, что сказывается на внешности. Пожалуй, единственная медийная женщина, остававшаяся женщиной, умевшая одеваться, - Раиса Горбачева. С тех пор могу назвать только Юлию Тимошенко.
- Если мужчины все взвалили на женские плечи, то почему они сами так плохо выглядят?
- Не привито умение следить за собой. Не считают важным. Меня не столь поражает небедный мужчина в старых ботинках, сколько то, что они нечищеные. В принципе, неряшливость - симптом интеллектуального дефицита. Вторая причина - женская нетребовательность. При замученной и ненакрашенной жене любой себя чувствует вальяжно, нет желания сменить рубашку или принять душ - и так, мол, жена никуда не денется. Чем меньше себя любишь, тем меньше рядом красивых мужчин. Мы убиваем своим внешним видом их охотничий ген. Так что революцию надо начинать первыми!
- В России есть иконы стиля?
- Из мужчин назову Меньшикова, Бондарчука и Познера. Они сумели красиво войти в зрелый возраст. Женщина одна - Оксана Фандера. Излишняя театральность Ренаты Литвиновой для меня тяжеловата. Ну а шоу-бизнес наш безобразен - это фэшн-киллеры. И политики то же самое.
- А то, что шьет Литвинова, вам нравится?
- Она ничего не шьет и не придумывает, она лицо бренда. Сейчас правят пиар-менеджеры, и чтобы Московская швейная фабрика стала дизайнерским домом, нужна была легенда, согласно которой Рената спустилась с небес на землю и стала одевать российских женщин. Впрочем, «Zarina» действительно рванула от швейной фабрики, у них можно найти вполне приличные вещи и одеться.
- Что непременно должно быть в женском гардеробе?
- Маленькое черное платье, юбка-карандаш, везде уместная и сексуальная, шпильки с закрытым носом, не обязательно запредельной высоты. Идеально - две пары: черные и цвета нюд - телесного. С ними сочетаются любые вещи.
Еще уместна белая рубашка, классические брюки, черные и серые. И аксессуары: яркие шарфики, перчатки, броши, галстуки, недорогие мелочи. Классические джинсы никого не портят. Да, еще тренч - плащ с поясом и двумя рядами пуговиц. Лучше хорошее пальто, чем дорогая шуба. Оно прибавляет трогательности, подчеркивает силуэт. К нему можно подобрать съемные воротники, шарфы. Нужны две сумки: черная классическая и вторая - любого цвета, на ваш вкус. И конечно, пора вспомнить о головных уборах, научиться носить шляпки. В условиях Севера всем рекомендую трикотажные платья - уютно, комфортно и женственно. И не надо бояться открывать колени, это очень красиво, древнейшее оружие обольщения, в котором знают толк француженки. В Париже я всегда бываю во время недель моды, и город наводняется потрясающе одетыми людьми!
- Одежду каких марок вы предлагаете?
- Мы работаем по правилам европейской модной индустрии. Я байер - закупщик одежды, знаю за полгода вперед, что будут носить в следующем сезоне. Четырежды в год езжу на показы в Париж и Милан. Привожу дизайнерскую одежду для обычных женщин. Недешевую, правда. При этом в своем салоне я не вправе неверно представить коллекцию дизайнера, нарушить его концепцию. В Париже закупаю трикотаж Сони Рикель, в этом году привезу дизайнерскую линейку «Поль Ка», из российских дизайнеров возим Александра Трехова, линию «Люблю» Киры Пластининой, еще заказываю вещи из коллекций Дианы фон Фюрстенберг, американки, которая придумала платье с запахом и лучше всех знает, что такое платье вообще. Главное, заказывая коллекцию, любить тех, кому ее везешь.
- Смена гардероба может изменить сознание?
- Я не волшебник, но если человек пришел и нас слышит, он быстро будет меняться. Но ломать человека нельзя, надо по чуть-чуть двигаться. Нужна мотивация, а для этого достаточно просто посмотреть на себя непредвзято и понять, чего ты хочешь.
Беседовала Татьяна БРИЦКАЯ.
Опубликовано: «Мурманский вестник» от 07.03.2013
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2013030715
|
Веремеев Юрий "Нобелевский прохвост". |
Сначала обширная цитата из всемирно знаменитой книги нобелевского лауреата А.И.Солженицина "Архипелаг Гулаг", этого "голоса совести российской демократии", "классика русской демократической литературы", и т.д. и т.п.:
|
"Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю первую мировую войну в России вёлся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сестры милосердия допускались в Германию к нашим пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну: посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен,- и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату. ….. |
Хлесткие слова, не правда ли? У кого от этих слов сердце не разгорится праведным гневом против "Сталина и его камарильи", да и против "всего бесчеловечного тоталитарного коммунистического режима".
От автора. Еще можно понять, когда этими эпитетами пестрят произведения западных авторов или людей, пострадавших от советской власти (то ли безвинно, то ли по делу). Первые так пишут, защищая свой западный образ жизни, вторые из-за обиды, как, скажем тот же Солженицин.
Но вот когда с экрана телевизора брызжет ненавистью к советскому прошлому человек, который этим самым коммунистическим режимом был взращен и обласкан, который в советские времена бережно носил в кармане партбилет, начинал свою докторскую диссертацию словами "Под мудрым руководством КПСС...", который начинал свои книги словами "Как учит нас наш вождь Иосиф Виссарионович Сталин...." без тени смущения принимал от этого самого режима ленинские и сталинские премии, почетные звания, награды, премии, лауреатства, клеймил с трибуны "этих отщепенцев и политических перерожденцев Даниэля и Синявского", ....
В отношении такого перевертыша и ренегата никаких иных чувств испытывать нельзя, кроме гадливости, брезгливости и презрения. При виде таких людей сразу видится мелкая выслуживающаяся перед новым хозяином умильно виляющая хвостиком шавка, и злобно гавкающая на свое собственное прошлое. Будь то бывший генсек ЦК КПСС М.Горбачев, бывший первый секретарь Свердловского обкома Б.Ельцин или прима-певица народная артистка СССР Г.Вишневская, танкист-капитан В.Резун. Можем ли мы считать их честными и порядочными людьми, к словам которых стоит прислушиваться? Едва ли. Они ведь лгали тогда либо лгут сегодня. Но лгут.
Хотя, по большому счету, всегда ли побег из плена есть высочайшее геройство? Не является ли иногда это лишь исправлением собственной ошибки, искуплением собственного малодушия? А для офицера, и тем паче генерала, само попадание в плен, не является ли тяжелым проступком.? Ведь он подвел своих солдат, которые надеялись на него, шли за ним в бой, верили в то, что их командир все делает правильно, что он выведет их из любой беды. Думается, что немного оснований полагать побег из плена подвигом, а сам плен чем то достойным.
Хотя, разумеется, поддержать своих солдат, оказавшихся в плену стоит, помочь пережить его нужно, добиваться их освобождения необходимо. Но записывать чохом всех вернувшихся из плена в герои означает поставить их вровень в теми, кто дрался за свою страну до конца, погибал в бою, но не сдавался. Не становиться ли такое отношение к бывшим пленным поощрением к бегству с поля боя и укрыванию в плену? Чего греха таить, немало из тех, кто сдавался в плен, исходили из того, что плен это шанс выжить. Правда, они не знали, что немецкий плен таких шансов почти не оставляет
 Хотя, собственно речь не об этом, а об утверждении Солженицына о том, что пленные американцы, англичане, и прочие солдаты западных стран имели возможность отказываться от немецкого пайка и питаться за счет посылок Красного Креста от нейтральных или своих стран.
Хотя, собственно речь не об этом, а об утверждении Солженицына о том, что пленные американцы, англичане, и прочие солдаты западных стран имели возможность отказываться от немецкого пайка и питаться за счет посылок Красного Креста от нейтральных или своих стран.
Вот передо мной фотография 1945 года. Сделана она американским фотографом в американской зоне оккупации, и опубликована она не в газете " Правда", а в книге английского публициста Ричарда Холмеса под названием "World War II in photographs", т.е. "Вторая мировая война в фотографиях" в 2000 году.
Подпись под ней гласит: "Страдания плена запечатлены глубоко в лицах этих британских военнопленных, освобожденных американцами в Гётингене 8 апреля".
Может быть я неверно сделал перевод?
Вот оригинальный текст: "The strain of captivity is etched deep into the faces of these British prisoners of war, liberated by the Americans at Goettingen on April 8.".
Полагаю, что у Холмеса до двухтысячного года было вполне достаточно времени, чтобы разобраться каким был в действительности плен для солдат союзников, чтобы избавиться от эмоций и посмотреть на войну достаточно объективно.
Мне бы очень хотелось, чтобы господин Солженицин А.И. прокомментировал это фото. Что то слишком не похоже, что эти английские солдаты полагали возможным отказываться от гитлеровского пайка, уж очень хорошо питались в немецком плену посылками с родины, и имели "все виды поддержки" через нейтральные страны.
Я не утверждаю, что у британского правительства не было желания облегчить участь пленных солдат британской короны. Я полагаю, что у Черчилля возможностей сделать это было едва ли существенно больше, чем у Сталина. А в связи с этим, слова г.Солженицина "Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла..." мне представляются весьма и весьма далекими от истины.
Заметим, что фото сделано уже после освобождения, когда солдаты смогли отмыться, приодеться и чуток подкормиться у своих союзников.
Правда, я сильно сомневаюсь, что Александр Исаевич захочет дать свой ответ. Уж слишком красноречиво это документальное свидетельство того, что нобелевский лауреат в своих творениях не гнушается самой бесстыдной лжи.
Похоже, что научившись в местах заключения вместо добросовестной работы гнать "тухту" ( это его словечко, которое он в книге разъясняет самым подробным образом), он лагерные привычки перенес и в литературу. В среде уголовников обманывать "фраеров" это святое дело.
Вернемся к цитате из Архипелага. "Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен,- и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату. …"
Не буду спорить относительно западных солдат, побывавших в плену. Не знаю, начисляли им или не начисляли. За Солженицыным вранье не заржавеет.
Но вот как с этим обстояло у нас. Цитирую выдержку из Инструкции о порядке награждения орденами и медалями СССР за выслугу лет в Красной Армии. Она утверждена президиумом Верховного Совета СССР 16 сентября 1944 года.
|
... 6. Время пребывания в плену, окружении и на спецпроверке (в период Отечественной войны) в выслугу лет засчитывается, но только в том случае, если военнослужащий в этот период не был уволен из Красной Армии приказом НКО. |
Се документ! Из него следует, что у нас и время пребывания в плену, и в окружении и т.н. фильтрационных лагерях после плена в выслугу лет засчитывалось! Во всяком случае для награждения. Думается, что уж если бывших пленных сочли достойными награды, то и в общую выслугу плен засчитывался.
Следующий документ. Предваряя его, хочу заметить, что в годы войны, попавшие в плен военнослужащие РККА, числились как пропавшие без вести. Ведь договориться с немцами об обмене списками военнопленных так и не удалось, и наше командование никаким способом не могло знать что стало с военнослужащим, исчезнувшим с поля боя. То ли он погиб, то ли попал в плен. Это не тема настоящей статьи, чья в этом вина. Но юридически, у нас пропавших без вести приравняли к погибшим, распространив на них те же правила обеспечения семей и льготы.
Это приказ НКО № 194 от 30.4. 1943г. " С объявлением Постановления СНК СССР "Об обеспечении семей генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести"". Замечу. что этот приказ дополняет приказ НКО №220 от 13.6.1941г. " С объявлением Постановления СНК СССР "О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям"".
Приказ 1943 года предусматривал выплату женам единовременных пособий, сохранял за ними жилплощадь, устанавливал стипендии учащимся детям и пенсии семьям.
Любопытен пункт 3 этого приказа. Цитирую:
| 3.Распространить Постановление Совета народных Комиссаров Союза СССР № 1447 от 5 июня 1941г. на семьи попавших в плен генералов Красной армии, о которых имеются данные, что они не являются предателями. |
Несложно догадаться, что в отношении генералов установить, что они в плену все же иногда возможно. И приказ особо оговаривает, что только если генерал предал Родину, то его семья не получит ничего. В остальных случаях семья получает пособия и льготы.
Правда, это приказ НКО и Постановление СНК касалось только генералов и старших офицеров. А как дело обстоит в отношении всех остальных?
Вот Постановление Совета Народных Комиссаров СССР. Цитирую его полностью. Оно совсем небольшое:
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР № 632 4 июня 1943 г. Москва, Кремль. О ЛЬГОТАХ ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ И БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 1. Сохранить на все время войны за семьями военнослужащих, погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны, все льготы, предоставляемые семьям военнослужащих, состоящих в Красной Армии, Военно-Морском Флоте и войсках НКВД. 2. Сохранить на все время войны за семьями военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава, погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны, получающими пенсии, все льготы, предоставляемые семьям военнослужащих, получающим государственное пособие согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ |
Да, был знаменитый приказ Ставки Верховного Главнокомандующего № 270 от 16 августа 1941 года, в котором предусматривалось лишать государственной помощи и пособий семьи сдавшихся в плен. Но каким образом во время войны было возможно установить, в плену ли тот или иной военнослужащий или нет? Согласен, что это еще возможно установить в отношении генералов и отдельных лиц, но не в отношении сотен тысяч. То, что человек пропал без вести, становится ясно очень быстро - был человек в строю и нет его. И никто не знает его судьбу. Никто не скажет - разорвало ли его на куски снарядным разрывом, утонул ли он в реке или оказался в руках противника.
Таким образом становится ясно, что пропавших без вести, а значит и попавших в плен, приравнивали к погибшим. Тут Александр Исаевич совершенно прав, жалованье им не начислялось. Но вот их семьям платили пенсии, пособия, давали льготы наравне с павшими. Думается, что красноармейца, томящегося в плену, вряд ли особенно радовало бы, если ему где то в недрах финансовых органов что то там начислялось. А вот то, что его семья сегодня, сейчас получает от государства поддержку, это для него важно.
А вот кончится война, тогда и будем разбираться. Думается, что вполне справедливо будет, если бывшему пленному, который пошел на службу к немцам в качестве добровольного помощника, в охранные, противопартизанское отряды, власовские дивизии, полицию, не зачтут время плена в выслугу лет в Красной Армии, и не начислят ему жалование. Кому служишь, тот пусть и платит, и в той армии засчитывается время выслуги. Едва ли это можно полагать справедливым, если служить одной стороне, а получать жалованье и выслугу от обеих. Даже по демократическим понятиям.
Итак, одно из утверждений нобелевского лауреата опровергается документами и документальным свидетельством. Проще говоря, господин Солженицын в данном случае просто лгал. Лгал самым злостным способом.
Сказано в Святом Писании: "Солгавший единыжды, кто тебе поверит дважды".
В общем то, вдумчивые и внимательные российские граждане уже давно поняли, что Нобелевский комитет это глубоко политизированная организация антироссийск5ого толка, которая в своих решениях очень часто руководствуется не действительным вкладом того или иного писателя в мировую литературу или в достижение мира, а тем, как крепко сей человек насолил России. Не случайно в ряду нобелевских лауреатов из числа руссских все как то по большей части (не все, конечно) оказываются враги нашей страны. Например, Б.Пастернак, И.Бродский, М.Горбачев. Видимо не случайно гениальный российский математик Г.Я.Перельман, доказавший недавно гипотезу Пуанкаре, наотрез отказался от медали Филдса, которую общепринято считать Нобелевской премией для математиков.. Математики, они умеют считать и анализировать. Их на эмоциях не возьмешь. И он очевидно счел для себя неприемлемым ставить свое имя в ряд с человеком, назвавшим нашу страну империей зла (Р.Рейган), человеком, предавшим свою партию и развалившим великую страну (М.Горбачевым), и людьми, зарабатывавшими на мелкорозничной торговле Россией (Б.Пастернак, И.Бродский, А.Солженицин).
В общем, если кого то, из наших сограждан вдруг награждают нобелевской премией, присмотритесь к нему внимательно и задайтесь вопросом, а не прохвост ли это, вроде некоего артиллерийского капитана, сумевшего очень неплохо заработать на своем фактическом дезертирстве с фронта и своих тюремных похождениях.
Источники и литература
1. А.Солженицин. Архипелаг Гулаг. Том 1. Стр 172-173. Новый мир. Москва. 1990г.
2. R.Holmes.World War II in photographs. Carton Books Limited. London. 2000
3.РГВА. Фонд 4, опись 12, дело 110, листы 285-289.
4. Русский Архив. Великая Отечественная. Т 2(3). ТЕРРА-TERRA. Москва. 1997г.
5.РГВА. Фонд 4, опись 12, дело 108, листы 116-117.
6.РГВА. Фонд 4, опись 12, дело 108, лист 213.
По материалам сайта "1941-Операция Барбаросса-1945"
http://operation-barbarossa.narod.ru/su/plen.htm
Метки: великаяотечественная |
Исповедь лейтенанта морской пехоты США. |
Года три назад, сообщает сайт topwar.ru, в одной американской газетке была опубликована почти что исповедь лейтенанта морской пехоты США Майкла Фогетти. В ней описывались события его жизни, происшедшие 40 с лишним лет назад в ходе «одной маленькой, но грязной войны, которую вели США, Алжир, Эфиопия и Сомали». Самому тексту Фогетти необходимо, впрочем, предпослать краткое пояснение: описываемые события разворачиваются в теперь печально знаменитом Аденском заливе. «Tankist», он же «бородатый капитан» – майор Николай Игнатьевич Еременко, командир отдельного батальона 104-й ТБ, приданного миссии ООН.
А вот и сами воспоминания Майкла Фогетти.
Исповедь лейтенанта морской пехоты США
Меня зовут Майкл Фогетти, я – капитан Корпуса морской пехоты США в отставке. Недавно я увидел в журнале фотографию русского памятника из Трептов-парка в Берлине и вспомнил один из эпизодов своей службы. Мой взвод после выполнения специальной операции получил приказ ждать эвакуации в заданной точке, но попасть в эту точку мы так и не смогли.
В районе Золотого Рога, как всегда, было жарко во всех смыслах этого слова. Местным жителям явно было мало одной революции. Им надо было их минимум три, пару гражданских войн и в придачу – один религиозный конфликт. Мы выполнили задание и теперь спешили в точку рандеву с катером, на котором и должны были прибыть к месту эвакуации.
Но нас поджидал сюрприз. На окраине небольшого приморского городка нас встретили суетливо толкущиеся группки вооруженных людей. Они косились на нас, но не трогали, ибо колонна из пяти джипов, ощетинившаяся стволами М-16 и М-60, вызывала уважение. Вдоль улицы периодически попадались легковые автомобили со следами обстрела и явного разграбления, но именно эти объекты и вызывали основной интерес пейзан, причем вооруженные мародеры имели явный приоритет перед невооруженными.
Когда мы заметили у стен домов несколько трупов явных европейцев, я приказал быть наготове, но без приказа огонь не открывать. В эту минуту из узкого переулка выбежала белая женщина с девочкой на руках, за ней с хохотом следовало трое местных ниггеров (извините, «афро-африканцев»). Нам стало не до политкорректности. Женщину с ребенком мгновенно втянули в джип, а на ее преследователей цыкнули и недвусмысленно погрозили стволом пулемета, но опьянение безнаказанностью и пролитой кровью сыграло с мерзавцами плохую шутку. Один из них поднял свою G-3 и явно приготовился в нас стрелять, Marine Колоун автоматически нажал на гашетку пулемета, и дальше мы уже мчались под все усиливающуюся стрельбу. Хорошо еще, что эти уроды не умели метко стрелять. Мы взлетели на холм, на котором, собственно, и располагался город, и увидели внизу панораму порта, самым ярким фрагментом которой был пылающий у причала пароход.
В порту скопилось больше 1000 европейских гражданских специалистов и членов их семей. Учитывая то, что в прилегающей области объявили независимость и заодно джихад, все они жаждали скорейшей эвакуации. Как было уже сказано выше, корабль, на котором должны были эвакуировать беженцев, весело пылал на рейде, на окраинах города сосредотачивались толпы инсургентов, а из дружественных сил был только мой взвод с шестью пулеметами и скисшей рацией (уоки-токи не в счет).
У нас было плавсредство, готовое к походу, и прекрасно замаскированный катер, но туда могли поместиться только мы. Бросить на произвол судьбы женщин и детей мы не имели права. Я обрисовал парням ситуацию и сказал, что остаюсь здесь и не вправе приказывать кому-либо из них оставаться со мной, и что приказ о нашей эвакуации в силе и катер на ходу.
Но, к чести моих ребят, остались все. Я подсчитал наличные силы: 29 «марин», включая меня, 7 демобилизованных французских легионеров и 11 матросов с затонувшего парохода, две дюжины добровольцев из гражданского контингента. Порт во времена Второй мировой войны был перевалочной базой, и несколько десятков каменных пакгаузов, окруженных солидной стеной с башенками и прочими архитектурными излишествами прошлого века, будто сошедшими со страниц Киплинга и Буссенара, выглядели вполне солидно и пригодно для обороны.
Вот этот комплекс и послужил нам новым фортом Аламо. Плюс в этих пакгаузах были размещены склады с ооновской гуманитарной помощью, там же были старые казармы, в которых работали и водопровод, и канализация. Конечно, туалетов было маловато на такое количество людей, не говоря уже о душе, но лучше это, чем ничего. Кстати, половина одного из пакгаузов была забита ящиками с неплохим виски. Видимо, кто-то из чиновников ООН делал тут свой небольшой гешефт. Т. е. вся ситуация, помимо военной, была нормальная, а военная ситуация была следующая…
Больше 3000 инсургентов, состоящих из революционной гвардии, иррегулярных формирований и просто сброда, хотевшего пограбить, вооруженных, на наше счастье, только легким оружием – от «маузеров-98» и «штурмгеверов» до автоматов Калашникова и «стенов», – периодически атаковали наш периметр. У местных были три старые французские пушки, из которых они умудрились потопить несчастный пароход, но легионеры смогли захватить батарею и взорвать орудия и боекомплект.
На данный момент мы могли им противопоставить 23 винтовки М-16, 6 пулеметов М-60, 30 китайских автоматов Калашникова и пять жутких русских пулеметов китайского же производства с патронами 50-го калибра. Они в главную очередь и помогали нам удержать противника на должном расстоянии, но патроны к ним кончались прямо-таки с ужасающей скоростью.
Французы сказали, что через 10-12 часов подойдет еще один пароход, и даже в сопровождении сторожевика, но эти часы надо было еще продержаться. А у осаждающих был один большой стимул в виде складов с гуманитарной помощью и сотен белых женщин. Все виды этих товаров здесь весьма ценились. Если они додумаются атаковать одновременно и с юга, и с запада, и с севера, то одну атаку мы точно отобьем, а вот на вторую уже может не хватить боеприпасов. Рация наша схлопотала пулю, когда мы еще только подъезжали к порту, а уоки-токи «били» практически только на несколько километров. Я посадил на старый маяк вместе со снайпером мастер-сержанта Смити, нашего «радиобога». Он там что-то смудрил из двух раций, но особого толку от этого пока не было.
У противника не было снайперов, и это меня очень радовало. Город находился выше порта, и с крыш некоторых зданий территория, занимаемая нами, была как на ладони, но планировка города работала и в нашу пользу. Пять прямых улиц спускались аккурат к обороняемой нами стене и легко простреливались с башенок, бельведеров и эркеров… И вот началась очередная атака. Она была с двух противоположных направлений и достаточно массированной.
Предыдущие неудачи кое-чему научили инсургентов, и они держали под плотным огнем наши пулеметные точки. За пять минут были ранены трое пулеметчиков, еще один убит. В эту минуту противник нанес удар по центральным воротам комплекса: они попытались выбить ворота грузовиком. Это им почти удалось. Одна створка была частично выбита, во двор хлынули десятки вооруженных фигур. Отделение капрала Вестхаймера – последний резерв обороны, – отбило атаку, но потеряло трех человек ранеными, в т. ч. одного тяжело. Стало понятно, что следующая атака может быть для нас последней: у нас было еще двое ворот, а тяжелых грузовиков в городе хватало. Нам повезло, что подошло время намаза, и мы, пользуясь передышкой и мобилизовав максимальное количество гражданских, стали баррикадировать ворота всеми подручными средствами.
Внезапно на мою рацию поступил вызов от Смити:
- Сэр. У меня какой-то непонятный вызов, и вроде от русских. Требуют старшего. Позволите переключить на вас?
- А почему ты решил, что это – русские?
- Они сказали, что нас вызывает «солнечная Сибирь», а Сибирь – она вроде бы в России…
- Валяй, – сказал я и услышал в наушнике английскую речь с легким, но явно русским акцентом.
- Могу я узнать, что делает United States Marine Corps на вверенной мне территории? – последовал вопрос.
- Здесь – Marine First Lieutenant Майкл Фогетти. С кем имею честь?» – в свою очередь, поинтересовался я.
- Ты имеешь честь общаться, лейтенант, с тем, у кого, единственного в этой части Африки, есть танки, которые могут радикально изменить обстановку. А зовут меня «Tankist».
Терять мне было нечего. Я обрисовал всю ситуацию, обойдя, конечно, вопрос о нашей боевой «мощи». Русский в ответ поинтересовался, не является ли, мол, мой минорный доклад просьбой о помощи. Учитывая, что стрельба вокруг периметра поднялась с новой силой, и это явно была массированная атака осаждающих, я вспомнил старину Уинстона, сказавшего как-то, что если бы Гитлер вторгся в ад, то он, Черчилль, заключил бы союз против него с самим дьяволом, и ответил русскому утвердительно. На что последовала следующая тирада:
- Отметьте позиции противника красными ракетами и ждите. Когда в зоне вашей видимости появятся танки, это и будем мы. Но предупреждаю: если последует хотя бы один выстрел по моим танкам – все то, что с вами хотят сделать местные пейзане, покажется вам нирваной по сравнению с тем, что сделаю с вами я.
Когда я попросил уточнить, когда именно они подойдут в зону прямой видимости, русский офицер поинтересовался, не из Техаса ли я, а получив отрицательный ответ, выразил уверенность, что я знаю, что Африка больше Техаса, и нисколько на это не обижаюсь.
Я приказал отметить красными ракетами скопления боевиков противника, не высовываться и не стрелять по танкам в случае, ежели они появятся. И тут грянуло. Били как минимум десяток стволов калибром не меньше 100 мм. Часть инсургентов кинулась спасаться от взрывов в нашу сторону, и мы их встретили, уже не экономя последние магазины и ленты. А в просветах между домами, на всех улицах одновременно появились силуэты танков Т-54, облепленных десантом.
Боевые машины неслись как огненные колесницы. Огонь вели и турельные пулеметы, и десантники. Совсем недавно казавшееся грозным воинство осаждающих рассеялось как дым. Десантники спрыгнули с брони и, рассыпавшись вокруг танков, стали зачищать близлежащие дома. По всему фронту их наступления раздавались короткие автоматные очереди и глухие взрывы гранат в помещениях. С крыши одного из домов внезапно ударила очередь, три танка немедленно повернули башни в сторону последнего прибежища полоумного героя джихада, и строенный залп, немедленно перешедший в строенный взрыв, лишил город одного из архитектурных излишеств.
Я поймал себя на мысли, что не хотел бы быть мишенью русской танковой атаки, и даже будь со мной весь батальон с подразделениями поддержки, для этих стремительных бронированных монстров с красными звездами мы не были бы серьезной преградой. И дело было вовсе не в огневой мощи русских боевых машин. Я видел в бинокль лица русских танкистов, сидевших на башнях своих танков: в этих лицах была абсолютная уверенность в победе над любым врагом. А это сильнее любого калибра.
Командир русских, мой ровесник, слишком высокий для танкиста, загорелый и бородатый капитан, представился неразборчивой для моего бедного слуха русской фамилией, пожал мне руку и приглашающе показал на свой танк. Мы комфортно расположились на башне, как вдруг русский офицер резко толкнул меня в сторону. Он вскочил, срывая с плеча автомат, что-то чиркнуло с шелестящим свистом, еще и еще раз. Русский дернулся, по лбу у него поползла струйка крови, но он поднял автомат и дал куда-то две коротких очереди, подхваченные четко-скуповатой очередью турельного пулемета с соседнего танка.
Потом извиняюще мне улыбнулся и показал на балкон таможни, выходящий на площадь перед стеной порта. Там угадывалось тело человека в грязном бурнусе и блестел ствол автоматической винтовки. Я понял, что мне только что спасли жизнь. Черноволосая девушка (кубинка, как и часть танкистов и десантников) в камуфляжном комбинезоне тем временем перевязывала моему спасителю голову, приговаривая по-испански, что «вечно сеньор капитан лезет под пули», и я в неожиданном порыве души достал из внутреннего кармана копию-дубликат своего Purple Heart, с которым никогда не расставался, как с талисманом удачи, и протянул его русскому танкисту. Он в некотором замешательстве принял неожиданный подарок, потом крикнул что-то по-русски в открытый люк своего танка. Через минуту оттуда высунулась рука, держащая огромную пластиковую кобуру с большущим пистолетом. Русский офицер улыбнулся и протянул это мне.
А русские танки уже развернулись вдоль стены, направив орудия на город. Три машины сквозь вновь открытые и разбаррикадированные ворота въехали на территорию порта, на броне переднего пребывал и я. Из пакгаузов высыпали беженцы, женщины плакали и смеялись, дети прыгали и визжали, мужчины в форме и без орали и свистели. Русский капитан наклонился ко мне и, перекрикивая шум, сказал: «Вот так, морпех. Кто ни разу не входил на танке в освобожденный город, тот не испытывал настоящего праздника души. Это тебе не с моря высаживаться». И хлопнул меня по плечу.
Танкистов и десантников обнимали, протягивали им какие-то презенты и бутылки, а к русскому капитану подошла девочка лет шести и, застенчиво улыбаясь, протянула ему шоколадку из гуманитарной помощи. Русский танкист подхватил ее и осторожно поднял, она обняла его рукой за шею, и меня внезапно посетило чувство дежавю.
Я вспомнил, как несколько лет назад в туристической поездке по Западному и Восточному Берлину нам показывали русский памятник в Трептов-парке. Наша экскурсовод, пожилая немка с раздраженным лицом, показывала на огромную фигуру русского солдата со спасенным ребенком на руках и цедила презрительные фразы на плохом английском. Она говорила о том, что, мол, это все – большая коммунистическая ложь, и что кроме зла и насилия русские на землю Германии ничего не принесли.
Будто пелена упала с моих глаз. Передо мною стоял русский офицер со спасенным ребенком на руках. И это было реальностью, и, значит, та немка в Берлине врала, и тот русский солдат с постамента в той реальности тоже спасал ребенка. Так, может, врет и наша пропаганда о том, что русские спят и видят, как бы уничтожить Америку?.. Нет, для простого первого лейтенанта морской пехоты такие высокие материи слишком сложны. Я махнул на все это рукой и чокнулся с русским бутылкой виски, неизвестно как оказавшейся в моей руке.
В этот же день удалось связаться с французским пароходом, идущим сюда под эгидою ООН и приплывшим-таки в два часа ночи. До рассвета шла погрузка, Пароход отчалил от негостеприимного берега, когда солнце было уже достаточно высоко. И пока негостеприимный берег не скрылся в дымке, маленькая девочка махала платком оставшимся на берегу русским танкистам. А мастер-сержант Смити, бывший у нас записным философом, задумчиво сказал:
- Никогда бы я не хотел, чтобы русские всерьез стали воевать с нами. Пусть это непатриотично, но я чувствую, что задницу они нам обязательно надерут.
И, подумав, добавил:
- Ну а пьют они так круто, как нам и не снилось. Высосать бутылку виски из горлышка – и ни в одном глазу… И ведь никто нам не поверит: скажут, что такого даже Дэви Крокет не придумает.
Источник:
Сетевое издание КМ.ру ("KM.ru"). http://www.km.ru/v-rossii/2012/03/23/dvoinye-stand...-amerikantsev-russkie-vragi-no
|
КОРНЮШИН Козьма Терентьевич |

КОРНЮШИН Козьма Терентьевич
Родился 1 ноября 1887 г. в с. Новоселки Рыбинского р-на Рязанской обл. в крестьянской семье. Русский. Образование низшее. Член ВКП(б) с 1920 по 1921 г. (исключен за неуплату взносов). Начальник группы Дортехснаба ЮВЖД. Жил в Воронеже: пер. Индустриальный, 2, кв. 7.
Арестован 16 декабря 1937 г. ДТО НКВД ЮВЖД. Обвинялся в участии в антисоветской право-троцкистской террористической и диверсионно-вредительской организации. Осужден 23 октября 1938 г. выездной сессией ВКВС СССР в Воронеже по ст.ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН.
Расстрелян 23 октября 1938 г.
Реабилитирован 31 января 2001 г. Прокуратурой Воронежской обл. П-28466.
Источник: «Книга памяти жертв политических репрессий Воронежской области».
http://www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/8630
|
Понравилось: 1 пользователю
Лапкин Иван Герасимович |
Родился в 1849 г. Проживал: с. Новоселки, Рыбновского р-на Рязанской обл..
Приговор: раскулачивание
Источник: УВД по Рязанской области.
Информация с сайта - «Мемориал. Жертвы политического террора в СССР».
http://lists.memo.ru/d19/f411.htm
|
Перепелкин Семен Степанович. |
Родился в 1888 г., с. Новоселки Рязанской губ.; подрайжилсоюз, счетовод. Проживал: Москва, ул. Чудовка 10, кв. 1.
Арестован 3 октября 1935 г.
Приговорен: Мосгорсуд 13 января 1936 г., обв.: 58-10.
Приговор: 3 г. лишения свободы Реабилитирован в июле 1996 г. Прокуратура г.Москвы
Источник: Прокуратура г.Москвы
http://lists.memo.ru/d26/f87.htm
|
Шустов Андрей Дементьевич. Сайт проекта "Солдаты Победы". |

На сайте проекта "Солдаты Победы" мной размещена информация об отце.
Сссылка:
http://www.soldaty-pobedy.ru/soldiers.aspx?SoldierID=788
|
|
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. |
обоего пола - 4429; из них православного вероисповедания - 4 429.
Эти данные приводятся по изданию: "Населённые места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличнаго в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г." С. Петербург. 1905 г.
|
О ходе коллективизации. |
На общих собраниях гр-н, посвященных вопросам коллективизации, подкулачники Волчков, Шалашов, Морозов и Чужова систематически выступали против колхозов, доказывая гр-нам, что колхоз разорит их. Установлено, что этой агитации содействовали местный священник Смирнов, церковный староста Балашов и председатель церковного совета Алымов; последние хотели созвать общее собрание верующих, но оно не было допущено участковым мил-ром. Все эти лица привлечены по ст. 58/10 УК и взяты под стражу.
(Из Информационной сводки № 1 Административного отдела Рязанского окрисполкома о ходе коллективизации и криминогенной обстановке в округе за январь 1930)
Метки: Репрессии |
Мостинский Игорь. |
О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ, ЕГО РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
Лежит на Оке в десяти километрах от есенинского Константинова большое село Новоселки, родина знаменитых певцов братьев Пироговых, трое из которых Григорий, Алексей и Александр, были солистами Большого театра. Село очень старое. Во времена царя Алексея Михайловича оно принадлежало Солотчинскому монастырю и поставляло в монастырь зерно, рыбу и славные фрукты и ягоды. Эта «садовая» направленность сохранилась в Новоселках до сих пор. Позади каждого дома большой сад, в котором выращиваются на продажу малина, смородина, вишня, слива, крыжовник и яблоки разных сортов.
На рубеже Х1Х-ХХ веков Новоселки были одним из крупнейших сел Рязанской губернии. Число домов в нем приближалось к тысяче, а число жителей - к пяти тысячам человек. Оно вольготно, в несколько параллельных улиц раскинулось вдоль Оки. Примерно пополам Новоселки разрезаются маленькой речушкой Сосенкой, текущей в глубоком каньоне. Старые ветлы, растущие по обоим берегам, своими почти сходящимися кронами закрывают речку от солнечных лучей, создавая внизу какой-то таинственный полумрак. Вода даже в жаркую погоду остается холодной на всем протяжении речушки до впадения её в Оку. Сосенка делит село на собственно Новоселки с церковью, несохранившейся церковно-приходской школой и кладбищем, и на так называемую Заречку, где в начале века были построены две школы, деревянная и каменная. Они принадлежали земству. После революции их преобразовали в Новосельскую неполную среднюю школу.
В среднем течении речушки, в километре от Новоселок, начинается и тянется на добрых два километра большая деревня Паново. Тоже очень старая, по местной легенде даже старше Новоселок, она давно уже соединилась с ними. Вот в этой части большого села в 1910 году была построена по инициативе местных крестьян еще одна земская начальная школа, получившая название Пановской. В 1916 году сюда пришла работать моя тетя Юлия Андреевна Иванкова, а в 1919 году к ней присоединилась её младшая сестра Александра. Школа с самого начала была двухкомплектной, т.е. в ней на четыре класса полагалось два учителя. Учеба всегда велась в одну смену. В одной классной комнате одновременно обучались ученики 1-го и 3-го классов, а в другой - 2-го и 4-го. Одному классу учитель в начале урока давал самостоятельную работу, а с другими занимался. С приходом в Пановскую школу двух сестер Иванковых школа стала «семейной». Такой она сохранилась до конца 50-х годов. Обязанности заведующей все эти годы исполняла Юлия Андреевна, а все хозяйство лежало на Александре Андреевне.
Мне довелось учиться, а временами и жить в Пановской школе во время Великой Отечественной войны. Я учился у Юлии Андреевны два года: в 3-м и 4-м классах. В одной комнате со мной занимались соответственно ученики 1-го и 2-го классов.. Не страдала ли при этом школьная подготовка, приобретение знаний? По-видимому, не очень. По окончании этой школы я вместе с одноклассниками перешел в Новосельскую неполную среднюю школу, где проучился в 5-м и 6-м классах. Надо сказать, что по своим знаниям выпускники Пановской школы не уступали новосельским, но отличались от них в лучшую сторону дисциплиной и самостоятельностью. В селе «пановские» учительницы пользовались большим уважением и любовью, да и как иначе, если к ним, бывало, приходят дед с внуком, и оба были в разное время их учениками. За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность сестры в 1949 году были награждены орденами Ленина.
После ухода на пенсию они купили на стыке Панова и Новоселок маленький, в два окна, домик, отремонтировали его и стали спокойно жить-поживать. Каждое лето к ним приезжал я с семьей, а иногда и старший племянник Владимир Сергеевич Шаршиков, офицер, вышедший в отставку и обосновавшийся в Горьком. Он приезжал с женой. Места всем хватало, «в тесноте - не в обиде». К тому же я с сыном обычно спал в саду в палатке. Жили очень дружно. Когда в августе мы уезжали, тети оставались одно, сильно скучали и ждали прихода следующего лета.
Вдруг осенью 1965 года к ним началось паломничество журналистов. Приходили, просили рассказать что-нибудь о Сергее Есенине и его окружении. Оказывается, их сюда направляли жители Константинова и учителя ближайшей Кузьминской школы. И не случайно, ибо три учебных года с 1916 по 1919-й до перехода в Паново Александра Андреевна Иванкова преподавала в начальной школе села Константиново и, следовательно, должна была знать Есенина. Так оно и было. Но на самом-то деле она познакомилась с ним раньше, примерно в 16-летнем возрасте. Познакомилась и неоднократно встречалась в молодежной компании, собираемой «тетей Капой», незамужней дочерью Константиновского священника отца Ивана (Ивана Яковлевича Смирнова), Капитолиной.
Отец Иван, крестный отец Сергея Есенина, приходился нам дальним родственником. Очень гостеприимный и хлебосольный, он считал себя обиженным, если его родственники, друзья или просто знакомые проезжали через Константиново и не заглядывали к нему. Мои тети Юлия и Александра, оставшиеся сиротами после ранней смерти отца, жили с матерью в ее родовом «гнезде» в Новоселках, и с 1910 по 1912 годы были неоднократными участниками молодежных встреч у тети Капы. Иногда отец Иван даже присылал за ними в Новоселки лошадь и затем так же возвращал их домой.
Обе тети окончили Рязанское епархиальное училище. Младшая, Александра, ровесница Сергея Есенина, училась в одном классе с Анной Сардановской, была знакома со старшей ее сестрой Серафимой и братом Николаем. Все они, тоже родственники отца Ивана, регулярно бывали, даже подолгу жили у тети Капы. Знала Александра Андреевна и друзей Есенина, в т.ч. Сергея Брежнева, Клавдия Воронцова, Тимошу Данилина. Встречи у тети Капы происходили чаще всего зимой во время рождественских каникул. В большом доме отца Ивана молодежь пела, читала стихи, танцевала, частыми были игры, шутки, розыгрыши.
«Однажды я, - вспоминает Александра Андреевна, - утомилась и в каком-то уголке задремала. Сергей Есенин заметил это и разрисовал мне лицо сажей. Когда я проснулась и в таком виде появилась перед веселящейся компанией, то… ну можете сами представить, что было.
Мы любили кататься с горок. Для этого брали розвальни и катались на них с извоза к реке. Иногда они опрокидывались, нередко с помощью Сергея Есенина, и мы оказывались в снегу. В результате - смех, иногда даже слезы, но ни травм, ни обид».
На должность учительницы в Константиново Александра Андреевна попала также с помощью отца Ивана. Узнав, что в Константиновской школе осенью 1916 года открываются новые первые классы (какова была рождаемость!), он и тетя Капа пригласили сюда из недалеких Раменок Юлию Андреевну, но та уже дала согласие на переход в Пановскую школу, как наиболее близкую к родным Новоселкам. Тогда она телеграммой сообщила сестре в Красильники, где та работала, и вызвала ее в Константиново.
В Константинове, вообще хорошо ей знакомом, Александра Андреевна по этикету, была представлена местной помещице. Так она познакомилась с Лидией Ивановной Кашиной, которая приняла ее очень радушно и обещала свое содействие во всех делах.
Сергея Есенина в то время в Константинове не было. Он жил и устраивал свои поэтические дела в Москве и Петрограде. Здесь же он появился несколько позже «первым в стране дезертиром». Одна из встреч с ним в этот период хорошо запомнилась Александре Андреевне. Она рассказывает: «Пришел как-то к нам (я с мамой жила в маленькой комнатке при школе), дает мне толстую книгу и говорит:
- Ты, вот что, учись, как перевязки делать.
- А зачем я этому буду учиться, - отвечаю я.
- Тебя тоже возьмут на фронт.
- А ты-то убежал с фронта? Ты дезертир. А я-то зачем? Я как работаю учительницей, так ею и останусь.
- Ну, поучайся, поучайся, как перевязки разные делать.
- Я все равно не пойду на фронт.
Недовольный, он забрал свою книгу и ушел. Это было, наверное, в 1917 году».
Революция в Константинове прошла относительно спокойно. Немного помитинговали, покричали и… всё. «Вот сейчас говорят и пишут, - продолжает Александра Андреевна, - что на митингах выступал Сергей Есенин. Выступал Сергей, но не Есенин, а Брежнев. Есенин больше молчал. Да и как он мог говорить, когда был дезертиром, сбежал с фронта, а это тогда не приветствовалось народом: «Он сбежал, а наши мужики воюют».
Последний раз Александра Андреевна видела С.Есенина, как ей помнится, осенью 1924 года, когда она по каким-то делам пришла в Константиново. «Это было утром. Он шел навстречу, качаясь, пальто распахнуто, пиджак тоже:
- А, Александра! (Так он всегда звал меня).
- Что же ты, знаменитый поэт, а с утра уже пьян?
- Я здесь отдыхаю. Сейчас вот возвращаюсь со свадьбы.
На этом расстались … навсегда».
Будучи учительницей в Константиновской школе и живя напротив дома Есениных, Александра Андреевна была в близких отношениях с матерью Сергея Татьяной Федоровной. Та часто приходила к ней в школу с просьбой прочитать письмо от Сергея или написать ему. При этом обычно сетовала на свою судьбу, на то, что единственный сын «какой-то непутевый», нет от него надежной поддержки семье, да и сам-то он неустроен.
После смерти Сергея мать ездила в Ленинград, где ей отдали вещи сына. Они были в двух узлах. Один у нее на вокзале украли. «Ну да Бог с ним, - рассказывала она потом Александре Андреевне. – Все вещи, одежа, остались у меня, а там … одни бумаги».
Вспоминала Александра Андреевна еще об одном разговоре с Татьяной Федоровной. Та как-то ехала на пароходике в Рязань. На скамейке напротив сидела дединовская учительница с сынишкой. Белобрысенький, он был очень похож на маленького Сергея в таком же возрасте. Вернувшись домой, Татьяна Федоровна спросила сына, а не его ли этот ребенок. «Мать, - ответил Сергей, - если моих детей привести тебе в дом, у тебя лавок не хватит усадить их.». «Вот это, по-видимому, и был Бровкин, - подытожила Александра Андреевна и продолжала: - Мать его, Мария Парменовна Бальзамова, хорошо знакомая мне еще по Рязанскому епархиальному училищу, была замужем, рано умерла и все «сугубо личное» оставила сыну. Только недавно журналисты вышли на него. Серафима Сардановская их направила. А к ней в Солотчу направляла их я. Оказалось, что Серафима, парализованная, вывезена из Солотчи и лежит в больнице в Рязани, где журналисты и виделись с ней. Мне об этом рассказал рязанский краевед Дмитрий Акимович Коновалов, позже подаривший нам с Юлией книгу «Солотчинские были» (М., 1971).
Эта книга с его автографом сейчас у меня, так же как и поздравительная открытка, подаренная Анютой Сардановской Шуре Иванковой в бытность их воспитанницами Рязанского епархиального училища. А ведь некоторые есениноведы считают Анну Сардановскую первой (и, может быть, последней) настоящей любовью Сергея Есенина. В юности они вроде бы дали слово друг другу пожениться, когда станут взрослыми, но Анна не дождалась. Она рано вышла замуж, рано умерла и похоронена на кладбище в Дединове.
На этом заканчиваются воспоминания Александры Андреевны Иванковой (после неудачного замужества в 20-х годах - Лимоновой) о Сергее Есенине, его родных и близких.
Все, что здесь написано, я слышал от нее многократно, чуть ли не каждый приезд, а бывал я у них в Новоселках ежегодно с 1945 по 1985 год. Пока не ушли из жизни сначала в 1977 году Александра Андреевна, а потом через восемь лет и её сестра Юлия. Похоронены они на Новосельским кладбище в одной могиле с их матерью Евгений Константиновной Иванковой, под ажурным кованым крестом, за солидной металлической оградой. Могила крайняя, на самом углу. От нее открывается красивый вид на Новоселки с кое-как сохранившейся церковью. Вдали за селом видны заливные приокские луга вплоть до Солотчи, на фоне мещерских сосновых лесов можно разглядеть и Солотчинский монастырь.
Так вот. Тети много рассказывали мне о жизни в Новоселках сельской интеллигенции, которая собиралась до революции в доме их дяди - моего деда Ивана Ивановича Мостинского, священника местной церкви. Говорили они о революции на селе, о коллективизации, всеобуче и еще мало ли о чем, что им пришлось пережить за их долгую жизнь. Все это мне было крайне интересно, и я готов был слушать их часами. К сожалению, записей услышанного я не вел. Лишь приобретя в начале 1976 года портативный магнитофон, я записал две такие застольные беседы 9 мая и 29 июля. На следующее лето мы застали Александру Андреевну тяжело больной, и в октябре 1977 года она покинула нас навсегда.
Помимо воспоминаний о Есенине Александра Андреевна оставила краткие, но, на мой взгляд, интересные воспоминания о Лидии Ивановне Кашиной и ее детях.
Итак, познакомились они в 1916 году при вступлении Александры Андреевны в должность учительницы Константиновской земской школы. Лидия Ивановна приняла ее тепло, обещала свое содействие. «И вот по прошествии небольшого времени, не помню, по какому поводу, возможно, это был день святой мученицы Софии, которой престольный праздник Константиновской церкви, отмечаемой в середине сентября по старому стилю, - вспоминает Александра Андреевна, - в школу приходит посыльная от Лидии Ивановны с приглашением меня на вечер в дом Кашиных. У нас, конечно, переполох. Что надеть, как причесаться? Хотя особого выбора у меня не было - жили мы очень небогато. В конечном счете мы с мамой решили, что я оденусь, как на занятия в школу». Для сестер Иванковых это значило белоснежная хорошо выглаженная кофточка, вычищенная отутюженная юбка, начищенные туфли и аккуратная, строгая прическа. Такими я помню их даже в тяжелые годы войны. «Мама благословила меня, - продолжала Александра Андреевна, - и я с трепетом переступила порог барского дома. Здесь собралась вся сельская интеллигенция: конечно, священник, учителя, фельдшер, кое-кто из чиновников. Большинство из них мне были знакомы. Лидия Ивановна, приветливо встретив, приободрила меня. Вечер прошел хорошо, и с этого раза я стала частой гостей в ее доме. Дети Кашиных, сын Юра и дочь (не помню ее имени), учились дома. Приглашенные из города учителя обучали их по индивидуальным программам. Однако время от времени Лидия Ивановна обращалась ко мне с просьбой разрешить детям присутствовать на моих уроках. Я, конечно, с радостью соглашалась. Дети посещали уроки своих сверстников. Они садились за свободную парту, очень внимательно все слушали, с удовольствием читали и писали. Живое общение учеников с учителем и между собой было им в новинку и по-настоящему захватывало их».
Лидию Ивановну в селе любили. Она была со всеми добра, приветлива, не раз помогала нуждающимся, особенно в случае болезни. Революция не сказалась на их отношениях. Ни на барский дом, ни на хозяйство Кашиных никто не позарился. Все оставалось по-прежнему, пока глубокой осенью 1918 года в Константиново не приехал карательный отряд. Лидию Ивановну, по-видимому, кто-то предупредил, и она уехала из дома. Каратели стали наводить свои «революционные» порядки. Имение было отобрано. Дети вместе с их няней, экономкой и гувернанткой были выселены из дома. Их посадили на телегу, позволили взять необходимые вещи, дали продукты, корову, лошадь и отправили в Белый хутор, небольшое имение брата Лидии Ивановны. Там он жил с женой и детьми. Однако в этот момент брат тоже счел за благо скрыться от карателей.
Детей Кашиных выселили, а в их комнату в мансарде тут же в приказном порядке поселили Александру Андреевну с мамой. Вот как она описывает этот тяжелый момент: «Ох, что я там пережила-то, Господи! Вошла я в комнату, где жили дети. Валяются на полу куколки. Девочка перед выселением, видимо, играла, а мальчик читал - на его столе остались раскрытыми книжки. Внизу сразу стали что-то ломать, сколачивать. Захожу туда. На полу валяется большая фотография детей. Я не выдержала, подошла к мужикам и говорю: «Разрешите мне взять эту фотографию. Вам она не нужна, а детишкам память, какими они были маленькими». Мне не возразили: «Возьми!» И я взяла. Там же на полу валялась фотография их деда, Кулакова, но она меня не интересовала. Фотографию же детей я потом переправила в Белый хутор».
«Мы с мамой стали жить в бывшей детской комнате, - продолжает Александра Андреевна. – В углу стоял большой комод, как мне сказали, с детскими вещами. Ну, стоит и стоит. Вдруг приходит к нам няня выселенных детишек и показывает записку-разрешение властей выдать подательнице некоторые детские вещи, т.к. наступила зима, начались морозы. Я и говорю: «Да отбирайте сами. Я не смотрела, что в комоде, ничего не принимала. Так, что надо, берите». Няня взяла необходимое и ушла. Потом, какое-то время спустя, она пришла еще раз… потом еще. Дети Л.И.Кашиной прожили на Белом хуторе до лета 1919 года, а затем родители взяли их к себе в Москву. Здесь они стали учиться в обычной школе и окончили ее. Насколько я знаю, высшего образования они не получили, но как-то устроились в жизни».
«Незадолго до войны, - вспоминает Александра Андреевна, - мы с Юлией приехали в Рязань и зачем-то зашли к Брежневым. Там в этот момент оказался и Юра Кашин. Лидия Ивановна уже умерла. Как выяснилось, Кашины не теряли связи с Брежневыми в течение всех прошедших лет. Юра подошел ко мне, взял мою руку и поцеловал ее: «Александра Андреевна, как мы Вам благодарны. Вы спасли нас. Приходившая к Вам наша няня брала не столько наши детские вещи, сколько спрятанные там фамильные драгоценности. На них-то мы и прожили самые тяжелые годы».
С тех пор прошло более полувека. Не осталось в живых никого из тех, о ком вспоминала Александра Андреевна. На Ваганьковском кладбище в Москве, где похоронен Сергей Есенин, по другую сторону главной аллеи, на Мочаловской аллее на втором ряду 11-го участка стоит скромный памятник - доска с цветником. На доске написано: Кашина Л.И. 1886 – 1937, Багадурова Н.Н. 1908 – 1951, Кашин Г.Н. 1906 – 1985.
Так все Константиновские Кашины перебрались сюда. Последний - Георгий, в детстве Юра.
Слово. М., 2002, № 1 (январь-февраль), с. 150-165
Источник: Сайт "Сергей Есенин)" (http://serge-esenin.jimdo.com/)
Метки: Мостинский Паново |
Муратов Иван Иванович |
Метки: великаяотечественная |
Муратов Иван Яковлевич. |

МУРАТОВ Иван Яковлевич.
Род. Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Новосёлки, рядовой,
504 сп, 107 сд, пропал без вести 14.08.42г.
Источник: Книга памяти. Рязанская область. Том 7. Стр. 90.
Рязань. Издательство «Стиль»,1999. Издательство «Пресса», 1999.
Метки: великаяотечественная |
Муратов Дмитрий Иванович. |

МУРАТОВ Дмитрий Иванович.
Род 1918 г., Рязанская обл., Рыбновский р-н, гв. ст. лейтенант,
343 гв. сп, 119 гв. сд, погиб 13.02.44 г.
Источник: Книга памяти. Рязанская область. Том 7. Стр. 90.
Рязань. Издательство «Стиль»,1999. Издательство «Пресса», 1999.
Метки: великаяотечественная |
Муратов Василий Николаевич. |

МУРАТОВ Василий Николаевич.
Род. Рязанская обл., Рыбновский район, с. Новосёлки, рядовой, п\п 14173,
погиб 11.08.43 г., место захоронения Смоленская обл., Спас-Деменский р-н.
Источник: Книга памяти. Рязанская область. Том 7. Стр. 90.
Рязань. Издательство «Стиль»,1999. Издательство «Пресса», 1999.
Метки: великаяотечественная |