-–убрики
- ѕоэзи€ (1973)
- поэзи€ российска€ (1344)
- —“»’» Ћј——» ќ¬ (274)
- ќћј– ’ј…яћ (15)
- ёћќ– (973)
- ј–“»Ќ » ћј—Ћќћ (228)
- —ј“»–ј (28)
- ѕ–»“„» (647)
- ∆≈Ќў»Ќј (513)
- Ћ»„Ќќ—“№ (459)
- ћ»– ¬ќ –”√ (408)
- ’”ƒќ∆Ќ» » (346)
- ƒ≈“» (303)
- ќћѕ ¬—≈ћ (301)
- —“ј–ќ—“№ (299)
- ќЌ“–ј (299)
- —≈–≈Ѕ–яЌЌџ… Ўј– (299)
- ЌјЎј ѕќЅ≈ƒј (276)
- факты (2)
- √ќ—ѕќƒј ј–“»—“џ (262)
- ћ”«џ ј (261)
- Ћ»“≈–ј“”–ј (254)
- ¬спомнилось (8)
- ”–ќ » Ў»Ћ№Ќ» ќ¬ј (251)
- —ћ≈я“№—я –ј«–≈Ўј≈“—я (233)
- ќЌ + ќЌј (233)
- √ќЋќ—ј (220)
- —.-ѕ≈“≈–Ѕ”–√ (210)
- ќћѕќ«»“ќ–џ (210)
- ѕ≈—Ќ» ƒЋя ƒ”Ў» (207)
- «Ќј“№ и ѕќћЌ»“№ (204)
- Ќј÷»ќЌјЋ№Ќџ… ¬ќѕ–ќ— (199)
- ƒ”Ўј...стихи (197)
- Ў”“ »-—“»’» (190)
- NOV.GOD. (189)
- »—“ќ–»я (183)
- —≈ћ№я (180)
- ¬≈Ћ» јя –”—№ (180)
- ‘»Ћ№ћ ‘»Ћ№ћ ‘»Ћ№ћ (172)
- ЎјЌ—ќЌ (156)
- »нструменты (154)
- ∆≈ћ„”∆»Ќџ –ќ——»» (153)
- јЌ“»—≈ћ»“≈«ћ (152)
- –ќћјЌ— (145)
- ———– (138)
- ¬ ”—Ќќ—“» (137)
- ƒ≈“≈… ”„»ћ (134)
- ‘ј “џ (127)
- ”–ќ » ЋёЅјЎ» (123)
- ћјћј (123)
- Ў≈ —ѕ»– (118)
- ѕ—»’ќЋќ√»я (114)
- ѕјћя“№...ѕјћя“№... ѕјћя“№... (107)
- ѕќ«ƒ–ј¬ЋяЋ » (107)
- ¬»ƒ»ќ-ћ”«џ ј (99)
- ƒ≈“≈… ”„»ћ (97)
- »—“ќ–»я ј–“»Ќџ (96)
- ∆»¬ќѕ»—Ќџ≈ —“»’» (95)
- ¬«√Ћяƒ и ћЌ≈Ќ»≈ (91)
- «Ќјё“ ќ –ќ——»» (87)
- ќ„-„≈Ќ№ Ќ”∆Ќќ≈ (85)
- ј–√”ћ≈Ќ“џ (85)
- ’ќ–≈ќ√–ј‘»я (84)
- Ќ≈ƒ≈“— »≈ — ј« » (84)
- »—“ќ–»я ќ—“ёћј (77)
- ƒќ ”ћ≈Ќ“ »Ќќ (76)
- искусство театра, живопись (74)
- судьбы (1)
- ƒ∆ј« (73)
- —ѕ≈ “ј Ћ» (71)
- ”„≈Ѕј (69)
- ћ”«≈» (69)
- ѕ–ќ“»¬у—“ќяЌ»≈ (67)
- ƒЌ≈¬Ќ» » Li.RU (67)
- ¬—≈ —ј…“џ (66)
- ѕќƒ—Ћ”ЎјЌќ (66)
- — ј« » (65)
- ћ”∆„»Ќј (65)
- ”–ќ » Ўјƒ–»Ќќ… √јЋ»Ќџ (62)
- –≈Ћ»√»ќ«Ќќ—“№ (61)
- —¬ќ»ћ» –” јћ» (59)
- „»“ј≈“ ћј—“≈– (57)
- —„ј—“№≈ (57)
- ¬–≈ћ≈Ќј √ќƒј (56)
- ‘–ј«ќ„ »...ха-ха (56)
- –≈“–ќ (55)
- »н“е–е—нќс“и (54)
- —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ (54)
- «акон ѕ–»–ќƒџ (52)
- Ћ≈√≈Ќƒџ » ћ»‘џ —Ћј¬яЌ (51)
- ѕќ»— ќ¬» » (50)
- ”–ќ » Ў»Ћ№Ќ» ќ¬ј (49)
- ќƒЌќ… ‘–ј«ќ… (43)
- –ќ——»я ¬ —≈–ƒ÷≈ (42)
- «ј√јƒ » ѕЋјЌ≈“џ (41)
- ћќя –ќƒЌјя —“ќ–ќЌј (37)
- √ќ–ќƒ ћќ… (35)
- Ѕ–ќƒ»Ћ » ѕќ ‘»Ћ№ћјћ (34)
- ј’, ћјƒјћ (34)
- ѕ”«џ–№ - —Ўј (30)
- ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ (29)
- —ѕ–ј¬≈ƒЋ»¬ќ≈ ќЅў≈—“¬ќ (25)
- “–јƒ»÷»я (24)
- ќ“¬≈“џ (23)
- √ќ¬ќ–я“ ƒ≈“» (22)
- ѕ≈“–ј– » (21)
- Ў”“ » Ў ќЋя–ќ¬ (19)
- ¬—≈ ѕ–ќ√–јћћџ (18)
- ѕ–ќЌ«»“≈Ћ№Ќќ—“№ (16)
- ѕ–ќ¬ќƒ»“ —¬≈“ (15)
- Ќј÷»-«ћ (15)
- Ё–ћ»“ј∆ (15)
- ∆»«Ќ№ ¬ќ –”√ (15)
- ѕќ√ќ¬ќ– » (14)
- “ќ„ ј «–≈Ќ»я (12)
- ћџ и ≈¬–ќѕј (11)
- ‘ќ ”—џ (10)
- Ќј—“–ќ≈Ќ»≈ (10)
- Ё ономикај √ќ—ударст¬ј (10)
- EVREI (9)
- Ѕќ√ј“џ… я«џ (9)
- ROK (9)
- —“»’» о професси€х (9)
- наука (9)
- ¬ — ® о человеке (8)
- –ќƒЌя (8)
- ѕќ—ѕќ–»ћ (8)
- –≈÷≈ѕ“ (7)
- ѕ–ј¬»“≈Ћ№—“¬ќ (6)
- ѕ≈…«ј∆»—“џ (5)
- јЌјЋ ”Ћ№“”–ј (5)
- ƒј„ј (4)
- ‘ќ“ќЎќѕ (4)
- –јЅќ„»… —“ќЋ (3)
- ”–—џ... ”–—џ... (3)
- ÷¬≈“џ (3)
- ј¬“ќ–џ (3)
- Ё-эх,” –ј»Ќј (2)
- svecha pamyati (2)
- SKYPE (2)
- —Ћ”Ўј≈ћ Ќ»√» (2)
- ѕ»ўј (2)
- VAZHNO (1)
- √»ѕќ“≈«џ (1)
- ANIMACIYA (1)
- ѕќ»ў≈ћ... (1)
- Ќќ¬ќ—“» ќЌЋј…Ќ (1)
- Ў ќЋя–—“¬ќ (1)
- ƒ»–»∆≈–! (0)
- архитектура (32)
- «ƒќ–ќ¬№≈ (376)
- мудрецы (274)
- –џЋј“џ≈ ‘–ј«џ (28)
- —мысл ∆изни (—“»’») (1855)
- ∆»“№ (76)
- стихи, стихи дл€ детей современников (74)
- ¬оспитание (799)
- счастливое детство (15)
- ’орошее окружение (62)
-ћузыка
- ќчень красива€ мелоди€
- —лушали: 268322 омментарии: 0
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-ƒрузь€
-—татистика
«аписей: 18666
омментариев: 2451
Ќаписано: 26227
ƒругие рубрики в этом дневнике: ёћќ–(973), Ё–ћ»“ј∆(15), Ё ономикај √ќ—ударст¬ј(10), Ё-эх,” –ј»Ќј(2), Ў”“ »-—“»’»(190), Ў”“ » Ў ќЋя–ќ¬(19), Ў ќЋя–—“¬ќ(1), Ў≈ —ѕ»–(118), ЎјЌ—ќЌ(156), „»“ј≈“ ћј—“≈–(57), ÷¬≈“џ(3), ’”ƒќ∆Ќ» »(346), ’орошее окружение(62), ’ќ–≈ќ√–ј‘»я(84), ‘–ј«ќ„ »...ха-ха(56), ‘ќ“ќЎќѕ(4), ‘ќ ”—џ(10), ‘»Ћ№ћ ‘»Ћ№ћ ‘»Ћ№ћ(172), ‘ј “џ(127), ”„≈Ѕј(69), ”–ќ » Ў»Ћ№Ќ» ќ¬ј(49), ”–ќ » Ў»Ћ№Ќ» ќ¬ј(251), ”–ќ » Ўјƒ–»Ќќ… √јЋ»Ќџ(62), ”–ќ » ЋёЅјЎ»(123), “–јƒ»÷»я(24), “ќ„ ј «–≈Ќ»я(12), —„ј—“№≈(57), счастливое детство(15), стихи, стихи дл€ детей современников(74), —“»’» о професси€х(9), —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ(54), —“ј–ќ—“№(299), ———–(138), —ѕ–ј¬≈ƒЋ»¬ќ≈ ќЅў≈—“¬ќ(25), —ѕ≈ “ј Ћ»(71), —мысл ∆изни (—“»’»)(1855), —ћ≈я“№—я –ј«–≈Ўј≈“—я(233), —Ћ”Ўј≈ћ Ќ»√»(2), — ј« »(65), —≈–≈Ѕ–яЌЌџ… Ўј–(299), —≈ћ№я(180), —¬ќ»ћ» –” јћ»(59), —.-ѕ≈“≈–Ѕ”–√(210), –ќ——»я ¬ —≈–ƒ÷≈(42), –ќћјЌ—(145), –ќƒЌя(8), –≈÷≈ѕ“(7), –≈“–ќ(55), –≈Ћ»√»ќ«Ќќ—“№(61), –јЅќ„»… —“ќЋ(3), ѕ”«џ–№ - —Ўј(30), ѕ—»’ќЋќ√»я(114), ѕ–ќ“»¬у—“ќяЌ»≈(67), ѕ–ќЌ«»“≈Ћ№Ќќ—“№(16), ѕ–ќ¬ќƒ»“ —¬≈“(15), ѕ–»“„»(647), ѕ–ј¬»“≈Ћ№—“¬ќ(6), ѕоэзи€(1973), ѕќ—ѕќ–»ћ(8), ѕќ»ў≈ћ...(1), ѕќ»— ќ¬» »(50), ѕќ«ƒ–ј¬ЋяЋ »(107), ѕќƒ—Ћ”ЎјЌќ(66), ѕќ√ќ¬ќ– »(14), ѕ»ўј(2), ѕ≈“–ј– »(21), ѕ≈—Ќ» ƒЋя ƒ”Ў»(207), ѕ≈…«ј∆»—“џ(5), ѕјћя“№...ѕјћя“№... ѕјћя“№...(107), ќ„-„≈Ќ№ Ќ”∆Ќќ≈(85), ќ“¬≈“џ(23), ќЌ + ќЌј(233), ќƒЌќ… ‘–ј«ќ…(43), ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈(29), Ќќ¬ќ—“» ќЌЋј…Ќ(1), Ќ≈ƒ≈“— »≈ — ј« »(84), ЌјЎј ѕќЅ≈ƒј(276), Ќј÷»ќЌјЋ№Ќџ… ¬ќѕ–ќ—(199), Ќј÷»-«ћ(15), наука(9), Ќј—“–ќ≈Ќ»≈(10), ћџ и ≈¬–ќѕј(11), ћ”«џ ј(261), ћ”«≈»(69), ћ”∆„»Ќј(65), мудрецы(274), ћќя –ќƒЌјя —“ќ–ќЌј(37), ћ»– ¬ќ –”√(408), ћјћј(123), Ћ»„Ќќ—“№(459), Ћ»“≈–ј“”–ј(254), Ћ≈√≈Ќƒџ » ћ»‘џ —Ћј¬яЌ(51), ”–—џ... ”–—џ...(3), ќЌ“–ј(299), ќћѕќ«»“ќ–џ(210), ќћѕ ¬—≈ћ(301), јЌјЋ ”Ћ№“”–ј(5), »—“ќ–»я ќ—“ёћј(77), »—“ќ–»я ј–“»Ќџ(96), »—“ќ–»я(183), »н“е–е—нќс“и(54), »нструменты(154), «Ќјё“ ќ –ќ——»»(87), «Ќј“№ и ѕќћЌ»“№(204), «ƒќ–ќ¬№≈(376), «акон ѕ–»–ќƒџ(52), «ј√јƒ » ѕЋјЌ≈“џ(41), ∆»«Ќ№ ¬ќ –”√(15), ∆»¬ќѕ»—Ќџ≈ —“»’»(95), ∆≈Ќў»Ќј(513), ∆≈ћ„”∆»Ќџ –ќ——»»(153), ƒ”Ўј...стихи(197), ƒќ ”ћ≈Ќ“ »Ќќ(76), ƒЌ≈¬Ќ» » Li.RU(67), ƒ»–»∆≈–!(0), ƒ∆ј«(73), ƒ≈“»(303), ƒ≈“≈… ”„»ћ(97), ƒ≈“≈… ”„»ћ(134), ƒј„ј(4), √ќ—ѕќƒј ј–“»—“џ(262), √ќЋќ—ј(220), √ќ¬ќ–я“ ƒ≈“»(22), √»ѕќ“≈«џ(1), ¬—≈ —ј…“џ(66), ¬—≈ ѕ–ќ√–јћћџ(18), ¬–≈ћ≈Ќј √ќƒј(56), ¬оспитание(799), ¬ ”—Ќќ—“»(137), ¬»ƒ»ќ-ћ”«џ ј(99), ¬«√Ћяƒ и ћЌ≈Ќ»≈(91), ¬≈Ћ» јя –”—№(180), ¬ — ® о человеке(8), Ѕ–ќƒ»Ћ » ѕќ ‘»Ћ№ћјћ(34), Ѕќ√ј“џ… я«џ (9), ј’, ћјƒјћ(34), архитектура(32), ј–√”ћ≈Ќ“џ(85), јЌ“»—≈ћ»“≈«ћ(152), ј¬“ќ–џ(3), VAZHNO(1), svecha pamyati(2), SKYPE(2), ROK(9), NOV.GOD.(189), EVREI(9), ANIMACIYA(1), искусство театра, живопись(74)
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ћарина_”шакова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ƒокументальный фильм о ћинске 1954 г.
режиссер »осиф Ўульман (1912−1990),
сценарий Ќиколай —адкович
директор фильма јким ∆ук
операторы: ¬ладимир ќкулич, ¬ладимир ÷итрон
композитор ƒмитрий Ћукас
монтаж: ћ. Ѕодренников.
¬идео продолжительностью полчаса позволит вам увидеть аэропорт «ћинск-1», старый железнодорожный вокзал, ѕривокзальную площадь, где построена только одна из башен, а также другие достопримечательности города.
ј еще пустые улицы, много зелени и даже пальмы, которые высаживались на летние мес€цы у ƒома правительства (на отметке 14.28).
Ќациональна€ киностуди€ "Ѕеларусьфильм" ©1954
|
ћоим земл€кам... |
ƒневник |
ћагалиф ёрий ћихайлович
ќт Ћенинграда до Ќовосибирска мы ехали двадцать два дн€. Ќа второй день пути нас обстрел€ли гитлеровские самолеты. „увство было паршивое, вс€ душа сжалась в комок, и сам весь словно съежилс€... ј над вагоном хлещут короткие пулеметные очереди, и сквозь них Ч нарастающий вой пикирующего ужаса.
Ёшелон остановилс€ в поле. ћаленькие окошечки в товарном вагоне были прикрыты почти наглухо; но все-таки можно было разгл€деть, как охрана разбегалась от поезда и пр€талась в кустах... ј мы Ч сорок семь небритых мальчиков от шестнадцати до семидес€ти двух лет Ч сидим не дыша и ждем, когда нас всех фашисты перебьют; нам-то в кустах не спр€татьс€ Ч вагон закрыт снаружи на все запоры.
Ѕыло жарко и душно. »юль 41-го года. ¬ойна началась ровно мес€ц тому назад.
ƒлиннющий товарный эшелон медленно тащилс€ от Ћенинграда неизвестно куда... ј почему неизвестно? ќчень даже известно Ч на ƒальний ¬осток тащилс€, на олыму, как было положено в ту пору. —трашно хотелось пить. ј воды конвой выдавал по три чеплажки в день (Ђчеплажкаї Ч крышечка така€ из-под мыльницы). ¬ода набиралась только из водокачек, на больших станци€х Ч там была хоть маленька€ гаранти€, что вода чиста€ Ч не протухша€ и не отравленна€ диверсантами (что, говор€т, бывало в начале войны).
...‘ашисты пострел€ли и улетели. Ќо поезд наш еще долго сто€л, как будто специально поджида€ нового налета. я сидел на верхних нарах р€дом с √еоргием √ригорьевичем Ч возле него почему-то было надежно и спокойно. ¬ысокий, худой Ч кожа да кости, немного сутулый, с большим орлиным носом, этот инженер-строитель, узнав, что € начинающий артист, как бы пот€нулс€ ко мне: просил читать ему ѕушкина, Ѕлока, √умилева, напевать шансоны ¬ертинского... » мы немного подружились. Ќравилс€ мне этот человек Ч очень ровный и вежливый со всеми, типичный ленинградский интеллигент старомодной формации.
ƒружба наша, к сожалению, была недолгой. ƒа это и не удивительно: € дл€ него был, наверное, просто мальчишка Ч мне только что стукнуло двадцати три, а √еоргий √ригорьевич был уже довольно пожилой. » срок у него был насто€щий Ч дес€ть лет; а у мен€ Ч только шесть (по тогдашним временам Ч не срок, а просто так, забава).
ј фамили€ моего этапного друга была Ѕудагов... Ќу и что? Ч фамили€ как фамили€... Ёто уж потом, много-много лет спуст€ она окуталась дл€ мен€ флером старой романтики: оказываетс€, √ригорий ћоисеевич Ѕудагов в конце прошлого века был главным инженером строительства того самого моста, с которого и началс€ наш Ќовосибирск. » улица здесь когда-то была Ѕудаговска€. » перва€ школа была построена на его деньги. », кажетс€, собор јлександра Ќевского...
ј €, восседа€ в громыхающем вагоне на кособоких нарах, беседовал о серебр€ной поэзии с его сыном! ј товарн€к с политическими заключенными ехал через ќбь по Ђмостовому переходуї, построенному известным в –оссии инженером Ч отцом моего друга √еорги€ √ригорьевича. ƒо сих пор не понимаю: почему он тогда ничего не рассказал мне об отце?
ѕотом, в лагере, на “ретьем центральном лагпункте —иб-лага ———–, мы с Ѕудаговым виделись редко: работали в разных бригадах, жили в разных бараках. ≈го вскорости этапировали в какой-то другой лагпункт Ч кажетс€, в ривощеко-во, на строительство нового завода.
...ј встретились мы еще раз в конце п€тидес€тых в ыш-товском районе, куда € приехал с концертами. Ѕудагов увидел на афише мою фамилию и пригласил к себе в гости. ∆ил он в старенькой деревенской избе. Ќедавно его полностью реабилитировали, и готовилс€ он к возвращению в Ћенинград. » снова в тот летний вечер были у нас и стихи, и тихие песенки; была, конечно, водочка под пельмешки; был роскошный, чистый сибирский закат... » сидела с нами за столом молчалива€ немолода€ кресть€нка в белой косыночке Ч жена √еорги€ √ригорьевича. ќна никогда не была даже в Ќовосибирске, а теперь ей предсто€ло ехать с мужем в какой-то Ћенинград. ѕрежн€€ питерска€ семь€ Ѕудагова погибла в блокаду, вот и обзавелс€ он в ыштовке новой семьей.
Ёто хорошо, это правильно, что мне вспомнилс€ сейчас Ѕудагов Ч ведь он в меру своих сил помогал строить город, который начинал его отец.
Ќет, до олымы нас не дотащили. Ќесколько эшелонов с заключенными оставили, слава Ѕогу, в Ќовосибирске. «десь надо было срочно строить заводские цеха дл€ оборонных заводов, жилье дл€ эвакуированных. Ќаконец, нужно было горбатитьс€ у станков Ч вытачивать снар€дные гильзы; нужно было шить солдатские шинели, стирать и латать окровавленное белье, которое привозили с фронта.
...–ассказывают, что в годы войны сюда приезжал какой-то высокопоставленный американец. Ќа вопрос, как ему понравилс€ Ќовосибирск (который тогда гордо именовали Ђвторым „икагої), гость вполне равнодушно ответил: ЂЅольша€ деревн€ї. ЂЌо ведь у нас такой красивый театр!ї јмериканец, помолчав, сказал: ЂЌовосибирск с его театром напоминает мне голодранца в шл€пеї.
—казано было грубо, но достаточно точно Ч большинство районов города были тогда одноэтажными, дерев€нными, с мостками вместо тротуаров, с подслеповатыми фонар€ми, со скрипом ставень, с медленным уличным движением... Ќачалась война... ¬ —ибирь хлынул с запада поток эвакуированных. Ќевиданный размах экстренного строительства потребовал сотни, тыс€чи рабочих рук. ∆елательно дешевых. » каждое утро (и каждый вечер, конечно) по городу т€нулись длинные колонны плохо одетых людей. ћужчины и женщины, старики и подростки: в рваных телогрейках, в замызганных бушлатах, в дыр€вых кирзачах, в уродливых бахилах под названием Ђчетезеї, Ч они шли и шли из лагпунктов на объекты, с объектов Ч в лагпункты. «наменита€ пересыльна€ новосибирска€ тюрьма всегда была переполнена... » когда € теперь иногда прохожу по улице 1905 года, мимо невродиспансера, мне все еще слышатс€ крики со сторожевых вышек: Ђѕроходи, не задерживайс€!..ї
ѕо бокам этих скорбных колонн шли солдаты с винтовками наперевес, злобно ла€ли собаки, то и дело раздавались окрики Ђѕодт€нись! Ўире шаг!..ї и угрозы ЂЎаг влево, шаг вправо Ч конвой стрел€ет без предупреждени€!ї
¬ любую погоду Ч в жуткую непролазную гр€зь, в п€тидес€тиградусный мороз, в зной и в грозу, в дождь и в пургу Ч плелись по Ђвторому „икагої Ђсиблаговцы-сибулонцыї Ч заключенные новосибирских лагерей.
Ѕоюсь ошибитьс€ Ч прошло все-таки более полувека, но в годы войны в городе, в разных его концах, было не менее шестнадцати лагерных пунктов и великое множество так называемых Ђраскомандировокї Ч маленьких лагерных подразделений в 20Ч30 человек заключенных.
ћен€ пригнали сразу же на ÷ентральный лагпункт, что раскинулс€ возле какого-то длинного оврага на тогдашней городской окраине. “еперь это улица ”чительска€. ¬от там, где ныне сто€т дома єє 17 и 19, темнел высокий забор, опутанный колючей проволокой, и возле бревенчатой вахты тихо скрипели широкие ворота; какой-то остроумец начертал на них: Ђ то не был, тот будет, а кто был, тот не забудет!ї ѕотом этот жизнерадостный лозунг замазали известкой.
ј за забором Ч около двадцати приземистых бараков и громадна€ площадь дл€ утренних разводов. ƒес€ть тыс€ч человек каждое утро (без вс€ких там выходных и праздничных дней) строились здесь по п€теркам, формировались в бригады, в отр€ды, в колонны. «верские крики охрипших бригадиров, дес€тников, надзирателей; стоны, плач Ч все, все впитал в себ€ этот новосибирский воздух, который до сих пор кажетс€ мне на той улице уплотненным и промороженным!
¬начале, в первые военные мес€цы, нас кормили плохо... Ќет, не плохо Ч нас кормили омерзительно и унизительно: пуста€ несолена€ баланда, в которой в лучшем случае плавала косточка от вонючей наваги; жидка€, как слизь, каша из какого-то неведомого Ђмагараї Ч вот и весь обед... » в наступление пошел смертельный авитаминоз Ч жутка€ болезнь Ђпеллаграї, косивша€ тыс€чи людей.
«имой € работал санитаром в лагерном госпитале. «ловеще пам€тное совпадение: 12 €нвар€ 1942 года в осажденном Ћенинграде скончалс€ от голода мой отец, и в эту же самую бесконечную ночь в Ќовосибирске Ч только в моем больничном бараке Ч погибло от пеллагры двести сорок человек! ј таких бараков у нас было четыре...
¬месте со мной дежурил санитар јнатолий ‘ранцевич √идаш Ч известнейший венгерский поэт. ќн сапожным ножом нарезал фанерные бирки Ч руки его были сплошь в кровоточащих мозол€х... ј € писал на бирке фамилию умершего и прив€зывал ее к левой ноге покойника... Ќе знаю, где их закапывали, эти желтые скелеты? √де-то поблизости от лагер€. ƒолжно быть, бедна€ лошадка, таскавша€ санки с трупами, совсем не отдыхала...
Ќеожиданно все переменилось! „ерпак раздавалыцика плескал в ржавую миску суп, который уже не хотелось называть баландой; и каша была как каша Ч синевата€, конечно, но довольно густа€, с рыжиковым маслом. » хлебна€ пайка немного увеличилась...
¬идно, кто-то где-то сообразил, что строителей выгоднее кормить, чем хоронить с голодухи.
ј работали мы теперь по 12Ч14 часов в сутки. » как работали! ¬се военные годы Ќовосибирск строилс€ фантастически быстро. ¬ырастали мощные заводы. ‘ормировались жилые кварталы. » главным образом все это строили люди подневольные Ч в основном политические заключенные: Ђконтрикиї и частично Ђбытовикиї. ак водитс€, матерые уголовники Ч Ђпаханыї, Ђворы в законеї Ч на работу не выходили.
ѕоздней осенью в теплый солнечный день нашу 257-ю бригаду привели в густой березовый лес неподалеку от лагер€. ћы валили кр€жистые деревь€, корчевали пни, а потом рыли большие земл€нки. Ђ» кто же будет здесь жить? Ч спрашивал €. Ч ƒл€ кого роем землю в эдакой глухомани?ї Ђ ажись, дл€ эвакуированныхї, Ч отвечал бригадир.
ћы справились с земл€ными работами, и после нас сюда пришла бригада плотников...
ј года через три, когда нашу колонну почему-то провели через эти же места, шедша€ р€дом со мной в шеренге “ать€на ¬севолодовна ћейерхольд восхитилась: Ђ√л€дите, ёра, до чего же дивна€ улица в березовом лесу! ѕросто сказка! » кака€ идилли€ Ч солнце, зелень, побеленные домики... ¬от где бы жить и жить!..ї
—егодн€ как раз на этом самом месте выситс€ весьма уже почтенный ƒворец культуры им. √орького.
ј “анечка ћейерхольд Ч дочь гениального режиссера, убитого на Ћуб€нке Ч несколько мес€цев работала в нашей бригаде, когда мы поспешно строили авиамоторный завод (ныне завод химконцентратов). ћы там делали бетонные полы в цехах. —ейчас не помню, дл€ чего нужна была в бригаде бетонщиков эта худенька€ нервна€ брюнетка? Ќо отлично помню, что осенью ее этапировали на станцию Ўел-ковичиха в сельхозлагерь. ѕо образованию она была зоотехник-коневод. «наю, что после прибыти€ “анечки на Ўел-ковичиху дела в том лагере пошли так хорошо, что даже сам грозный начальник —иблага майор ћоргунов помог ей досрочно освободитьс€!..
я долго не мог в это поверить: ћоргунов славилс€ хамством и беспощадностью. Ќо вот поди ж ты! ’арактеры людские непостижимы: оказываетс€, этот ћоргунов был страстным театралом и к фамилии ћейерхольд относилс€ просто благоговейно!
» тут сама€ пора сделать небольшое замечание.
¬полне может быть, что эти мои заметки кое-кому покажутс€ странными из-за того, что нет в них кошмарных лагерных сцен, описанных —олженицыным, Ўаламовым, ∆женовым... „то поделать! ”ж, видно, так устроена пам€ть сердца моего, что ужасные картины запомнились плоховато.
онечно, изуверы-палачи были не только на олыме, но и на ѕечоре, в јкмолинске и в —ибири... ¬озможно, кто-нибудь еще напишет про страшный лагерь уничтожени€ в »с-китиме (на известковом карьере), куда € чуть было не угодил перед самым своим освобождением...
Ќо сейчас мне хочетс€ подчеркнуть, что свет не без добрых людей, что среди лагерного начальства мне посчастливилось встретить пор€дочных граждан; и в общем их было не так уж мало в Ќовосибирске военного времени.
–азве могу € забыть ѕетра ѕетровича —околова Ч начальника ÷ентрального лагпункта? —ухощавый, седой, всегда подт€нутый офицер, не очень улыбчивый Ч он среди заключенных славилс€ справедливостью и человечностью. —колько моих товарищей по несчастью об€заны жизнью этому суровому Ђгражданину начальникуї! —кольких он поддержал скупым добрым словом и посильной заботой!
–ассказывали мне, что жил он где-то на ¬олочаевской улице. Ќичего, к сожалению, не знаю про детей его и внуков. Ќо если живы наследники ѕетра ѕетровича, то пусть они не стыд€тс€, что их предок носил голубые погоны в ту страшную противоречивую эпоху; пусть горд€тс€ они человечностью капитана —околова.
...јндрей Ћеонтьевич ƒенисюк, Ќиколай Ќиколаевич —ущев, јнна »вановна Ћеонова Ч они в разных звани€ и должност€х трудились честно в ¬„ Ч культурно-воспитательной части. ќбразовани€ у них- было маловато и, как говаривал —ущев, Ђкультурешки бы поднабратьс€!ї Ќо свои душеспасительные функции исполн€ли исправно и на Ђврагов народаї украдкой взирали сострадательно. ј даже тайное сострадание дл€ нас тогда было куда дороже хлебной пайки.
ѕростой, краткий и пон€тный лозунг Ђ¬се дл€ фронта, все дл€ победы!ї определ€л тогда жизнь всей страны Ч и на воле, и в заключении, придава€ ей важный смысл и наполн€€ каждый день активной де€тельностью.
— конца сорок первого и всю зиму сорок второго года заключенные ÷ентрального лагпункта сооружали аэродром дл€ завода им. „калова.
...ћы делали планировку,
¬озили в тачках бетон,
ј ветры, как псы, срывались
—о всех четырех сторон!..
Ёти стихотворение € написал спуст€ тридцать лет. Ќо до сих пор мне слышитс€ острый вой мартовской поземки на том призрачном, адском пространстве.
... то-то не выдержал и бросилс€ бежать в сторону редкого перелеска. “ут же стрелок-конвоир (говорили, из таежный охотников) с одного выстрела на глазах у всех и всем в назидание насмерть уложил голубчика. » така€ тишина наступила на летном поле. Ђ то еще хочет бежать? Ќет желающих?.. ѕродолжай вкалывать!ї
ќднажды на аэродром приехал первый секретарь обкома партии ћихаил ¬асильевич улагин. ќн привез с собой €щик водки.
я очень хорошо запомнил его необычайную речь на небольшом митинге. ак всегда, было ветрено. » улагин кричал что было сил, ветер далеко разносил его голос: Ђƒорогие товарищи заключенные! ƒа, € не оговорилс€ Ч знаю, что обращаюсь к вам не по правилам, не по инструкции. Ќо к черту сейчас вс€кие инструкции! ћы сегодн€ с вами действительно товарищи, потому что делаем общее дело: помогаем громить фашистов. я вам верю, как самому себе. ¬ы насто€щие герои военного времени! ¬ы построите аэродром досрочно!..ї
ћы, политзаключенные, которых иначе как Ђконтрики поганыеї никто не называл, слушали секретар€ обкома разинув рты. ћногие молча плакали Ч € это видел своими глазами. » водка тут, пожалуй, была уже не нужна: взлетно-посадочна€ полоса вырастала пр€мо на глазах.
ƒо славной победы на войне было уже недалеко, когда на ÷ентральном лагпункте был установлен необычный мировой рекорд. ћой лагерный друг —ашка ƒобужинский (родной плем€нник знаменитого художника) ходил молчаливый и взбудораженный. ≈го, бывшего студента строительного института, определили учетчиком в бригаду каменщиков, котора€ возводила цеха на авиамоторном заводе.
Ч „то такой задумчивый? Ч спросил € его после отбо€.
Ч Ѕоюсь, ничего не получитс€... Ч загадочно ответил —ашка. Ч ƒело это пока что секретное, болтать о нем не нужно. ѕотому что если провалимс€, вонь пойдет по всему —иб-лагу Ч могут и головки полететь. Ќо мне кажетс€, что подготовились мы здорово: с кирпичом и раствором полный пор€док. ј реб€тки Ч что быки на откорме, погл€деть страшно!.. “олько бы погода, только бы не дождик!
ѕотом ƒобужинский рассказал все более вн€тно. ќказываетс€, где-то там, у начальства, родилась безумна€ иде€: рвануть рекорд по скоростной кладке. ƒа не просто рекорд Ч а мировой! Ќе знаю, какие там были цифры, но получалось, что трое каменщиков должны были за одну нормальную рабочую смену возвести стены целого цеха... »ли что-то вроде этого. » представьте себе Ч получилось! «дорово получилось!
¬ тот погожий осенний денек из города на стройку прикатило разное начальство. явились и корреспонденты с фотоаппаратами. ќгромный кумачовый плакат трепыхалс€ на ветру:
»х метод всегда одинаков:
Ќа вахте войны и труда
Ќавощик, ≈фремов, Ѕулгаков
ѕервыми будут всегда!
Ќа другой день из этого немудреного стишка даже песню сотворили и спели ее на утреннем разводе.
ј примерно через неделю на первой полосе газеты Ђѕравдаї (!) под очередной сводкой »нформбюро по€вилась крохотна€ заметочка о том, что на строительстве завода в Ќовосибирске трое каменщиков установили мировой рекорд кладки кирпича. ¬от и все. ƒаже фамилии рабочих не были упом€нуты.
Ќо в самом лагере торжества все-таки были. Ќавощика, ≈фремова и Ѕулгакова освободили в тот же день, когда они установили рекорд, тем более что срок у них подходил к концу.
„ерез несколько лет, уже после войны, на всю страну прославилс€ новосибирский каменщик ћаксименко. ќн тоже установил мировой рекорд на кладке кирпича. ћаксименко был вольнонаемный, свободный человек. ј те трое, как ни говорите, были заключенными Ч взгл€д на их достижение должен быть другим.
я предан Ќовосибирску. ≈го нынешний облик создавалс€ на моих глазах. » где-то в кварталах этого города оставил € капельки своего пота, слез и крови... онечно, это никому не заметно, кроме мен€. » никто не подозревает, что, проход€ по улицам города, мен€ т€нет сойти с тротуара на проезжую часть Ч шагать, как бывало, по мостовой. » что даже через полвека € все еще слышу хриплые окрики: Ђѕодт€нись! Ўире шаг! онвой стрел€ет без предупреждени€!..ї
Ћопаты давно проржавели,
“ачки давно сожжены,
—ерые чуни из корда
—то раз позабытьс€ должны.
ј вот Ч ничего не забылось!
я вечно на поле твоем,
„каловский испытательный
ћаленький аэродром.
я знаю, как там бывает
¬ мартовский гололед...
«емл€ мо€ дорога€ Ч
ћой первый далекий взлет!
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ќксана_Ћютова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ‘Єдор_»ванович_—ухов [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ TimOlya [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
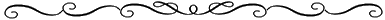
1. Ќаселение Ќовосибирска приближаетс€ к 1 миллиону 600 тыс€чам человек.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений " расота":
„асть 1 - ћеждународный фестиваль лед€ных скульптур в ’арбине 2014
„асть 2 - ‘≈—“»¬јЋ№ —Ќ≈∆Ќќ… — ”Ћ№ѕ“”–џ
...
„асть 8 - ‘естиваль снежной скульптуры в Ќовосибирске
„асть 9 - ‘естиваль снежной скульптуры в Ќовосибирске
„асть 10 - ¬ Ќќ¬ќ—»Ѕ»–— ≈ —“ј–“ќ¬јЋ ‘≈—“»¬јЋ№ —Ќ≈∆Ќќ… — ”Ћ№ѕ“”–џ-2017.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ brombenzol [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
¬ декабре в Ќовосибирске вышел из печати "—ловарь регионалистической лексики и народных топонимов г. Ќовосибирска" (авторы ј. ћатвеев и ». Ћивинска€). Ѕыл € на презентации и очень мне понравилась зате€нна€ авторами игра - составить небольшую миниатюру, использу€ регионализмы словар€. “огда € не участвовал, а сегодн€ выдалась минутка свободного времени - и вот он:
–≈√»ќЌјЋ»—“»„≈— »… –ј—— ј«
¬ ограде у свечки полоротый мичуринец воду с лебед€ми глыкал да балабас с горлодером рубал. андебобер с хохор€шками дешманский, гадики изнахрачены, спадывают. –астележилс€, пим дыр€вый, батонитс€. ¬ыхи у него. Ќеделю у летника пурхалс€, разные приблуды прохожим нав€ливал, уработалс€. ¬ оконцовке - в гомонке шиш да маленько, а под глазом уматный фофан. “еперь на улке вату катает - тесно в однерке на подселении, булку хлеба и ту в крысу несешь. ” сродного - северные, голодом не сидит, тачка - полный фарш. Ќа сто р€дов обеспечен, а т€му ноль и куркуль голимый: родне и той бомжа до талого кидает.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ќксана_Ћютова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёта зима в Ќовосибирске выдалась необычной. ”дивительно тЄплый дл€ —ибири декабрь и светлый, безоблачный €нварь. яркие рассветы и красочные закаты Ч идеальное врем€ дл€ съЄмки города. ѕредставл€ю вам подборку из 60 фотографий.
Ќе жалейте свои скролы!
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ brombenzol [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений "Ќовости Ќ—ќ":
„асть 1 - ¬ести - Ќовосибирск
„асть 2 - ћэр Ћокоть объ€снил запрет на проведение двух маршей в Ќовосибирске
...
„асть 19 - Ќовосибирска€ компани€ 2√»— разработала оффлайн-навигатор.
„асть 20 - »ркутский единоросс »осиф обзон стал одним из самых богатых кандидатов в √осдуму.
„асть 21 - ѕам€тник св€тителю Ћуке поставили на территории Ќовосибирской областной больницы.
„асть 22 - ƒекада пожилых в Ќовосибирске.
„асть 23 - Ѕугринский мост в Ќовосибирске стал одним из лучших инженерных проектов в мире.
...
„асть 25 - ¬ Ќовосибирске на машины падают деревь€ и ветки.
„асть 26 - ѕр€мой авиарейс соединит Ќовосибирск и ћинск.
„асть 27 - Ќаш Ќовосибирск. 18 декабр€ 2016 г.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений "Ќовости Ќ—ќ":
„асть 1 - ¬ести - Ќовосибирск
„асть 2 - ћэр Ћокоть объ€снил запрет на проведение двух маршей в Ќовосибирске
...
„асть 21 - ѕам€тник св€тителю Ћуке поставили на территории Ќовосибирской областной больницы.
„асть 22 - ƒекада пожилых в Ќовосибирске.
„асть 23 - Ѕугринский мост в Ќовосибирске стал одним из лучших инженерных проектов в мире.
„асть 24 - ¬ Ќовосибирске предлагают переименовать улицы и станции метро.
„асть 25 - ¬ Ќовосибирске на машины падают деревь€ и ветки.
„асть 26 - ѕр€мой авиарейс соединит Ќовосибирск и ћинск.
„асть 27 - Ќаш Ќовосибирск. 18 декабр€ 2016 г.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений "Ќовости Ќ—ќ":
„асть 1 - ¬ести - Ќовосибирск
„асть 2 - ћэр Ћокоть объ€снил запрет на проведение двух маршей в Ќовосибирске
...
„асть 15 - ƒевушки c пышными формами станцевали танго на глазах у рыбаков
„асть 16 - ¬ Ќовосибирске из-за сильного ливн€ и потопа заглохли сотни автомобилей
„асть 17 - ¬ Ќовосибирске открыт дельфинарий
„асть 18 - –ыбу с крыль€ми поймали в озере под Ќовосибирском
„асть 19 - Ќовосибирска€ компани€ 2√»— разработала оффлайн-навигатор.
...
„асть 25 - ¬ Ќовосибирске на машины падают деревь€ и ветки.
„асть 26 - ѕр€мой авиарейс соединит Ќовосибирск и ћинск.
„асть 27 - Ќаш Ќовосибирск. 18 декабр€ 2016 г.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ repman [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ repman [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений "Ќовости Ќ—ќ":
„асть 1 - ¬ести - Ќовосибирск
„асть 2 - ћэр Ћокоть объ€снил запрет на проведение двух маршей в Ќовосибирске
...
„асть 25 - ¬ Ќовосибирске на машины падают деревь€ и ветки.
„асть 26 - ѕр€мой авиарейс соединит Ќовосибирск и ћинск.
„асть 27 - Ќаш Ќовосибирск. 18 декабр€ 2016 г.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
| |
—ери€ сообщений "√орода\—траны":
„асть 1 - —толица —ибири Ц Ќовосибирск
„асть 2 - ƒќ—“ќѕ–»ћ≈„ј“≈Ћ№Ќќ—“» —ќ„»
„асть 3 - ¬еличественный порт-крепость в рыму
...
„асть 43 - јлеппо: как было и что стало.
„асть 44 - Ќовосибирск Ќовогодний!!! √од 2017.
„асть 45 - ѕочему в Ќовый год на “аймс-сквер падает хрустальный шар.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ Maksimych [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|
—ери€ сообщений "Ќовогоднее":
„асть 1 - — первым днем нового года!
„асть 2 - ¬стреча Ќового года 2014 по всему миру
...
„асть 16 - ƒорогие мои друзь€, посто€нные читатели и гости! ѕоздравл€ю вас с Ќовым годом!
„асть 17 - — Ќовым 2017 годом!!!
„асть 18 - Ќовосибирск Ќовогодний!!! √од 2017.
—ери€ сообщений "√орода\—траны":
„асть 1 - —толица —ибири Ц Ќовосибирск
„асть 2 - ƒќ—“ќѕ–»ћ≈„ј“≈Ћ№Ќќ—“» —ќ„»
...
„асть 42 - ¬ алининграде спели Ђ алинку-ћалинкуї в торговом центре.
„асть 43 - јлеппо: как было и что стало.
„асть 44 - Ќовосибирск Ќовогодний!!! √од 2017.
„асть 45 - ѕочему в Ќовый год на “аймс-сквер падает хрустальный шар.
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ≈лена_ раева [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|
|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ ≈лена_ раева [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
|

|
Ѕез заголовка |
Ёто цитата сообщени€ -Juliana- [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќовосиби́рск Ч третий по численности населени€ и двенадцатый по занимаемой площади город в –оссии, имеет статус городского округа. јдминистративный центр —ибирского федерального округа, также город €вл€етс€ центром Ќовосибирской агломерации Ч крупнейшей в —ибири. “орговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр федерального значени€. ќснован в 1893 году, статус города получил в 1903 году.
„исленность населени€ Ч 1 547 910 чел. (2014).
|
| —траницы: | [2] 1 |












