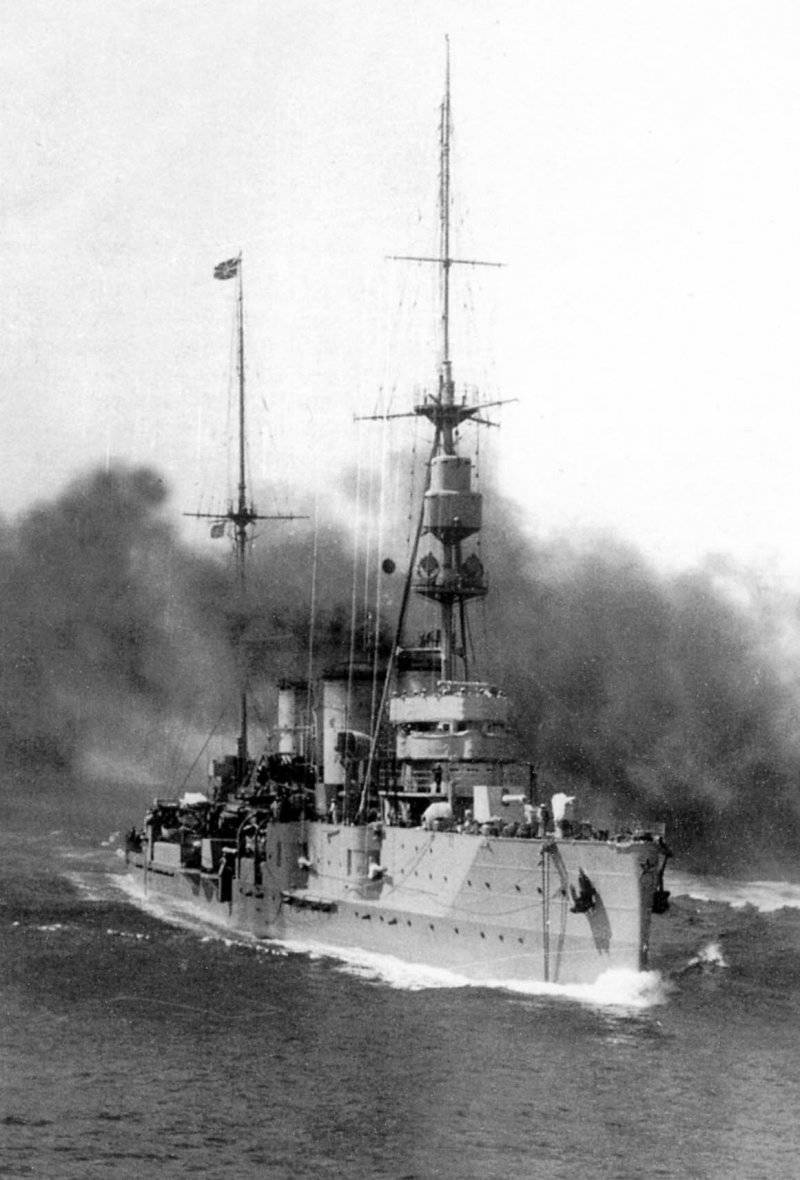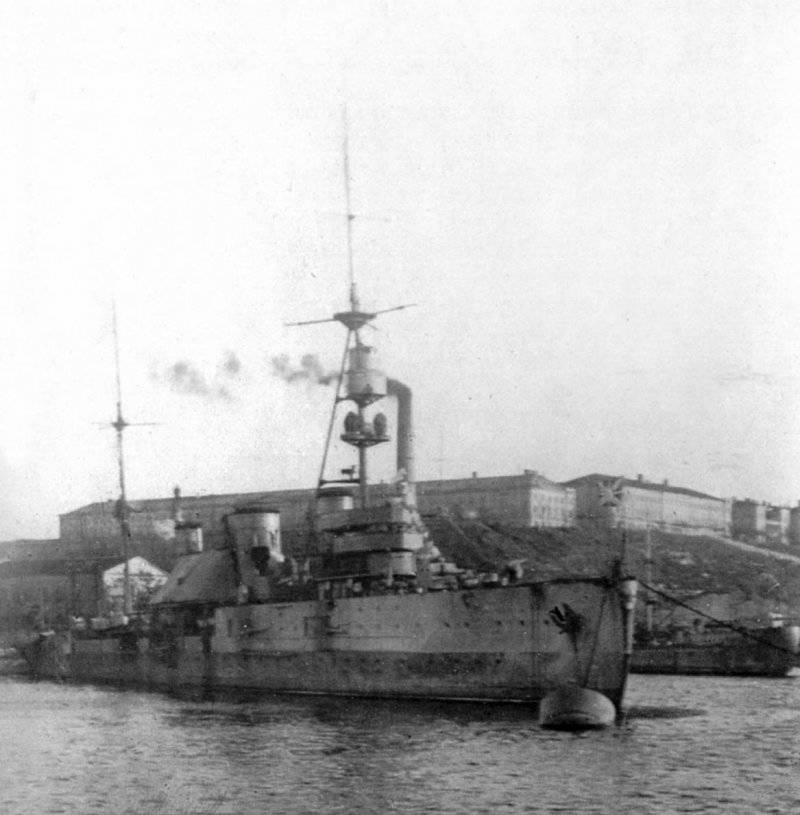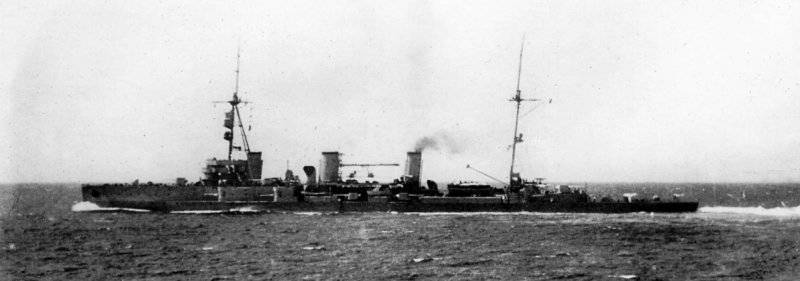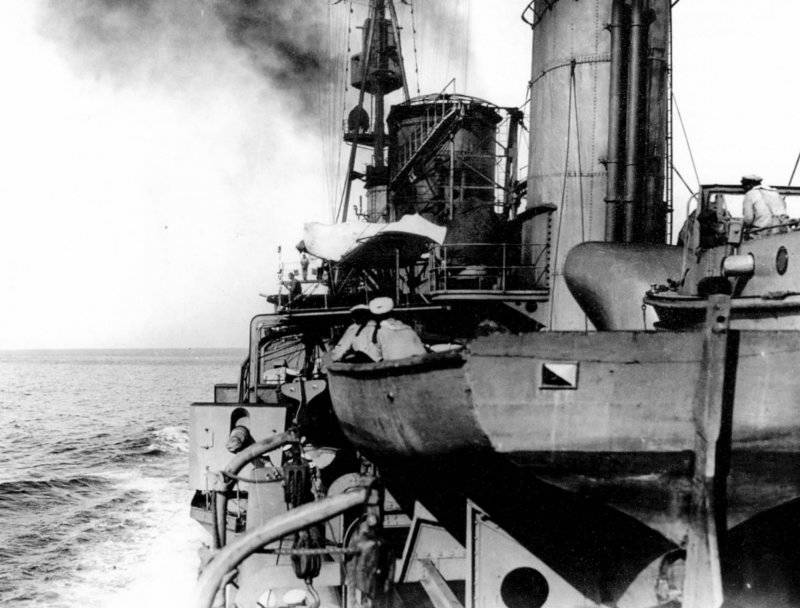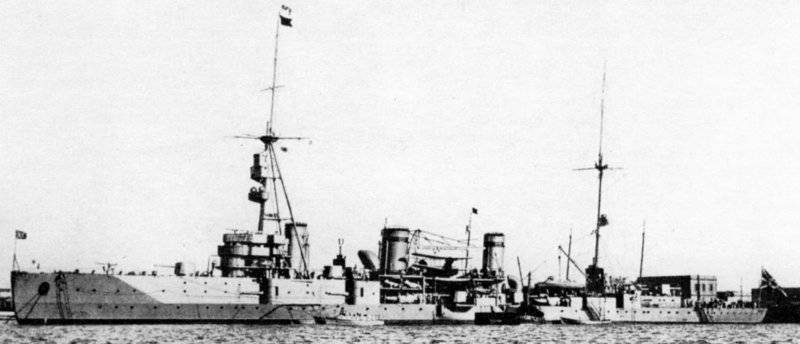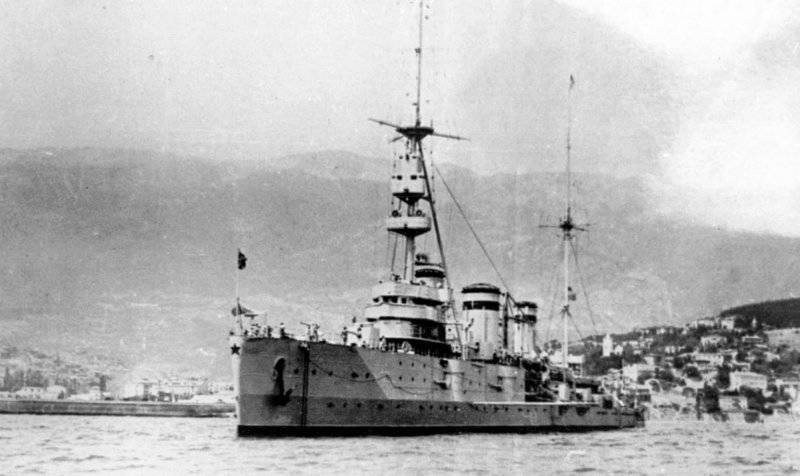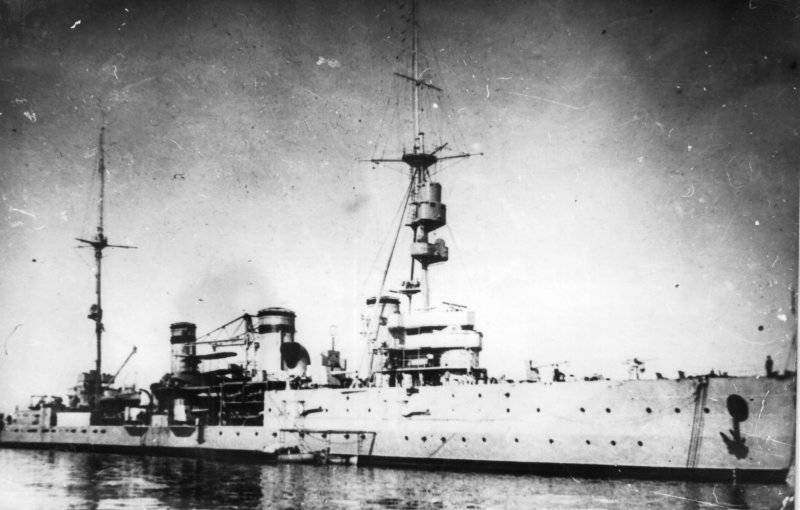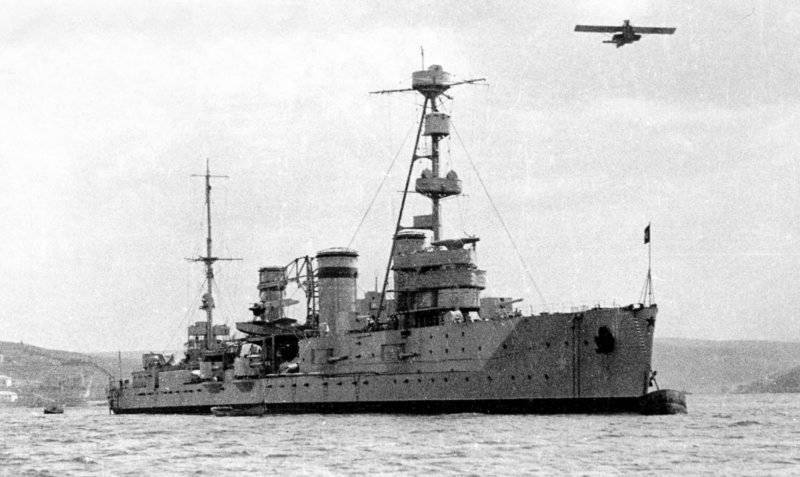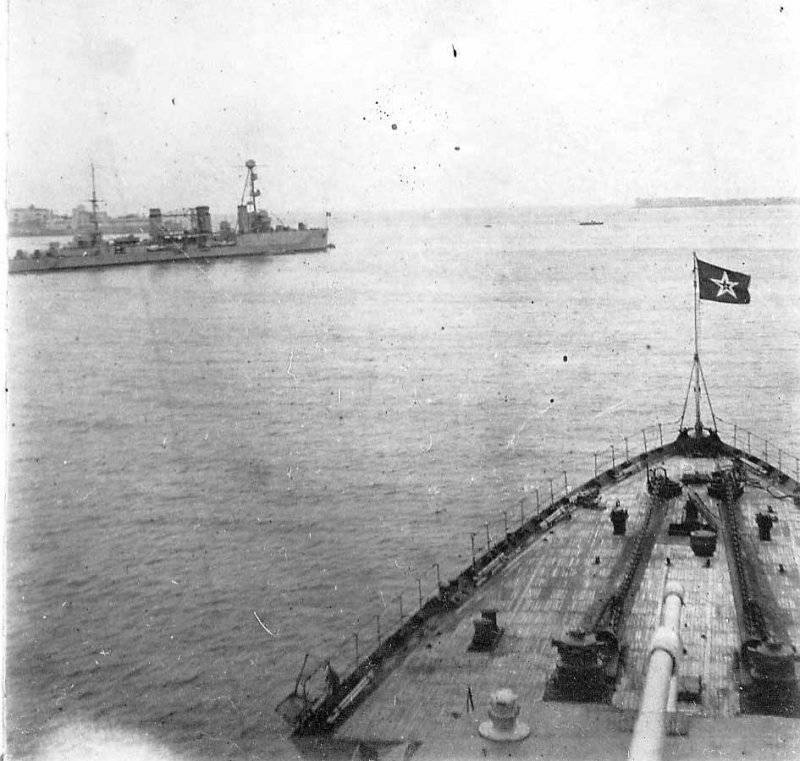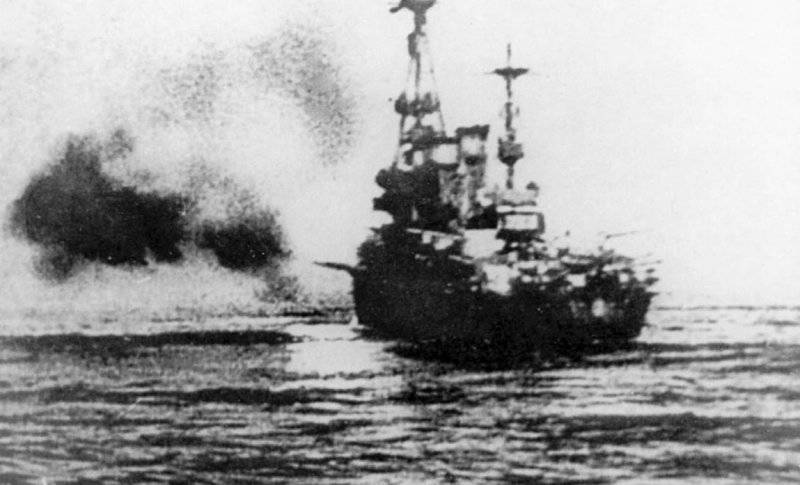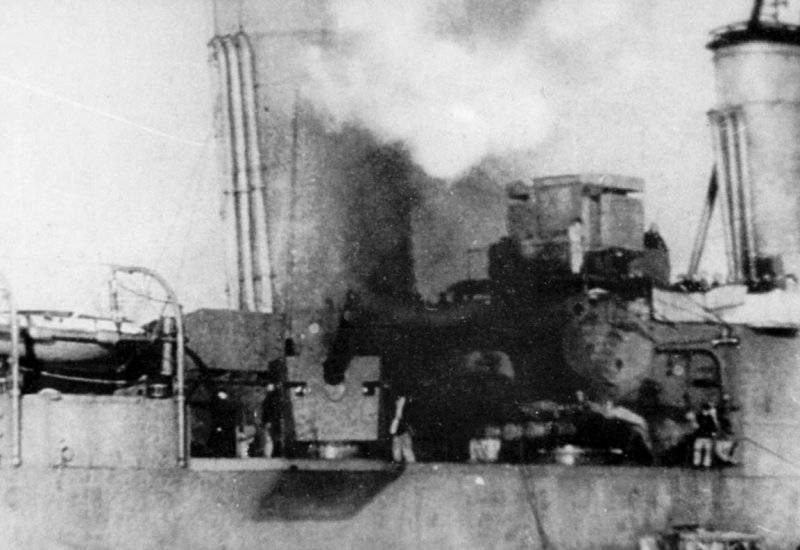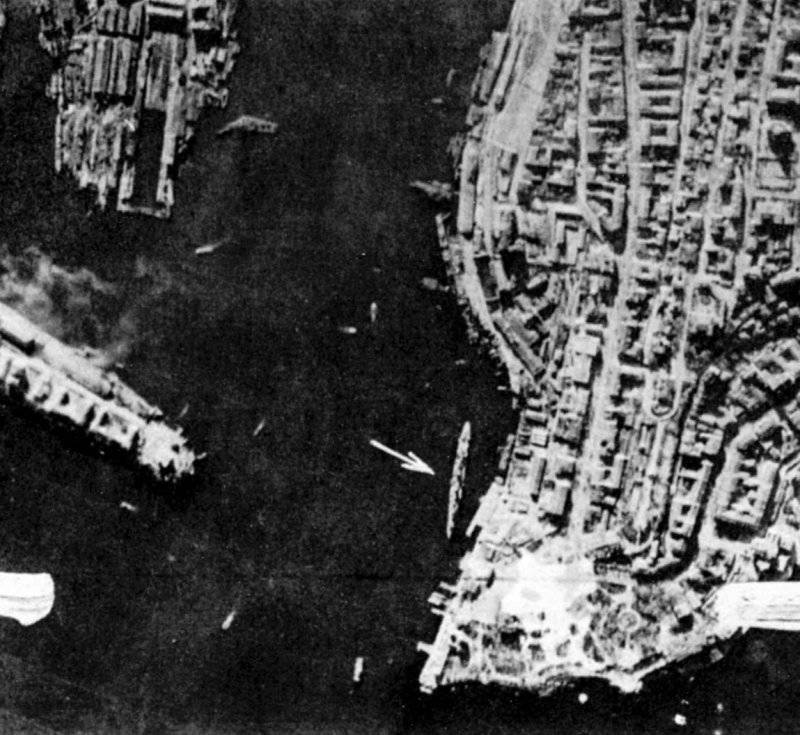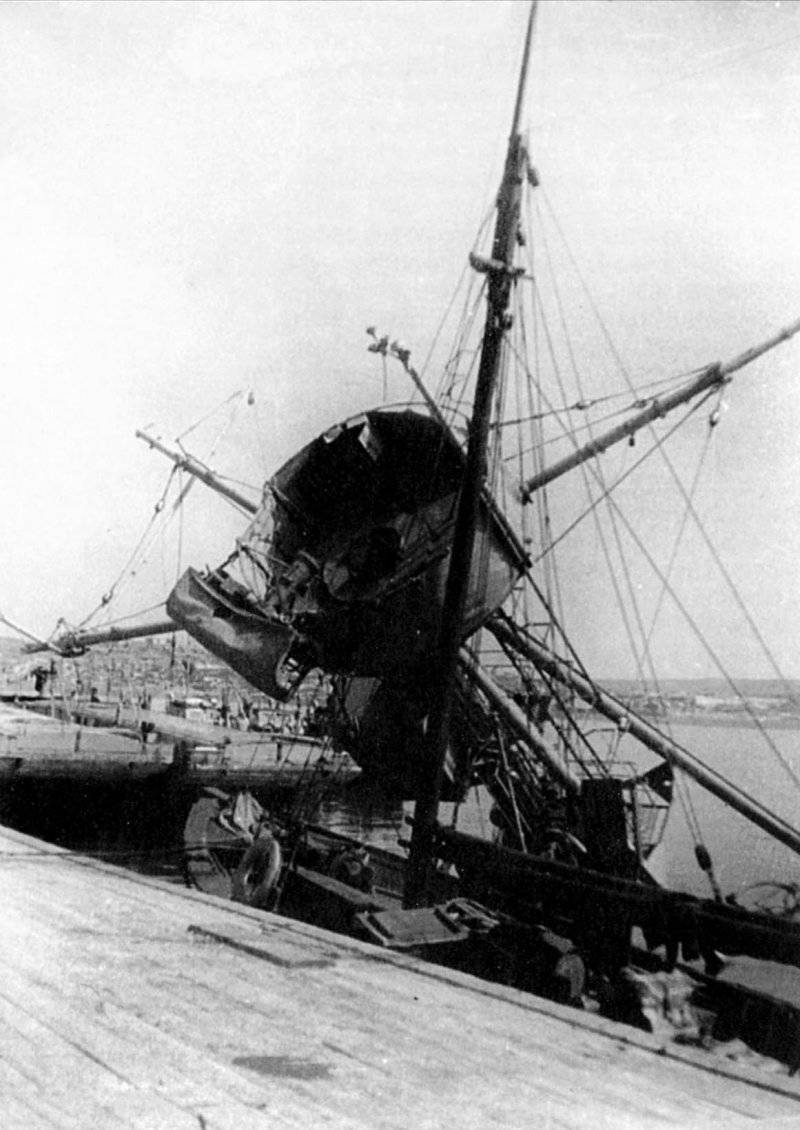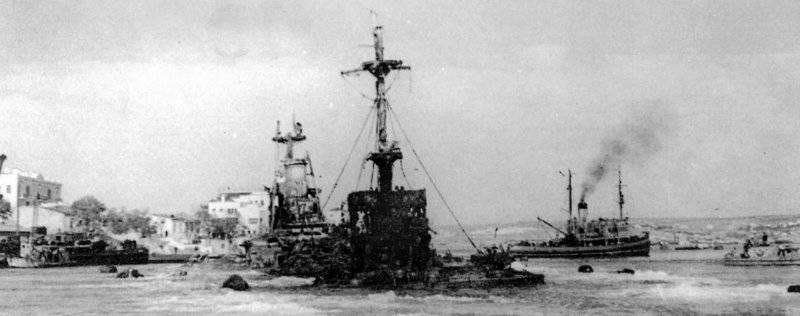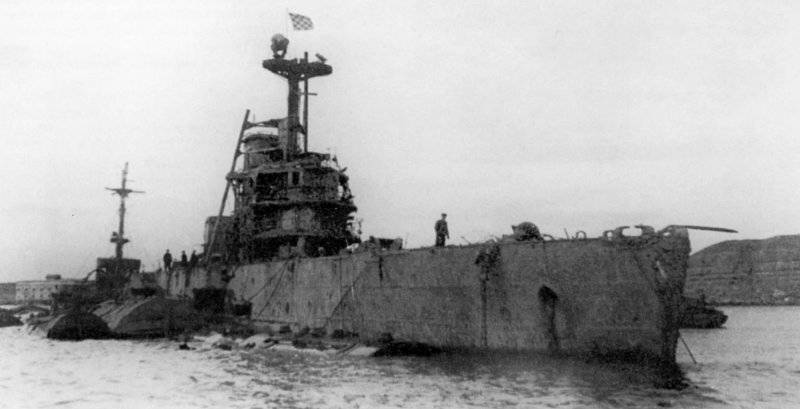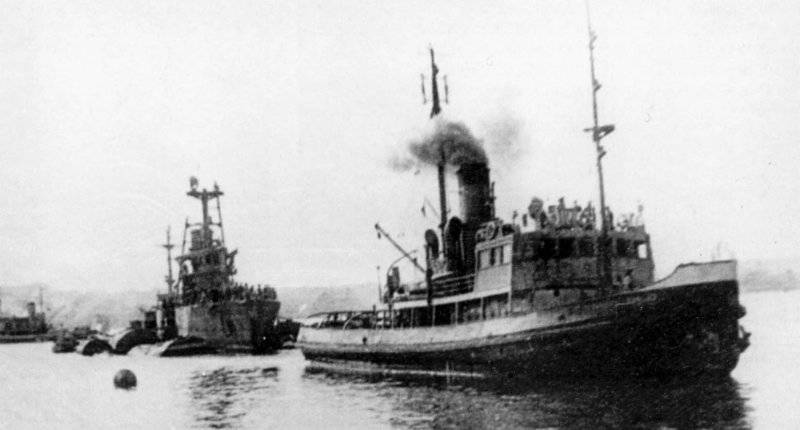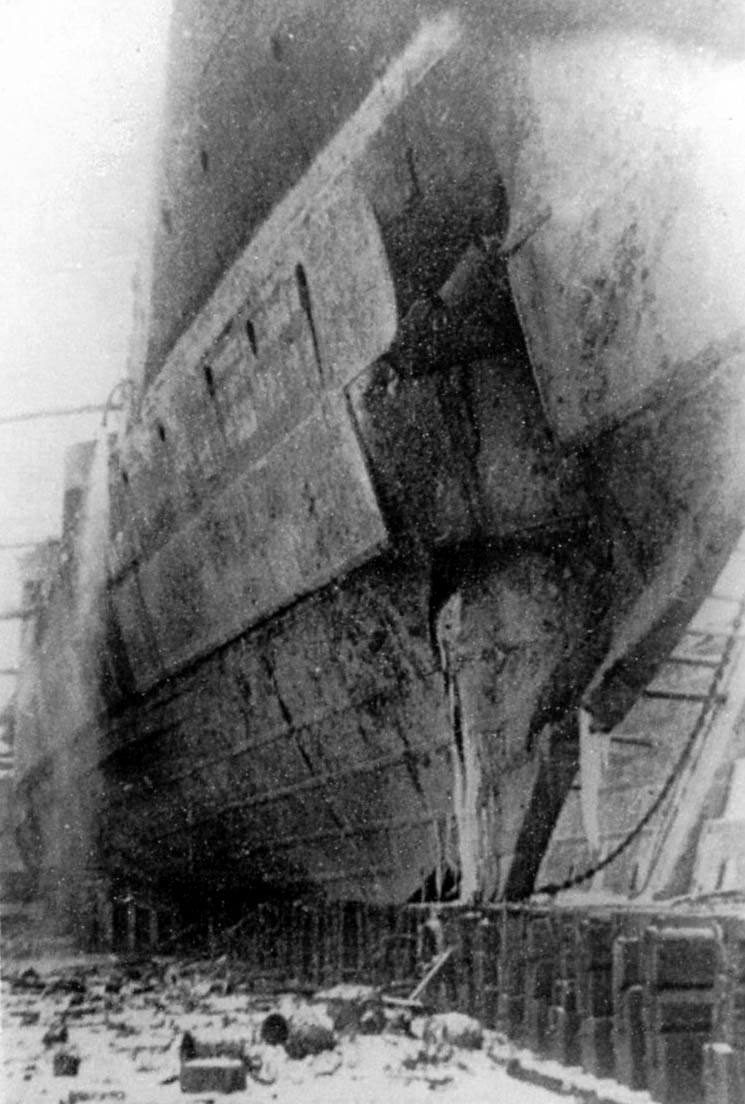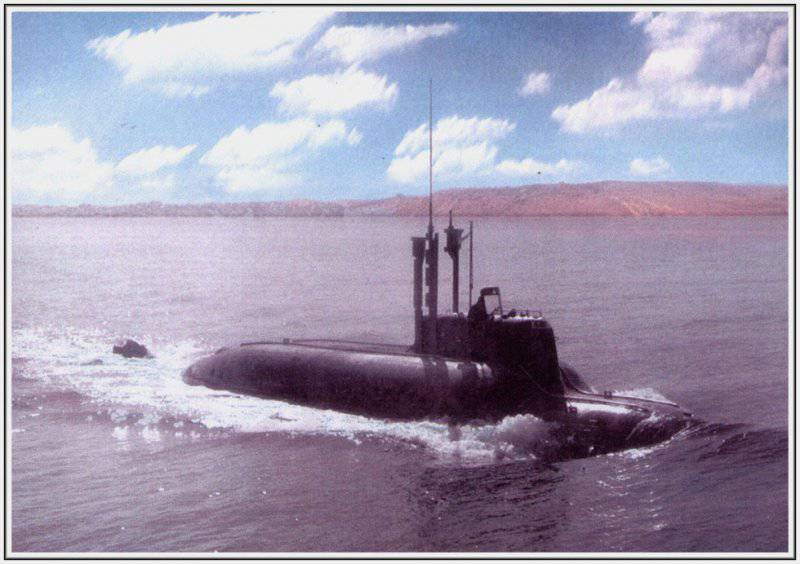-–убрики
- ќружие (122)
- стрелковое (58)
- самоходное историческое и современное (35)
- холодное и самообороны (23)
- новейшее (4)
- подарочное (2)
- јвтор-человек домашний. (104)
- еда (31)
- здоровье (22)
- ∆илище (22)
- Ѕезалко напитки и вкусн€шки к ним (9)
- јлко и псевдоалко напитки. (6)
- читальн€ (6)
- бизнес (3)
- ќтношени€ (2)
- рукоделие (2)
- »стори€ (83)
- войны (29)
- Ћичности земли –усской (23)
- истори€ –уси-–оссии (18)
- «вани€,чины,награды,форма одежды ¬— –уси -–оссии (10)
- мирова€ истори€ (3)
- Ћичности мировые (2)
- омпьютер (62)
- блоги,сайты (25)
- интернет (16)
- “ехнические новшества (5)
- игрушки (3)
- ћор€к и море (56)
- русско-российский (21)
- иностранный (6)
- јвтор-ћелочи жизни (54)
- женские аксессуары (18)
- мужские аксессуары (18)
- мужской отдых (11)
- магазинный (2)
- »скусство (17)
- ‘ото-видео (25)
- ћузыка (16)
- мото-автотехника (13)
- мото (13)
- Ќаука (4)
- “≈Ћ≈‘ќЌЌџ… —ѕ–ј¬ќ„Ќ» (3)
- ќ∆»ƒјЌ»≈ (3)
- ћир (3)
- »скусствоведение (2)
-ћузыка
- —аксофон.
- —лушали: 6306 омментарии: 0
- ‘ормула счасть€.
- —лушали: 21220 омментарии: 0
- Ёто –осси€.
- —лушали: 21 омментарии: 0
- ’олуи
- —лушали: 21 омментарии: 0
- из к.ф. " «везда пленительного счасть€."
- —лушали: 23 омментарии: 0
-ѕоиск по дневнику
-ѕодписка по e-mail
-ƒрузь€
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой мор€к и море
(и еще 43 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
ќжидание автомототехника автор-мелочи жизни автор-человек домашний блоги видео видеоредактор онлайн на русском войны вставить лицо в картинку онлайн вставить лицо в костюм бесплатно гарри поттер деньги дневник дом домашний сад еда жизнь здоровье истори€ истори€ россии классы коды коды оформлени€ блога комментарии компьютер кофе личности мастер мелочи жизни мир мода 2014 мода 2015 море мор€к и море мото музыка надпись наука оружие оформлени€ песни политика попул€рность рукоделие самолЄтик свадебные идеи т.п. такое телефонный справочник фото фотошопи€ человек домашний
¬ладик...¬ладивосток. |
Ёто цитата сообщени€ «емной_шар [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јссоциации, которые возникают у многих путешественников с ¬ладивостоком, как правило, схожи. «десь и амурские тигры, и самые разнообразные морепродукты, и €понские праворульные Ђиномаркиї, и бескрайнее море, и саммит ј“Ё—. то-то даже вспомнит, что город называют русским —ан-‘ранциско, и будет прав: вантовые мосты, перепады высот и непередаваемый дух авантюризма делают особенными эти тихоокеанские ворота –оссии.
«а спиной дев€ть тыс€ч километров –оссии >>>
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
ћетки: мор€к и море |
ѕиратска€ пов€зка на глазу. |
ƒневник |
»нтересно знать.
„Єрна€ пов€зка на глазу примен€лась пиратами дл€ быстрого привыкани€ к смене освещени€. —обственно, не только пираты носили такие пов€зки. Ћюбой мор€к, которому нужно было часто наведыватьс€ в трюм, носил на глазу пов€зку. ѕричина была в том, что океан, освещЄнный солнечным светом, слепил глаза, а вот в трюмах было очень темно. „тобы не тратить времени на привыкание глаз к смене освещени€, один глаз мор€ки держали в посто€нной темноте, а спуска€сь в трюм, открывали его и сразу хорошо видели. ¬от и весь фокус.

ћетки: мор€к и море |
Ѕоевые победы над военными корабл€ми. |
ƒневник |
|
|
|
ћы можем знать лишь веро€тность. Ћишь случай — полный господин . »з всех сценариев возможных ќн представл€ет нам один. “Ћегенда о несбывшемс€ гр€дущем” Ёпохе капитальных кораблей наступил конец с по€влением авиации и “фанерных этажерок”. ¬ечером 26 ма€ 1941 года п€тнадцать торпедоносцев с «јрк –ой€л» произвели повторную атаку на “Ѕисмарк”, добившись двух (по другим данным — трех) попаданий. ќдно из них имело решающие последстви€. ѕыта€сь уклонитьс€ от торпеды, «Ѕисмарк» повернул влево, и торпеда вместо бронепо€са по правому борту попала в кормовую часть, повредив рулевой механизм и заклинив рули в крайнем положении. Ћинкор превратилс€ в малоподвижную мишень и был легко добит корабл€ми англичан.
«а врем€ бо€ «–одней» выпустил 380 406-мм и 716 152-мм снар€дов, « инг ƒжордж V» — 339 356-мм и 660 133-мм, т€желые крейсера «ƒорсетшир» и «Ќорфолк» — соответственно 254 и 527 203-мм снар€дов. –асход торпед составил: “–одней” — 2 (одно попадание), “ƒорсетшир” — 3 (два попадани€).
» “Ѕисмарк” осел под воду монбланом оплавленной стали... ≈сли “фанерна€ этажерка” одним щелчком топит плавучую крепость, тогда зачем нужен флот? ƒостаточно иметь эскадрилью “этажерок”. —урова€ истина заключалась в том, что “этажерка” не всегда топила линкоры. Ѕолее того, она часто не могла их догнать! ¬ марте 1942 года две эскадрильи “јльбакоров” (817-й и 832-й сквадрон) с авианосца “¬икториес” попытались атаковать одиночный ““ирпиц”. јтака производилась на кормовых углах, как наименее опасных с точки зрени€ зенитного огн€, в результате, скорость сближени€ “этажерок” с линкором составл€ла всего 30 узлов — меньше чем у торпедных катеров! ѕопав под ураганный зенитный огонь, британцы не смогли атаковать столь быстроходный маневрирующий корабль. ¬се 24 выпущенные торпеды прошли мимо цели. ќтветным огнем было сбито два “јльбакора”, а на вернувшихс€ с задани€ самолетах имелись убитые и раненые. Ѕой окончилс€. ““ирпиц”, ид€ на 29 узлах против ветра, растворилс€ в тумане и снежных зар€дах. Ќадо признать, “этажеркам” здорово повезло. —истема ѕ¬ќ немецких линкоров была организована так, словно еЄ делали не арийцы, а унтерменши. ƒва сухопутных “ оммандогерата”, управл€вшие зенитным огнем на кормовых углах безо вс€кой стабилизации и противоосколочного бронировани€. ¬ результате фашисты расплатились за свою жадность по полной. Ѕудь на месте “Ѕисмарка” американский линкор (где каждый “Ѕофорс” имел собственный гиростабилизированный пост наведени€ с аналоговым компьютером, а п€тидюймовые зенитные снар€ды оснащались встроенным мини-радаром)... омментарии излишни. “орпеда, заклинивша€ рули, — редка€ случайность. ¬от лишь несколько примеров повреждений линкоров без каких-либо фатальных последствий: “¬итторио ¬енето” (март 1941 г.). ѕопадание торпеды в район правого гребного винта, осложненное серией близких разрывов авиабомб. Ћинкор прин€л 3500 тонн воды. —пуст€ два часа аварийные партии локализовали поступление воды, был дан малый ход. ≈ще через час удалось довести ход до 16 уз. Ћинкор самосто€тельно вернулс€ в базу, ремонт зан€л 4 мес€ца. “орпедирование “Ћитторио” (июнь 1942 г.). 1600 тонн воды + 350 тонн контрзатоплени€ дл€ выравнивани€ крена и дифферента. ¬ернулс€ в базу своим ходом. —пуст€ 1,5 мес€ца возвращен в строй. ѕовторное торпедирование “¬итторио ¬енето” (декабрь 1941 г.). ѕопадание 533 мм торпеды с подлодки “”рге” в район кормовой башни √ . ѕрин€то 2032 тонны воды. Ћинкор вернулс€ в базу своим ходом, ремонт 4 мес€ца. “орпедирование “Ќорт эролайн” (август 1942 г.). янки подробно описали событи€ того дн€. ”тверждают, что им это совершенно не понравилось. ’од упал до 18 узлов, погибло 5 мор€ков, оказались затопленными погреба носовых башен √ , повреждены три броневые плиты, в океан вылилось 528 тонн нефти (8%). —тоит заметить, боева€ часть торпеды €понской подлодки (400 кг) была вдвое мощнее, чем авиационные торпеды “этажерок”. јварийные партии выправили крен за 6 минут. Ћинкор ушел на атолл “онгатабу (где-то на краю света), где прошел двухдневный эрзац-ремонт. ќттуда выдвинулс€ через океан в направлении ѕерл-’арбора, основной ремонт зан€л 2 мес€ца. 
Ћинкор "ћэрилэнд", поврежденный авиационной торпедой у —айпана
—ледующее — торпедирование “ямато” подлодкой “—кейт” (декабрь 1943 г.). ѕрин€то 3000 тонн воды, затоплен артиллерийский погреб кормовой башни √ . Ћинкор вернулс€ через океан в японию своим ходом. –емонт: €нварь — март 1944 г. ¬от така€ любопытна€ статистика. –азумеетс€, кто-то с нескрываемым злорадством припомнит “Ѕархэм” и “–ойал ќук”, а также быструю гибель Ћ “ѕринц оф ”элс”. „то ж, всем скептикам стоит ознакомитьс€ с историей этих кораблей, обратив особое внимание на даты их закладки. ѕервые два — дредноуты ѕервой мировой. —троились в эпоху, когда угроза из-под воды считалась пренебрежимо малой, а о ѕ“« никто даже не задумывалс€. “ѕринц ”эльский” (как и все Ћ типа “ инг ƒжордж V”) — временное решение оролевского флота. ”цененные линкоры эконом-класса, объективно считавшиес€ худшими среди всех капитальных кораблей позднего периода. ” них было множество недостатков, одним из которых была слаба€ ѕ“«. ¬ среднем ширина их противоторпедной защиты была на 2 метра меньше, чем у немецкого “Ѕисмарка”. », конечно же, рокова€ случайность. ќдно из шести попаданий пришлось в район гребного вала по левому борту. ѕродолжа€ вращатьс€, деформированный вал “разворотил” всю подводную часть корпуса, что и привело к фатальным последстви€м. ѕротиворечивый пример — потопление суперавианосца“—инано” (Ћ типа “ямато” с перестроенной верхней палубой). орабль погиб, продемонстрировав удивительную живучесть. ќн, как ни в чем ни бывало, семь часов шел своим ходом, получив четыре торпеды, и все в один борт! ѕотом остановилс€ и затонул. ѕочему затонул “—инано”? ѕотому что он был не достроен, а его водонепроницаемые переборки не были герметизированы. Ѕыстрой гибели немало способствовали действи€ команды “—инано”. ¬прочем, обвин€ть мор€ков не за что. ќни ступили на палубу секретного авианосца всего за пару дней до выхода в море и банально не знали даже плана отсеков! ”дивительную непотопл€емость и боевую стойкость продемонстрировали “ямато” и “ћусаси”. —огласно хронике их последних сражений, показаний американских пилотов и выживших членов экипажей, линкоры выдержали по шесть попаданий торпед, сохранив ход, электроснабжение и частичную боеспособность. “очный предел их стойкости не установлен: в “ћусаси” попало до 20 торпед. ¬ “ямато” — 11, не счита€ многочисленных разрывов авиабомб. 
ќна утонула
—татистика свидетельствует следующее. ќдиночные попадани€ торпед не могли представл€ть смертельной угрозы крейсерам и линкорам ¬торой мировой. »звестны случаи возвращени€ кораблей с проломленным бортом и полностью оторванной носовой оконечностью (“Ќовый ќрлеан”). „то до роковых совпадений и поврежденного рулевого управлени€ — веро€тность такого событи€ была на пор€док ниже, чем прин€то считать у современных любителей военной истории. 
рейсер "Ќовый ќрлеан" не собираетс€ сдаватьс€
√лава номер два. Ѕомбы ќпытные эксперты знают реальное положение дел. ¬ступа€ в дискуссию, они многозначительно произнос€т: “ƒев€тое сент€бр€ 1943 года”. ¬ тот день немецкие бомбардировщики поставили точку в извечном противосто€нии снар€да и брони. азавшийс€ непотопл€емым, новейший италь€нский Ћ “–ома” был уничтожен с помощью управл€емых бомб. ѕервый «‘риц-X» ударил в палубу полубака между 100 и 108 шпангоутами, прошЄл через отсеки конструктивной подводной защиты и взорвалс€ в воде под корпусом корабл€. ¬зрыв привЄл к огромным разрушени€м подводной части линкора, и туда стала поступать забортна€ вода. ¬ считанные минуты она затопила кормовое машинное отделение, третью электростанцию, седьмое и восьмое котельные отделени€. ѕовреждение кабелей вызвало многочисленные замыкани€ и возгорани€ электрооборудовани€ в кормовой части. орабль покинул строй соединени€, резко сбавив ход. ¬ 16:02 второй «‘риц» добил линкор: бомба поразила его в палубу полубака по правому борту между 123 и 136 шпангоутами, прошла через все палубы и взорвалась в носовом машинном отделении. Ќачалс€ пожар, который привЄл к детонации носовой группы артиллерийских погребов. Ќа этом истори€ “–омы” закончилась. » началась друга€ истори€. ќдновременно с “–омой” две управл€емые бомбы поразили однотипный Ћ “Ћитторио”. ѕервый удар пришелс€ в палубу полубака в районе 162 шпангоута. Ѕомба пронзила корабль и вышла сквозь борт, сдетонировав в воде. ѕовреждению подверглось 190 кв. метров обшивки в подводной части корпуса. ѕоступление воды составило 830 тонн (еще 400 прин€ли дл€ выравнивани€ крена и дифферента). —ледующа€ бомба ударила в воду р€дом с линкором, вызвав частичную разгерметизацию обшивки по левому борту. “Ћитторио” пришел своим ходом на ћальту, откуда отправилс€ в район —уэцкого канала, где подвергс€ интернированию (18.09.1943 г.).  Ќемцы лютовали не на шутку. ¬ том же мес€це под удар управл€емых бомб попал британский “”орспайт”. ¬етеран обеих мировых войн €вно не ожидал такого подарка судьбы. Ѕомба пробила линкор насквозь, проделав в его днище 6-метровую пробоину, сквозь которую поступило 5000 тонн забортной воды. Ѕлизкий разрыв другого “‘рица” повредил противоторпедную защиту линкора, треть€ бомба взорвалась на рассто€нии, не причинив “”орспайту” вреда. Ќесмотр€ на т€желые повреждени€, потери среди экипажа “”орспайта” оказались невелики: всего 9 погибших и 14 раненых. ѕотер€вший ход линкор был эвакуирован на ћальту, откуда был переведен в јнглию. „ерез полгода “”орспайту” была возвращена боеспособность. 6 июн€ 1944 года, корабль первым открыл огонь по немецким укреплени€м в Ќормандии. ¬ывод очевиден: даже применение управл€емых бомб не гарантировало победы в морском бою. ѕочему управл€емых? Ёто позвол€ло сбрасывать бомбы с огромных высот (до 6000 м), чтобы их скорость в момент встречи с целью достигала скорости звука. —упербоеприпас особой конструкции (массив из закаленной стали) массой 1380 кг. Ќе каждый бомбардировщик мог подн€ть и прицельно сбросить “‘риц-’”! » что же? Ѕолее крупный и современный “Ћитторио” отделалс€ умеренными повреждени€ми, без потери хода и боеспособности. «аслуженный старик “”орспайт” пострадал сильнее, однако даже он осталс€ на плаву, а его экипаж не понес сколько-нибудь заметных потерь. ¬ унисон прозвучит истори€ с повреждением “¬итторио ¬енето”. 5 июн€ 1943 года, во врем€ сильнейшей бомбардировки —пеции, в пришвартованный линкор попало две 908-кг бронебойные бомбы, сброшенные американским B-24. ѕервый удар пришелс€ в район первой 381-мм башни (159-ый шпангоут). Ѕомба пробила все палубы, цилиндры подводной защиты и, не взорвавшись, ушла на дно. ¬торое попадание имело серьезные последстви€: удар пришелс€ по левому борту возле шпилей, в районе 197 шпангоута. Ѕомба прошла через все корабельные конструкции и взорвалась под днищем. “¬итторио ¬енето” немедленно взорвалс€ и затонул. „ерта с два! “¬итторио ¬енето” ушел своим ходом в √еную. –емонт зан€л один мес€ц. Ќа основе вышеприведенных фактов рождаетс€ строга€ статистика: ¬ результате четырех атак и дев€ти сброшенных бомб (семь “фрицев” и пара бронебойных 2000-фунтовок) смог быть потоплен всего один линкор (“–ома”). » это — результат воздействи€ могучих боеприпасов, сбрасываемых с больших высот и предназначенных непосредственно дл€ борьбы с высокозащищенными объектами! Ќанесение критических повреждений достигалось лишь в случае пр€мого попадани€ в район погребов боезапаса (самый опасную часть боевого корабл€). ќднако, на практике веро€тность попадани€ “фрица” в линкор не превышала 0,5. ƒл€ неуправл€емых бомб это значение было меньше на два пор€дка: высотное бомбометание по движущимс€ корабл€м было бесполезным расходом боеприпасов. „то уж говорить про обычные “фугаски” и попытки бомбить линкоры с малых высот! ¬ысокозащищенные корабли эпохи ¬ћ¬ чихали на такие угрозы. ¬ апреле 1944 года, в ходе рейда британских авианосцев к аа-фьорду, в линкор ““ирпиц” попало дев€ть бомб. јнгличане применили весь спектр авиационных вооружений: 500-фунтовые “фугаски”, полубронебойные бомбы, могучие 726-кг “пенетраторы” и даже 600-фн. глубинные бомбы.  Ѕомбардировка не прибавила красоты, однако линкор не собиралс€ тонуть, не взорвалс€, не сгорел и даже сохранил часть боеспособности. Ќи одна из бомб не смогла пробить главной бронепалубы. ќсновные проблемы доставили не столько бомбы, сколько открывшиес€ от сотр€сений старые раны — последстви€ предыдущей атаки мини-субмарин. ќсколками сильно побило находившуюс€ на верхней палубе прислугу зенитных орудий. —ледующий налет 42 “Ѕарракуд” в сопровождении 40 истребителей (операци€ ““алисман”) окончилась безрезультатно. јсы оролевских ¬¬— добились 0% попаданий в неподвижный линкор. — аналогичным результатом завершилс€ августовский рейд четырех авианосцев к месту сто€нки ““ирпица” (операци€ “√удвуд”). Ќаверн€ка кто-то задастс€ очевидным вопросом: если линкор малоу€звим дл€ ударов в надводную часть корпуса, почему британцы не использовали торпеды? ѕотому что немцы, в отличие от “макаронников” (“аранто) и американских €хтсменов и любителей гольфа (ѕерл-’арбор), не забывали устанавливать противоторпедную сеть. –аз уж прозвучало про ѕерл-’арбор, можно вспомнить старую “јризону”. –жавое ведро 1915 года постройки, с горизонтальной защитой по стандартам ѕеровой мировой (главна€ бронепалуба 76 мм). Ќесчастный корабль попал под удар 800-килограммовой бомбы, переделанной из 356-мм бронебойного снар€да. »з той же серии истори€ с советским “ћаратом”. ¬ рамках текущего разговора этот пример не имеет смысла. Ѕэттлшипы позднего периода не €вл€лись “абсолютным оружием”. Ѕолее того, в определенный период (до по€влени€ зенитных ракет), возросла веро€тность их гибели от воздействи€ высокотехнологичных авиационных боеприпасов. Ќо это была всего лишь ¬≈–ќя“Ќќ—“№. ¬се легенды о “фрицах” и “фанэрных этажерках”, €кобы изменивших расклад сил на море и обесценивших капитальные корабли — лозунги “диванных экспертов”, которым лень открыть книгу и ознакомитьс€ со статистикой боевых повреждений кораблей ¬ћ¬. ѕо факту, даже применение самых мощных супербоеприпасов не гарантировало победы над плавучими крепост€ми. Ѕолее того, теори€ веро€тности всегда была на стороне линкоров. — учетом их значительных размеров и непрерывной эволюции, шанс их выживаемости в бою непрерывно возрастал. Ѕлест€щий пример — британский Ћ “¬энгард” (1940-46 гг.), впитавший в себ€ опыт обеих мировых войн. ѕопасть — не значит пробить. ј если пробьешь — не факт, что выведешь из стро€. 3000 тонн противоосколочных переборок. ¬осемь электрогенераторов, рассредоточенных в изолированных отсеках по всех длине корабл€. „ередование котельных и турбинных отделений в “шахматном пор€дке”. –азнесение линий гребных валов на 15 метров. –азвита€ система откачки и контрзатоплений, шесть независимых постов борьбы за живучесть. ƒистанционное управление вентил€ми паропроводов — турбины “¬энгарда” могли работать в полностью затопленных отсеках! » все это великолепие было подкреплено максимально возможной конструктивной защитой с 350-мм по€сом и 150-мм палубой цитадели. «амучаешьс€ такого топить. 
—пуск "¬энгарда" на воду
|
—ери€ сообщений "иностранный":
„асть 1 - √ибель морской легенды 3-го рейха.
„асть 2 - Ћинкор против авианосца. ’роники морского бо€
...
„асть 4 - Ћучшие ‘регаты на 1 ма€ 2013г.
„асть 5 - ћорска€ мощь 21 века.
„асть 6 - Ѕоевые победы над военными корабл€ми.
|
ћетки: мор€к и море |
»стори€ штурманского дела и мореплавани€. |
ƒневник |

≈ще об одной офицерской профессии стоит рассказать подробнее. ≈е представителей называли по-разному, например "пилотами". ќднако впоследствии у мор€ков утвердилс€ термин "штурман" (от голландского stur — руль и man — человек). ”казать капитану выгодный курс, определить место корабл€ в море, его скорость, продолжительность плавани€, наносить на карту навигационные опасности, следить за исправностью навигационных приборов — вот далеко не полный перечень задач штурманской службы. –ешение их требовало знаний навигации, мореходной астрономии, а также умени€ пользоватьс€ соответствующими инструментами, картами и пособи€ми, то есть полноценным штурманом мог быть только достаточно образованный и трудолюбивый человек.
Ќа заре океанского мореплавани€, когда знани€ и опыт по судовождению передавались от отца к сыну или особо доверенному ученику и многое в штурманской службе зависело от индивидуального мастерства, к штурманам относились с должным почтением. Ќо по мере того, как печатные руководства и инструкции размножались в типографи€х ≈вропы, а навигационные приборы совершенствовались, штурманска€ служба тер€ла свой престиж. “очнее говор€, представители "благородного" сослови€, не жела€ корпеть над математикой, астрономией и прочими премудрост€ми штурманской науки, сочли возможным уступить их лицам "низкого" происхождени€".
¬се это порождало некую стену отчужденности между военнослужащими и штурманами.
онстантин ћихайлович —танюкович так описывал положение штурмана на корабл€х русского флота: "ƒл€ привилегированных патрициев, флотских офицеров отличи€ и почести, так сказать, сливки службы, а дл€ плебе€ штурмана — вечное подчиненное положение, труженическа€ ответственна€ работа и ничего впереди... ‘лотские офицеры гнушались "подлым" недвор€нским цифирным делом (недаром и штурманов презрительно называли "цифирники")... Ќи один из мор€ков не подумал бы выдать дочь за штурманского офицера. Ќачальство третировало штурмана с презрительной грубостью, сослуживцы — с небрежным превосходством. ¬ старину про штурмана даже была сложена песенка:
Ўтурман! ƒальше от комода!
Ўтурман! „ашку разобьешь!
Ёто был обыкновенно молчаливый, загнанный человек, зачастую выпивавший, с грубыми манерами, вечный труженик, педантичный морской служака, молча и, по-видимому, без ропота т€нувший л€мку и переносивший грубости капитанов старого закала, но в глубине души оскорбленный и нередко ожесточенный, питавший глухую и непримиримую вражду ко всем флотским, только потому, что они флотские."
Ќеслучайно госпожа ѕростакова из фонвизинской комедии "Ќедоросль" полагала, что географи€ не двор€нска€ наука. »зучение ее она считала об€занностью извозчиков.
ѕервоначально на корабл€х русского флота в плавании существовало три штурманских вахты. ¬ шканечном журнале каждый штурман делал свои записи и отмечал результаты своих обсерваций. “ака€ практика порождала зачастую весьма существенный разброс данных, так как штурманы вели наблюдени€ и расчеты независимо друг от друга. ¬ начале XIX века была введена должность старшего штурмана, который руководил работой трех своих помощников. Ѕыли также прин€ты некоторые меры по см€гчению дискриминации штурманской профессии. Ўтурманам прибавили оклад, а командирам кораблей предоставили право переводить особо отличившихс€ штурманов в категорию флотских офицеров (военнослужащих). », наконец, штурманов вместе с другими "художественными" офицерами допустили в офицерскую кают-компанию .
25 €нвар€ — ƒень штурмана и Ўтурманской службы ¬ћ‘. Ётот праздник был введен в 1966 году, а его дата тесно св€зана с созданием регул€рного флота. Ќа рубеже XVII и XVIII веков в –оссии было еще очень мало кораблей, но уже тогда возникла остра€ потребность в морских специалистах. » вот, указом ѕетра I от 14 (25) €нвар€ 1701 года в ћоскве была открыта Ўкола математических и навигацких наук. ¬ ней впервые в нашей стране стали на научной основе преподавать и разрабатывать теорию кораблевождени€. Ётот день и стал датой основани€ Ўтурманской службы –оссийского флота.
ѕрогресс цивилизации и экономики в ≈вропе вызвал бурное развитие судоходства. XV веку в ѕортугалии создаютс€ каравеллы, способные совершать многомес€чные плавани€. Ќачинаетс€ эпоха ¬еликих географических открытий. ¬ это врем€ резко возрастает роль штурмана, от мастерства которого зависела безопасность, своевременное прибытие судна в назначенный порт, а значит и успех каждой заморской экспедиции.
Ќа фоне этой огромной ответственности вопиющим парадоксом выгл€дело положение штурманов в корабельной иерархии. »х кропотлива€, повседневна€ работа считалась неблагородной и недостойной знатных людей. — 1745 года јдмиралтейств-коллеги€ запретила двор€нам проходить службу в штурманах. ¬плоть до 1757 года они относились к унтер-офицерам, питались из общего котла с командой и подвергались телесным наказани€м. » только в 1885 году произошла коренна€ реорганизаци€ штурманской службы, в результате которой на должности штурманов стали назначать морских офицеров.

ѕериплии
огда в далекой древности человек впервые вышел к океану, он был поражен и испуган его безбрежными просторами. Ќо однажды сурова€ необходимость и врожденное любопытство заставили его выйти в море, чтобы посмотреть, что там за далеко вдающимс€ в море мысом или недалеким островом. Ёто и были первые шаги мореходства и штурманской профессии. ѕервые плавани€ совершались вдоль берегов. Ќо шло врем€, накапливались опыт и знани€, их надо было как-то зафиксировать, чтобы передавать последующим поколени€м. “ак возникли первые лоции, тогда их называли «перипли€ми».
Ќаибольший интерес дл€ нас представл€ет перипл ѕонта ≈вксинского. ≈го автор ‘лавий јрриан в первой половине 130-х годов совершил плавание вдоль берегов „Єрного мор€ и составил их описание. ќн привел названи€ прибрежных городов и рассто€ни€ между ними указал опасности морского пути и места удобных сто€нок. —реди этих фактических данных по€вл€ютс€ и фрагменты известных мифов, например, о корабле јрго, о вершине, к которой был прикован ѕрометей или рассказ об острове «меиный, где находилось св€тилище јхилла. ѕривод€тс€ сведени€ о народах ¬осточного ѕричерноморь€ и имена их правителей.
ѕортуланы, вагенеры и морские атласы

арта (1375 года), выполненна€ на основе стандартного портулана
¬ XII веке по€вились карты-лоции, которые назывались портуланами. Ќа них показывали порты, острова, заливы и реки, а малоизученные районы заполн€ли изображени€ми мифических чудовищ. ќсновой дл€ портуланов служил качественный пергамент из овечьей шкуры размером примерно 100×60 см. ћногие портуланы имели масштабную линейку и сетку румбов, а направление «север — юг» соответствовало не географическим, а магнитным меридианам. ѕортуланы изготавливались тыс€чами, но к насто€щему времени их сохранилось не более полутора сотен, в том числе четыре магрибского происхождени€.
ѕервоначально портуланы имели восточную ориентацию. ѕо представлению древних далеко на востоке находилс€ «ѕруд —олнца» — современное аспийское море, из вод которого поднималось животвор€щее небесное светило. ¬ противоположной стороне — на западе, помещалось «царство теней». “ам жил бог ќкеан, и ни одному из смертных не было возврата из его владений. ѕо по€вившимс€ позднее библейским предани€м на востоке находилс€ рай, откуда ожидалось второе пришествие ’риста. Ёти веровани€ оказались настолько сильны, что север стали помещать в верхней части карты только с XIV века.
¬ XVI столетии портуланы стали уходить в историю. ¬ 1569 году фламандский математик и картограф ћеркатор составил свою первую карту в равноугольной цилиндрической проекции, а голландский картограф и мореплаватель Ћука ¬агенер, издававший карты, которые стали во всем мире называть вагенерами, ввëл в обиход морской атлас. Ёто был крупный шаг в науке навигации и картографии, который не утратил своего значени€ и до наших дней. »нтересно, что в изданный в 1592 году атлас ¬агенара была включена крупномасштабна€ карта берегов Ѕелого мор€ и Ћедовитого океана.

арта — вагенер усть€ “емзы
ѕервые гидрографические исследовани€ и морска€ культура поморов
— развитием мореплавани€ стала складыватьс€ и одна из важнейших штурманских наук — гидрографи€. ћы можем гордитьс€ тем, что одним из древнейших «гидрографов» был русский кн€зь √леб, сделавший зимой 1068 года по льду промеры ширины и глубины ерченского пролива. ћраморна€ плита (“мутарака́нский ка́мень) с высеченными на ней результатами этих промеров была найдена в 1792 году на “аманском полуострове. Ќа севере русские поморы издавна устанавливали по берегам опознавательные знаки в виде крестов, груд плавника или камней, известных под названием «гурий».

Ќадпись на “мутараканском камне с результатами промеров ерченского пролива
ѕоморы пользовались магнитным компасом еще в XIII—XIV веках, они и положили у нас начало переходу к штурманским методам судовождени€. —амобытна€ морска€ культура северного поморь€ позволила создать и первые чисто слав€нские прообразы морских карт. ѕодтверждением этому €вл€етс€ карта голландца »саака ћассы, изданна€ в 1609 году. ќна досталась ему от русского помора. Ќа карте ћассы обозначен остров ¬айгач, а Ќова€ «емл€ разделена на два острова. ѕодобные карты, их называли «чертежи», делали без градусной сетки и обозначени€ масштаба.
ƒл€ их составлени€ расспрашивали бывалых людей о том, какие пункты в какой стороне наход€тс€ и на сколько дневных переходов удалены. “ак с помощью «сведомцев» и «бывальцев» рождались «расспросные карты». ¬ 1627 г. была составлена « нига Ѕольшому чертежу», в которую была включена «–оспись поморским рекам берегу Ћедовитого океана». ” поморов навигационный опыт закрепл€лс€ и в рукописных лоци€х. ¬ них подробно описывались не только береговые приметы, но и направлени€ ветров, распор€док приливных течений, правила предсказани€ погоды по цвету морской воды, облакам и оттенкам неба.
ѕервые гидрографические работы у нас начались в 1696 году при создании јзовского флота. —оставление карт тогда считалось делом государственной важности, им занимались выпускники Ќавигацкой школы и ћорской академии. ќни же заложили основы развити€ в –оссии морской навигации и мореходной астрономии, а также прославили русскую науку беспримерными подвигами и выдающимис€ открыти€ми. —реди них грандиозное по масштабу и значению картографирование северного и восточного побережь€ –оссии от јрхангельска до усть€ јмура.
¬клад русских мор€ков и ученых в развитие мореплавани€
—лово «штурман» стали употребл€ть у нас только с 1697 года, да и то в форме «стюрман». ¬ 1714 году в книге «√енеральные сигналы» упоминаетс€ «штюрман», а современна€ форма «штурман» впервые была употреблена в ћорском уставе 1720 года. ќгромным вкладом в Ўтурманскую науку стали крупные географические открыти€ русских мор€ков. Ѕлагодар€ им с карты ћира исчезло множество белых п€тен и ошибок. ќ подвигах мор€ков, об их славе говор€т многочисленные русские имена и названи€ на карте мира.
разработке теоретических вопросов мореплавани€ были привлечены многие известные ученые ѕетербургской академии наук. Ќапример, работы Ћ. Ёйлера позволили существенно повысить точность определени€ долготы места. Ќеоценимый вклад в развитие штурманской науки внес ћ.¬. Ћомоносов. ¬ 1759 году он впервые указал на необходимость создани€ теории «емного магнетизма, изучени€ морских течений, научного предсказани€ погоды. ƒл€ накоплени€ мореходного опыта он предлагал издавать книги с описанием всех плаваний. “аким образом, к концу XVIII века кораблевождение получило серьезную научную основу.
¬ 1815 году ».‘. рузенштерн прин€лс€ за разбор громадной массы сведений о плавани€х в южных мор€х. —трого сортиру€ собранные материалы по степени их достоверности, он создал «јтлас южного мор€», который был издан в 1823 году и сразу признан учеными и мор€ками всего мира. — тех пор многие поколени€ русских мореплавателей достойно продолжали заложенную ».‘. рузенштерном традицию — служить флоту и науке, что значительно обогатило практику кораблевождени€ и штурманское дело.

ѕам€тник ѕ. . ѕахтусову
¬ начале XIX века дл€ повышени€ точности морских обсерваций стали указывать веро€тные пределы погрешности измерений. ¬первые это сделал подпоручик корпуса флотских штурманов ѕетр узьмич ѕахтусов. “рудности и лишени€ во врем€ пол€рных исследований оборвали его жизнь в 36 лет. Ќо и за этот короткий срок он успел составить точное описание Ќовой «емли и собрать огромный материал дл€ лоции арского мор€. ќтдава€ должное заслугам ѕ. . ѕахтусова, штурмана –оссийского ¬оенно-ћорского флота собрали средства, на которые в 1886 году ему был установлен пам€тник в ронштадте.
ќтечеству, ‘лоту и Ќауке
¬озникновение новых фундаментальных знаний и стремительное развитие вычислительной техники привели к существенным изменени€м и в прикладных науках кораблевождени€. Ќеизменными остаютс€ только общие принципы и традиции российской штурманской службы. ¬ажнейшим из них и актуальным дл€ всех эпох мореплавани€ стало положение о том, что первым штурманом на корабле €вл€етс€ его командир. Ётот принцип был закреплен еще в ћорском уставе 1720 года. ј благороднейшей традицией российских морских офицеров €вл€етс€ беззаветное служение ќтечеству, ‘лоту и Ќауке!
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |
—троительство линкоров в –оссии-———–. |
ƒневник |

ѕредисловие
оррупци€ в ведомстве великого кн€з€ јлексе€ јлександровича, брата јлександра “ретьего, достигла таких астрономических масштабов, что броневые листы кораблей скрепл€лись дерев€нными втулками. Ќевзрывающиес€ снар€ды и ÷усимский погром – таковы, вкратце, результаты работы ћорского ведомства, возглавл€емого великим кн€зем. Ќикто не сделал дл€ поражени€ –оссии в –усско-японской войне больше, чем этот человек.
”же набило оскомину упоминание о том, что русский крейсе𠫬ар€г» был построен в —Ўј. азалось бы, ничего странного в этом нет. рейсер был заказан, оплачен и построен в срок - где здесь есть преступление?
ќднако, крайне редко упоминаетс€ о том, что второй участник легендарного бо€ при „емульпо - канонерска€ лодка « ореец» - была построена на верфи Bergsund Mekaniksa в Ўвеции.
√оспода, позвольте один вопрос: „то-нибудь вообще строилось в –оссийской »мперии на рубеже XIX–XX веков?
Ѕронепалубный крейсер «—ветлана», место постройки - √авр, ‘ранци€;
Ѕронепалубный крейсер «јдмирал орнилов» - —ен-Ќазер, ‘ранци€;
Ѕронепалубный крейсер «јскольд» - иль, √ермани€;
Ѕронепалубный крейсер «Ѕо€рин» - опенгаген, ƒани€;
Ѕроненосный крейсер «Ѕа€н» - “улон, ‘ранци€;
Ѕроненосный крейсер «јдмирал ћакаров», построен на верфи «‘орж & Ўантье», ‘ранци€;
Ѕроненосный крейсер «–юрик», построен на верфи «¬иккерс» в Ѕарроу-инн-‘Єрнесс, јнгли€;
Ѕроненосец «–етвизан», построен компанией «”иль€м рэмп & —анс», ‘иладельфи€, —Ўј;
Ѕроненосец «÷есаревич» - построен в Ћа-—ейн-сюр-ћер во ‘ранции…
Ёто могло быть смешно, если бы дело не касалось нашей –одины. —итуаци€, при которой половина отечественного флота строилась на иностранных верф€х, €сно указывала на крутые проблемы в –оссийской »мперии в конце XIX – начале XX веков: отечественна€ промышленность находилось в глубоком упадке и стагнации. ѕодчас ей были не под силу даже простейшие эсминцы и миноносцы – практически все они строились за рубежом.
—ери€ миноносцев « ит» («Ѕдительный»), место постройки - верфь ‘ридриха Ўихау, Ёльбинг, √ермани€;
—ери€ «‘орель» («¬нимательный»), строились на заводе ј. Ќормана во ‘ранции;
—ери€ «Ћейтенант Ѕураков» - «‘орж & Ўантье» и завод Ќормана, ‘ранци€;
—ери€ эсминцев «»нженер-механик «верев» - верфь Ўихау, √ермани€.
√оловные миноносцы серий «¬садник» и «—окол» - построены в √ермании и, соответственно, в ¬еликобритании; миноносец «ѕернов» - завод ј. Ќормана, ‘ранци€; «Ѕатум» - верфь ярроу в √лазго, ¬еликобритани€; «јдлер» - верфь Ўихау, √ермани€…
”важаемые господа-товарищи, то, что здесь написано есть просто крик души. огда либеральна€ общественность вновь запоет песнь том, как хорошо и правильно шло развитие –оссии в начале века, а потом пришли прокл€тые «коммун€ки» и все «запороли» - не верьте ни единому слову этих прохвостов.
Ѕронепалубный крейсе𠫬ар€г» из јмерики, и броненосный крейсер «јдмирал ћакаров», строившийс€ во ‘ранции, - вот истинна€ картина тех событий. ѕеред ѕервой мировой –оссийска€ »мпери€ закупала за рубежом все – от кораблей и аэропланов до стрелкового оружи€. — такими темпами развити€ мы имели все шансы продуть и следующую, вторую по счету мировую войну, навсегда исчезнув с политической карты мира. счастью, судьба распор€дилась иначе.
—трана под названием —оветский —оюз научилась все делать самосто€тельно.
—ага о не построенных линкорах
ѕо необъ€тным просторам »нтернета гул€ет презабавный плакат-демотиватор следующего содержани€:

√”Ћј√ и линкоры – это сильно. ¬прочем, автор плаката кое в чем прав: —оветский —оюз действительно не спустил на воду и не ввел в строй ни одного линкора (несмотр€ на то, что дважды принималс€ за их строительство).
аким контрастом на фоне этого выгл€д€т достижени€ дореволюционного отечественного кораблестроени€!
¬ период с 1909 по 1917 гг. состав ¬ћ‘ –оссийской »мперии пополнилс€ 7 линкорами-дредноутами типов «—евастополь» и «»мператрица ћари€».
Ёто не счита€ недостроенного линкора «»мператор Ќиколай I» и четырех сверхдредноутов типа «»змаил», которые уже были спущены на воду и находились в высокой степени готовности – лишь ѕерва€ мирова€ война и –еволюци€ не позволили русским корабелам завершить начатое.

Ћинейный корабль "√ангут" - первый российский дредноут типа "—евастополь"
—урова€ правда заключаетс€ в том, что «—евастополь» и «»мператрицу ћарию» просто стыдно сравнивать с их ровесниками – британскими сверхдредноутами «ќрион», « инг ƒжордж V» или €понскими линейными крейсерами типа « онго». «—евастополь» и «»мператрица ћари€» строились по заведомо устаревшими проектами, а задержки в их строительстве, вызванные невиданной коррупцией в ћорском ведомстве, слабостью промышленности и общей неблагопри€тной обстановкой в стране, привели к тому, что к моменту вступлени€ в строй отечественные «дредноуты» были едва ли не слабейшими в мире.
√лавный калибр «—евастопол€» (305 мм) смотр€тс€ курьЄзом на фоне 343 мм стволов «ќрионов» или 356 мм артиллерии €понского « онго». „то касаетс€ брони – это был просто стыд: «цусимский синдром» и страх перед фугасными снар€дами вз€л вверх над здравым смыслом. » без того тонкую броню «размазали» по всему кораблю – это в то врем€, когда у «веро€тного противника» уже строились линкоры с 13,5 и 14-дюймовыми оруди€ми – один их снар€д мог прошить «—евастополь» насквозь и подорвать погреба боезапаса.
Ќемногим лучше был недостроенный «»змаил» - несмотр€ на солидную огневую мощь (12 х 356 мм – по этому параметру «»змаил» мог сравнитьс€ с лучшими зарубежными аналогами) и высокую скорость хода (расчетное значение - более 27 узлов), новейший российский супер-дредноут вр€д ли мог стать серьезным аргументом в споре с его британским ровесником « уин Ёлизабет» или €понским «‘усо». —лишком слаба брон€ – защищенность «»змаилов» была ниже вс€кой критики.
√овор€ об отечественном судостроении начала ’’ века, нельз€ не упом€нуть о легендарных «Ќовиках» - лучших в мире эсминцах на начало ѕервой мировой войны. „етыре отличные 102 мм пушки ќбуховского завода, котлы на жидком топливе, ход 36 узлов, возможность принимать на борт до 50 мин – «Ќовики» стали мировым эталоном при проектировании эскадренных миноносцев.
„то ж, «Ќовик» - то самое исключение, которое подтверждает общее правило. —лава «Ќовиков» была подобна падающей звезде – €рчайша€, но быстро погасша€ вспышка в непроницаемой черноте будней императорского ¬оенно-ћорского ‘лота.
ќстаетс€ констатировать очевидный факт: попытка дореволюционной –оссии стать морской державой с треском провалилась – недостаточно развита€ промышленность –оссийской »мперии проиграла «гонку вооружений» ведущим мировым державам.
слову, ———– дважды принималс€ за строительство линейных кораблей. ¬ отличие от «дореволюционных» линкоров, которые морально устарели еще на этапе закладки, советские проект 23 («—оветский —оюз») и проект 82 («—талинград») были вполне современными корабл€ми – мощными, сбалансированными и ничуть не уступавшими по совокупности характеристик зарубежным аналогам.
ѕервый раз достроить линкоры помешала война. Ќемало сказалась дореволюционна€ отсталость отечественной промышленности. »ндустриализаци€ только набирала обороты, и столь амбициозный проект оказалс€ «крепким орешком» дл€ советских корабелов – линкоры мало-помалу превращались в долгострой.
¬тора€ попытка была сделана вначале 1950-х – увы, эпоха дредноутов и жарких артиллерийских дуэлей неумолимо уходила в прошлое. ƒостройка «—талинградов» была отменена через пару лет после их закладки.
ѕокупал ли ———– корабли за рубежом?
ƒа, покупал. ѕеред войной —оюз приобрел недостроенный немецкий крейсер «Ћютцов» («ѕетропавловск») и лидер эсминцев «“ашкент», построенный в »талии по оригинальному проекту.
„то-то еще? ƒа.
Ќапример, у фирмы MAN были заказаны двадцать корабельных дизелей типа G7Z52/70 мощностью 2200 л.с. и типа G7V74 мощностью 1500 л.с. “акже дл€ флота были закуплены образцы гребных валов, рулевых машин, корабельные краски против обрастани€, чертежи 406-мм и 280-мм корабельных башен, бомбометы, гидроакустическа€ аппаратура…
Ќе нужно иметь «семи п€дей во лбу», чтобы пон€ть очевидную вещь – в предвоенные годы —оветский союз скупал “≈’ЌќЋќ√»»
¬се остальное он делал сам.
— началом ’олодной войны ситуаци€ прин€ла еще более жесткий оборот – в пр€мом противосто€нии с евро-атлантической цивилизацией —оюз мог рассчитывать только на себ€. ѕросто смешно представить атомный подводный ракетоносец дл€ ¬ћ‘ ———–, стро€щийс€ где-нибудь в британском √лазго или в американской ‘иладельфии.
» —оюз справилс€! ¬осстановив экономику и промышленность после страшной войны, ———– в 1960-е годы выкатил на просторы ћирового океана “ј ќ… ‘Ћќ“, от которого задрожали обе половинки «емли – в такт подводным ракетоносцам, покачивающимс€ у пирсов в √ремихе и бухте рашенинникова.
’орошо бы украсть на «ападе готовые технологии, да вот незадача, красть было нечего – то, что делал ———–, зачастую не имело аналогов в мире.

ѕерва€ в мире морска€ баллистическа€ ракета и еЄ подводный носитель; «поющие фрегаты» 61-го проекта – первые в мире корабли с полностью газотурбинной √Ё”; морска€ космическа€ система разведки и целеуказани€ «Ћегенда-ћ»…
ѕротивокорабельное ракетное оружие – здесь ¬ћ‘ ———– вообще не было равных.
”коризненна€ фраза «———– не построил ни одного линкора» может вызвать лишь гомерический хохот. —оветский —оюз умел строить подлодки из титана, авианесущие крейсера и гигантские атомоходы «ќрлан» - любой дредноут меркнет на фоне этих Ў≈ƒ≈¬–ќ¬ конструкторской мысли.
√оворить о каком-либо заимствовании с «апада просто не приходитс€ – советские корабли имели свой хорошо узнаваемый аутентичный облик, компоновку, размеры и специфический комплекс вооружени€. Ѕолее того, сам ¬оенно-ћорской ‘лот ———– представл€л собой единую альтернативу флотам западных стран (по умолчанию – ¬ћ— —Ўј). –уководство ¬ћ‘ ———– выработало совершенно оригинальную (и совершенно верную!) концепцию противодействи€ ¬ћ— —Ўј и смело придерживалс€ выбранного направлени€, создава€ специфические, до этого нигде невиданные, образцы военно-морской техники:
- большие противолодочные корабли - ракетные крейсера с гипертрофированным ѕЋќ-вооружением;
- т€желые авианесущие крейсеры;
- подводные лодки с крылатыми ракетами, т.н. «убийцы авианосцев»;
- ударные ракетные крейсера, известные как «оскал социализма»…

—оветска€ военно-морска€ мощь
”никальные корабли измерительного комплекса пр. 1914 «ћаршал Ќеделин», узлы сверхдальней океанской св€зи (низкочастотный импульс огромной мощности, направленный в земную кору, может быть прин€т даже на борту подлодки), малые ракетные корабли и «москитный флот», вооруженный немалыми ракетами (достаточно вспомнить, какой фурор в мире произвело потопление израильского «Ёйлата»).
¬се это - собственные технологии и собственное производство. Made in USSR.
то-нибудь наверн€ка задаст вопрос о больших десантных корабл€х проекта 775 – Ѕƒ этого типа строились в период с 1974 по 1991 год в ѕольше. ќтвет прост: это было чисто политическим решением, продиктованным желанием поддержать своего союзника по ¬аршавскому блоку.
—кажу больше – верфи ‘инл€ндии регул€рно получали заказы от ¬ћ‘ ———– – в основном дело касалось постройки буксиров и плавказарм. „исто экономические мотивы – советским верф€м было невыгодно возитьс€ с этой «мелочью», ведь на стапел€х —еверодвинска и Ќиколаева сто€ли атомные подлодки и “ј¬ –ы.
»звестна€ истори€ с покупкой станков фирмы TOSHIBA дл€ точной мехобработки винтов советских субмарин – не более чем курьез. ¬ конце-концов, купили станок, а не готовый эсминец или подлодку.
Ќаконец, ¬ћ‘ ———– никогда не гнушалс€ пользоватьс€ иностранной техникой, если речь шла о трофейных корабл€х.
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец
„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |
омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году |
ƒневник |
 Ќа свой страх и риск действовал адмирал Ќ.ќ. Ёссен, решившись заблаговременно забросать минами ‘инский залив и тем самым предотвратить прорыв германского линейного флота к ѕетербургу. Ёто и спасло столицу –оссии от разрушени€ т€желыми крупповскими оруди€ми уже в первые часы ¬еликой войны…
Ќа свой страх и риск действовал адмирал Ќ.ќ. Ёссен, решившись заблаговременно забросать минами ‘инский залив и тем самым предотвратить прорыв германского линейного флота к ѕетербургу. Ёто и спасло столицу –оссии от разрушени€ т€желыми крупповскими оруди€ми уже в первые часы ¬еликой войны…
«ѕоздравл€ю Ѕалтийский флот с великим днем, дл€ которого мы живем, которого ждали и к которому готовились» - таковы чеканные строки приказа командующего Ѕалтфлотом адмирала Ќикола€ ќттовича Ёссена, изданного им 19 июл€ (1 августа) 1914 года в св€зи с началом ѕервой мировой войны.
ќфициальное объ€вление ее еще только витало в воздухе, дипломаты –оссии, √ермании, ‘ранции и јвстро-¬енгрии предпринимали отча€нные усили€, чтобы найти хоть какой-то компромисс и удержать мир на краю пропасти, коварно вырытой Ѕританской империей, одной из виновниц разразившейс€ катастрофы. ј балтийский флотоводец уже пон€л, что враг у ворот, и он об€зан исполнить св€щенный долг перед ќтечеством и государем. ƒолг же этот, как разумел его Ёссен, состо€л в том, чтобы немедленно, по собственному почину, привести флот в полную боевую готовность и предприн€ть превентивные шаги. “е шаги, которые не позвол€т германским военно-морским силам на Ѕалтике осуществить план сокрушени€ –оссии, рожденный в морском штабе принца √енриха – родственника германского императора.
ѕлан немцев был столь же коварен, сколь и незамысловат. »спользу€ фактор внезапности и превосход€щую более чем вдвое численность крупповских орудий, включавшей 15-дюймовые стволы башен главного калибра, немецкие дредноуты и миноносцы стремительно прорываютс€ в ‘инский залив и всей своей огневой мощью в считанные часы сметают с лица «емли столицу –оссийской империи с ее пригородом ÷арским —елом. ƒабы кайзер ¬ильгельм II смог немедленно продиктовать унизительный мир кузену Ќики, то бишь Ќиколаю II…
ј теперь вернемс€ к мудрым строкам приказа адмирала Ёссена: «ќфицеры и команда (такЌиколай ќттович, а по его примеру и другие руководители Ѕалтфлота обращались к нижним чинам, вид€ в них не бессловесных исполнителей своей воли, а, прежде всего, спа€нных дисциплиной и чувством долга самоотверженных помощников офицерского состава. – ј.ѕ.)!
— этого дн€ каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели – защищать –одину от пос€гательств врага и вступать в бой с ним без колебаний, дума€ только о нанесении врагу самых т€желых ударов, какие только дл€ нас возможны.
¬ойна решаетс€ боем. ѕусть каждый из ¬ас(именно так, с прописной буквы, втексте приказа! – ј.ѕ.)напр€жет все свои силы, духовные и телесные, приложит все свои знани€, опыт и умени€ в день бо€, чтобы все наши снар€ды и мины внесли бы гибель и разрушение в непри€тельские боевой строй и корабли».
»сполн€€ этот приказ, миноносцы и минные крейсера Ѕалтфлота всего за четыре с половиной часа плотно закупорили все подступы с мор€ к ‘инскому заливу, установив свыше 2 тыс€ч мин в 8 полос и тем сразу устранив саму возможность дл€ проведени€ боевых операций немецкого флота против ѕетербурга и его пригородов.
» уже в тот час, когда германский посол граф ѕурталес с напускной прискорбностью вручал министру иностранных дел –оссии —азонову ноту об объ€влении вторым рейхом войны нашему ќтечеству, русска€ столица была практически недос€гаема дл€ крупповского железа.
» принцу √енриху, с €ростью узнавшему о русских минных постановках в балтийских проливах и шхерах, исключавших дл€ его армады вообще какую-либо перспективу активных действий против русского побережь€, ничего не оставалось, как от бессильной злобы впасть в многодневный запой
…Ќиколай ќттович фон Ёссен родилс€ в ѕетербурге 11 декабр€ 1860 года. ≈го предком был отпрыск древнего голландского графского рода урт Ёссен. ќн был прин€т на русскую мореходную службу в 1707 году. ак гласило семейное предание, 27 июл€ 1714 года в св€зи с про€вленными в √ангутской морской битве со шведами отвагой и умением ѕетр I лично вручил ему именной абордажный кортик. «а два столети€ род Ёссенов подарил –оссии 12 блест€щих военно-морских офицеров, семеро из них стали георгиевскими кавалерами.
ќтец же Ќикола€ ќттовича ќтто ¬ильгельмович пошел по гражданской части и к моменту рождени€ своего чада был уже действительным тайным советником и статс-секретарем. ќн с пониманием отнесс€ к выбору сына, пожелавшего продолжить семейную традицию служени€ ќтечеству под јндреевским флагом. Ќиколай по благословению отца в 1875 году поступил в петербургский ћорской корпус. ¬ годы учебы он про€вил замечательное упорство и трудолюбие и стал лучшим на своем курсе гардемарином. ≈го им€ было выбито золотыми буквами на мраморной доске почета.
ћного лет спуст€, уже обраща€сь к сыну, Ќиколай ќттович так сформулировал главное условие успеха в любой карьере: «работать, не поклада€ рук, не зна€ отдыха».
ѕодобным образом складывалась вс€ служба будущего адмирала, главным жизненным принципом которого стал девиз служени€ ќтечеству верой и правдой…
√ардемарином он ушел в двухлетнее заграничное плавание на фрегате «√ерцог Ёдинбургский», во врем€ которого и получил первый офицерский чин мичмана. «атем в 26 лет он закончил механическое отделение Ќиколаевской ћорской академии. — 1892 по 1896 год служил на корабл€х “ихоокеанской и —редиземноморской эскадр, пробыв в чине лейтенанта почти 14 лет и побывав почти во всех северных мор€х «емного шара. ѕроизведенный в капитаны 2 ранга, он был назначен в 1902 году командиром легкого миноносного крейсера (тоже 2 ранга) «Ќовик», переброшенного вместе с другими русскими военно-морскими силами на ƒальний ¬осток.
ѕеред этим он исполн€л должность флаг-капитана у командующего 1-й “ихоокеанской эскадрой вице-адмирала —.ќ. ћакарова – выдающегос€ флотоводца и ученого, руководител€ двух кругосветных плаваний, геро€ русско-турецкой войны 1877-1878 гг., создател€ тактики русского броненосного флота. »х совместна€ служба преподала фон Ёссену такую школу, которую, по его собственному выражению, «забыть просто невозможно, а пренебрегать – преступно». ¬месте со —тепаном ќсиповичем Ќиколай ќттович формировал эскадру сначала в ронштадте, затем в –евеле и Ћибаве. ќчень трудным оказалс€ ее переход к дальневосточным берегам –оссии, поскольку на всем этом пути не было ни одной нашей военно-морской базы, а встречавшиес€ по пути следовани€ порты некоторых государств под давлением одержимой недоброжелательством к русским јнглии отказывались снабжать корабли, шедшие под јндреевским флагом, продовольствием и топливом…
ѕримечательно, что уже в те годы Ёссен твердо определил неизбежность военного столкновени€ –оссии с √ерманией. ¬ 1898 году он неоднократно выступал в «ћорском сборнике» со стать€ми о германском флоте и даже завел на него досье, которое пополн€л до конца своих дней.
√оды русско-€понской войны стали дл€ Ќикола€ ќттовича звездным часом. Ќачало ее он встретил в ѕорт-јртуре. ѕосле внезапного нападени€ €понцев в ночь на 27 €нвар€ 1904 года капитан 2 ранга фон Ёссен первым вывел свой крейсер навстречу непри€телю. ”тром, когда неповрежденные €понскими торпедами русские корабли только выходили с рейда, «Ќовик» уже атаковал врага, причем дважды. ѕо отзывам очевидцев этих атак, будущий адмирал «на самом слабом корабле показал, что дух отваги в личном составе еще не убит».
ѕри возвращении «Ќовика» в ѕорт-јртур вс€ гавань приветствовала доблестный экипаж восторженным «”ра!». «а мужество в схватке с превосход€щим по численности противником кавторанг был награжден «олотой георгиевской саблей с надписью ««а храбрость», а 12 членов экипажа «Ќовика» получили георгиевские кресты.
√ероический характер Ёссена разгл€дели не только друзь€, но и будущие враги. “ак, германский военно-морской атташе в ѕорт-јртуре, впоследствии адмирал, Ё. √опман составил в те дни такой портрет Ќикола€ ќттовича:
«ћне представили маленького плотного капитана 2 ранга, шедшего мелкими быстрыми шагами по набережной. „истое круглое лицо, большие умные синевато-серые глаза… Ёто лицо и глаза из тех, что надолго врезываютс€ в пам€ть. √овор€т, хрустально бескорыстный, крайне независимый человек».
¬скоре адмирал ћакаров поручил неустрашимому офицеру командовать броненосцем «—евастополь». Ќа нем Ёссен сражалс€ до последних дней обороны порт-артурской крепости. ѕокида€ «Ќовик», Ќиколай ќттович писал: «–асстаюсь с сожалением с судном, на котором € прин€л боевое крещение и на котором пережил столько разных событий и вынес столько испытаний как в мирное врем€, так и на войне».
—мерть адмирала ћакарова, погибшего при подрыве на мине эскадренного броненосца «ѕетропавловск» 31 марта (13 апрел€) 1904 года, стала т€желым ударом дл€ Ёссена. ”ход из жизни этого выдающегос€ флотоводца, сторонника активных морских операций, крайне отрицательно сказалс€ на положении сто€вшей в порт-артурской гавани русской эскадры. ¬озглавл€вшие флот после гибели ћакарова наместник адмирал ≈.». јлексеев и адмирал ¬. . ¬итгефт полагали, что действи€ боевых кораблей должны носить лишь вспомогательный, оборонительный характер. ќни почти полностью отказались от наступлени€, если не считать двух бездарных попыток прорвать блокаду ѕорт-јртура. Ёссену оставалось безучастно наблюдать, как в пассивной обороне гибнет цвет нашего флота…
¬се его предложени€ о выводе судов в море и нанесении серьезного удара по €понским корабл€м командование встречало в штыки. Ќо когда началс€ пр€мой расстрел русских кораблей в гавани, Ќиколай ќттович, вопреки запрету выходить в море штормовой ночью, протаранил неразведенные боны и перевел «—евастополь» в бухту Ѕелый ¬олк. “ам он продолжил борьбу с €понским флотом, утопил или серьезно повредил несколько вражеских миноносцев и даже обстрел€л €понскую пехоту, наступавшую в районе √олубиной бухты.
¬ эти трагические дни героизм капитана 1 ранга Ёссена приобрел в –оссии широчайшую известность. ∆урнал «ћорской сборник» писал: « расочные открытки с портретом командира «—евастопол€» расход€тс€ тыс€чными тиражами, ему пишут люди разных сословий. Ќезаметный в мирные дни офицер становитс€ олицетворением крепости морского духа».
ярким напоминанием о героизме дерзкого командира и его боевых соратников служит приказ начальника вантунского укрепрайона генерал-лейтенанта ј.ћ. —тессел€ от 5 декабр€ 1904 года: «√ордитесь, славные воины, подвигом броненосца «—евастополь», подвигом командира капитана 1 ранга Ёссена, гг. офицеров и команды! ѕусть каждый из вас будет с гордостью передавать –одине и потомкам, как «—евастополь» один отважилс€ выйти на рейд в ночь на 26 но€бр€ и, будучи атакован подр€д п€ть ночей, со славой геройски отбивал атаки непри€тельских миноносцев. ѕодвиг этот не должен никогда изгладитс€ из вашей пам€ти!.. ”ра геро€м броненосца «—евастополь!»
ѕосле этого героический корабль еще три недели оставалс€ на внешнем рейде и отражал минные атаки непри€тел€. ј в ночь на 6 (19) декабр€ 1904 года Ёссен, к тому времени прин€вший командование над одним из районов обороны (ему подчин€лись и сто€вшие здесь сухопутные войска) получил приказ об уничтожении «—евастопол€» и всех батарей. «атопление корабл€ в день капитул€ции ѕорт-јртура стало дл€ Ќикола€ ќттовича величайшим потр€сением.
¬ те часы он, по всей видимости, решил погибнуть вместе с кораблем, которым командовал. Ѕроненосец уже погружалс€ в море, когда группа офицеров вернулась на тонущий корабль – за командиром.
–уки Ёссена буквально силой оторвали от поручней и на руках унесли его с капитанского мостика, чтобы переправить на буксир...
ѕосле сдачи крепости капитан ее последнего броненосца вместе с другими портартурцами находилс€ в плену, однако уже в марте 1905 года вернулс€ в –оссию. «а русско-€понскую войну Ёссен «в возда€ние особых подвигов храбрости и распор€дительности» получил орден —в. √еорги€ 4-й степени. «а ним также утвердили чин капитана 1 ранга, полученный перед падением ѕорт-јртура.
«‘лот и работа!» - таков был полушутливый девиз Ќикола€ ќттовича, провозглашенный им вскоре по возвращении из €понского плена. ¬ сущности, ему он следовал всю жизнь. — ним и начал многотрудное дело возрождени€ Ѕалтийского флота, лучшие корабли которого сгинули при ÷усиме и в других сражени€х с €понцами. Ќазначенный начальником —тратегической части только что созданного ћорского √енерального штаба, он организовал большую работу по изучению опыта минувшей войны, анализу многочисленных публикаций военных специалистов всего мира. –азумеетс€, богатейший опыт личных наблюдений и размышлений Ёссена о проигранной кампании тоже не осталс€ втуне… Ќаблюда€ за трудами своих подчиненных и коллег (они войдут в историю русского флота с несколько ироничным названием «младофлотцы»), Ќиколай ќттович требовал от них плодотворных идей по предотвращению подобных трагедий в будущих войнах.
¬ марте 1906 года он отправилс€ в јнглию дл€ прин€ти€ командовани€ над стро€щимс€ крейсером «–юрик». ќднако уже через полгода был возвращен домой и начал командовать ѕервым отр€дом минных крейсеров, больша€ часть которых была построена на добровольные пожертвовани€. ¬ид€ в своем отр€де уменьшенный прообраз нового Ѕалтфлота, он считал своей главной задачей заложить в его организацию и жизнеде€тельность те идеи и принципы, которые были выношены им в ѕорт-јртуре и на посту начальника —тратегической части. ≈му предсто€ло, нар€ду с созданием прогрессивной тактики минного флота, добитьс€, чтобы личный состав в совершенстве овладел техникой и боевыми средствами, а также воспитать таких офицеров, которые были бы свободны, как он сам писал, от «доцусимской ограниченности».
≈ще накануне русско-€понской войны, будучи сам в невысоком чине и на довольно скромной должности, фон Ёссен делилс€ с читател€ми «ћорского сборника» поразительно смелыми суждени€ми: «¬есь старый скарб надо убрать, надо выдвинуть молодых, энергичных командиров и их можно найти, если этот скарб их не затрет и не заставит поседеть в лейтенантском чине».
ƒостигнув же командных высот, Ќиколай ќттович активно искал таких же, похожих на него своей неуспокоенностью и влюбленностью в службу мор€ков и старалс€ продвинуть их на ключевые посты, св€занные с боевой подготовкой, организационными новшествами и перспективным стратегическим планированием.
“ак, с его легкой руки, командный состав Ѕалтфлота обогатилс€ такими €ркими личност€ми, как ј.¬. олчак (замечательный пол€рный исследователь, про€вивший впоследствии и талант флотоводца), ».». –енгартен (с его именем св€заны превосходные успехи в организации службы св€зи, радиоразведки и пеленговани€ непри€тельских судов), кн€зь ј.ј. Ћивен (будущий командир ѕервой минной дивизии), барон ¬.Ќ. ‘ерзен (возглавил ¬торую минную дивизию) и др. стати, к своим офицерам Ќиколай ќттович неизменно относилс€ с отеческой благожелательностью, часто бывал на корабл€х, и непременно поощр€л отличившихс€ благодарственным словом, представлением к ордену или денежной премией.
¬ апреле 1907 года фон Ёссен получил чин контр-адмирала, а еще через год стал фактическим командующим русскими ¬ћ— на Ѕалтике. ќпира€сь на кадры «своей» минной дивизии (сформированной на базе ѕервого отр€да минных крейсеров), он быстро достиг стремительного прогресса в своих начинани€х. “ак, контр-адмирал, как это констатировал журнал «ћорской сборник», «добилс€ подчинени€ себе всех портовых учреждений, совершив этим самую крупную ломку в организации наших морских сил и провод€ идею, согласно которой все береговые учреждени€ должны служить дл€ существовани€ флота, а не наоборот».
—ледующим шагом командующего стало введение практики плавани€ во все сезоны года. ‘он Ёссен доказывал: «’одить п€ть суток в мес€ц 12,5-узловым ходом (то есть на скорости чуть больше 20 км/ч. – ј.ѕ.) – это не учеба, а бесполезна€ трата времени и угл€».
— фон Ёссеном русские корабли стали плавать на Ѕалтике в любое врем€ года и в любую погоду. ќни по€вл€лись в самых немыслимых уголках, в частности, в труднопроходимых шхерах, соверша€ тыс€чемильные переходы. ѕостепенно Ќиколай ќттович все более усложн€л услови€ плавани€: мор€ки приучались ходить, да еще на возможно высокой скорости, в шторм и туман, ночью и во льдах… “ак личный состав обретал бесценный мореходный опыт, привыкал мужественно переносить т€готы и лишени€, св€занные с дальними походами, понима€ их важность дл€ обороны ќтечества. ќфицеры Ёссена станов€тс€ виртуозами управлени€ корабл€ми и боевыми средствами, их отличают самосто€тельность и уверенность в себе.
¬едь высшей похвалой из уст Ќикола€ ќттовича была така€ аттестаци€: «Ќе боитс€ ни мор€, ни начальства!»
–азумеетс€, чтобы дальние и сложные плавани€ из мечты превратились в реальность, фон Ёссену пришлось немало повоевать с ћорским ведомством, все более превращавшимс€ в заповедник затхлой рутины. ќбосновавшиес€ там адмиралы предпочитали ничего не мен€ть, их устраивал даже безнадежно устаревший ћорской устав 1853 года, писавшийс€ большей частью дл€ парусных кораблей. омандующий Ѕалтфлотом, тем не менее, сумел добитьс€ пересмотра многих отживших свой век теоретических положений и, в частности, приказа по ћорведу от 1892 года, ограничивавшего учебное плавание «дл€ сбережени€ машин». ќткрыто критикует он и позицию высших военных и морских руководителей страны, по-прежнему полагавших и официально за€вл€вших, что «флот не может быть рассматриваем как активный флот в широком понимании этого пон€ти€, а должен ограничиватьс€ высочайше указанной ему ролью оборонительной».
Ѕудучи активным сторонником наступлени€ в будущей войне, Ќиколай ќттович вовсе не пренебрегал и обороной. Ёто под его началом был рожден тот план морской обороны, который он сумел так блест€ще воплотить в жизнь, заставив принца √енриха ѕрусского буквально сразу отказатьс€ от попыток прорватьс€ к русской столице.
ѕодготовленный в 1912 году «ѕлан операций ћорских сил Ѕалтийского мор€ на случай возникновени€ ≈вропейской войны», по которому развертывалс€ Ѕалтийский флот в начале ¬еликой войны, предусматривал решение важнейшей оперативно-стратегической задачи - недопущение флота противника в восточную часть ‘инского залива, - констатировал военный историк ƒ.ё. озлов. - ƒл€ этого с объ€влением мобилизации в самой узкой части ‘инского залива - между островом Ќарген и мысом ѕорккала-”дд планировалось создать минно-артиллерийскую позицию, основу которой составл€ли массированное минное заграждение, прикрываемое на флангах многочисленными береговыми батаре€ми калибром до 356 мм и развернутые восточнее него ударные и обеспечивающие силы флота… ¬ этой операции планировалось задействовать весь Ѕалтийский флот - линейную и обе крейсерские бригады, две минные дивизии, бригаду подводных лодок, силы и средства береговой обороны, более 40 кораблей и вспомогательных судов. ѕредполагалось, что на рубеже центральной минно-артиллерийской позиции Ѕалтийской флот сможет задержать германский ‘лот открытого мор€ на 12-14 суток, достаточных дл€ развертывани€ 6-й армии, назначенной дл€ обороны столицы. ѕлан 1912 г. впервые предусматривал комплексное применение разнородных маневренных сил - надводных кораблей и подводных лодок, а также позиционных средств и береговой обороны - в их оперативном (в некоторых случа€х и тактическом) взаимодействии. Ёто обсто€тельство… позвол€ет считать его важной вехой в развитии отечественного, да и мирового военно-морского искусства… ќборона морских подступов к ѕетрограду на прот€жении всей войны оставалась важнейшей задачей Ѕалтийского флота. ¬ основе ее решени€ лежало создание на театре глубоко эшелонированной системы минно-артиллерийских позиций (центральна€, флангова€ шхерна€, передова€, ирбенска€ и моонзундска€) и оборонительных районов ( ронштадтский, ћоонзундский, јбо-јландский). ¬ажным элементом системы €вл€лись оборонительные минные заграждени€ (в общей сложности - 34 846 мин). роме того на флангах минно-артиллерийских позиций и на побережье к западу от о-ва √огланд было построено 59 береговых батарей, насчитывавших 206 орудий калибром от 45 до 305 мм. ѕрикрытие оборонительных минных заграждений возлагалось на корабельные соединени€ флота, береговую артиллерию и морскую авиацию. «ащита флангов позиций должна была осуществл€тьс€ совместно с сухопутными войсками…»
ќборона ‘инского залива была настолько плотной, что немцы так и не решились нанести по ней удар всей мощью своих сил.
≈динственна€ попытка прорыва через передовую позицию, предприн€та€ флотилией германских миноносцев в ночь на 11 но€бр€ 1915 года, закончилась полным провалом - гибелью на минах семи из одиннадцати кораблей.
Ёта €рка€ победа русского флота, ставша€ возможной благодар€ тесному сотрудничеству штаба Ѕалтийского флота с русской разведкой, через свою сотрудницу јнну –евельскую подбросившую немцам «подлинную» схему установки минных полей на пути в ‘инский залив, прекрасно описана в романе ѕикул€ «ћоонзунд».
роме того, эссеновский секретный вариант боевых меропри€тий включал в себ€ серию диверсий в шлюзах ильского залива. Ѕлагодар€ им германский ‘лот открытого мор€ прочно отдел€лс€ от кайзеровских ¬ћ— на Ѕалтике, и переброска судов из —еверного мор€ на русский театр военных действий становилась невозможной. ѕлан включал также минную блокаду всего германского побережь€. » хот€ эти компоненты плана Ёссена прин€ты не были, в годы ѕервой мировой мор€ки-балтийцы, и прежде всего, контр-адмирал олчак, уже после смерти Ќикола€ ќттовича провели несколько €рких наступательных операций вблизи германских берегов...
Ќаконец, мы об€заны вспомнить и о той замечательной роли фон Ёссена в прин€тии закона «ќб императорском российском флоте», благодар€ которому наши ¬ћ— на Ѕалтике, меньше чем за три года, получили минимально необходимое количество новых кораблей, способных активно противосто€ть германской военно-морской мощи, второй в мире после јнглии.
¬ообще, закон о флоте и св€занна€ с ним судостроительна€ программа были плодом усилий ќсобого военного комитета при √осударственной думе. Ёссен же, будучи членом этого комитета, выступал в роли важнейшей движущей силы. ¬ архивах сохранилась запись одного из его выступлений: «Ќеобходимость дл€ –оссии иметь сильный флот сознавалась до начала войны 1904 года лишь немногими. Ќо гр€нули выстрелы в ѕорт-јртуре и „емульпо... и русский флот, до того времени мало обращавший на себ€ внимание общества и признаваемый подчас излишней дл€ –оссии роскошью, сделалс€ дорогим русскому сердцу. Ѕезотлагательна€ необходимость постановки флота на должную дл€ поддержани€ силы –оссии высоту представилась с поразительной €сностью».
ѕо предложению вице-адмирала на Ѕалтике в течение 20 лет должны были быть сформированы три эскадры: две боевые и одна резервна€. аждое из этих оперативных соединений могло состо€ть из 8 линейных кораблей, 4 линейных и 8 легких крейсеров, 36 эсминцев, 12 подводных лодок. ѕервые п€ть лет строительства выдел€лись в особый период. —огласно положени€м «ѕрограммы усиленного судостроени€ Ѕалтийского флота на 1911—1915 гг.», за это врем€ предполагалось построить 4 линейных и 4 легких крейсера, 30 эсминцев и 12 подводных лодок. ѕо расчетам Ќикола€ ќттовича на это требовалось чуть больше полумиллиарда рублей – сумма внушительна€, но дл€ –оссии предвоенной поры вполне посильна€.
ѕредложени€ Ёссена ћорской √енеральный штаб доложил императору. «ќтлично исполненна€ работа, — заключил Ќиколай II. — ¬идно, что составитель стоит на твердой почве, расхвалите его за мен€».
“ем не менее, проект закона на взгл€д непростительно в€лого и апатичного —овета министров, должен был быть представлен в ƒуму не ранее конца 1914 года, когда выполнение его первой части «...значительно продвинетс€ вперед и даст ћорскому министерству основание поставить вопрос о продолжении успешно начатого дела». » только под давлением Ёссена законотворческа€ работа стала двигатьс€ быстрее. “аким образом, на долю командующего Ѕалтийским флотом выпала трудна€ и почетна€ мисси€ собирател€ (а фактически – и строител€) новых российских ¬ћ—.
–еализаци€ судостроительной программы стала в предвоенную пору важнейшим делом Ёссена. ќтносилс€ он к нему, по отзывам сослуживцев, вкладыва€ всю свою душу. „асто быва€ на петербургском Ѕалтийском заводе, лично присутствовал при закладке и спуске со стапелей кораблей, посто€нно совету€сь с профессором ћорской академии ».√. Ѕубновым и академиком ѕетербургской академии наук ј.Ќ. рыловым. ¬ результате осенью 1913 года в строй вошли линкоры-дредноуты типа «—евастополь», не уступавшие английским и немецким корабл€м подобного типа. ќни обладали скоростью до 23 узлов, дальностью автономного плавани€ свыше 1600 миль, имели двигатели общей мощностью более 42 тыс€ч лошадиных сил, несли 38 орудий калибром до 305 миллиметров. ќт ѕутиловской верфи флот получил несколько эскадренных миноносцев, в том числе прославленный ѕикулем «Ќовик», унаследовавший им€ погибшего в русско-€понской войне крейсера. ¬о врем€ ходовых испытаний этот корабль установил мировой рекорд скорости — 37,3 узла. ј в сент€бре 1913 года на Ѕалтийском заводе была заложена сери€ подводных лодок типа «Ѕарс».
ѕараллельно со всеми прочими делами фон Ёссен занималс€ и вопросами оперативного оборудовани€ морских подступов к столице. ќснову обороны восточной части ‘инского залива тогда составл€ли укреплени€ ронштадта, имевшие на вооружении современные мощные оруди€.
—озданна€ же Ёссеном специальна€ комисси€ под председательством начальника этой морской крепости генерал-майора Ќ.». јртамонова отвечала за «...обеспечение защиты портовых сооружений от бомбардировок, преграждение доступа непри€тел€ к ѕетербургу, за обеспечение защиты от бомбардировок мест сто€нок флота». ѕо замыслу командующего флотом, передова€ лини€ обороны крепости была перенесена на более дальние морские рубежи, что обеспечивало недос€гаемость ѕетербурга и пригородов от огн€ кайзеровских линкоров даже в случае их прорыва через минные заграждени€, стро€ща€с€ же островна€ лини€ артбатарей становилась втором оборонительным рубежом. ”же к началу 1913 года были готовы под установку вооружени€ форты Ќиколаевский, јлексеевский, ќбручев и “отлебен. оличество орудий в кронштадтской крепости было увеличено до 322.
Ќа побережье ‘инл€ндии была своевременно завершена постройка форта »но, в южной части ‘инского залива — фортов расна€ √орка и —ера€ Ћошадь. ќни отличались прочными железобетонными казематами, удобными и надежными помещени€ми дл€ личного состава, автономными силовыми станци€ми. «десь располагались батареи орудий калибром от 152 до 305 мм с достаточно большим запасом снар€дов.
—лова фон Ёссена о том, что «флот существует только дл€ войны, и потому все, что не имеет отношени€ к боевой подготовке, должно быть отброшено, как не только ненужное, но и вредное», с первых часов ѕервой мировой начали в полной мере претвор€тьс€ в жизнь.
ќднако уже в окт€бре 1914 года командующий Ѕалтфлотом ощутил себ€ «св€занным по рукам и ногам» приказом о запрещении боевых действий у непри€тельских берегов и использовании новых линкоров. “ем не менее, в нарушение запрета минирование продолжалось всю осень и зиму, и германские ¬ћ— несли от этого ощутимые потери. ”пр€мого же Ќикола€ ќттовича император наградил орденом Ѕелого орла, а затем и орденом —в. √еорги€ 3-й степени.
Ќепрекращающиес€ подрывы на русских минах боевых кораблей и транспортов совершенно дезорганизовали судоходство между Ўвецией и √ерманией, была закрыта старейша€ паромна€ переправа «ассниц – “релеборг. ѕосле потери 15 пароходов германский —оюз судовладельцев был в полном отча€нии и даже потребовал сн€ти€ одного из кайзеровских флотоводцев - адмирала Ѕеринга - с должности командующего действующим отр€дом.
«¬ойна в Ѕалтийском море слишком богата потер€ми без соответствующих успехов!»-- констатировал кайзер, заслушав мрачный доклад принца √енриха ѕрусского об итогах бесславной дл€ германского флота кампании на Ѕалтике. ¬место сн€того Ѕеринга флагманом особого назначени€ был назначен контр-адмирал Ё. √опман – тот самый, что был немецким военно-морским атташе в ѕорт-јртуре и пригл€дывалс€ к кавторангу фон Ёссену… Ќо смена начальства не принесла кайзеровскому флоту на Ѕалтике существенных успехов, даже несмотр€ на победы, одержанные на суше.
ѕредвид€ попытки непри€тел€ прорватьс€ через »рбенский пролив, Ќиколай ќттович, привыкший всюду поспевать сам, совершил р€д выходов на миноносцах к »рбенам.
—ерьезно простудившись на студеном балтийском ветру, он, несмотр€ на болезнь, продолжал оставатьс€ в строю, пока его не доставили с обострением пневмонии в одну из ревельских клиник. 7 (20) ма€ 1915 года он скончалс€. ѕо свидетельству очевидца, последние слова адмирала были обращены к любимому детищу – флоту: «ѕойдем-пойдем… ¬перед!»
—мерть адмирала оказалась т€желейшим ударом дл€ всего российского флота. ќбщее впечатление мор€ков-балтийцев один из ближайших сотрудников его ».». –енгартен выразил словами: «теперь нет самого главного, умерла душа, нет хоз€ина».
Ћюбимый миноносец фон Ёссена «ѕограничник», сопровождаемый почетным караулом из георгиевских кавалеров, 9 (22) ма€ 1915 года доставил гроб с телом командующего Ѕалтфлотом в ѕетроград, к јнглийской набережной. «десь его погрузили на орудийный лафет и шестерка лошадей, за которой выстроилась огромна€ процесси€ из пришедших петроградцев, доставила тело адмирала от храма —паса на водах, где совершалось отпевание, на Ќоводевичье кладбище. »мператрица јлександра ‘едоровна прислала огромный венок в форме креста из живых белых цветов; ее супруг Ќиколай II отозвалс€ на смерть адмирала телеграммой, исполненной горестных нот; √осударственна€ дума почтила пам€ть Ќикола€ ќттовича траурной лентой с надписью «—лавному защитнику јндреевского флага, гордости русского флота». √роб опускали в могилу под залпы орудийного салюта.
ћорской министр адмирал ». . √ригорович тогда покл€лс€ именем Ёссена назвать лучший из новых кораблей. Ќо кл€тву свою он, увы, не сдержал. ¬ налетевших вскоре социальных бур€х Ѕалтфлот был снова разорен и почти уничтожен. ѕогибли или рассе€лись по миру выросшие под началом Ёссена флотоводцы и офицеры, а само им€ героического адмирала на многие дес€тилети€ подверглось незаслуженному забвению.
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...
„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец
„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |
ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец |
ƒневник |
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 15 - јдмирал ‘.‘.”шаков.
„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...
„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец
„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |
рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"... |
ƒневник |
»стори€ службы. |
|
«јдмирал Ќахимов» (с 26.12.1922 — «„ервона ”краина», с 6.2.1950 - «—“∆-4», с 30.10.1950 - «÷Ћ-53»)
«аложен 18 окт€бр€ 1913 г. на заводе «–уссуд». 18 марта 1914 г. включен в списки „‘. —пущен 25 окт€бр€ 1915 г. —троительство приостановлено в марте 1918 г. ¬ €нваре 1920 г. при эвакуации белых из Ќиколаева в недостроенном виде уведен в ќдессу. ѕри эвакуации из ќдессы в феврале 1920 г. белые попытались увести крейсер в —евастополь. Ќо он вмерз в лед, и без помощи ледоколов это не представл€лось возможным. ѕосле вз€ти€ ќдессы расной јрмией, «јдмирал Ќахимов» в конце 1920 г. был переведен в Ќиколаев на завод «Ќаваль». ¬ 1923 г. началась достройка крейсера по первоначальному проекту. ѕриказом –еввоенсовета республики от 7 декабр€ 1922 г. крейсеру «јдмирал Ќахимов» было присвоено новое название «„ервона ”краина». 29 окт€бр€ 1924 г. —овет “руда и ќбороны ———– утвердил доклад ¬ысшей правительственной комиссии о выделении ассигнований на достройку, капитально-восстановительный ремонт и модернизацию р€да кораблей, в том числе крейсеров «„ервона ”краина» и «—ветлана». ќба крейсера достраивались по первоначальному проекту, но с усилением зенитного и торпедного вооружени€. ¬ конце апрел€ 1926 г. «„ервона ”краина» успешно закончила заводское опробование механизмов и швартовные испытани€. орабль ввели в док дл€ осмотра и окраски подводной части корпуса. 13 июн€ 1926 г. крейсер предъ€вили на ходовые испытани€. —редн€€ скорость при п€ти пробегах составила 29,82 уз, наибольша€ скорость, полученна€ на испытани€х, приближалась к требовани€м первоначальных технических условий на проектирование (30 уз). 7 декабр€ приемные испытани€ успешно завершились, и завод приступил к устранению мелких замечаний приемной комиссии. 21 марта 1927 г. крейсер «„ервона ”краина» вступил в строй и был включен в состав ќтдельного дивизиона эскадренных миноносцев ћорских сил „ерного мор€ (ћ—„ћ) - так до 1935 г. именовалс€ „ерноморский флот. ¬ том же 1927 г. крейсер участвовал в осенних маневрах ћ—„ћ. ¬ течение трех лет, до того как с Ѕалтики прибыли линкор «ѕарижска€ оммуна» и крейсер «ѕрофинтерн», «„ервона ”краина» была крупнейшим кораблем ћ—„ћ. Ќа нем разместилс€ штаб ќтдельного дивизиона эсминцев (комдив ё.¬.Ўельтинга). Ќа крейсере подн€л флаг начальник ћ—„ћ ¬.ћ.ќрлов. 12 сент€бр€ 1927 г. под флагом командующего ћ—„ћ ¬.ћ. ќрлова крейсер вышел из —евастопол€. Ќа траверзе ялты корабль попал в эпицентр рымского землетр€сени€, повреждений не получил. ¬от как описывал это событие, служивший в то врем€ на крейсере вахтенным начальником Ќ.√. узнецов: «Ќе успели скрытьс€ ма€ки южного берега рыма, и ялта еще находилась на траверзе крейсера, как нас сильно тр€хнуло, корабль будто наскочил на камни или ударилс€ о какой-то т€желый предмет. - —топ машины! - скомандовал Ќесвиц-кий. - „то случилось? - обратилс€ к нему находившийс€ на мостике командующий флотом ¬.ћ.ќрлов.
«„ервона ”краина» вскоре после вступлени€ в строй
ќтвета никто не мог дать. ¬нешний и внутренний осмотр крейсера показал, что никаких повреждений нет, механизмы в полной исправности, нормально работают, только почему-то пропала св€зь с базой. ¬скоре пришло известие: в рыму землетр€сение. Ёпицентр его находилс€ как раз в районе, где находилс€ наш крейсер» (Ќ.√. узнецов. Ќакануне. ¬ое-низдат 1989, с. 50). 13 сент€бр€ корабль пришел на рейд —очи, на него прибыл начальник ћорских —ил – ј –.ј.ћуклевич, и корабль направилс€ в —евастополь. 14-22 сент€бр€ «„ервона ”краина» участвовала в маневрах ћ—„ћ. — 27 ма€ по 7 июн€ 1928 г. «„ервона ”краина» (командир Ќ.Ќ.Ќесвицкий) с эсминцами «ѕетровский», «Ўаум€н» и «‘рунзе» ходил в —тамбул в ответ на визит в —евастополь отр€да турецких кораблей. Ќочью 3 июн€ на крейсере, сто€вшем в —тамбуле возник пожар в кормовом котельном отделении. отел был выведен, а на трубу надет чехол, чтобы прекратить доступ воздуха к очагу возгорани€. Ќа некоторое врем€ корабль обесточилс€, остановились пожарные насосы. ƒл€ борьбы с огнем у экипажа остались только огнетушители и ручна€ помпа. ¬скоре был разведен котел в другом отделении и пожар потушен. ƒнем 3 июн€ отр€д вышел из —тамбула, сопровожда€ €хту «»змир», на которой из “урции возвращалс€ падишах јфганистана јманнула-хан. ќтр€д проводил €хту до Ѕатуми, где падишах сошел на берег. 24-25 июл€ 1929 г. крейсер совершил поход из —евастопол€ в —очи вдоль берегов рыма и авказа. Ќа борту находились √енеральный секретарь ÷ ¬ ѕ(б) ».¬.—талин, председатель ÷ ¬ ѕ (б), нарком – » √. .ќрджоникидзе в сопровождении командующего ћ—„ћ ¬.ћ.ќрлова. ¬о врем€ похода они наблюдали учени€ разнородных сил флота, присутствовали на концерте корабельной самоде€тельности. ¬ пам€ть об этом переходе ».¬.—талин сделал запись в корабельном журнале: «Ѕыл на крейсере «„ервона ”краина». ѕрисутствовал на вечере самоде€тельности... «амечательные люди, смелые культурные товарищи, готовые на все ради нашего общего дела...»
«„ервона ”краина» в —евастополе, 1927-1929 гг. Ќа корабле оборудован брезентовый ангар, причем в качестве каркаса его крыши служат стрелы самолетных кранов
«„ервона ”краина», 1927—1929 гг.
9 марта 1930 г. приказом –¬— ———– є 014 была сформирована бригада (с 1932 -дивизи€) крейсеров ћ—„ћ, в которую включен крейсер «„ервона ”краина», прибывшие с Ѕалтики линкор «ѕарижска€ оммуна» и крейсер «ѕрофинтерн», а также и достраивающийс€ в Ќиколаеве « расный авказ». омандовали этим соединением адацкий (1930-1932), ё.‘.–алль (1932-1935), ».—.ёмашев (1935-1937), Ћ.ј.¬ладимирский (1939-1940), —.√.√оршков (1940-1941). — 2 по 16 окт€бр€ 1930 г. в составе практического отр€да ћ—„ћ (командир отр€да ё.¬.Ўельтинга, командир крейсера ѕ.ј.≈вдокимов) с эсминцами «Ќезаможник» и «Ўаум€н» совершил поход по маршруту —евастополь - —тамбул (3-5.10) -ћессина (7-10.10) - ѕирей (11-14.10) -—евастополь. Ќа переходе отрабатывались тактические упражнени€ по отражению атак подводных лодок, эсминцев, торпедных катеров, штурманы получили богатую практику в изучении —редиземноморского театра и „ерноморских проливов.
».¬.—талин и √. . ќрджоникидзе среди мор€ков крейсера «„ервона ”краина» на переходе из —евастопол€ в —очи. »юнь 1929 г.
ƒо перехода с Ѕалтики «ѕрофин-терна» и вступлени€ в строй « расного авказа» напарником «„ервоны ”краины» был древний « оминтерн» (на переднем плане)
«„ервона ”краина», конец 1920-х гг.
Ќа палубе «„ервоной ”краины» во врем€ заграничного похода, июнь 1930 г.
«„ервона ”краина» в ћессине, окт€брь 1930 г. ѕо правому борту сто€т эсминцы «Ўаум€н» и «Ќезаможник»
10-13 окт€бр€ 1931 г. крейсер участвовал в осенних маневрах ћ—„ћ. — 26 августа по 6 сент€бр€ 1932 г. с крейсером «ѕрофинтерн», трем€ эсминцами и трем€ канонерскими лодками совершил поход в јзовское море. — но€бр€ 1933 г. по сент€брь 1936 г. крейсером командовал Ќ.√. узнецов - в дальнейшем народный комиссар ¬ћ‘, јдмирал ‘лота —оветского —оюза. 24 окт€бр€ 1933 г. «„ервона ”краина» с крейсером «ѕрофинтерн» вышли из —евастопол€, сопровожда€ турецкий пароход «»змир», на котором в —тамбул отправилась советска€ правительственна€ делегаци€ во главе с наркомом .≈. ¬орошиловым на празднование 10-лети€ “урецкой республики. ѕо пути корабли попали в сильный шторм. ”тром 26 окт€бр€ они прибыли в —тамбул, а спуст€ 6 часов крейсера вышли обратно и 27 окт€бр€ прибыли в —евастополь. 9 но€бр€ оба крейсера под общим командованием начальника Ўтаба ћ—„ћ .».ƒушенова вновь направились в —тамбул и 11 но€бр€ вступили в охранение парохода «»змир» с возвращающейс€ делегацией. 12 но€бр€ отр€д прибыл в ќдессу. ак лучшему крейсеру – ‘ «„ервоной ”краине» были вручены переход€щее расное «нам€ и грамота ÷ ¬Ћ —ћ. ¬ 1933 г. командир крейсера Ќ.√. узнецов был награжден грамотой ÷» ———– и именными золотыми часами.
ѕосле того, как на „ерном море в 1930 г. была сформирована дивизи€ крейсеров, «„ервона ”краина» получила отличительные марки на дымовых трубах
«„ервона ”краина», начало 1930-х гг.
«„ервона ”краина», 1935 г. Ќад крейсером пролетает летающа€ лодка ƒорнье «¬аль»
«„ервона ”краина», 1937-1938 гг.
¬ 1934 г. при выходе из —евастопольской бухты на осенние маневры, намотал на винты сети бонового заграждени€, не смог участвовать в учебном бою и не получил первого места по ћорским силам, которое должен был получить по итогам учебного года. ¬ 1934-1935 гг. «„ервона ”краина» прошла модернизацию на «—евморзаводе». Ћетом 1935 г. крейсер под флагом комбрига ё.‘. –алл€, ходил из —евастопол€ в —тамбул, доставив на родину тело умершего посла “урции в ———– ¬асыфа „инара. Ќа обратном пути крейсер прошел Ѕосфор ночью, что крупные корабли обычно не делали. ¬ июле 1935 г. крейсер доставил из —очи в ялту наркома т€желой промышленности √. .ќрджониидзе с женой и сопровождающим его наркомом здравоохранени€ –—‘—– √.Ќ. аминским. «а этот поход командир корабл€ Ќ.√. узнецов был премирован легковым автомобилем √ј«-ј. ¬ том же 1935 г. крейсер «„ервона ”краина» зан€л первое место по всем видам боевой подготовки, командир был награжден орденом расной «везды. ¬ марте 1937 г. «„ервона ”краина» и « расный авказ» совершили круговой поход вдоль берегов „ерного мор€. 5 марта корабли разошлись контркурсами с турецким линейным крейсером «явуз» (б. «√ебен»), шедшим в сопровождении трех миноносцев. 22 июн€ 1939 г. «„ервона ”краина» была включена в состав формируемой эскадры „ерноморского флота. — 26 августа 1939 г. по 1 ма€ 1941 г. крейсер прошел капитальный ремонт на «—евморзаводе». — 13 по 17 ма€ 1941 г. «„ервона ”краина» под флагом заместител€ наркома ¬ћ‘ вице-адмирала √.».Ћевченко совершила плавание по маршруту —евастополь - ѕоти - Ќовороссийск - ерчь - ‘еодоси€ -—евастополь. — 14 по 18 июн€ она участвовала в маневрах флота - последних перед войной. Ќачало ¬еликой ќтечественной войны «„ервона ”краина» (командир капитан 1 ранга Ќ.≈.Ѕасистый) встретил в главной базе флота - —евастополе. орабль за полтора мес€ца до войны вышедший из ремонта, только приступил к выполнению стрельб, поэтому числилс€ во 2-й линии.
«„ервона ”краина» в —евастополе, 1939 г. —нимок с крейсера « расный авказ»
¬ первый же день войны флот приступил к постановке оборонительных минных заграждений около своих баз. 22 июн€ на корабль с подошедшей баржи были погружены 90 мин заграждени€. 23 июн€ в 13.33 «„ервона ”краина» под флагом командира бригады крейсеров капитана 1 ранга —.√.√оршкова совместно с крейсером « расный авказ» вышла из √лавной базы. ¬ 16.20 корабли подошли к району постановки минного заграждени€, а в 19.15 вернулись в —евастополь. 24 июн€, прин€в мины, с крейсером « расный авказ» «„ервона ”краина» в 8.40 вышла в море под флагом комбрига. «авершив постановку заграждени€, крейсера в 11.38 направились в базу. Ќаход€сь на »нкерманском створе, обнаружили шедший навстречу крейсерам из базы буксир с плавкраном. ¬ 12.52 на рассто€нии 40 м от форштевн€ взорвалс€ и затонул плавкран, взрывом был поврежден буксир —ѕ-2. рейсера застопорили ход и отработали полный назад. ¬ 13.06 получив семафор командира ќ¬–а: «—ледовать базу держась нордовой кромки »н-керманского створа», корабли вошли на рейд. омандующий флотом ‘.—.ќкт€брьский впоследствии писал: ««ачем нужно было с первых дней войны ставить минные заграждени€? ѕротив кого их ставили? ¬едь противник-то сухопутный, он на море имеет главным образом авиацию да торпедные катера, которым мины - не помеха. » вот, несмотр€ на то, что мины будут больше мешать нам, чем противнику, заставили нас ставить мины, на которых больше погибло своих кораблей, чем противника. ” нас одних эсминцев погибло на своих минах три». ¬оенный совет флота решил передислоцировать бригаду крейсеров. ¬ ночь на 5 июл€ «„ервона ”краина» совместно с крейсером « расный авказ» и трем€ эсминцами перешла из —евастопол€ в Ќовороссийск - новое место базировани€. јвиаразведка обнаружила сосредоточение транспортов противника в районе онстанца - —улина. ƒл€ противодействи€ возможному десанту, 13 августа были сформированы три отр€да кораблей. «„ервона ”краина» с трем€ эсминцами были включены в состав 3-го отр€да. 5 августа началась оборона ќдессы, корабли „ерноморского флота оказывали поддержку войскам, доставл€€ пополнение, боезапас и ежедневно обстрелива€ позиции противника. ѕервоначально эти задачи выполн€ли эсминцы типа «Ќовик» и канонерские лодки.
«„ервона ”краина» у ќдессы, 1941 г.
20 августа 1941 г. противник перешел в наступление под ќдессой, части расной јрмии были вынуждены отойти на новые рубежи. ѕосле этого к ќдессе были направлены новые эсминцы и старые крейсера. 27 августа «„ервона ”краина» вышла из Ќовороссийска и утром 28 августа прибыла в —евастополь. ѕрин€в на борт 6-й отр€д мор€ков-добровольцев в составе 720 человек, в тот же день в 20.45 корабль вышел в ќдессу. рейсер шел под флагом заместител€ наркома ¬ћ‘ вице-адмирала √.».Ћевченко, на нем находились также член ¬оенного совета флота контрадмирал Ќ.ћ. улаков и комбриг —.√.√оршков. 29 августа в 7.10 крейсер прибыл в ќдессу. ¬ысадив добровольцев и направив на берег корректировочный пост, корабль вышел на рейд. «„ервону ”краину» сопровождали два малых охотника, обеспечивавшие его противолодочную оборону, а также имевшие задачу прикрывать крейсер дымзавесами от батарей противника. — дистанции 70 кбт крейсер открыл огонь восьмиорудийны-ми залпами по позици€м противника в районе дер. »льинка. 6-дюймова€ батаре€ пыталась накрыть крейсер, но он, закончив стрельбу, вышел из-под обстрела. ¬ этот же день крейсер обстрел€л район с. —вердлово, вед€ огонь на 12-узловом ходу, попеременно обоими бортами. ƒве батареи противника, пытавшиес€ стрел€ть по «„ервоной ”краине» были подавлены артиллерией лидера «“ашкент» и эсминца «—мышленый». 30 августа корабль выполнил четыре стрельбы, и дважды был обстрел€н батареей противника. 29 и 30 августа стрельбы велись без каких-либо помех со стороны противника, поэтому крейсер имел возможность сто€ с застопоренными машинами в продолжении нескольких часов вести в спокойных услови€х огонь по противнику. 31 августа артиллери€ корабл€ п€ть раз открывала огонь, поддержива€ части восточного сектора обороны. ¬о врем€ ведени€ стрельбы около корабл€ стали ложитьс€ снар€ды, вследствие чего крейсер был вынужден отойти из зоны обстрела. Ѕатаре€ противника вела огонь из района дер.Ќова€ ƒофиновка. ¬ этот день в 16.20 крейсер, сто€вший с застопоренными машинами был атакован группой самолетов противника. рейсер прекратил огонь по берегу и дал ход, одновременно разворачива€сь влево. «енитчики поставили завесу перед самолетами, которые сбросили бомбы, упавшие с недолетом в 2 кбт по корме. 1 сент€бр€ крейсер в 10.00 вышел на позицию на 20-узловом ходу обстрел€л дер. ¬изирка и —вердловка. ѕри этом сам подвергс€ обстрелу, но не мен€л курс, чтобы не сбивать наводку своих орудий. «атем с дистанции 62 кбт открыл огонь по батарее, обстреливавшей корабли, спуст€ восемь минут она замолчала. ¬ 11.56 крейсер атаковали семь бомбардировщиков Ju-88, атака была отражена без потерь. ¬ 13.45 батаре€ противника из Ќовой ƒофиновки начала обстрел гавани, в которой разгружались транспорты. рейсер совместно с эсминцем «—ообразительный» открыл по ней огонь, и в 13.56 батаре€ была уничтожена, на ее позиции наблюдалс€ сильный взрыв. «а врем€ операции под ќдессой крейсер израсходовал 842 130-мм, 236 100-мм и 452 45мм снар€дов.
«„ервона ”краина» ведет огонь главным калибром по береговым цел€м
2-3 сент€бр€ крейсер перешел из ќдессы в главную базу, а 4-5 сент€бр€ - в Ќовороссийск. 17 сент€бр€ в 13.20 «„ервона ”краина» вышла из Ќовороссийска, охран€€ транспорты «јрмени€» и «”краина», направл€вшиес€ с войсками в ќдессу. 18 сент€бр€ в 11.08 крейсер передал транспорты двум эсминцам, а сам вошел в главную базу. Ќа корабле приступили к монтажу размагничивающего устройства, поэтому он не принимал участи€ в высадке десанта у √ригорьевки. 29 сент€бр€ —тавка ¬√ прин€ла решение эвакуировать OOP и за счет его войск усилить оборону рыма. 2 окт€бр€ в 16.00 крейсер вышел из —евастопол€ к “ендре дл€ эвакуации частей “ендровского боевого участка. ѕрин€в на борт 2-й батальон 2-го полка морской пехоты, корабль в 12.53 3 сент€бр€ доставил его в —евастополь. 6 окт€бр€ крейсер вновь вышел к “ендре. ќднако части “ендровского боевого участка не были оповещены о выходе корабл€ и он вернулс€ 7 окт€бр€ в главную базу. 13 окт€бр€ в 16.30 «„ервона ”краина» под флагом командующего эскадрой контр-адмирала Ћ.ј.¬ладимирского с крейсером « расный авказ» вышла из —евастопол€ в ќдессу дл€ участи€ в завершающей операции по эвакуации OOP. ”тром 14 окт€бр€ корабли прибыли в ќдессу и стали на €корь. Ћ.ј.¬ладимирский не разрешил крейсерам входить в гавань, так как при налетах авиации они лишались возможности маневрировать. 15 окт€бр€ на крейсере был развернут ѕ командующего OOP контр-адмирала √.¬.∆укова. Ќочью 16 окт€бр€ в порт начали прибывать арьергардные батальоны и грузитьс€ на корабли и транспорты. ќколо 7.00 оперативна€ группа во главе с командующим ѕриморской армией генерал-майором ».≈.ѕетровым, руководивша€ отходом войск перешла на крейсер. ¬ 5.28 прин€в 1164 бойцов и командиров из состава 25-й „апаевской и 2-й кавалерийской дивизий, крейсер сн€лс€ с €кор€ и совместно с другими корабл€ми вступил в охранение транспортов. «атем, увеличив скорость, он оторвалс€ от каравана и днем прибыл в —евастополь. ¬ ночь с 30 на 31 окт€бр€ крейсер участвовал в эвакуации “ендровского боевого участка. ѕрин€в батальон морской пехоты (700 человек), он доставил его в —евастополь. 30 окт€бр€ немецкие войска вышли на дальние подступы к —евастополю, началась героическа€ оборона города. 1 но€бр€ «„ервона ”краина» была включена в отр€д корабельной поддержки севастопольского гарнизона, командир отр€да -начальник штаба эскадры капитан 1 ранга ¬.ј.јндреев. орабль сто€л у пристани —овторгфлота (расположенной р€дом с √рафской) на €коре и швартовах, заведенных на две бочки и кнехты. 5 но€бр€ капитан 1 ранга Ќ.≈.Ѕасистый был назначен командиром ќтр€да легких сил „‘. Ќовый командир крейсера капитан 2 ранга Ќ.ј.«аруба задерживалс€, Ќ.≈.Ѕасистый сдал дела старпому ¬.ј.ѕархоменко и 7 но€бр€ убыл в ѕоти. 7 но€бр€ в —евастополе получена директива ¬ерховного главнокомандующего є1882, подписанна€ ¬ерховным главнокомандующим —талиным, начальником √енерального штаба расной јрмии маршалом Ўапошниковым и народным комиссаром ¬ћ‘ адмиралом узнецовым. ¬ директиве было указано: «главной задачей „‘ считать активную оборону —евастопол€ и ерченского полуострова всеми силами; —евастополь не сдавать ни в коем случае и оборон€ть его всеми силами; все три старых крейсера и старые миноносцы держать в —евастополе, из этого состава сформировать маневренный отр€д...» 8 но€бр€ крейсер «„ервона ”краина» первым из кораблей „‘ открыл огонь по наступающим на —евастополь немецким войскам в районе хутора ћекензи€. ¬ этот день крейсер выпустил 230 снар€дов. 9 и 10 но€бр€ артиллери€ корабл€ обстреливала скоплени€ войск противника на юго-восточных подступах к —евастополю, израсходовав 48 и 100 снар€дов соответственно.
«„ервона ”краина» ведет огонь главным калибром по береговым цел€м
Ќа кормовом мостике «„ервоны ”краины»
11 но€бр€ немецкие войска начали первый штурм —евастопол€. ¬ этот день крейсер стрел€л по району адыковка -¬арнутка, израсходовав 682 130-мм снар€да. ¬ результате были приведены к молчанию три батареи, разбиты 18 автомашин и бронетранспортеров, 4 танка. »знос стволов 130-мм орудий достиг предела. 12 но€бр€, получив за€вку от корпоста, крейсер в 9.00 открыл огонь по скоплению немецких войск под Ѕалаклавой, сделав 8 трехорудийных залпов. Ќес€ большие потери от огн€ корабельной артиллерии, немецкое командование бросило против кораблей авиацию. ¬ 11.45 над —евастополем по€вилс€ воздушный разведчик, на корабле сыграли «боевую тревогу». —пуст€ несколько минут бомбардировщики противника совершили массированный налет на главную базу. —амолеты наносили главный удар по корабл€м сто€вшим в бухте. «„ервону ”краину» в период с 12.00 до 12.15 атаковали три группы самолетов (всего 23 машины). ѕерва€ из дев€ти бомбардировщиков была отражена зенитными оруди€ми корабл€, один самолет был подбит. «а ней последовала втора€, которой удалось прицельно сбросить бомбы на крейсер, а завершили удар пикировщики. ¬ 12.08 фугасна€ бомба весом 100 кг взорвалась на рассто€нии 5-7 м от правого борта на траверзе 92-100 шп. „ерез несколько секунд втора€ така€ же бомба взорвалась в районе 4-го торпедного аппарата на шкафуте левого борта. ¬зрывом торпедный аппарат сорвало с фундамента и сбросило за борт. Ќа палубе возник пожар. „ерез три минуты бомба замедленного действи€ весом 500 кг взорвалась на грунте в непосредственной близости от правого борта корабл€ в районе 9-12 шп. ¬зрывом перебило €корь-цепь правого €кор€ и перлинь, заведенный на бочку. рейсер носом прижало к пристани. Ћопнул кормовой швартовный конец с левого борта. ¬ 12.12 така€ же бомба взорвалась под днищем корабл€ с левого борта, в районе 48-54 шп. ќт взрывов корпус корабл€ завибрировал. рейсер начал кренитьс€ на левый борт, возник дифферент на нос. ¬ помещени€х на короткое врем€ погас свет, но было включено аварийное освещение. — боевых постов на √ ѕ и командиру Ѕ„-5 поступали доклады о происходившем в помещени€х корабл€ и принимаемых мерах. “ак как св€зь с отдельными боевыми постами и командными пунктами была прервана, использовались и посыльные. Ѕорьба за живучесть на боевых постах развертывалась по инициативе самих командиров постов. ¬ результате взрыва бомбы в воде в районе 9-12 шп., были затоплены помещени€ от 0 до 15 шп. Ќижн€€ палуба деформирована и местами разорвана. ќбшивка правого борта на длине от 0 до 25 шп. и по высоте от ватерлинии до палубы полубака пробита многочисленными осколками. Ќа 49 шп. от борта до борта разошелс€ шов настила верхней палубы, по€вилась щель шириной около 150 мм; на 48 шп. на настиле нижней палубы возникла трещина; обшивка бортов лопнула и клинообразна€ трещина ушла под броневой по€с; дифферент был особенно выражен от 49 шп. в сторону форштевн€ и составл€л 1 м. ¬ерхн€€ палуба до 10 шп. ушла под воду. Ќа верхней палубе, в районе 4-го торпедного аппарата от взрыва авиабомбы образовалась пробоина площадью 4 м2. ¬ районе мастерской осколками повреждены запасные масл€ные цистерны, три бочки с дымсмесью и бензином. √орели разлившийс€ бензин, краска надстроек, дерево разбитой палубы и шланги дл€ приема топлива. ¬ районе лазаретного отсека (92-100 шп) в 23-х местах осколками бомбы пробило борт выше броневого по€са. ¬ лазарете горели матрацы и белье. —тена огн€ поперек палубы подн€лась до мостика. «аклинило 130-мм оруди€ є 2, 3, 4; 6, 11, 12, вышли из стро€ все три 100-мм зенитные установки и четыре 45-мм пушки, 14 мор€ков погибли, 90 получили ранени€. Ѕорьба с пожаром на шкафуте велась силами двух аварийных партий. ¬ борьбе с пожаром участвовал буксир « омсомолец». ћелкие очаги пожаров были ликвидированы через 6 минут. Ѕочки с дымсмесью и бензином, горевшую боевую часть торпеды сбросили за борт. счастью, торпеды не сдетонировали (Ќепон€тно против кого мог применить крейсер свои 12 торпед, если корабли противника не покидали свои базы. Ќо сдать их на склад, как и комплект глубинных бомб не могли). — √ ѕ поступило приказание быстрее тушить пожар на шкафуте, торпедный погреб затопить. омандир приказал также затопить артиллерийские погреба главного калибра. «атопление их происходило медленно, так как давление в пожарной магистрали было низкое. омандир Ѕ„-5 просил разрешение у командира корабл€ не затапливать артиллерийские погреба, расположенные на левом борту, особенно восьмой погреб, состо€ние которого было проверено командиром отделени€ трюмных. ѕожар не угрожал погребам, расположенным в носовой части корабл€. Ќо командир подтвердил свое приказание. Ёто привело к потере части запаса плавучести и утрате всего боеприпаса главного калибра. ¬о 2-е, 3-е, 4-е и 5-е котельные отделени€ через настил второго дна после взрыва хлынул мазут с водой. «апущенный трюмно-пожарный насос с осушением не справл€лс€, а гидротурбина оказалась поврежденной. огда уровень воды достиг топки действующего котла є4 его пришлось вывести из действи€. омандир Ѕ„-5 приказал экстренно разжечь котел є11. ¬о 2-е машинное отделение через вентил€ционную шахту полилось смазочное масло, вышло из стро€ аккумул€торное освещение. 3-е машинное отделение заполнилось дымом, поэтому личный состав надел противогазы. ¬ 4-е машинное отделение в районе циркул€ционного насоса поступала вода, место поступлени€ из-за большого задымлени€ не удалось установить. Ќа осушение был запущен трюмно-пожарный насос и периодически запускалась гидротурбина. »з-за нарушени€ изол€ции в носовых четверт€х и левой кормовой четверти электросхемы турбогенераторы є1 и є2 пришлось остановить. “урбогенераторы є3 и є4 были подключены на магистраль правого борта дл€ обеспечени€ кормовых отсеков. ƒл€ спр€млени€ крена были затоплены п€ть креновых отсеков правого борта. Ќо это не дало желаемых результатов. орабль имел небольшой дифферент на нос и крен на левый борт 3,5-4°. ¬сего он прин€л около 3300 т воды.
адры фотосъемки гавани —евастопол€ 12 но€бр€ 1941 г., сделанные германским самолетом-разведчиком до (вверху) и после (внизу) налета. Ќа верхнем снимке стрелкой указан крейсер «„ервона ”краина»
Ёнергетическа€ установка находилась в следующем состо€нии. отлы с 5-го по 10-й оказались в затопленных отсеках, четыре носовых котла - отрезаны от общей системы из-за излома корпуса на 49 шп. с веро€тным повреждением отдельных трубопроводов. 4-й котел был вскоре выведен, а в 13.05 2-е котельное отделение было затоплено по действующую ватерлинию. »з-за падени€ давлени€ свежего пара во вспомогательной магистрали к 12.40 остановили турбогенераторы є3 и є4 и все действующие вспомогательные механизмы. ƒл€ дальнейшей борьбы за живучесть корабл€ оставались исправными четыре котла, расположенные в сторону кормы от 69 шп., и два котла в носовой части. ¬ 12.50 котел є1 введен в действие, к работе подготовлен главный конденсатор є3. ѕри подключении котла є11 на вспомогательную магистраль, несмотр€ на его форсировку, давление пара в магистрали падало. “огда был отключен участок магистрали правого борта идущий от 6-го котельного отделени€ в нос. ƒавление пара в магистрали подн€лось, были пущены турбогенераторы є3 и є4. ѕри подключении трюмно-пожарных насосов на пожарную магистраль оказалось, что давление в ней более 3 кг/см2 не поднимаетс€. Ёто свидетельствовало о ее повреждении в носовой части. ќтключение поврежденного участка до 6-го котельного отделени€ позволило к 13.30 подн€ть давление до 15 кг/см2. “еперь имелась возможность снова использовать стационарные средства дл€ осушени€ отсеков. √идротурбину и трюмно-пожарный насос пустили на осушение 4-го машинного отделени€, вода пошла на убыль. ќколо 14.30 к кораблю подошли водолазный бот и спасательное судно «ћеркурий». ¬одолазы осмотрели подводную часть крейсера, а спасатель участвовал в осушении отсеков (производительность его водоотливных насосов 1200 т/ч). ѕосле осмотра правого борта водолазы доложили, что крейсер носовой частью до 20 шп. лежит на грунте. ¬ днище пробоина от 5 до 9 шп. с рваными кромками, переход€ща€ на левый борт, площадью около 10 м2. — 9 по 40 шп. имеютс€ осколочные пробоины разных размеров. ‘орштевень перебит. Ћевой скулой корабль опираетс€ о причал. “рещина в обшивке правого борта на 49 шп. шириной около 150 мм идет от броневого по€са вниз. ќколо кил€ эта трещина переходит в пробоину с рваными кра€ми, котора€ распростран€етс€ на левый борт. илевой стрингер перебит. ѕо существу корабль разломилс€ надвое по 49 шп. –азмеры пробоины около кил€ - до 8 м2, кромки ее загнуты наружу. омандир Ѕ„-5 приказал завести на нее пластырь, который следовало смонтировать из трех штатных м€гких пластырей. Ќеповрежденным оказалс€ только один из них размером 5x5 м. Ќо и этот пластырь установить не удалось, так как подкильные концы, заводимые с кормы далее 55 шп. не шли, им мешали рваные кромки пробоины. ¬одолазам было приказано осмотреть левый борт, но начавшийс€ налет немецкой авиации вынудил их прекратить работу. —пасатель «ћеркурий» ушел дл€ оказани€ помощи поврежденному взрывом бомбы эсминцу «Ѕеспощадный». “ак как затоплением креновых отсеков выровн€ть крен не удалось, командир Ѕ„-5 прин€л решение ровн€ть крен спуском воды из шестого торпедного погреба в 6-е котельное и из восьмого артиллерийского в 4-е машинное, засоленную котельную воду из бортовых отсеков 7-го котельного отделени€ левого борта спустить в трюм, а всю воду из трюмов удалить за борт гидротурбинами. Ќо положение корабл€ не изменилось. рейсер сохран€л крен 4° на левый борт. ќколо 16 часов командир корабл€, счита€ состо€ние корабл€ катастрофическим и стрем€сь избежать потерь в личном составе при возможных повторных налетах авиации, доложил об этом командующему флотом и получил разрешение: команду с личными вещами отвести в укрытие, а на корабле оставить зенитный дивизион и аварийные партии. ¬ артотдел тыла из Ўтаба флота поступило приказание о сн€тии с корабл€ вооружени€ и выгрузке боеприпаса. омандир Ѕ„-5 счита€, что в борьбе за живучесть корабл€ исчерпаны не все возможности, обратилс€ к командиру корабл€ с просьбой оставить на корабле всех офицеров Ѕ„-5, трюмную группу, часть электриков, машинистов и котельных машинистов. омандир разрешил оставить около 50% из состава Ѕ„-5. “аким решением была нарушена вс€ка€ организаци€ борьбы за непотопл€емость. ћногие люки и двери, задраиваемые по тревоге с уходом команды остались открытыми, пришлось их заново задраивать. Ќа боевых постах был оставлен уменьшенный расчет вахты. оманда готовилась к сходу на берег, командир и комиссар отправились осматривать место будущего расквартировани€. ¬ 16.30 на корабль дл€ проверки его состо€ни€ и решени€ вопроса о дальнейших действи€х по оказанию помощи личному составу в борьбе за живучесть прибыли флагманский инженер-механик флота и начальник Ёѕ–ќЌа. этому времени верхн€€ палуба до 18 шп. была уже в воде. рен на левый борт составл€л 4,5°. орабль прин€л около 3500 т воды. Ѕыло решено борьбу за непотопл€емость крейсера продолжать до последней возможности, дл€ чего на корабль возвратить весь личный состав Ѕ„-5 и расставить по боевым постам согласно расписанию; усилить борьбу с распространением воды, использу€ все имеемые средства корабл€. —пасательному отр€ду выделить из имеемого наличи€ две переносные мотопомпы производительностью 60 и 300 т/ч. утру 13 но€бр€ подготовить —еверный док к приему корабл€. ƒл€ придани€ плавучести носовой части завести четыре 225-тонных понтона. ¬одолазам продолжать обследование подводной части крейсера и его положение на грунте. ¬ крайнем случае, при потере кораблем запаса плавучести, посадить его у причала на грунт. Ќа самом деле крейсер опиралс€ не на ровную площадку, а скулой на причал и небольшой уступ на покатом склоне грунта. ќ состо€нии крейсера и решении, прин€том по борьбе за его непотопл€емость, флагманский инженер-механик доложил командующему флотом и просил приказани€ возвратить команду на корабль. ѕрин€тое решение было одобрено, и на корабль вернулись командир, военком и большинство личного состава Ѕ„-5. јварийным парти€м удалось на некоторое врем€ прекратить поступление воды в шпилевой кубрик и ленинскую каюту. ѕопытка перекрыть доступ воды из 2-го котельного отделени€ в первое не увенчалась успехом, так как дверь между ними оказалась деформированной. Ѕорьба с водой в носовой части осложн€лась отсутствием энергии и автономных средств осушени€, не хватало шлангов. √лавное внимание в борьбе с распростран€ющейс€ водой теперь было сосредоточено в районе 65-69 шп. и помещени€х, расположенных в сторону кормы от него. ѕущена переносна€ гидротурбина на осушение компрессорного отделени€. ѕериодически трюмно-пожарным насосом осушалось 4-е машинное, а переносной гидротурбиной - 6-е котельное отделение. »з-за новых налетов авиации противника (16.09-17.50) и взрывов глубинных бомб при расчистке фарватера от донных мин работа водолазами велась с перерывами, а с наступлением темноты была прекращена. 17.00 в действующем котле є11 соленость достигла 900°Ѕ. Ќесмотр€ на работу двух испарителей, расход котельной воды был большой, место утечки установить не удалось. ¬место котла є11 в 17.30 был подключен котел є13 и начали разжигать котел є14. ¬ дальнейшем эти котлы работали попеременно, пита€сь соленой водой. 18.00 крен увеличилс€ до 5°, носова€ часть погрузилась еще на один метр. Ѕроневой по€с левого борта ушел в воду. ¬ средней части вода породила к иллюминаторам. ¬ода в носовых рубриках прибывала. Ќаблюдение за внешним состо€нием корабл€ усложнилось наступившей темнотой. ƒл€ борьбы с поступающей водой важно было иметь механизмы в действии ѕоэтому сосредоточили усили€ на сохранении в действии котлов и н асосов. ¬ 19.30 дл€ демонтажа артиллерии прибыли рабочие, и вскоре подошли кран и баржа, дл€ разгрузки боеприпаса возвратилась и часть личного состава Ѕ„-2. Ѕыла подана электроэнерги€ к элеватору погреба є8. ¬ 21 час поступили новы", доклады: затопило 1-е котельное отделение, а также кубрики - шпилевой и машинистов. ѕрибывает вода в помещени€х минного компрессора, 3-й группы элеваторов, 6-го котельного отделени€, в кубрике электриков. Ћева€ кромка верхней палубы на 49 шп. приближаетс€ к воде. рен достиг 6°, прин€то воды около 4000 т. ѕоложение корабл€ ухудшалось, корабельные возможности дл€ борьбы с водой уменьшались, и в аварийно-спасательную группу Ёѕ–ќЌа была направлена просьба о помощи. 24.00 пришел спасатель «ћеркурий», и с него дл€ осушени€ помещений на 65-69 шп. вооружили два шланга. Ёто была разгранзона в борьбе за локализацию распространени€ воды. ормовые отсеки осушали корабельными средствами. ѕродолжали затапливатьс€ помещени€ носового отсека. ¬ода по€вилась в коммунальной палубе с левого борта, затапливалось помещение носовых турбогенераторов. рен на левый борг достиг 6,5°. Ќебольшие изменени€ в положении крейсера, которые произошли за 12 часов борьбы за непотопл€емость, говорили о том, что он прочно лежит частью корпуса на грунте, упира€сь скулой о причал. Ёто позвол€ло наде€тьс€, что, несмотр€ на поступление воды, корабль удастс€ удержать от затоплени€ имеемыми средствами, а за это врем€ подготовить док. Ќа корабле действовали поочередно котлы в 6-м и 7-м котельных отделени€х и турбогенератор, обеспечивавшие работу вспомогательных механизмов. ќднако состо€ние корабл€ начало резко измен€тьс€. часу ночи 13 но€бр€ крен достиг 8°, осадка корабл€ увеличивалась. ¬ода распростран€лась по помещени€м. —пасатель не успевал ее откачивать. ¬ 4-м машинном отделении из-за крена у трюмно-пожарного насоса оголилс€ приемник. Ќачало затапливатьс€ 6-е котельное отделение, которое к 2.00 затопило по действующую ватерлинию. Ћевый борт коммунальной палубы был в воде. 3.00 крен достиг 11°. ¬ода на верхней палубе подходила к пробоине в районе четвертого торпедного аппарата, а затем хлынула в судовую мастерскую и во 2-е машинное отделение. 3.30 крен увеличилс€ до 15°. омандир Ѕ„-5 доложил командиру корабл€ о возможном быстром нарастании крена и полной потери плавучести. апитан 2 ранга ».ј.«аруба отдал приказ: «¬сему личному составу корабль покинуть». »зменени€ обстановки на корабле происходили в еще более нарастающем темпе. рен на левый борт увеличилс€ до 25°-30°. ¬ 4.00 дежурный по Ѕ„-5 доложил, что большинство механизмов остановлено. оманда организованно сходила на плавучий кран, баржу и барказ. рен достиг 40°. Ќа спасателе «ћеркурий» изза невозможности убрать шланги пришлось их обрубить. орабль, потер€в остойчивость и плавучесть, между 4.10 и 4.20 скользнул по откосу грунта и погрузилс€ в воду с креном 50-55° на левый борт на глубине 13-16 м. Ќад водой остались только мачты выше прожекторного мостика, права€ кромка шкафута и часть средней дымовой трубы. ¬ 4-м машинном отделении, не успев покинуть боевой пост, погибли командир отделени€ и четыре машиниста. Ќа гибель «„ервоны ”краины» повли€л р€д обсто€тельств. орабль несколько дней занимал одну и ту же огневую позицию. рейсер « расный рым» прибыл в —евастополь 9 но€бр€. ѕодвергшись атакам авиации, он в тот же день сменил позицию. 10 но€бр€ выполнив две стрельбы по батаре€м противника, корабль перешел из —еверной в ёжную бухту к холодильнику. Ќаход€сь в глубине ёжной бухты « расный рым» был защищен от авиации противника не только зенитной артиллерией, но и высокими крутыми берегами бухты. «„ервона ”краина» все врем€ пребывани€ в главной базе оставалась на одном месте - совершенно открытом со стороны —еверной бухты. —мена командиров происходила в разгар боев чрезвычайно поспешно. Ќ.≈.Ѕасистый принимал корабль в период его ремонта и мог досконально изучить его устройство. Ќовый же командир не успел полностью ознакомитьс€ с устройством крейсера и не был готов возглавить борьбу за живучесть корабл€, к тому же пренебрег мнением командира Ѕ„-5. ”же через четыре часа после получени€ повреждени€, когда корабль сохран€л около половины запаса плавучести и имел крен всего 4°, нарушив требовани€ орабельного устава и традиции русского флота, Ќ.ј.«аруба в разгар борьбы экипажа за живучесть, покинул корабль и вместе с комиссаром отправилс€ осматривать казармы, в которых предполагалось разместить экипаж. ”ход большей части команды с боевых постов, а затем возвращение его создало паузу в борьбе за живучесть корабл€ и несомненно оказало моральное воздействие на мор€ков. Ќи командир, ни штурман не знали истинного профил€ дна в месте сто€нки крейсера, наде€сь, что в данном месте ровный грунт и глубина 7-8 м и в худшем случае корабль с€дет на грунт. “ем не менее, борьба за корабль продолжалась еще 11 часов. ¬ина за гибель крейсера лежит и на командовании флота. ќно не обеспечило надежной противовоздушной обороны главной базы флота, немецкие бомбардировщики безнаказанно действовали над бухтой, кроме крейсера в этот день т€желые повреждени€ получили эсминцы «Ѕеспощадный» и «—овершенный». Ќе был отдан приказ о смене огневой позиции. омандующий флотом, не прибыв лично на поврежденный корабль и не выслушав доклад флагмеха, дал команду покинуть крейсер. 19 но€бр€ 1941 г. приказом є00436 крейсер «„ервона ”краина» был исключен из состава ¬ћ‘. омандующий флотом приказал к 20 но€бр€ 1941 г. сн€ть с корабл€ вооружение дл€ комплектовани€ береговой артиллерии. Ёта задача была возложена на Ёѕ-–ќЌ. ƒл€ сн€ти€ орудий и выгрузки боеприпасов были организованы команды из личного состава Ѕ„-5 корабл€ и водолазов. ѕалубную артиллерию удалось сн€ть за 10 дней. ¬ыгрузка боеприпасов осложн€лась креном корабл€. ¬одолазу приходилось нести снар€д на руках до верхней палубы, затем он передавал его другому водолазу, который укладывал снар€д в специальный мешок, и его поднимали на поверхность. 25 но€бр€ с корабл€ было сн€то дев€ть 130-мм орудий, спаренна€ 100-мм установка, оруди€ малого калибра, торпедный аппарат и 4000 снар€дов, продовольствие и обмундирование. ѕосле 10 декабр€ работы на крейсере были прекращены. ќруди€ми и личным составом крейсера к 27 декабр€ 1941 г. были укомплектованы четыре двухорудийные батареи береговой обороны є 113, 114, 115 и 116 (позже они получили номера 702, 703, 704 и 705) принимавшие участие в обороне —евастопол€.
130-мм орудие крейсера «„ервона ”краина», установленное у села ƒергачи
¬ феврале 1942 г. была вновь сформирована команда крейсера из 50 человек под командованием капитана 2 ранга ».ј.«арубы. Ѕыл разработан проект подъема крейсера. –ешено было подн€ть корабль продувкой неповрежденных отсеков воздухом. ƒл€ этого отсеки нужно было загерметизировать, над их входными люками установить шахты. –аботы были начаты в конце марта. ќднако подн€ть крейсер не удалось. ѕричиной €вилось отсутствие в —евастополе необходимых средств дл€ подъема. ƒа и вр€д ли удалось бы восстановить крейсер под непрерывными бомбежками и обстрелами. јварийно-спасательной группе и командам крейсеров «„ервона ”краина» и « расный авказ» до 15 ма€ 1942 г. удалось сн€ть еще три оруди€, снар€ды и гребной винт. ƒве 100-мм установки были переправлены в ѕоти и смонтированы на крейсере « расный авказ». выполнению задачи по подъему крейсера возвратились вновь после освобождени€ —евастопол€. Ќа основании водолазного обследовани€ был составлен план, которым предусматривалось выполнить подъем в три этапа: поворот корабл€ на грунте в пр€мое положение, подъем, откачка воды и ввод в док. ¬ проекте подъема корабль рассматривалс€ состо€щим из двух частей с разрезом на 49-50 шп., но поднимаемый как единое целое. подъемным работам приступили лишь 16 €нвар€ 1946 г., они носили зат€жной характер и выполн€лись с перерывами. 29 апрел€ корабль был спр€млен (остаточный крен на левый борт - 4°), а 3 но€бр€ 1947 г. подн€т и поставлен в —еверной бухте на плиту между —еверной пристанью и бухтой Ќахимова.
«атонувша€ «„ервона ”краина
¬торой этап подъема крейсера «„ервона ”краина»
“ретий этап подъема «„ервоны ”краины» - заводка корабл€ в док
8 феврал€ 1948 г. корабль был подн€т вторично и введен в док дл€ заделки пробоин. ¬осстанавливать его как боевой не было необходимости. 11 апрел€ 1949 г. бывший крейсер под новым названием —“∆-4 был передан учебному отр€ду „‘ дл€ использовани€ в качестве учебно-тренировочной станции по борьбе за живучесть. 30 окт€бр€ 1950 г. он был переформирован в корабль-цель ÷Ћ-53, а 10 ма€ 1952 г., после посадки на грунт в районе косы Ѕака€ дл€ использовани€ в качестве мишени дл€ выполнени€ боевых упражнений авиацией флота, исключен из списков ¬ћ‘. ¬ —евастополе на береговой опоре √рафской пристани установлена мемориальна€ доска красного гранита, на которой написано: ««десь, вед€ бой с противником, 12 но€бр€ 1941 г. погиб крейсер «„ервона ”краина». » высечен силуэт корабл€. омандиры: к 1 р Ћебединский (7.12.1915 - ?), Ќ.Ќ.Ќесвицкий (4.19268.1930), ѕ.ј.≈вдокимов (8.1930 - ?), ј.‘.Ћеер (? - 11.1933), Ќ.√. узнецов (11.1933 - 5.9.1936), к 2 р ј.».«а€ц (5.9.1936 - ?), к 1 р Ќ.≈.Ѕасистый (29.10.1939 - 5.11.1941), к 2 р ».ј.«ару-ба (5-13.11.1941)
«„ервона ”краина» в доке. ¬ид на повреждени€ корпуса
|
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 14 - ¬одолазное дело в отечестве.
„асть 15 - јдмирал ‘.‘.”шаков.
„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...
„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец
„асть 18 - омандующий Ѕалтийским флотом адмирал Ќ.ќ. Ёссен спас столицу –оссии в 1914 году
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: ћор€к и море |
јдмирал ‘.‘.”шаков. |
ƒневник |
|
|
|
јдмирал ‘Єдор ‘Єдорович ”шаков, подобно —уворову, не знал поражений – при том, что дес€тилети€ отдал учени€м и бо€м. –усский архистратиг не уставал восхищатьс€ подвигами морского медвед€. огда австрийский офицер в докладе однажды упом€нул «адмирала фон ”шакова», —уворов резко его прервал: «¬озьми себе своЄ «фон», а русского адмирала, геро€ алиакрии и орфу, изволь величать ‘Єдором ‘Єдоровичем ”шаковым!». ¬озмущение —уворова пон€тно: ”шаков был, что называетс€, из перерусских русским, манерами напоминал простолюдина и держал себ€ вовсе не как аристократ-космополит. ¬ те годы немногих блест€щих русских аристократов можно было часто встретить в храме Ѕожьем. Ѕогомольный ”шаков, как и —уворов, cлыл исключением из правил.
”никальный флотоводец, единственный в русской истории! Ќо даже из блистательной череды его побед алиакри€ выдел€етс€. Ёто морское сражение заметно повли€ло на ход русско-турецкой войны, закрепило всемирную славу русского „ерноморского флота, стало решающим в кампании. ќсманска€ импери€ после алиакрии про€вила уступчивость, пошла на мирные переговоры, закончившиес€ ясским миром. », если эта дата подзабыта – нам стоит постыдитьс€, потому что алиакри€ – звЄздный час „ерноморского флота. ”вы, в годы противосто€ни€ с Ќаполеоном, когда ‘Єдор ‘Єдорович пребывал в отставке, в –оссии недооценивали значение флота и в известной степени растер€ли победные традиции. ƒа и о алиакрии вспоминали нечасто. јртиллери€, кавалери€, пехота – вот кто сломил нашествие двунадес€ти €зыков. ј сильный военный флот, как представл€лось императору јлександру, не слишком нужен империи. √орький урок рымской войны показал опрометчивость такого отношени€ ко флоту. ƒержава, раст€нувша€с€ на целый континент, не может себе позволить забывать о мор€х. ѕЄтр ¬еликий и ѕотЄмкин создали русское флотское могущество – на Ѕалтике и „Єрном море. ј как иначе могла импери€ обезопаситьс€ от пос€гательств самых назойливых противников – Ўвеции и “урции? Ёто было в 1791-м году. ћыс алиакри€ ( алиакра) расположен в Ѕолгарии, в переводе с греческого его название означает «красивый мыс». ќн хорошо известен знатокам тамошних курортов: до «олотых ѕесков и јлбены отсюда рукой подать. “онкий мыс – неспроста болгары называют его «носом» — на два километра врезалс€ в море. ƒл€ болгар ”шаков – православный св€той и герой-освободитель. Ѕитву при алиакрии болгары считают прологом к освобождению от османского ига.  »менно там сосредоточились турецкие корабли, битком набитые войсками. ¬ помощь турецкой эскадре подоспело подкрепление из јфрики. ѕредводительствовал «африканскими» корабл€ми искусный флотоводец —еит-јли – выходец из јлжира, весьма амбициозна€ личность. ѕобедитель италь€нского флота! ќн сплачивал своих мор€ков горделивыми за€влени€ми, в которых кл€лс€ жестоко проучить русского ”шак-пашу. «я приведу его в —тамбул, закованного в цепи! —тану возить его по городу в клетке!», — кричал алжирец. Ќет, он не был безумным горлопаном и хвастуном. “ут можно разгл€деть психологический расчЄт: громкие угрозы возвращали уверенность в собственных силах «воинам јллаха», которые после нескольких поражений стали побаиватьс€ ”шакова. “урецкие полководцы старательно поддерживали в войсках огонь религиозного фанатизма. »менно там сосредоточились турецкие корабли, битком набитые войсками. ¬ помощь турецкой эскадре подоспело подкрепление из јфрики. ѕредводительствовал «африканскими» корабл€ми искусный флотоводец —еит-јли – выходец из јлжира, весьма амбициозна€ личность. ѕобедитель италь€нского флота! ќн сплачивал своих мор€ков горделивыми за€влени€ми, в которых кл€лс€ жестоко проучить русского ”шак-пашу. «я приведу его в —тамбул, закованного в цепи! —тану возить его по городу в клетке!», — кричал алжирец. Ќет, он не был безумным горлопаном и хвастуном. “ут можно разгл€деть психологический расчЄт: громкие угрозы возвращали уверенность в собственных силах «воинам јллаха», которые после нескольких поражений стали побаиватьс€ ”шакова. “урецкие полководцы старательно поддерживали в войсках огонь религиозного фанатизма.ќгромный османский флот шумел у болгарских берегов. омандующим оставалс€ капудан √усейн-паша, уже не раз битый ”шаковым, но честолюбивый —еит-бей не подчин€лс€ никому, кроме султана. ≈диновласти€ у турок не было. ¬ распор€жении √усейн-паши находились и береговые укреплени€ с артиллерией. Ќо главное – 18 линейных кораблей, 17 фрегатов, вооружЄнных до зубов. 1600 пушек на крупных корабл€х. ј ещЄ – 43 вспомогательных корабл€, также неплохо вооружЄнных. —ила весьма внушительна€ по тем временам. Ќеприступна€ крепость на море. ѕока турецкий флот и береговые батареи оставались единым кулаком – эта сила была неу€звима. ѕризнаем: то были не лучшие годы Ѕлистательной ѕорты. “уркам непросто было удержать в подчинении громадную территорию, завоЄванную во времена воинского расцвета османов. –осси€ теснила “урцию. Ќо не будем преуменьшать могущество турецкого флота. » в строительстве кораблей, и в воспитании мор€ков им помогали европейские союзники, прежде всего – ‘ранци€. ачествам турецких кораблей русские мор€ки могли бы позавидовать… “урецкие суда были быстроходнее, маневреннее. ќставалось предъ€вл€ть собственные козыри, и они у ‘Єдора ‘Єдоровича имелись: решительность, смелые решени€, быстрота, блест€ща€ подготовка артиллеристов, умелые действи€ мор€ков в ближнем бою. ‘Єдор ‘Єдорович был истинным воспитателем армии, мор€ки ушаковской школы были чудо-богатыр€ми. ѕотЄмкин понимал, что схватка с превосход€щими силами турок может трагически окончитьс€ дл€ бесстрашного русского адмирала. «ћолитесь Ѕогу! √осподь нам поможет, положитесь на Ќего; ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. ћилость Ѕожи€ с вами!», — писал он ‘Єдору ‘Єдоровичу, своему любимцу. онечно, это наставление было излишним: ”шаков и без ѕотЄмкина и не только во дни роковых испытаний был искренне богомолен. ƒолго ли, коротко, нужно было возвращать –оссии власть над „Єрным морем. Ёскадра ”шакова состо€ла из 18-ти линейных кораблей, двух фрегатов и 19-ти вспомогательных судов. ћеньше тыс€чи орудий! ѕо сравнению с турецкими силами – почти пуст€к. ќставалось уповать на суворовский принцип: побеждай не числом, а умением. ј ещЄ – на неразбериху, котора€ возникнет в турецких р€дах, если удастс€ удивить, оглоушить противника. » ”шаков, завидев турецкую эскадру, решилс€ на быстрый натиск, не про€вл€€ уважени€ к сложившимс€ правилам. “урки, наблюда€ приближение русских, поначалу даже не поверили, что ”шаков отважитс€ на атаку. ј ”шаков даже не перестроил корабли в линию нападени€, как того требовали традиционные предписани€. –усский контр-адмирал спешно провЄл корабли трем€ колоннами между берегом и турецкой эскадрой – под огнЄм береговых батарей. ≈сли бы турки готовы были встретить незваных гостей – русским мор€кам пришлось бы отступить. Ќо они и представить себе не могли, что ”шаков решитс€ на безрассудно смелую атаку. ѕроспали русский маневр турецкие артиллеристы. «ѕрибавить парусов!», — приказывал ”шаков, предчувству€ кровавый бой с главными силами турок. ќн добилс€ своего: на турецких судах уже царила паника, —еит-јли потер€л контроль над корабл€ми… ќни не успели чЄтко построитьс€ в линию баталии, не успели организовать артиллерийский отпор. ѕеретерпев первое – внезапное – нападение русских, алжирец попыталс€ перестроить корабли дл€ контратаки, поймать ветер. ¬ отличие от √усейна, алжирец преодолел замешательство первых минут бо€ и оставалс€ опасным противником. ”шаков прочитал этот замысел противника – и на собственном флагмане «–ождество ’ристово» атаковал алжирца. ¬ третий раз в этом сражении ”шаков забыл о правилах морского бо€. ¬ышел из линии, бросилс€ в атаку с одной целью: лишить турок «головы». ¬ этом эпизоде не потер€л выдержки один из лучших учеников ”шакова – командир «–ождества ’ристова» капитан первого ранга ≈лчанинов. —охранилась легенда: в ближнем бою ‘Єдор ‘Єдорович крикнул противнику: «Ёй, —еит-јли, бездельник! я отучу теб€ давать хвастливые обещани€!». —лишком это романтично, чтобы быть правдой, но русских разведчиков в “урции во времена ѕотЄмкина хватало и ”шаков вполне мог знать о нахальных за€влени€х алжирца. ¬ часовом бою сказались качества русских мор€ков ушаковской выучки – их доблесть и точность. » вскоре корабль храброго —еид-јли потер€л паруса, палуба его запылала – и он был вынужден отступить. —амого —еид-јли окровавленного внесли в каюту. ѕоражение алжирца предопределило крах турецкой эскадры. Ќо и ушаковский флагман «–ождество ’ристово» попал в отча€нное положение: корабль окружили четыре турецких корабл€. ”шаков рвалс€ в гущу бо€, атаковал. «–ождество ’ристово» поддержали другие корабли – и от полной катастрофы турок спасла только надвигавша€с€ бур€. ”шаков писал ѕотЄмкину: турецкий флот был «весьма разбит, замешан и стеснЄн так, что непри€тельские корабли сами друг друга били своими выстрелами». “урки в ужасе отступали к онстантинополю. ”вы, французские корабли были быстроходнее, ”шаков не мог догнать их, чтобы выкорчевать недорубленный лес. » ‘Єдор ‘Єдорович зан€лс€ ремонтом своей эскадры. „рез два дн€ залатанные русские корабли были готовы к новым сражени€м, о чЄм и докладывал ”шаков ѕотЄмкину. ¬ огненном аду ”шаков не потер€л ни одного корабл€. ¬ сражении погибли и получили т€жЄлые ранени€ 45 русских мор€ков. “олько на одном турецком корабле – на флагмане —еит-јли – раненых и убитых насчитывалось в дес€ть раз больше. «ќ, великий! “воего флота больше нет!», — докладывал алжирец султану. ¬ —тамбуле с ужасом принимали израненных, испуганных мор€ков. —еит-јли был арестован, √уссейн-паша и вовсе посчитал за благо исчезнуть. —ултан всерьЄз опасалс€, что ”шаков повернЄт эскадру на —тамбул и тогда – горе великой империи. ѕришлось “урции стать сговорчивее – и ”шаков побывает в онстантинополе уже после начала мирных переговоров. Ќе в клетке, но во главе эскадры. » турки будут поражены кротким нравом русских матросов, дисциплиной и воинской сноровкой. √ригорий јлександрович ѕотЄмкин в те дни т€жко болел. ƒо подписани€ ясского мира он не доживЄт. — волнением он следил за походом своего любимца, своего флотоводца-победител€. алиакри€ стала последним торжеством всесильного кн€з€ “аврического – победа, красива€, как „Єрное море. «“урки даже не знают, куда девались рассе€нные их корабли; многие бросило на анатолийский берег. Ўесть судов вошли ночью в онстантинопольский канал весьма поврежденные. јдмиральский корабль тонул и просил помощи. ѕушечными их выстрелами встревожен султан и весь город. ƒнем султан увидел разбитые их корабли без мачт со множеством убитых и раненых», — торжествовал кн€зь “аврический в письме к императрице. ѕотЄмкин постаралс€: за алиакрию и ”шакова, и его офицеров наградили щедро. ‘Єдор ‘Єдорович получил орден св. јлександра Ќевского, полтора дес€тка героев – √еорги€ и ¬ладимира второй и третьей степеней. ћы по праву называем славного адмирала —уворовым русского флота: ”шаков был воспитателем, отцом-командиром дл€ офицеров и матросов. ‘Єдор ‘Єдорович произвЄл революцию в тактике морских сражений, ломал шаблоны, выбира€ кратчайший путь к победе, удивл€ла современников набожность ”шакова. Ќаконец, ”шаков, прослужив с оружием в руках четыре дес€тилети€, осталс€ непобедимым. ак это по-суворовски! ¬сю жизнь он служил на флоте и не был воспитан —уворовым. » всЄ-таки ”шаков – €рчайший ученик —уворова. ј новаторские ходы, которые ”шаков применил при алиакрии, усердно усвоили величайшие флотоводцы мира. јдмирал √орацио Ќельсон, восхищавшийс€ ”шаковым, семь лет спуст€, при јбукире, будет атаковать французские корабли и со стороны берега, и с мор€. ѕовторит он тактику ”шакова и ещЄ через семь лет, при “рафальгаре. Ќесгибаемый в дыму сражений, ”шаков в жизни оставалс€ скромным, смиренным человеком. » общество долго его недооценивало. ” величайшего флотоводца не было первых степеней орденов —в. √еорги€ и —в. ¬ладимира. ≈го не произвели ни в кн€зь€, ни в графы, ни в бароны… ƒл€ ”шакова не нашлось места ни на петербургском пам€тнике императрице ≈катерине и великим де€тел€м еЄ эпохи, ни на новгородском монументе, посв€щЄнном тыс€челетию –оссии – и, увы, это никого не удивл€ло. ѕодвиги ”шакова не интересовали художников, поэтов. ƒа и военные историки не слишком усердствовали: упом€ну лишь книгу –.—каловского, вышедшую в 1856-м году. ”шаков незаслуженно пребывал в тени славы других героев русской истории – до поры, до времени. ак ни странно, подлинна€ слава пришла к непобедимому адмиралу в ’’ веке. …¬ начале 1944 года Ќаркомат ¬оенно-морского флота ———– обратилс€ к —талину с предложением учредить ордена и медали ”шакова и Ќахимова. ¬стал вопрос: кого поставить выше? ¬ те годы и в армии, и в народе гораздо попул€рнее был Ќахимов. —евастопольска€ эпопе€ и подвиг Ќахимова по дореволюционной традиции считались (и вполне обоснованно!) апофеозом героизма. Ќо адмирал Ќ.√. узнецов, хорошо знавший историю войн, понимал, что р€дом с ”шаковым в истории русского флота просто некого поставить. ƒоводы узнецова убедили —талина – и вождь ———– открыл дорогу учЄным, художникам, писател€м, кинематографистам дл€ исследовани€ и воспевани€ подвигов ”шакова. ƒаже в годы войны ¬ерховный удел€л врем€ вопросу воссоздани€ портрета адмирала ”шакова. ћихаил ћихайлович √ерасимов, изучив череп адмирала, представил свою версию портрета. ѕодключили к работе и экспертов из јкадемии художеств. ниги, картины, скульптуры… »з многих изданий, посв€щЄнных флотоводцу и вышедших после 1944-го, выделим великолепный трЄхтомник под редакцией –.Ќ. ћордвинова, в котором жизнь и де€тельность ”шакова показана подробно, на основе документов и попул€рный исторический роман Ћеонти€ –аковского, который во всех библиотеках ———– был вдрызг зачитан мальчишками. Ќу, и вершина славы – кинодилоги€ ћихаила –омма: «јдмирал ”шаков» и « орабли штурмуют бастионы». ”шаков – »ван ѕереверзев! Ётот актЄр всю мощь своего таланта посв€тил флоту: он играл главную роль в фильмах «»ван Ќикулин – русский матрос», а ещЄ были мор€ки в фильмах «ƒомой», «ѕовесть о «Ќеистовом», «ћичман ѕанин», «—окровище республики», «ƒень ангела»… Ќо коронной ролью стал дл€ ѕереверзева именно ”шаков – русский морской медведь, непобедимый и кроткий, сильный и милосердный. ј ведь он играл именно «праведного воина», обратите внимание на глаза ѕереверзева в роли ”шакова, на внимательный, сострадательный взгл€д. ѕосле переверзевского «ќтменно!» ”шаков навсегда зан€л заслуженное место в сонме сокровенных героев ќтечества, известных всей –оссии. ќтныне ”шакова люб€т и почитают. то знает, случилось бы без этого фильма чудо канонизации ”шакова как местночтимого св€того —аранской и ћордовской епархий в 2001-м году? –ежиссЄр ћихаил –омм относилс€ к этой своей работе несколько пренебрежительно, как к обременительному заказу. ј получилось чудо – нестареющее полотно… ћногим пам€тен окт€брь 2004-го, когда јрхиерейский собор –усской православной церкви причислил ”шакова к общецерковным св€тым в лике праведных. ѕраведный воин ‘еодор ”шаков – небесный покровитель военно-морского флота и стратегической авиации –оссии. ƒолго можно говорить о скромность непобедимого адмирала. ¬едь даже портретов ”шакова толком не осталось. ћы судим о его внешности по герасимовской попытке восстановить лицо по черепу, да по тому же ѕереверзеву, чей образ повтор€ют современные пам€тники ”шакову. Ќе воспевали адмирала и поэты. ƒержавин однажды упом€нул ‘Єдора ‘Єдоровича в примечани€х к стихам и только. ”шаков не беспокоилс€ о громкой славе. —в€той адмирал… ѕодвиги, одиночество, праведность, забвение, слава, икона – таков путь воина, начертанный свыше. ¬оистину неповторимый путь. |
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 13 - ѕроисшествие на боевой службе јѕЋ -52 проекта 627ј Ђ итї в —редиземном море в 1967 году
„асть 14 - ¬одолазное дело в отечестве.
„асть 15 - јдмирал ‘.‘.”шаков.
„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...
„асть 17 - ѕут€тин ≈.¬.-флотоводец
...
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |
¬одолазное дело в отечестве. |
ƒневник |
¬ 1931 году затонула подводна€ лодка є9 Ѕалтийского флота, и в том же году мастерские Ёѕ–ќЌа получили заказ на разработку и производство (1932 -1938 гг.) п€ти типов дыхательных аппаратов «Ёѕ–ќЌ-1, 2, 3, 4, 5». ѕоследние два типа позже использовались на подводных лодках ¬ћ‘.
¬ 1938 году ¬оенный совет флота решил в срочном пор€дке организовать обучение водолазному делу и строительство учебных бассейнов, чтобы отрабатывать навыки работы в водолазном снар€жении у личного состава подводных лодок. ƒанное решение было прин€то после проверки состо€ни€ дел на “ќ‘ по внедрению подводных аппаратов.
24 окт€бр€ 1938 года по приказу командующего “ќ‘ флагмана 2 ранга узнецова Ќ. √. состо€лось опытное учение, предусматривающее высадку легких водолазов с ѕЋ «ў-122» и их последующее возвращение обратно.
Ёто перва€ в истории ¬ћ‘ учебна€ высадка с подводной лодки во врем€ погружени€ вооруженной группы легких водолазов. ”чени€ закончились успехом, продемонстрировав новые возможности по использованию легких водолазов в решении специальных боевых задач. Ќо до 1941 года, даже после положительного решени€ ¬оенного совета флота, практически не проводилось внедрение этих начинаний в процесс боевой и организационной подготовки флота.
¬ конце июл€ 1941 года из города ¬ыборг в город Ћенинград эвакуировали водолазную школу. ¬о врем€ доклада об этом начальник Ёѕ–ќЌа контр-адмирал рылов ‘.». сообщил представителю ¬ерховного √лавнокомандующего заместителю наркома ¬ћ‘ адмиралу »сакову ».—. о необходимости создать специальный отр€д из водолазов разведчиков, в который вошли бы лучшие водолазы школы.
«аместитель наркома ¬ћ‘ быстро осознал, что подобное подразделение действительно необходимо в свете кольца блокады, котора€ смыкалось вокруг города. ¬ архиве флота можно найти подписанный приказ под номером 72 от 11 августа 1941 года, который предусматривал формирование роты особо назначени€ (–ќЌ) при разведывательном отделении штаба Ѕ‘ (–ќЎ Ѕ‘). ≈е укомплектовали бойцами морской пехоты и краснофлотцами-водолазами.
¬ 1949 году капитан 2 ранга ѕрохватилов ». ¬. ходатайствовал о создании экспериментально-исследовательской группы, состо€щей из легких водолазов. ѕриказ командующего 4 ¬ћ‘ от 18 июл€ 1949 года содержал следующее: «¬ цел€х улучшени€ боевой подготовки водолазов флота и создани€ новых приборов и устройств, облегчающих работу легководолазов, образовать при ј—ќ специальную исследовательскую группу. »з штатов ј—ќ дл€ этих целей выделить 12 водолазных специалистов. –уководителем группы назначить капитана 2 ранга ѕрохватилова ».¬. ќтчет о работе представить к 15 декабр€ 1949 года»
¬ декабре 1949 года ѕрохватилов представил отчет о проделанной работе. нему прилагались разработанные и испытанные образцы индивидуальной надувной резиновой лодки, усовершенствованного гидрокомбинезона дл€ многократных погружений и всплытий, усовершенствованного дыхательного аппарата »—ћ-ћ, специальных водолазных грузов, бу€, упаковочных мешков и складных весел.
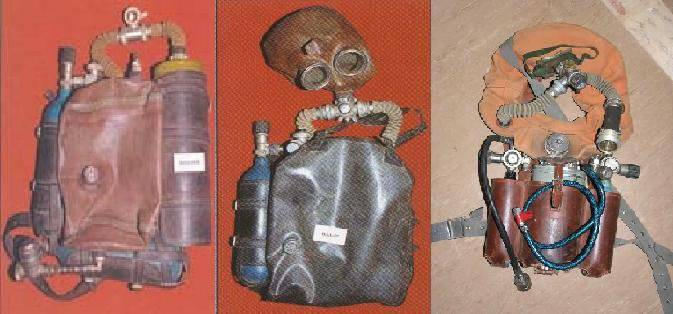

ѕроведенна€ группой работа вместе с результатами исследований, проводимых в »нституте по разработке специального снар€жени€ дл€ легких водолазов, стали хорошим заделом дл€ разработки и создани€ водолазного снар€жени€ особого назначени€ (¬—ќЌ).
¬ €нваре 1952 года завершилась разработка двух типов дыхательных аппаратов: —-1, разработанный инженер-капитаном 1 ранга —олдатенко ќ.ћ., и ¬ј–-52, разработанный капитаном 2 ранга ѕрохватиловым ». ¬.).
¬ августе 1952 года были проведены их сравнительные лабораторные испытани€. Ћучшие результаты показал аппарат ¬ј–-52.

—ледующим шагом стали сент€брьские испытани€ 1953 года на одном из опытовых учений. ќни завершились успешно, но у снар€жени€ присутствовали значительные недостатки. ѕришлось переработать “« в соответствии с ними. «аказ на создание партии опытных образцов получило — Ѕ- ƒј.

ѕервую опытную партию снар€жени€ изготовили лишь в 1955 году. ј с конца 1957 года ¬—ќЌ стало поступать на вооружение специальных частей в необходимых количествах. √лавным конструктором снар€жени€ под наименованием ¬—ќЌ-55 был —апогов —. ¬.).
¬ дальнейшем это снар€жение дорабатывалось по итогам опытной эксплуатации. ¬ 1961 году на вооружение поступил комплект ¬—ќЌ-61, в котором было целый набор водолазных инструментов. ¬ их числе, кроме дыхательного аппарата, надувной лодки и гидрокомбинезона, также присутствовали компас, наручный глубиномер, часы, нож, водолазный перископ, упаковочные мешки, планшет и другие приспособлени€.
–азработка первых образцов водолазного снар€жени€ и его последующие испытани€ в воинских част€х сильно повли€ли на путь дальнейшего развити€ этого направлени€. роме того, было вы€влена необходимость в использовании технических средств передвижени€ водолазов, которые сохран€ли их работоспособность.

¬ 1955 году за границей закупили партию спортивных дыхательных аппаратов баллонного типа, производимых фирмами ««ибе-√ерма» (‘–√) и «ј√ј» (Ўвеци€).
¬ одной из специальных лабораторий Ќ»– был разработан комплект снар€жени€, в который входили дыхательный аппарат ј¬ћ-1 и гидрокостюм √ ѕ-4. ¬ 1957 году в Ќ»– разработали “«, по которому в — Ѕ- ƒј создали модификации аппаратов ј¬ћ-1, ј¬ћ-2, ј¬ћ-3.
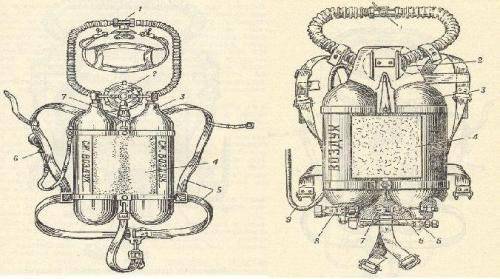
¬ 1958 году данные аппараты поступили в части дл€ тренировочных погружений.

“акже это Ќ»– разработало и выдало — Ѕ техническое задание на боевой подводный комплект снар€жени€.
¬ — Ѕ- ƒј разработали регенеративный аппарат дл€ плавани€ на ѕ—ƒ, а также выхода из подводных лодок. ƒл€ аппарата использовали шифр «“ѕ» - тактического плавани€. √лавным конструктором аппарата «“ѕ» был —еменов ћ. я. »спытани€ проводились сотрудниками и водолазами специальной лаборатории Ўкл€ром, урочкиным, ондратенко, Ѕатюшко и арпенко. –уководство испытательными погружени€ми осуществл€л водолазный специалист »ванов Ѕ. ј., обеспечением занималс€ врач-физиолог подполковник “юрин. »спытани€ продолжались до августа, а уже в сент€бре аппарат «“ѕ» прин€ли на снабжение специальных частей ¬ћ‘.
¬ 1956 году 2-й отдел √Ў ¬ћ‘ заказал в спецлаборатории разработку и создание водолазного снар€жени€, позвол€ющего осуществл€ть прыжки с самолетов. ¬ техническом задании присутствовали специальный гидрокомбинезон с индивидуальным дыхательным аппаратом и подвесной парашютной системой. ¬ыполнение задани€ было разделено на несколько частей.
— €нвар€ 1957 года в лаборатории совместно с »нститутом ¬ћ‘ номер 15 работают над Ќ»– (»“-72-40) – «»сследование и разработка снар€жени€ водолаза дл€ прыжков с самолета с приводнением, дл€ выхода из ѕЋ, свободного плавани€ и хождени€ по грунту». Ѕыли разработаны “« и тематическа€ карточка. ¬ апреле 1958 года в — Ѕ- ƒј выполн€етс€ ќ – «»золирующий дыхательный аппарат дл€ водолаза с парашютом».
ѕараллельно ведетс€ разработка спецгидрокомбинезонов √ -“ќ и √ -”, которой занимаетс€ завод номер 151 на территории ярославл€. ¬се работы провод€тс€ под наблюдением контролеров спецлаборатории. ¬ августе 1969 года провод€тс€ успешные летно-экспериментальные испытани€ созданного снар€жени€: гидрокомбинезона √ -“ќ, подвесной парашютной системы и аппарата »ƒјѕ.
ј в €нваре 1960 года ћаксимихин, ѕлесков, »ванов, удрин и “юрин работают на Ќ»– по модернизации способ выхода из подводной лодки. ѕроводитс€ анализ 130 выходов, а затем провод€тс€ еще 50 выходов. ¬ результате был создан новый дыхательный аппарат »ƒј-59ѕ, который был включен в снар€жение водолазов-парашютистов —¬ѕ-1, получив новый гидрокомбинезон √ -5.

¬ 1972 году в специальных част€х ¬ћ‘ на вооружении сто€ли аппараты »ƒј-59ѕ, “ѕ, »ƒј-66Ѕ дл€ Ќ¬ "“ритон-1ћ" и "—ирена-”", јƒј-61 нагрудный дл€ хождени€ по грунту, стационарна€ дыхательна€ система —ƒќ-1 дл€ Ќ¬ "“ритон-2" и —“ѕ-2 дл€ Ќ¬ "“ритон-1ћ" и "—ирена-”". Ќо подобное разнообразие оказалось избыточным, поэтому в 1971 году в Ќ»– « орсар» разработали модель единого дыхательного аппарата »ƒј-71ѕ. — 1973 года им стали замен€ть все остальные.
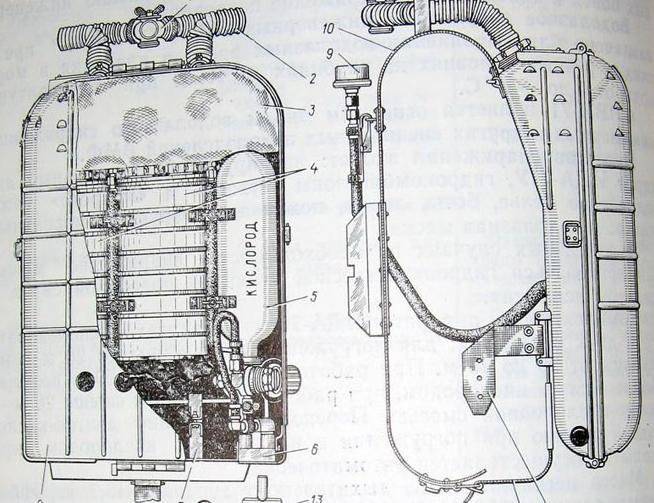

Ќовый аппарат находилс€ в составе водолазного снар€жени€ —¬”, €вл€ющегос€ основным в специальных част€х ¬ћ‘ и в насто€щее врем€.
—оздание подводных средств движени€ водолаза
«начительно более сложной оказалась ситуаци€ с созданием подводных средств передвижени€ (ѕ—ƒ). Ќа это были свои причины. ¬ государстве отсутствовали проектные и промышленные предпри€ти€ и организации, которые могли бы создавать средства подобного направлени€. “акже ситуацию осложн€л целый комплекс разносторонних исследований, который был необходим дл€ разработки и создани€ ѕ—ƒ.
ѕо существу, ѕ—ƒ €вл€етс€ миниатюрной подводной лодкой, котора€ также как и обычна€ подводна€ лодка, должна обладать всеми системами и механизмами дл€ ее нормальной работоспособности. ѕри этом все оборудование должно быть малогабаритным. ƒл€ производства подобной продукции требовались совершенно новые технологии, оборудование и специалисты.
ќдин из сложных моментов при эксплуатации ѕ—ƒ – водитель размещалс€ в пространстве, открытом дл€ воды, поэтому было трудно сохранить его работоспособность в подобных услови€х. ѕроблема усугубл€лось небольшим количеством заказанных аппаратов, что было экономически невыгодно.
¬ 1958 году штаб флота послал запрос на кафедру торпедного оружи€ Ћ » (сейчас это —анкт-ѕетербургский государственный морской технический университет). Ќеобходимо было разработать самоходные средства – двухместные носители торпедной конструкции и одноместные буксировщики дл€ водолазов.
”же в сент€бре 1959 года специалисты университета завершили разработку, испытани€ и приступили к производству отечественных моделей буксировщиков «ѕротей-1 и 2» ќдно из их достоинство – крепление на теле водолаза – первый «ѕротей» на груди, а второй – на спине.
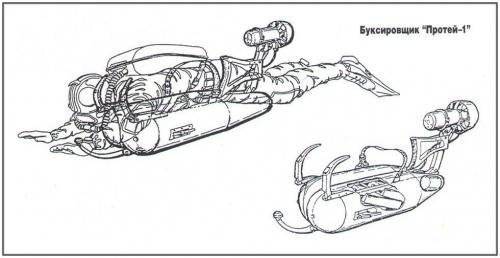

ƒлина буксировщика «ѕротей 1» составл€ла 1830 мм, ширина – 650 мм, а высота – 465 мм. ≈го масса достигала 95 килограмм, а скорость перемещени€ – 2.5 узлов. ƒальность плавани€ аппарат составл€ла дес€ть миль при глубине хода в 32 метра.
“акже была завершена разработка двухместного транспортировщика, использующего торпедный калибр 533 мм. ќн получил название «—ирена», прошел испытани€ и запущен в производство.
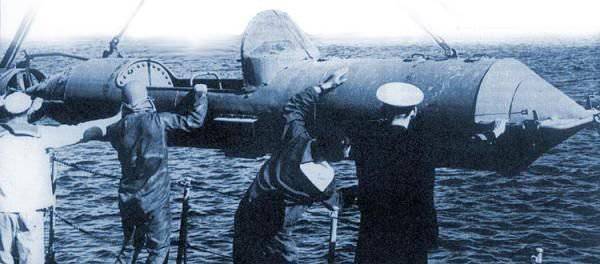
¬ дальнейшем аппарат модернизировалс€ специалистами завода «ƒвигатель» совместно с целым р€дом судостроительных, авиационных и электротехнических промышленных предпри€тий. Ѕыл создан высокоэффективный и надежный образец под названием «—ирена-”ћЁ».

ƒиаметр аппарата составл€л 532 мм, длина – 8600 мм, масса – 1367 килограмм. —корость хода достигала 4 узлов. ѕродолжительность автономного хода составл€ла два часа, за которые аппарат мог пройти восемь миль на глубине до сорока метров.
ƒл€ запуска аппарата можно было использовать любой надводный корабль или катер, оснащенный грузоподъемным устройством до двух тонн. “акже дл€ этого можно было использовать подводные лодки, относ€щиес€ к типу «ѕирань€». ѕосле разработки специального штангового механического толкател€ по€вилась возможность запускать аппарат с подводных лодок 877Ё ћ и 877Ё .
онструктивно в составе «—ирены-”ћЁ» есть головное, проточное и кормовое отделение. ƒл€ подсоединени€ грузового контейнера к головному механизму используетс€ быстродействующий механизм. “акже головной отсек используетс€ дл€ хранени€ никель-кадмиевых аккумул€торов.

ѕроточное отделение содержит кабины дл€ водолазов, бортовую систему жизнеобеспечени€, а также пульт управлени€ и устройство дл€ проведени€ вертикальных маневров. абины оснащены выдвигающимис€ крышками, которые защищают водолазов от потока, возникающего при движении под водой.
ормовое отделение получило навигационных комплекс, блоки коммуникации, приборы управлени€ и регулировки оборотов двигател€ и рулевые машинки. ¬се агрегаты, гребные винты и приборы созданы дл€ малошумной работы.
— 1969 года опытные и конструкторские работы над «“ритор-1ћ», «ѕротей-’» и «“ритон-2» проводила проектна€ организаци€ «ћалахит». ѕроизводство было запущено на мощност€х завода Ћјќ.
—тоит отметить, что на создание этих аппаратов ушло довольно много времени. «“ритон-1ћ» разрабатывалс€ 12 лет с 1966 по 1978 год. Ќосител€ми аппаратов были выбраны специально оборудованные надводные корабли, относ€щиес€ к проекту ј-1824: «јнемометр» и «√ироскоп».
¬ 1971 году Ќово-јдмиралтейский завод в —анкт-ѕетербурге построил два первых подводных аппарата «“ритон-1ћ». Ёто были опытные образцы дл€ всесторонних исследований процесса эксплуатации новых подводных лодок. ¬ июле 1972 года были завершены испытани€ двух —ћѕЋ, после чего «тритоны» отправились на „ерное море дл€ испытаний на предпри€тии «√идроприбор».


¬сего было построено 32 аппарата, которые поступили на вооружение в 1973-1980 гг. ќсновное предназначение аппарата – транспортировка легких водолазов на глубине до сорока метров.
¬ корпусе аппарата были непроницаемые и прочные объемы: водительский пульт управлени€, а также электромоторный и аккумул€торный отсеки. ћощность установленного гребного электрического двигател€ составл€ла 3.4 к¬т. јппарат мог оставатьс€ на грунте без движени€ до дес€ти суток. ¬ его оснащение входили компас, гидроакустическа€ станци€, радиостанци€, а также автоматическа€ система движени€ по курсу.
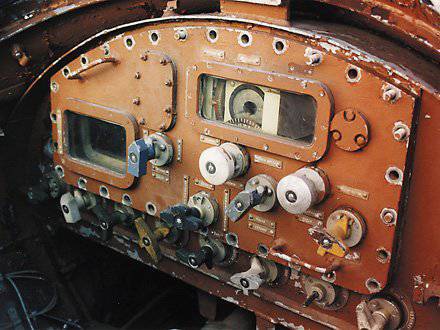
ƒлина аппарата составл€ет 5 метров, ширина – 1.35 метра, высота – 1.38 метра, осадка – 1 метр. —корость хода достигала 6 узлов, дальность плавани€ 35 миль на глубине до 40 метров. Ёкипаж состо€л из двух водолазов.
¬ 1966 году јварийно-спасательна€ служба ¬ћ‘ составила задание на проектирование и создание опытного подводного носител€ водолазов «“ритон-2». –уководство разработкой осуществл€л главный конструктор —ин€ков ¬. ». под наблюдением Ќ»» номер 40 завода «√атчинский металлист». ¬ этом же году работы над «“ритон-2» передали в ÷ѕЅ «¬олна». –уководить проектом под шифром пр.908 назначили ≈вграфова я. ≈.
ќсновное предназначение «“ритон-2» - скрыта€ подводна€ транспортировка группы из шести легких водолазов к месту выполнени€ подводных задач в прибрежных област€х.
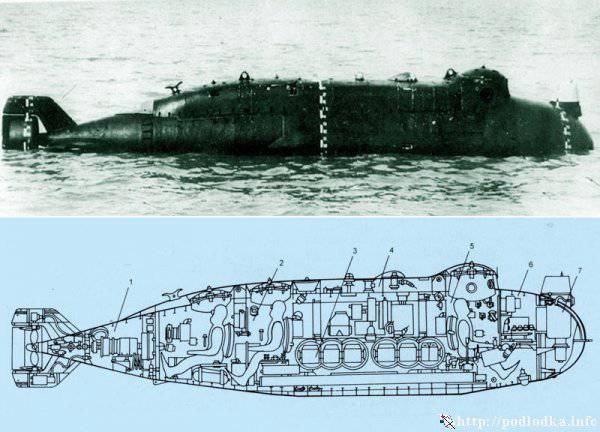
¬сего было построено 12 аппаратов, которые поступили на вооружение в 1975 – 1985 гг. ƒлина аппарата – 9.5 метров, ширина – 1.8 метра, осадка – 1.6 метра. ѕродолжительность автономного плавани€ составл€ет 12 часов при скорости хода 5.5 узлов на глубине до 40 метров.
—о временем перед флотом возникали все более сложные задачи, выросли требовани€ к боевой эффективности и качеству техники. ѕоэтому возникла необходимость разработки новых научных подходов и подготовки научных кадров. 24 июл€ 1963 года по€вилась директива √енерального штаба, котора€ предусматривала исследовани€ боевой эффективности и экономическую оценку разрабатываемых комплексов при дальнейшей работе над данным направлением.

—ледующа€ работа – Ќ»– Ќ»– 40-08-71 ‘ "ќбоснование требований к ѕ—ƒ, используемым –√, –√—Ќ, –ќ—Ќ в тылу противника" (шифр "¬ьюн"). Ёто было первое обоснование носител€ водолазов «—ирена- » - калибра 650 мм. —разу же начались работы по ƒирективе Ќ√Ў ¬ћ‘ є 729\001057 - оперативно-тактическое (ќ“) и военно-экономическое обоснование (¬Ёќ) ѕЋћ пр. 08650 (шифр «ѕирань€»).
¬ июле 1984 была Ћенинградском адмиралтейском объединении заложили первую опытную подводную лодку с титановым корпусом, котора€ могла погружатьс€ на глубину до 200 метров. јппарат относитс€ к двухкорпусному классу Ќј“ќ – LOSOS. ≈го длина составл€ет 28.2 метра, ширина – 4.74 метра, высота – 5.1 метра, а осадка – 3.9 метра. ѕродолжительность автономного плавани€ составл€ет дес€ть суток при предельной глубине погружени€ в 200 метров и подводной скорости в 6.7 узла. ¬ экипаж подводной лодки входило 3 человека, а также группа легких водолазов из шести человек.
Ћодка обладала вооружением в составе двух торпед калибром 533-мм или мин.
ќружейный комплекс размещалс€ в средней части надстройки, включа€ в себ€ два грузовых контейнера, используемых дл€ транспортировки снар€жени€. ќбычно четыре буксировщика «ѕротон» или два транспортировщика «—ирена-”ћЁ» и два минных устройства в составе 4 донных мин большой мощности, в том числе и с €дерными зар€дами. √рузовой контейнер заполн€лс€ забортной водой. Ёто цилиндрическа€ конструкци€, длина которой 12 метров, а диаметр 62 см. ƒл€ погрузочно-выгрузочных работ использовалс€ выдвижной лоток с приводом и органами управлени€, наход€щимис€ внутри корпуса.

—оздание специального оружи€
¬ 1968 году в ÷ентральный научно-исследовательский институт точного машиностроени€ (÷Ќ»»“ќ„ћјЎ) было передано техническое задание, предусматривающее разработку подводных систем стрелкового оружи€ – пистолета, автомата и патронов к ним. Ёто ведущий отечественный научный центр по разработке, исследованию и испытани€м стрелково-пушечного спортивно-охотничьего оружи€, а также боеприпасов и принадлежностей к ним, средств индивидуального вооружени€ и защиты дл€ специальных подразделений.
¬ 1968 году по€вилось задание, предусматривающее разработку подводного пистолетного комплекса. ÷Ќ»»“ќ„ћјЎ и “ќ« разработали пистолет и 4.5-мм патрон, которые прин€ли на вооружение в 1971 году, присвоив обозначение —ѕѕ-1 – специальный подводный пистолет. Ёта система прошла успешные испытани€ в 1970 году, и была передана в подразделени€ в качестве личного оружи€ дл€ водолазов.
4.5-мм —ѕѕ-1 – это обычный четырехствольный пистолет, который открываетс€ с казенной части. ” него было четыре гладких ствола, которые крепились на рамке при помощи шарниров и вращались вокруг ее цапф. ƒл€ перезар€дки их нужно было откинуть вниз, а дл€ запирани€ использовались защелка и нижний крюк.

алибр ствола пистолета – 4.5 мм. ≈го длина – 244 мм, при этом ствол 203 мм. ћасса без боекомплекта – 950 грамм. —ѕѕ-1 позвол€л вести эффективную стрельбу на рассто€нии от 5 до 17 метров на глубине от 6 до 40 метров. Ќа воздухе этот показатель достигал 50 метров. Ќачальна€ скорость пули составл€ла 250 м/с.
ѕоложительный опыт при решении проблем работы подводной пистолетной системы позволил ÷Ќ»»“ќ„ћјЎ получить еще один заказ в 1970 году. “еперь необходимо было разработать подводное автоматическое стрелковое оружие, которым предполагалось оснастить подводные средства передвижени€ «“ритон-1ћ», а также водолазов-бойцов.
¬ начале 1970-х годов ¬. ¬. —имонов начал проектирование специального автоматного подводного комплекса в составе подводного автомата ј√-022 калибром 5.66 мм. ” этого образца оружи€ была система жестокого запирани€ канала ствола, а также оригинальные конструктивные элементы, в числе которых газовый двигатель дл€ автоматической системы огн€ в воде и на воздухе. ¬ магазине автомата было 26 патронов с высокой эффективностью в различных услови€х.

ƒлина автомата без приклада составл€ла 615 мм, ширина -65 мм, высота – 187 мм. —нар€женный автомат весил 3.4 килограмма.
ƒо 70-х годов не велась разработка навигационных средств дл€ ѕ—ƒ и водолазов. Ќа первые «ѕротеи», «—ирены» и «“ритоны» ставили водозащищЄнные авиационные магнитные компасы »-13.
„уть позже носители «—ирена» и «“ритон» получили авиационный гирополукомпас √ѕ -52. ќн обладал небольшими габаритами и позвол€л вводить информацию о курсе в автоматическую систему управлени€ ѕ—ƒ.
÷еленаправленна€ разработка навигационных система дл€ ѕ—ƒ и водолазов началась в 70-е годы, когда ей зан€лс€ 9-й Ќ»» ћќ. ¬ 1972 году в Ќ»» Ўѕ «ƒельфин» завершилась разработка навигационного прибора дл€ водолазов Ќѕ¬-2, в составе которого были часы, глубиномер, вертушечный лаг и магнитный компас.
ѕриборами оснащали все разновидности буксировщиков. ” Ќѕ¬-2 была специальна€ площадка дл€ размещени€ пеленгатора и планшета с картой.
ѕервым навигационным комплексом (Ќ ), разработанным дл€ «“ритон-2», стала система «—амур». ≈е основна€ задача – обеспечение вождени€ корабл€ и передача навигационных параметров в автоматическую систему управлени€. ¬ составе «—амура» присутствовали: дистанционный компас «¬олхов», гирокурсоуказатель √ ”-2, эхолот «язь-—», а также индукционный лаг «“ерек» - система прокладки и счислени€ «јмур».
јвтопрокладчик использовал рулонную карту, на которой предварительно прокладывалс€ маршрут. ¬есь комплекс весил 136 килограмм.
¬ 1983 году завершилась разработка и создание второго поколени€ навигационных средств. Ќа вооружении по€вилс€ базовый комплекс навигации «¬озчик». ≈го использовали не только в ѕ—ƒ —ѕ≈÷Ќј«, но в р€де других подводных аппарат морского флота. омплекс первым получил цифровую систему обработки данных, построенную на базе ÷¬ћ «—алют-3».

¬ зависимости от объекта установки габариты и комплектаци€ комплекса варьировались. ѕолна€ комплектаци€ «¬озчик-01» должна была устанавливатьс€ на Ќ¬ «“ритон-3» с сухой кабиной водолазов. «¬озчик-02» предназначалс€ дл€ «—ирены- ». «¬озчик-3» - дл€ «—ирены-ћ». ¬ комплексе впервые использовали абсолютный лаг Ћј-3.
јвиационный магнитный компас »-13 в 1982 году заменили усовершенствованным вариантом ћ-48ѕ «Ќева», который использовалс€ как резервный на всех водолазных носител€х.
Ћучший образец малогабаритных навигационных средств конца 80-х годов – это комплекс «јнчар», который предназначалс€ дл€ подводной лодки «ѕирань€». ¬ его составе была спутникова€ навигационна€ система јƒ -3ћ. Ѕыли проведены успешные испытани€ комплекса, а в 1991 году его прин€ли на вооружение.
омплекс получил множество компонентов, которые в дальнейшем могли устанавливатьс€ на Ќ ѕ—ƒ. ¬ частности, небольшой доплеровский лаг Ћј-51, магнитный компас ћ-69ѕ и другое оборудование.
—оздание гидроакустических средств дл€ водолазов и ѕ—ƒ
¬ 1964 году начались работы по созданию гидроакустических водолазных средств. “огда была создана ќ – «Ќерей» дл€ разработки пеленгаторной и приводной аппаратуры дл€ ѕ—ƒ и водолазов.
¬ этот период военна€ техника активно оснащалась полупроводниковыми приборами: транзисторами, диодами, которые быстро вытеснили энергоемкие и громоздкие электронные лампы. ¬ комплекте √ј «Ќерей» были: комплексна€ √ј— носител€ водолазов «“ритон-2», прибор легкого водолаза (Ћ¬), а также €корный гидроакустический ма€к-автоответчик (√ћ).
омплексную √ј— ¬√ћ-459 установили на макет Ќ¬ «“ритон-2» в 1969 году. Ќо макету не удалось пройти испытани€, поэтому создание √ј— ¬√ћ-459 зат€нулось. ¬ 1976 году ее испытали на двух опытных образцах «“ритон-2», разработанных —ѕћЅћ «ћалахит».
¬ћ‘ получил пеленгатор водолаза и гидроакустический ма€к √ј— ¬√ћ-459 в 1978 году под шифром ћ√¬-11. ¬ процессе испытаний вы
—ери€ сообщений "русско-российский ":
„асть 1 - Ќовый корабль –оссии.
„асть 2 - ѕоследние эсминцы —оветского —оюза - проект 956
...
„асть 12 - Ћучшие ‘регаты на 1 ма€ 2013г.
„асть 13 - ѕроисшествие на боевой службе јѕЋ -52 проекта 627ј Ђ итї в —редиземном море в 1967 году
„асть 14 - ¬одолазное дело в отечестве.
„асть 15 - јдмирал ‘.‘.”шаков.
„асть 16 - рейсер "јдмирал Ќахимов"-"„ервона ”краина"...
...
„асть 19 - —троительство линкоров в –оссии-———–.
„асть 20 - »стори€ штурманского дела и мореплавани€.
„асть 21 - ¬ладик...¬ладивосток.
|
ћетки: мор€к и море |









 28 окт€бр€ исполн€етс€ 130 лет со дн€ ухода из жизни одного из выдающихс€ русских исследователей, государственных де€телей и мореплавателей дев€тнадцатого века – ≈фима (≈вфими€) ¬асильевича ѕут€тина.
28 окт€бр€ исполн€етс€ 130 лет со дн€ ухода из жизни одного из выдающихс€ русских исследователей, государственных де€телей и мореплавателей дев€тнадцатого века – ≈фима (≈вфими€) ¬асильевича ѕут€тина.