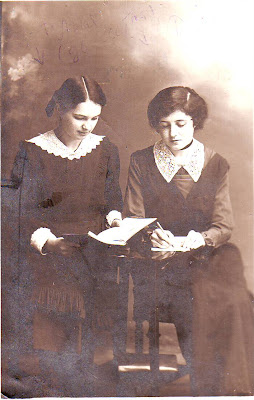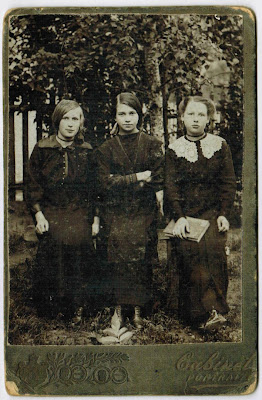Елизаветинский институт (Москва) |
Елизаветинский институт (Москва)
Из Википедии — свободной энциклопедии
| Елизаветинский институт | |
|---|---|
| Прежнее название | Московский Дом Трудолюбия, Елизаветинское училище |
| Год основания | 1825 |
| Расположение | Москва |
Елизаветинский институт благородных девиц — закрытое учебное заведение в Москве для дочерей дворян, военных, купцов и духовенства[1].
Содержание
Основание
Первоначально это был «Московский Дом Трудолюбия»; основан в 1825 году женой губернатора, княгиней Т. В. Голицыной. Дом существовал на благотворительные взносы и средства: Александр I назначил ежегодную сумму в 13 тысяч рублей; купец Губин пожертвовал 150 тысяч рублей; ежегодные суммы выделялись Московским городским обществом[2].
История
Учебное заведение было основано для воспитания бедных девушек, преимущественно сирот. Первыми воспитанницами стали 24 девушки от 7 до 11 лет, которые должны были воспитываться здесь до двадцатилетнего возраста. Позже стали принимать не только сирот, но и девушек из хороших семей, которые вносили плату за обучение. Девушкам давали элементарное образование, а за дополнительную плату обучали музыке и танцам. В 1833 году количество учениц разрешили увеличить. В 1847 году Московский Дом Трудолюбия был переименован в Елизаветинское училище в память об императрице Елизавете Алексеевне[2].
В училище было 6 научных классов, в которых проходили закон Божий, языки русский, французский, немецкий, математику, историю, географию, музыку, пение и танцы. В Елизаветинском Институте обучались дети офицеров и военных, из небогатых семей, поэтому выпускницы становились педагогами, гувернантками[2].
В институте некоторое время фортепианные классы возглавлял С. В. Рахманинов; преподавали М. Левин, Э. Метнер, А. Гедике, А. В. Никольский. Рисунок в 1891—1893 годах преподавал С. В. Малютин.
После 1917 года Елизаветинский институт перестал существовать и в здании находился Московский областной педагогический техникум им. Профинтерна, а с 1931 года — Московский государственный областной университет.
Начальницы
- 1849 — 1850: Анна Михайловна Дараган (1806—1877), русский педагог и детская писательница.
- 1850 — 1854: Екатерина Петровна Липранди (ум. 1874), сестра И. П. Липранди, после 1854 года начальница Иркутского института.
- 1882 — 1889: княжна Наталья Сергеевна Горчакова (1826—1903), сестра Е. С. Горчаковой; с 1880 года начальница института в Саратове.
- 1889 — 1895: Светлейшая княжна Елена Александровна Ливен (1842—1915), с 1895 года начальница Смольного института благородных девиц.
- 1895 — 1898: Ольга Александровна Давыдова (1856—1923), сестра предыдущей, вдова потомственного почётного гражданина В. П. Давыдова. Начальница школы Типо-литографии с 1899 года, владелица Общества распространения полезных книг. Жила в Москве, в собственном доме на Ордынке. Имела много домовладений в Москве.
- 1898 — 1902: княжна Мария Михайловна Черкасская (1846—1933), выпускница Московского Екатерининского института.
- 1902 — 1908: Ольга Анатольевна Талызина (1861—после 1926), внучка А. И. Талызина.
- 1908 — 1910: Анна Николаевна Унковская (1848—1927), вдова адмирала И. С. Унковского.
- 1910 — 1917: Анна Ивановна Хвостова (1866—1938), дочь предыдущей, вдова С. А. Хвостова.
Расположение
Здание на Вознесенской улице (ныне ул. Радио дом 10, стр. 1) было пожертвовано для Дома трудолюбия его владельцем Н. Н. Демидовым. Первоначально здесь в начале XVIII века была усадьба И. Ф. Ромодановского с липовым парком и прудами. Затем дом принадлежал М. Г. Головкину, а в середине XVIII века при Н. А. Демидове был построен дом в стиле барокко, а территория стала в два раза просторнее[2]. При институте также находился домовый Троицкий храм.
Источники
Ошибка в сносках?: Тег <ref> с именем «c», определённый в <references>, не используется в предшествующем тексте.
 Эта страница в последний раз была отредактирована 20 сентября 2018 в 10:37.
Эта страница в последний раз была отредактирована 20 сентября 2018 в 10:37.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).
|
Метки: дворянское образование институт благородных девиц |
Московский Елизаветинский институт благородных девиц |
Московский Елизаветинский институт благородных девиц |

Мама родилась и жила до 9 лет в г. Калуге, где жили ее родители. Отец ее был военный, штабс-капитан. Детей было много, а в живых осталось только трое — умирали все взрослые. Бабушка рано осталась вдовой и перенесла много нужды и горя. После смерти мужа она получала пенсию 9 рублей с копейками, умер старший сын, будучи уже офицером, вся надежда была на него. За ним пошла на тот свет его сестричка 14 лет. Последнею умерла замужняя дочь. Бабушка была религиозна, кротко переносила свои несчастья. Такою мы ее знали всегда. А говорили, что мужем командовала.
Жила семья так, как жили в то время все в провинции: служили, играли в карты, вышивали, справляли именины, крестины, постились, говели, причащались. Театра и кино не было. В Москве и то было только два театра. Один раз ездила бабушка с детьми к своим родителям в Крым, на родину, где она жила до своего замужества и хорошо говорила по-татарски.
После смерти отца мою маму отвезли в Москву и поместили в Елизаветинский институт на казенный счет, а двух братьев в Кадетский корпус как сирот военного. Это было в 1849 году.
Елизаветинский и<нститу>т находился на улице Гороховской, где он сейчас и стоит. Дом стоит в глубине двора, но, тем не менее, стекла в окнах замазаны мелом. Сюда ввели мою маму, девочку-дикарку, надели на нее длинное до пола, жесткое камлотовое зеленое платье, белый фартук и пелеринку, туфли без каблуков и сказали: “Ну вот, теперь ты институтка, учись хорошим манерам, слушайся классную даму, будь умница!”, благословили и уехали. Двери захлопнулись, на 6 лет заперли девочку в дом без окон и дверей, отрезали от жизни, и началось воспитание особой породы женщин-институток с превратными, уродливыми понятиями о жизни и людях.
Во главе учебного заведения была начальница, непременно дама, вдова генерала, светская, иногда бывшая придворная фрейлина с шифром. Шифр — это нечто вроде ордена, с бриллиантами, носимый на груди. Этим знаком награждались ученицы-отличницы по окончании курса, он заменял медаль.
Научных классов было 6, в каждом особая надзирательница и классная дама. Предметы проходили: закон Божий, языки русский, французский, немецкий, математику, историю, географию, музыку, пение и танцы.
При Институте был великолепный сад с вековыми липами и дубами, куда воспитанниц водили парами гулять. Это единственное место, куда они выходили из своей тюрьмы. Позднее институток стали водить и по улицам.
Начальницу ученицы обязаны были называть “madame”, учителей — “monsieur”.
Учителя все подбирались старые, хромые, кривые, на костылях — во избежание соблазна для девиц, а также и для молодых классных дам. Но несмотря на все эти меры, девицы влюблялись и в хромых, и в слепых, и в истопников, и в священника, и в ламповщика. Они “обожали” даже учениц старшего класса. Учителя боялись сделаться предметом обожания, потому что это грозило им удалением из Института. Карманы их пальто были полны надушенных записочек с объяснениями в любви: “Душка! Обожаю! Божество!” — и перемежались со стихами самыми сентиментальными, иногда собственного сочинения. Однообразие жизни в И<нститут>е невольно пополнялось такими развлечениями. Утром подымали учениц рано, в 6 1/2 час. Все парами шли умываться, делать туалет. Сами убирали свои постели в дортуаре. Шли опять парами в зал, где молились Богу, потом тем же порядком в столовую пить чай с хлебом и сахаром и потом в классы на уроки.

Ученицы обязаны были говорить между собою один день по-французски, другой по-немецки, и если кто забывал и заговаривал по-русски, тому на шею вешали вырезанный из бумаги язык, ученица с этим красным длинным языком должна была сидеть на уроках, ходить гулять и т. д. до тех пор, пока кто-нибудь еще не оговорится, и тогда это украшение переходит к другой.
Один раз проговорилась сама классная дама, немка. Только что кончился завтрак, осталось только доесть ватрушки, и чтобы не терять золотое время, а идти скорее гулять в сад, немка крикнула по-русски: “Живо! шлеп в рот, ватрушка на голова, в сад!” Она хотела сказать: “Шляпы на голову, ватрушки в рот!”, но спуталась. Ученицы тотчас исполнили ее распоряжения: взяли в рот шляпы, а ватрушки устроили на голове и так парами пошли в сад и хотели ей надеть язык на шею.
После прогулки были уроки и обед из трех блюд. Кормили хорошо.
Хотя их и учили хорошим манерам, однако за обедом, если подруга не доедала своей порции и у нее на тарелке оставался какой-либо кусочек, никого не шокировало, если какая-нибудь из соседок спросит: “Ma chère! Ты не будешь доедать? Позволь мне взять и скушать!”
Учителя были хорошие, так что их ученицы имели достаточные во всем понятия, кроме естественных наук — физики, химии, зоологии. К чему это им? О высшем образовании для девиц и помину не было. Их готовили быть хорошими женами и украшением общества. Даже хотели сделать из них домашних хозяек, и институтки назначались на дежурства в кухне, где им надевали фартуки и они учились варить суп и делать котлеты.
Но вечное хождение рядами и парами, сегодня как вчера, точно арестанты, прикованные к тачке, томило девочек, они скучали, а от скуки придумывали себе всякие развлечения.
Ну, разве не приятно, ускользнув от зоркой Каролины Карловны, удрать в коридор и засунуть в карман пальто учителя мосье Робера (на костылях) надушенную записочку, а встретив его в коридоре, прошептать ему страстно: “Обожаю! Душка!”? Некоторые энтузиастки доходили до того, что из подкладки пальто своего предмета обожания вырезали кусочки на память в дортуаре.
Проникали какими-то судьбами книги старинных писателей, переводные романы, и читались эти запретные книги по ночам в дортуаре, а иногда и в классах. Желание посмотреть на Божий мир из-за каменных стен Института заставляло проскабливать в замазанных стеклах дырочки, глазки. Начитавшись приключений, им хотелось испытать и самим сильные ощущения. И вот выискались две смелые, придумали остаться в глухом парке одни на всю ночь и потом рассказать подругам свои ощущения. Весь класс затрепетал и принимал участие в этом предприятии, чтобы проделку их не заметила классная дама. Скрыть отсутствие двух подруг вовсе было нелегко.
Нагулявшись после обеда, все пошли в дом, а две девицы, спрятавшись за деревьями, остались в саду. Они забрались в самое страшное, в самое глухое место, так называемую “темную аллею”, куда и днем-то все боялись заходить. Там деревья были до такой степени высоки и густы, что неба не было видно. Тут, усевшись на скамейке, прижавшись друг к другу, продрожали они всю ночь до утра, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу деревьев, писку ночной птицы и т. п.

Когда утром вывели учениц гулять, они, конечно, прежде всего в страхе бросились узнать, живы ли их подруги. А те чувствовали себя героями. И начались рассказы о страшной ночи. Не меньше страха натерпелись за них и ученицы, оставшиеся в Институте, особенно когда пришлось делать кукол на их постелях, чтобы классная дама не узнала о их проделке.
Среди учениц было много одаренных, талантливых, были поэтессы, музыкантши, певицы и танцорки.
Учителями в области искусства были лица исключительные. Так например, Вивьен, известный композитор и пианист, ученик Гензельта. Моя мама отличалась в музыке и в литературе, и в старших классах, будучи 15—16-летней девочкой, играла на публичных вечерах в Институте трудные вещи. При этих выступлениях она испытывала каждый раз мучительное волнение, до того невыносимое, что однажды, не в силах его превозмочь, она расковыряла себе палец вилкой, вырвала целый кусочек мяса, предпочитая адскую боль, лишь бы не выступать перед публикой.
Начальницей Института была мадам Дараган, высокопоставленная вдова. Она относилась к детям хорошо, мягко, даже была ко многому снисходительна, так как была умна и понимала, что многие шалости детей происходили от избытка жизни, от скуки, однообразия порядков Института.
Дети ее любили. Им прививали благородные понятия, они были наивны, но скромны, нравственны, честны. Эмансипация еще не коснулась девушек тех годов, никто из них не стремился к высшему образованию.
Елизаветинский Институт принимал детей офицеров и военных не из великосветского общества, все они были небогатые и знали, что их будущее — это труд, все они будут педагогами, гувернантками с ранних лет. Ну, а пока они учились, шалили, обожали, развлекались, как могли.
При Институте была церковь, священник и причт. Чинить ризы должны были ученицы. Для этого ризы доставлялись в музыкальную комнату, куда собирались девицы, и начиналась работа. Классная дама, видя, что дети заняты, оставила их одних.
Но вот чинка закончена и одна шалунья надевает на себя красную ризу дьякона, перекидывает орарь через плечо и басом произносит: “Паки, паки миром Господу помолимся!” Другая тотчас облачается в ризу священника и старческим голосом шамкает: “Аминь!” Поднимается смех и веселье, все наряжены в ризы, мама села за рояль (в ризе), играет польку, все кружатся, пляшут, а “дьякон” откалывает русскую, “бал” доходит до апогея. В эту минуту дверь открывается и входит классная дама. Сразу все замерли, онемели, как в сказке “Спящая красавица”, — уснули в тех позах, в каких пронзил их взор классной дамы. От пережитого страха опомнились только в дортуаре в постелях. Не был ли то сон? Нет, починенные ризы висят в шкафу. Классная дама храпит, лампа горит. Что-то ожидает их завтра? Однако начальство решило не придавать особенного значения такому происшествию, ограничились маленьким внушением, по-семейному. Но вот еще случай: рассердились девушки на свою немку — она была груба и обидела их. Тогда хорошенькая и гордая полька Лидия Арамович сказала: “Ты меня обещала высечь, а я тебя еще раньше высеку!” Гуляя в саду, она сорвала несколько прутиков, принесла в дортуар, привязала прутики один к другому, сделав длинную удочку, и спрятала ее за кроватями.

Вот пришел момент молитвы и укладывания в постели. Дежурная проверила, все ли на местах, потушены ли лампы. Все стихло, спит весь дортуар, похрапывает Каролина Карловна. Не спят только Лидия Арамович и несколько ее ближайших соседок. Она достает прут из-за кровати и через соседние постели ударяет им слегка Каролину Карловну, которая просыпается и не может понять, кто ее хлестнул. Оглядывается, видит, что все спят, тихо. Что такое? Быть может, это во сне? Она укрывается потеплее и засыпает, но вскоре ее вновь будит удар хлыстом, и тут она вскочила. Что за притча? Кругом все спят. Тогда она пустилась на хитрость: легла, но не заснула, а когда прут вновь коснулся ее спины, она ухватилась за него рукой и задержала. Арамович в эту минуту свой конец отпустила, и весь хлыст перешел в руки классной дамы. Та встала, вымерила расстояние от своей кровати и поняла, что хлыстом действовала Арамович, которая притворилась крепко спящей.
Каролина Карловна подняла ее с кровати.
“Становится, гаткий тефчонка, на коленка!” — приказала она. Арамович у самого изголовья стала на колени. Озябнув и взволновавшись К<аролина> К<арловна> крепко заснула. Арамович за ней следила и тотчас же громко всхлипнула и позвала: “Каролина Карловна! Pardonnez-moi! Простите меня!” — “Гаткий тефчонка, стой то утра! Не мешайт спать!”
Только что Каролина Карловна вновь захрапит, Лидия толкает ее в бок и говорит: “Каролина Карловна, pardonnez-moi!” Это повторялось раз пять или шесть, пока, наконец, измученная классная дама отпустила Лидию на ее кровать. Конечно, многие ученицы не спали и потешались, пока происходила эта комедия. Наутро ждали наказания, но добрая Каролина Карловна не раздула истории и не вспоминала больше о ней, чем вызвала в ученицах большое к себе уважение и любовь.
К начальнице, мадам Дараган, однажды приехал ее сын-офицер в блестящем мундире флигель-адъютанта.
Весть об этом облетела все уголки Института.
В полутемном коридоре возле квартиры начальницы замелькали фигурки в пелеринах, запасшиеся всеми атрибутами обожания, как то: записочками, одеколоном, ножницами и, главное, полными любви сердцами. И вот он вышел и победил все эти сердца, заранее ему преданные.
На него посыпался дождь записочек с нежными излияниями, в карманы ему подсовывали сувениры, ухитрились вырезать кусочек подкладки у мундира. Выпрашивали на память перчатку, пуговицу, сами отрезали, не говоря об одеколоне и духах, которыми его поливали, посылая нежные слова: “Душка! Божество! Обожаю! Кумир!”
Флигель-адъютант был поражен, за всю жизнь еще нигде он такого успеха не имел. Он рассказал об этом приключении матери, а она, чтобы он не подумал, что ее дети такие дикари, устроила у себя чай, на который были приглашены интереснейшие из учениц, чтобы показать, как они умеют себя вести в обществе.
Ему предстояла превеселая комедия.
Он веселился от души, наивные их вопросы и ответы приводили его в восторг. Они спрашивали: кого он обожает, какого цвета волосы он носит в медальоне на шее, скольких девиц он похитил, дрался ли он на дуэли? Просили показать медальон, где хранились локон или прядь волос обожаемой девушки. Он уверял, что такого медальона и локона у него нет, а они не верили. И сведения из прочитанных романов говорили противное.
Пили чай с вареньем. Мосье Дараган не доел в блюдце варенье, тогда самая смелая и игривая из институток обратилась к нему с вопросом: “Вы не будете доедать? Отдайте мне, я доем!”
Его мать просто сгорела от стыда.
“Ma chère! Берите же варенье из вазы сколько хотите!”
После этого начальница сидела, как на иголках, следя, не мелькнут ли ножницы в покушении на завиток волос ее сына и подкладку его мундира. А он был весел и доволен спектаклем, причем мог убедиться в их хороших познаниях французского языка и музыки. Сказал, что они все очень милы и оригинальны. Они все-таки выпросили у него на память какой-то шарфик, разрезали на кусочки и спрятали около сердца, а Лидия Арамович успела спрятать окурок его папиросы и также хранила на память.
Этот чай у начальницы на всю жизнь запечатлелся у них в сердце.
Но вспышка обожания, всеобщая, так сказать, нисколько не помешала обожать своего священника, они делали ему к Вербной субботе изящнейший porte-bouquet из воска: цветок, роза, например, где посредине было отверстие вставлять свечу. В эту субботу получали такой подарок все, кто был обожаем, любимые учителя и классные дамы. Всю всенощную стояли с зажженными свечами. Даже ламповщик, которого институтки тоже обожали, не бывал лишен такого подарка. Воспитанницы бессознательно проявляли демократизм. В коридоре, где он шел грязный, весь пропитанный керосином, с лампами и тряпками в руках, на него летели бумажки с объяснением в любви и одни и те же возгласы для всех: “Обожаю! Божество! Душка!” Им надо было излить свои чувства, и им было все равно, на кого они их изливают. То были не одни только мужчины, обожали молоденьких пепиньерок, старших воспитанниц, помощниц классных дам.
Я припоминаю рассказ одного почтенного полковника М., у которого жена была институтка; вот что она ему сообщила. Она кончила курс в одном из Петербургских институтов. На акте собралось много гостей, родные, начальство, учителя. Ученицы сняли свои зеленые платья и все надели белые, модные и сияли молодою прелестью и туалетом. С сегодняшнего дня они уже не институтки, их развезут по всем концам России, друг друга, быть может, они уже никогда больше не увидят. А как им жаль расставаться с учителями, классными дамами, начальницей! Шесть лет прожили все вместе, многие плакали. Акт шел торжественно, демонстрировались таланты, кто играл, кто пел, кто танцевал, кто читал стихи, иногда своего сочинения. Им вручили дипломы, все их поздравили, и учителя в первый раз за все шесть лет удостоили выпускниц пожатия руки.
Среди учениц была одна несчастливица, не получившая диплома, она была в стороне, никто не обращал на нее внимания. Она завидовала и была полна злобы.
Когда дипломницы вошли в дортуар, их там встретила неудачница такими словами: “Ну, чего вы радуетесь, дуры? Учителя вам руки пожали, а вы в восторге? Да вы знаете ли, что теперь получится? У вас теперь у каждой родится по ребенку!” Это был удар грома, все онемели. А злобная девушка, заметив, какое впечатление произвели ее слова, продолжала рисовать всякие ужасы. Девицы заревели, рев перешел в рыдание, и все толпой двинулись к начальнице, к их бывшей madame, которая всегда разрешала всякие сомнения.
Увидав своих детей в необычайном волнении и слезах, она испугалась и вскричала: “Что случилось? Несчастье произошло? С кем? Говорите скорее!”
“Да, madame! С нами большое, непоправимое несчастье!” — и слезы мешают говорить. “Да что же такое? Говорите скорее!” — волнуется Дараган.
“У ... нас... у ... каждой будет ... по ребенку”, — чуть слышно прошептала одна девушка, остальные зарыдали.
Начальница зашаталась — шесть лет оберегала! Она, верно, ослышалась? “Что, что? Повторите!”
Они подтверждают. Начальница схватывается за голову. Она проводит рукою по лицу, как бы желая убедиться, что она не спит.
“Молчите, дети, молчите! В этом надо разобраться. Откуда вы знаете, и как это с вами случилось? Говорите!”
“Нам сказала Покровская”.
“А она откуда знает?”
“Она говорит, что учителя пожали нам руки, значит, мы родим по ребенку!”
“Ах, так это вот откуда!” — говорит начальница со вздохом облегчения. Она сразу все поняла и начала успокаивать бедняжек.
Изолированность от мужчин в Институте создавала страх перед ними. Мужчин надо бояться, это опасное, погибельное существо.
Шесть лет видеть одних уродов и старых учителей да грязного ламповщика; даже прочистив дырочку в замазанном мелом стекле, нельзя было разглядеть, какие существа населяют улицы, дома и т. д. Выйдя из Института на свет Божий, они казались дикими, странными. Они краснели от каждого слова, стыдились есть при мужчине, говорить. Не знали, куда деть руки, ноги, как впервые вышедшие на сцену артисты. Тяжело было смотреть на страдалиц.
С моею мамой тоже была тяжелая история. Ее мать не могла принять ее к себе из Института, т. к. сама жила у сына. Маме пришлось прямо из учебного заведения ехать в чужую семью гувернанткой и учительницей закона Божьего, русского языка, музыки к девочке семи лет, княжне Шаховской.
Первые дни ее пребывания в семье Шаховских были пыткой для нее и окружающих.
Привезли какого-то дикого зверька: не ест, не пьет, не говорит, краснеет до слез при обращении к ней князя. Придумали отдать ее на время к матери и брату, чтобы ее немного приучили к людям. Рекомендовали собирать дядиных знакомых, вывозить на вечера и балы, в театры и т. д. Эти меры дали благие результаты. Через месяц мама возвратилась уже менее дикая, и при хорошем влиянии княгини превратилась в нормальное существо, т. е. по тому времени, конечно. Жизни-то она все равно совсем не знала.
Даже вот и теперь, вступив в новую жизнь в чужой семье, какие условия ее окружали, и не все так же ли она была от жизни отделена? Она получила хорошенькую комнатку, прекрасный стол, она не знала, откуда берется ее чистое белье, у нее была горничная, специально ей служившая. Ни забот о жизни, ни тяжелого труда она не знала.
В хозяйственных делах все институтки были близки к той помещице у Щедрина, которая приказывала повару не жарить сразу всего теленка, а отрезать одну половинку, а другую пустить погулять. А шесть лет спустя, после такой жизни у чужих на всем готовом, мама, выйдя замуж, задумала сразу стать образцовой хозяйкой и взять в руки кухню. Началось с того, что она стала выдавать кухарке продукты на обед.
“Сделайте воздушный пирог, — говорит она. — Сколько вам нужно яиц?”
“Да не меньше 12 сударыня”.
“Пожалуйста, отбирайте!”
Кухарка зажигает огарок и начинает на свет просматривать яйца:
“Вот это гнилое, кладу в сторону, а вот это хорошее, а вот это опять гнилое, еще гнилое”.
И так, обманывая, она набирает вместо 12 — 24 яйца и уносит их в кухню, где получается великолепная яичница для кума кухарки.
А мама, очень довольная своей деятельностью, говорит мужу: “Николенька! Я недурно справляюсь с хозяйством, я выдаю кухарке всю провизию сама”.

Кстати уж расскажу еще о наивности замужней институтки, а также и ее замужних подруг. В Москве в ту пору раза два в год купцы объявляли дешевую распродажу товаров. Это была всякая заваль, которую вытаскивали из амбаров и подвалов, всякий брак и гниль, раскладывали соблазнительно на прилавках для соблазна дам. А московские дамы, интеллигентные, светские, ждали этого дня торговли с жадным нетерпением.
Уж давно необходимо было мадам Крыловой купить для своей дочки Юленьки новенькое платье, но она все откладывала до “дешевых товаров”.
Над каждым магазином развевались полотнища с крупной надписью: “Дешевые товары”, “Дешевая распродажа”.
А дамы разъезжали на извозчиках и собственных лошадях, иногда с ливрейным лакеем на козлах, и наполняли магазины, влекомые страстью к дешевой покупке. Мама моя тоже поехала первый раз в жизни, и отец дал ей 100 руб., по тем временам сумма большая, когда чиновник с семьею жил на 25 руб. в месяц.
Довольно быстро мама вернулась, а няньки и лакей несли за ней покупки, всякие картонки, свертки и пакеты.
“Николенька! Мне не хватило денег, а еще многое не куплено”.
Едет опять, возвращается оживленная, всех знакомых встретила “на дешевых товарах”, и как все дешево.
Начинается разборка покупок, пришла бабушка, вся прислуга обступила в ожидании вскрытия пакетов, в тайне души надеясь, что может и о них не забыли, на платьице купили.
“Николенька! Я купила дюжину перчаток, баснословно дешево! Все равно приходится часто покупать, а так ведь практичнее — сразу? И номер мой. Надо померить”. Берет пару и надевает на левую руку. А где же на правую руку? Перебирает в коробке, оказывается, все перчатки на левую руку. Туфли оказались с разными номерами, нельзя носить. Развертывают материю, а она вся в дырах.
Удивление, разочарование, досада!
А при свидании все любительницы дешевых товаров делятся неудачами, смеются над своей непрактичностью и дают слово на будущий год ни за что не ездить.
Но еще ни одна не сдержала слова.
Сильно сдружил Институт воспитанниц между собою, и чем ближе подходило время разлуки, тем больше грустили они. Ни одна из них не знала, как сложится ее жизнь. Большинство были сироты, их ждал чужой дом и труд, а сами-то они были еще дети 16 или 17 лет.
Готовились к акту. Мама разучивала трудный концерт Гуммеля с оркестром. Она сочинила музыку к тексту, написанному ее подругой Писаревой. Эту песню должен был петь институтский хор. Между прочим, хором управлял дирижер Багрецов, очень известный музыкант. Начало песни я помню, вот оно:
Пришла пора, мы расстаемся,
Наш благодетельный приют,
В тебе мы больше не сойдемся,
Благословенный Институт!
Здесь годы юности и счастья
Беззаботно так прошли,
Без тревог и без ненастья,
Мирно наши дни текли.
Танцорки танцевали “качучу” с кастаньетами, в костюмах. Другие танец балетный с шарфами. Пели арии и романсы. Публики на акте было много: родители, приехавшие за дочерьми, начальство, знакомые начальницы, классные дамы, учителя. Все были в восторге. Было торжественно. Говорили попечитель и священник напутствие девушкам, выходящим из Института на свет Божий, все их поздравляли, говорили пожелания. Но они не радовались, что уходят отсюда в неизвестность.
Переодетые в свои платья, они горько плакали, прощаясь с начальницей, кл<ассными> дамами и друг с другом.
Большинство разъехалось, но несколько учениц остались в Москве, и они до смерти поддерживали дружбу между собой. Они все были замужем, и их дети стали нашими друзьями.
То были Лидия Арамович, Писарева, Кокошкина, Мушникова, Чешихина, Богуславская.
Дочь Чешихиной была замужем за профессором Бутлеровым в Петербурге.
Рамазанова А. Н. Елизаветинский институт, 1849—1854 гг.
http://duchesselisa.livejournal.com/126825.html
|
Метки: москва дворянское образование институт благородных девиц |
Убийство Царской семьи: была ли санкция Центра? |
Убийство Царской семьи: была ли санкция Центра?
- Jul. 29th, 2015 at 6:53 PM

6. Левые эсеры
В чем же природа неподчиннности Екатеринбурга центру, проявленная в целом ряде событий 1918 года? Смею предположить, что ответ на этот вопрос лежит в существенном влиянии на Уралсовет левых эсеров. Влияние кстати могло быть разного харрактера, например, соревновательного.
Пойдя в данном направлении мысли я вышел на кандидатскую диссертацию «Левые эсеры на Урале 1917–1918 г.г.» историка М.И.Люхудзаева. Он пишет: «На Урале левые эсеры являлись внушительной политической силой, а представительство их в советах стало значительным, особенно к концу весны 1918, когда наметился рост их фракций в губернских и уездных исполкомах». По данным Люхудзаева, число левоэсеровской организации на Урале увеличилось с 4 тысяч человек в январе 1918 г. до 15–18 тысяч к лету 1918-го.
Левые эсеры имели на Урале большое влияние не только в Советах, но и в массах, действительно раскаченных на «царской» теме. Известно, что в Екатеринбурге в тот период собирались значительного размера митинги, требующие расстрела Романовых.
В своей статье вышеупомянутый П.Быков, бывший до мая 1918 г. главой Екатеринбургского совета, рассказывал: «На заседаниях областного Совета вопрос о расстреле Романовых ставился еще в конце июня. Входившие в состав Совета левые эсеры Хотимский и Сакович (оставшиеся в Екатеринбурге при белых и расстрелянные ими) и другие были, по обыкновению, бесконечно «левыми» и настаивали на скорейшем расстреле Романовых, обвиняя большевиков в непоследовательности».
Заявка левых эсеров на власть проявилась именно в эти дни предельно остро – и не только на региональном, но и на общефедеральном уровне. На открывшемся 5 июля V Съезде Советов выявились резкие противоречия левых эсеров и большевиков – прежде всего, по вопросам о Брестском мире, продразверстке, комбедах, а также о соотношении центральной и местных властей. (Тот же Уралсовет весной 1918 г. требовал от Москвы большей самостоятельности).
На следующий день после открытия съезда, 6 июля, левоэсеровский боевик убил немецкого посла Мирбаха. Эсеры преследовали цель спровоцировать войну с Германией. Советская дипломатия с огромным трудом уладила ситуацию. Ленин лично ездил в германское посольство и уверял, что виновные будут наказаны.
Добавим, что Германию задевало и возможное убийство царской семьи – немцы неоднократно требовали сохранения жизни немецких принцесс – дочерей Николая. Левые эсеры были и за войну с Германией, и за убийство принцесс. Ленин же только что с трудом отстоял мир, и ему было совсем не нужно обострять международную обстановку.
После этого центральное правительство большевиков приняло решение о подавлении левоэсеровского мятежа.
А Уралсовет – параллельно – принял решение о расстреле царской семьи.
Для утверждения этого решения центром, в Москву с Урала был направлен большевик, военный коммисар Урала Филипп Исаевич Голощекин. В Москве предложение уральцев было отклонено и 12 июля Голощекин вернулся в Екатеринбург.

Ф.И.Голощекин
7. Позиция Ленина
Вот, что известно о перипетиях Голощекина в Москве, со слов участника расстрела царской семьи М. А. Медведева (Кудрина):
«Вечером 16 июля н[ового] ст[иля] 1918 года в здании Уральской областной Чрезвычайной комисси […] заседал в неполном составе областной Совет Урала. […]
Когда я вошел, присутствующие решали, что делать с бывшим царем Николаем II Романовым и его семьей. Сообщение о поездке в Москву к Я. М. Свердлову делал Филипп Голощекин. Санкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на расстрел семьи Романовых Голощекину получить не удалось. Свердлов советовался с В.И. Лениным, который высказывался за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой Федоровной, предательство которой в годы Первой мировой войны дорого обошлось России.
— Именно всероссийский суд! — доказывал Ленин Свердлову: — с публикацией в газетах. Подсчитать, какой людской и материальный урон нанес самодержец стране за годы царствования. Сколько повешено революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не нужной войне! Чтобы ответил перед всем народом! […]
Я. М. Свердлов пытался приводить доводы Голощекина […], но Ленин стоял на своем:
— Ну и что же, что фронт отходит? Москва теперь — глубокий тыл, вот и эвакуируйте их в тыл! А мы уж тут устроим им суд на весь мир».
Напомню, что партия левых эсеров 11 июля уже была объявлена большевиками вне закона. Но это – в центре. А на местах эсеры ещё долго будут находиться в Советах, в том числе и в Уральском.
Итог – Уралсовет игнорирует решение Ленина и расстреливает 17 июля 1918 года царскую семью.
Уже цитированный Медведев (Кудрин) в оправдание того, что уральцы пошли против мнения центра приводит следующий интересный аргумент:
«Относительно вольготная жизнь Романовых (особняк купца Ипатьева даже отдаленно не напоминал тюрьму) в столь тревожное время, когда враг был буквально у ворот города, вызывала понятное возмущение рабочих Екатеринбурга и окрестностей. На собраниях и митингах на заводах Верх-Исетска рабочие прямо говорили:
— Чегой-то вы, большевики, с Николаем нянчитесь? Пора кончать! А не то разнесем ваш Совет по щепочкам!
Такие настроения серьезно затрудняли формирование частей Красной Армии, да и сама угроза расправы была нешуточной — рабочие были вооружены, и слово с делом у них не расходилось. Требовали немедленного расстрела Романовых и другие партии. ( левые эсеры и анархисты прим. И.Ч.)[…]
Не имея санкции ВЦИКа на расстрел, мы не могли ничего сказать в ответ, а позиция оттягивания без объяснения причин еще больше озлобляла рабочих. Дальше откладывать решение участи Романовых в военной обстановке означало еще глубже подрывать доверие народа к нашей партии. Поэтому решить наконец участь царской семьи в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске (там жили братья царя) собралась именно большевистская часть областного Совета Урала. От нашего решения практически зависело, поведем ли мы рабочих на оборону города Екатеринбурга или поведут их анархисты и левые эсеры. Третьего пути не было».
8. Уральцы о наличии санкции Центра
Некоторые участники расстрела позже ссылались на якобы существовавшую санкцию центра на убийство царя. Так, один из непосредственных исполнителей убийства Петр Ермаков, который в целом был склонен преувеличивать свою роль в этом деле, говорил о частичном согласии: «На требования Екатеринбургского областного Совета перед центром о расстреле Николая было дано согласие за подписью Свердлова, но о семье, я помню, не говорилось ни звука».
Об этом же писал уже упоминавшийся П.Быков, бывший до мая 1918 г. главой исполкома Екатеринбургского городского Совета: «Советы Урала, расстреливая бывшего царя и действуя в отношении всех остальных Романовых на свой страх и риск [выделено мною – И.Ч.], естественно, пытались отнести на второй план расстрел семьи и бывших великих князей Романовых».
Но существует и множество свидетельств того, что центр не хотел расстрела ни царя, ни царской семьи.
Так, по воспоминаниям сотрудника «Уральского рабочего» В.Воробьёва, у Уралсовета на было санкции на расстрел царя. Вспоминая о приходивших в редакцию в те дни письмах рабочих, он упоминает об опасениях центра за жизнь царя: «Всё чаще в письмах встречались требования немедленного расстрела Николая. Об этом же говорили на рабочих собраниях и митингах. В Москве тоже тревожились за целость бывшего царя. Но здесь опасения были другого порядка: опасались самосуда над бывшим царём, убийства его какой-нибудь анархистской группой».
Что же в реальности произошло после того, как Голощекин вернулся 12 июля в Екатеринбург и привез указание Ленина везти Николая в Москву? Уралоблсовет в этот же день, вечером, постановляет убить всю царскую семью.

Я.М. Юровский
Непосредственного постановления Уралсовета об убийстве царской семьи пока не обнаружено. И, конечно, не найти документа, где бы уральцы подписывались, что действуют вопреки центральному мнению. Но существует ещё одно мемуарное крайне интересное свидетельство Я.М. Юровского, непосредственного руководителя и участника расстрела. В нем Юровский прямо противопоставляет Уральскую организацию и Москву, и вспоминает что в отношении проводника мнения Москвы, Филиппа Голощекина, создавалась психологическая атмосфера травли. Вот что говорит Юровский:
«Нужно сказать, что атмосфера настолько была накалена, что т. Филиппу было крепко жарко. Тут хотя прямо и не говорили, но чувствовали, что и по отношению к нему проявляется «недоверие», в том смысле, что не за одно ли он с Яковлевым, и что не содействует ли он тому, чтобы Николая увезти в центр, и тем самым, как бы шёл против уральской организации. А если принять во внимание, что Яковлев пользуясь доверием центра, так информировал центр, что в результате центром как будто был санкционирован привоз Николая в Москву, а так как Филипп тоже доверенное лицо центра, как партиец и как комиссар, то в свете этих фактов станет понятным выступление против Филиппа, в той резкой форме, как это имело место и ругачка его «верноподданным» всё время и до этого к нему отношения людей, настроенных сепаратистско-местнически к нему центровику государственнику, сказалось с особой силой на этом активе…»
Итак, Травля Голощекика, доносящего позицию Ленина по Николаю, попытки убийства эмиссара Москвы – Яковлева, объявление Уральской областью «революционной войны Германии» (саботаж Бреста). Все эти события иллюстрируют вызывающее противодействие Уралсовета центральной позиции большевистской партии, и странным образом совпадают с позицией партии левых эсеров. И главное, исторический контекст убийства царской семьи подсказывает, что оно было очень не нужно Ленину, который только что спас мир с Германией. И наоборот оно было очень кстати для левых эсеров, пытавшихся именно в этот момент сорвать Брестский мир и спровоцировать Германию.
Ко всему выше сказанному добавим одно интересное свидетельство, упомянутое Пьером Жильяром – учителем детей Николая Романова. Оно еще не разобрано нами, но само по себе достаточно странно для восприятия. Жильяр утверждает, что в 1919 году в Перми ревтрибунал приговорил около 20-ти левых эсеров к расстрелу за убийство царской семьи…
T
|
Метки: романовы |
Дневник гимназистки 1907 год Дневник Е.В. Лебедевой |

Библиотеки
События
Поступление
Дневник гимназистки 1907 год
Дневник Е.В. Лебедевой
(Орфография и пунктуация автора дневника сохранены;
курсором выделены имена участников событий, описываемых в дневнике;
жирным шрифтом – географические названия*)
1907 год
________________________________________________________________________________
*см. Справочный аппарат
22 марта – пятница:
«Утро вечера мудренее». О, как я сейчас могу смело сказать эту пословицу. Какое странное настроение! Ей-Богу!.. Отчего это так!.. Что я? От чего! Известно от своих всегдашних мыслей. Но ведь сегодня, кажись, не так было скучно. О, да!. Но почему, почему?.... Мозг, окончательно, устал ото всего. Сердце нетерпеливо грустно бьется. Зачем?... О, Боже!.... Как я завидую сейчас всем. Я, кажется, готова бежать далеко, далеко… за пределы всего земного… Я, окончательно, разбита…… Ничего нет впереди. Все тот же, мрак, холодный и дождливый…. Или лечь спать что ли?.. Но нет! Я не засну. Больным кошмаром мне будет казаться чужое счастье. О, зачем я не Соня? Зачем?... Ах зачем не воин я, ах зачем не богатырь!»… слова… как, они сейчас подходят … одно счастье… это … дневник. Никто, мне не сочувствует. О, как мне сейчас нужно такого человек, которому я, не стесняясь, высказала бы все… все!... Все, что накипело в моей душе с течением времени… Я бы проплакала долго, выплакала бы на груди всю тоску, всю горечь мучительных переживаний. Сердечное слово участья и я бы воспрянула духом. Снова на борьбу с жизнью… Гнулась бы под ударами жестокой судьбы, но все таки бы помнила, что есть человек, которому близко мое горе, который понимает меня. Но этого человека нет. Снова пошлая жизнь обступает меня с суетой и заботами дня. Господи!... Почему я не умру? почему?... Как бы мене легко было-бы если бы вся печаль разлетелась. Но этому не бывать… «Борись смелей» вот святыя слова. Но я не могу далее терпеть… Не в силах я… Грудь безконечно давит тоска. «Ничего лучше не будет» шепчет мне какой-то голос. Да, я верю, что не будет лучше…. Уж видно моя такая доля!.. Но почему так везет Соня[1], почему? А мне? Мне никогда, никогда не повезет. Все новыя и новыя разочарования. Я хочу забыться, не думать об этом, но не могу, но не могу…
Сердце рвется на клочки. Мучительное, тягостное состояние. Но почему оно такое?.. Надо описывать, как прошел этот день и почему он возбудил, растравил заснувшие раны. Ну, начинаю. Сначала в классе не повезло. Пистменную не сделала. Никогда этого со мной не бывало. Но что же делать? И это бывает…. Зато мы и баловались, когда делали! Сержик[2] уж и сам, глядя на нас, смеялся. Мы ему в конце письменной приписали кто что. Я, например, «конец венчает дело» и потом первый раз не сделала письменную, жаль. Соня же «и все!» «Не было времени кончить». А Надя[3] «Не успела кончить, очень жаль!» В общем, в таком роде. Интересно, во сколько он оценит наши работы. Хотя бы по 2, а то вдруг по «ип»… Уж наикрепчайшее будет!.. Ни по чем не спрашивали, и Слава Богу!...
На пустом мы ходили на бульвар[4]. Там был Ваня Лавров[5], он поздаровался с нами. С бульвара мы пошли на почту. Писем нет. Жаль, право, жаль!.. Ведь я 2 письма уже написала Коле Архангельскому[6], а он и не думает отвечать.. Как мне больно это, как невыносимо жалко. Но что же делать? Если бы ему писали Соня или Надя, так он, наверное, бы ответил… А мне?.. Зачем ему отвечать мне: ведь это так неинтересно. «Шантропа» больше ничего…. Но если бы знал он, если бы он только знал, что творится в моей душе. О!!! Он тогда бы пожалел меня, осветил бы мою темную жизнь. Но Напрасно! Счастью не быть!.. Почему я такая странная натура? Почему?.. Ведь и другие небось получают разочарования. Но не падают духом. А я не могу. Я не верю в будущность. А настоящее немило и, постыло…
Придя домой, мы стали ждать Соню. Она скоро пришла. Мы посидели, поговорили, напились чаю и пошли на бульвар. Дорогой, немного посерьезничали, но это не беда!...
Вот и бульвар. Сначала было очень невесело (мне, конечно, но Наде и Соне весело, тут ихние 4 техника[7]). Мы пошли на лавочку, где они сидели с техниками, думая, что техники подойдут к нам, а они и не думают. Мы тогда пошли в беседку.
Стали там царапать вензели. Вдруг видим 2 техника идут к беседке. Поздаровались с Надей и Соней и поговорили с ними но вот они ушли. Через несколько времени мы пошли гулять в аллею. Сзади нас ходили Якушенко[8], Ареша Толстой[9] и Дьяконов[10]. Якушенко чудил как и всегда. Мы прямо умирали на него со смеху. Утром еще мы его встретили, когда шли из гимназии встречать Соню. Он шел в пенсне (черных), но, поровнявшись с нами, снял их. «Что ж рано так гуляете?» спросил он. Немного поговорили и разошлись. А теперь он стал вспоминать, как нас встретил, как он от неожиданности, что увидел нас, разбил пенсне. Ну, и хохотали же мы на него!.. Но вот он ушел. «И не про…» хотела сказать я. Но в это время он снял фуражку, как будто бы предупреждая мое желание сказать, что он и не прощается. Потом мы стали донимать Волхонского семинара[11]. А вчерашние семинары[12] все ходят за нами. Николаев[13] и Азбукин[14] и еще какие-то поклонились. «Чичири»[15] был и ходил с Ваней Кр[16]. Они оба поклонились. «Чичири» подошел и гулял по Сонину сторону. Надо ругаться с ним, а он все разсмеивает. Какие мы все ж таки дуры. Нас оскорбляют, составляют незнамо какия мнения, а мы ничего не можем поделать, стесняемся ругаться. Я начинаю ругаться с ним, а Сонька с Надькой не поддерживают. Как я была зла на них. Представился удобный случай, чтобы защищать свою честь и вдруг мы стесняемся…. А сзади семинары ходят и говорят про нас такие нелепости, про анонимные письма, поют «понапрасну в семинарию ходил!» Дождались слава тебе Господи!... Будет чем вспомнить семинаров. Вдруг, не знаю каким образом, сзади очутились только двое Николаев и еще какой-то. «Добрый вечер!» говорит Коля[17]. «Приятный день!» отвечаю я. «А разве теперь день?» «Да по-моему «да» «Это у вас в Салопенках[18] может быть!» «А вы почем знаете Салопенки?» спрашиваю я. А они тут оба подошли ко мне и стали гулять. Стали разговаривать. Что же оказывается? Этот семинар Паша Щеглов[19]! Вот еще! Все с родней приходится знакомиться. Паша говорит, что он давно искал случая познакомиться со мной. Но все как-то не было удобного случая, наконец, нашелся. «Уж я просил несколько раз Кольку Малинина[20], чтобы он познакомил меня с Вами, а он никак не мог!» «а где же Вы меня видели?» спрашиваю я. «Да в семинарии на вечере».
Николаев[21] стал рассказывать про историю 21 века. Вот куда залез то!... Он говорит, что тогда все будут летать, гостиницы будут для прилетающих. Вот чудак-то!!!... Потом разсказывал как он проводит день… Опять хохот. Коснулись Елисеева[22], Дюдина[23]… (У меня была Сонина книжка. «Дайте посмотреть!» говорит Николаев. Я не даю, а он тогда взял да вырвал и убежал с ней. За ним другие сзади и я уж, окончательно, не знала, у кого книга?...) А впереди идет барышня… Руки назад. А я взяла да книжкой ему по рукам. А он как схватит ее и не дает, наконец я вырвала у него. Потом давай руками трогать его руки, а он взял да и поймал мою руку и не пускает. Насилу я вырвалась. Теперь вот только и началась история с книгой. Один другому ее передает и я окончательно не могу дознаться, где книга?.. Вот уж Соня собирается уходить. Ее идет провожать «чичири». Какая она счастливая, что идет с ним. Хоть он и плохо отзывается о нас, но что же делать. Он мне все ж таки нравится. «Соня, давай книгу!» «А где я ее возьму. Коля у Вас книга?» говорю я Николаеву. «Нет» отвечает он. Оказывается, у Чернаго. Я к нему, он не дает. Ну, словом, никак не могу понять, у кого же в общем, книга?... Соня злится. А я не знаю, что делать?.. Пообещались ей принести завтра книгу.
Мы распрощались с ним и стали гулять окруженные очень многими. «Серенький» какой то, я его совершенно не знаю, придрался ко мне, что как будто бы я взяла его перчатку. А я и не думала. «Покажите свои!» Я показала. «Черный» утянул у меня из кармана Надин шарфик и не дает. Хоть и хулиганы они (а я люблю похулиганить!), но сейчас они мне надоели. Их много очень!... Все обращают внимание на нас. А мы ходим целой гурьбой, хохочем, балуемся… Паша же стал ходить задом, места все заняты. Как бы я была рада, если бы гуляла только с одним Пашей, а то целая тьма! Наконец, мы с Надей решили идти домой. Распрощались и идем. Вдруг я спохватилась, что не взяла у «черного» шарфик. Я скорей ворочаться, а он не дает. Наконец, отдал. С знакомыми и незнакомыми распрощались за ручки и пошли домой. Никто не пошел провожать. Впрочем, и не сладко было бы, если бы кто и пошел. Ведь они пьяные, насколько мне думается. Надя всю дорогу ругалась. Как нелепо провели этот день, но в общем то весело!...
Поэтому-то и плохое впечатление оставил этот день!.. Лучше бы скучать, нежели так безалаберно веселиться!
23 марта – суббота:
Сегодня спросили Надю по закону[24] – 4. На немецком были на бульваре. Завтра собираемся идти в синематограф[25], но вот вопрос, отпустят ли Соню? Она будет отпрашиваться под предлогом на музыкальный вечер Стерн[26]. Надя же не идет с нами. А по правде на Стерю. Надо сегодня идти в Никитскую церковь[27] и спросить у Сони, что ее пустили или нет. Но вот уроки кончились. Идем из класса. А на другой стороне Коля З.[28] и «чичири». Коля снимает фуражку, а Сережа и не думает! Значит, он сердится на нас. Ну, наплевать на него. Пусть! Ведь он виноват, а не мы!... Но все ж таки… Все ж таки мне так жаль, мне так жаль, что мы с ним порвали знакомство. Иду из класса сама не своя… Почему он не кланяется?... Ну, ладно!.. Что будет, то будет…
Вот мы и дома. Пообедали и пошли в церковь к Соне. Сначала зашли на бульвар. Кажись, никого там не встретили. Идем оттуда в церковь. Немного помолились и все вместе пошли по рву к Надиной портнихе. Шли с «нептуном». Сонька его через лужи переносила, наверное, боялась, что он изгрязнит свои очаровательные лапки. Выбрали у портнихи фасоны для кофточек. Оттуда пошли мимо Николо-Козинской церкви[29], думая встретить кого-нибудь (предпологалось «Митеньку»). Но встретили Павлика и Шуру Кл.[30] Павлик поклонился. А я бегу с Нептуном, веду его на ленточке. Если он побежит, то и я обязательно должна бежать!.. Но вот дошли. Соня позвала нас к себе. Надька, по обыкновению, ломалась, не хотела идти… А я уж знаю, ей хотелось. Да только она «стеснялась». А я думаю так, зачем нам «совеститься» друг у друга!
У Сони мы пили чай, она играла нам на рояли такие сердцещипательные вальсы… Прямо за душу хватали!.. Когда пили чай, Соня и говорит: «Если пойдет «кудрявый», то я расшибу окно». И вдруг, о Боже!.. Идет мимо окна Алеша[31], а с ним Зиночка Журбицкий[32] и еще какой-то гимназист. Как Сонька треснет в окно, а сама спряталась… А я говорю, что уж если Алешка идет и то она хочет разбить окно, а что же будет, если пойдет Витя[33]? Ну тогда все окна перебьет!... Напились мы чаю и пошли в палисадник. Ваня, Митя и Миша[34] лазили по деревьям, по крыше, ну, словом, показывали нам свое искусство… Мы хохотали, баловались, но вдруг Надя увидела, что идут Сонина мама и Мая[35]. Мы скорей бежать по черному ходу. Соня нас догнала, спросила, во сколько времени приходить к нам. Мы говорили, что чем раньше, тем лучше, часов в 5 ть!..
От Сони мы пошли на бульвар. Семинаров еще не было, у них идет всеночная…. Но вот всеночная кончилась и семинары посыпали на бульвар. К нам подошел Толя Крылов[36]. Вот еще не было печали. Я совершенно без охоты разговаривала с ним. А сзади ходят семинары… что-то говорят про нас… Вдруг видим идет Витя и приплясывает. «Здравствуйте!» говорит он. Мы засмеялись и поклонились. «Чичири» промелькнул с какими-то барышнями. Николаев и «Черный» поклонились. Проходя мимо нас, Николаев нагнулся к Наде и говорит «добрый вечер!» Надя очень разозлилась на него… Но вот мы собрались уходить. Мне страшно не хотелось, надо уж до конца баловаться… Ну, ладно! Надо смиряться с положением, идти домой… По дороге встретили Колю Малинина с каким то семинариком. Они оба поклонились. Вот я не знаю, знакомы ли мы с другим? Наверно, где-нибудь видались, но сейчас не припомню. Идем и серьезничаем с Надей. Нас догнал Колька Соколов и проводил до дому. Мы его позвали завтра играть с собой в лапту. Он согласился и обещался взять с собой 2х или 3х семинаров. Везет нам! Вечером мы заводили граммофон. Белого Д. В. нет.
(ряд страниц отсутствует)
а уж тут… Как мамаша со двора разгулялась детвора!.. Я заводила все хорошия пластинки. «Черныя тучи» аккомпанирует скрипка. Как чудно!.. Как дивно!.. Мне хотелось без конца слушать эту чудесную игру… Я молчала, не было слов, чтобы выразить то состояние, в котором я находилась, когда граммофон играл «черныя тучи». А «souvenir Kadxs» ??? Очаровательно, прямо!.. Как я люблю музыку!.. Надо заметить, что я. Она заставляет быстрее биться мое сердце, она дает мне жизнь… Музыка проникает охватывает все мое существо… звук… и я уношусь далеко… далеко… Как я, однако, размечталась? Довольно!
24 марта – воскресенье: - в церковь не пошли. Проснулись поздно. Еле-еле стали подниматься. Напились чаю. К курсистам[37] пришел их товарищ Шестаков. Мы давай подсматривать в дверь, «каков он из себя?» У-у-у! Страшный чуть ли не вслух закричали мы и скорей бежать. Я пошла в зал заводить граммофон. А они все сели пить чай. Меня такой смех разобрал, когда я увидала, как Надя угощает курсиста. Она зовет меня пить чай, но я не иду… Потом я подошла к столу, взяла стакан без блюдца и стала около граммофона пить. Но вот все напились чаю…
Курсисты пошли в загородный сад[38] кататься на велосипедах… Скоро пришла Ланеева[39], Женина[40] подруга и пошли в загородный, чтобы оттуда идти играть в лапту. К нам присоединились Володя, Геня и Егорка[41]. Мы с Надей шли впереди. Каждый встречный семинар заставлял нас вздрогнуть. «Уж не Колька ли это со своими товарищами?» Но, слава Богу, их нет!... Но что-то подозрительно: на лавочке сидят какие-то семинары.
Я остановилась, не решаюсь идти дальше. Но и это, оказывается, не они… Но вот я оглянулась назад и увидела Кольку. Он был один. «Слава Богу!» сказала я, а подумала: «Что ж это один то!» Ну, ладно!.. Идем мы. Надо его знакомить со своими. Страшно!.... Как то неудобно. Я скорей бежать вперед, а Надя познакомила Кольку со всеми. Наконец, все тронулись. Решили идти в бор[42]. Шестаков[43] подходит ко мне и говорит: «Я с Вами еще не знаком, позвольте познакомиться, Шестаков!» Я подала руку и отрекомендовалась … Потом он познакомился с Ланеевой. Словом, началось знакомство. В бор идти было очень грязно!... Прямо, по колена… Ну, насилу дошли. Встретили много гимназистов[44] и реалистов[45]. Из них мне поклонились двое: Коля Толстов[46] и Паша Глаголев[47]. Но вот вошли в самый бор. Все разбрелись. Совершенно
Теперь надо писать 21, а то я не писала его.
21 марта: четверг: Уроки прошли вполне благополучно. А завтра письменная по алгебре. Уж наверно не сделаем, а все ж таки позвали Тасю Барщ[48], чтобы вместе с нею заниматься. Она обещалась придти полчаса шестого, а до полчаса шестого можно и в загородный пройтись. Саша поехал на велосипеде. А мы так уж, конечно. Надя пробовала в загородном кататься. Женька тоже, но у них выходило совсем наикрепчайше. Они тогда решили сейчас же идти и попросить велосипед у Медзыховской[49]. А я пошла домой. Около угла увидала Соню. Я от радости не верила глазам. Она идет к нам заниматься. Скоро пришли Надя с Женей при пиковом, конечно, интересе на счет велосипеда. Ждем не дождемся Таси. Наконец терпение лопнуло, ея все нет… Мы решили идти гулять. Мы к чорту алгебру с Сержиком послали и пошли на бульвар. Стали всех, по обыкновению, донимать. И Пушкин[50] и Трилеби[51] и Волхонский[52] попались!... Главное, Пушкин-то мне знакомый, кланяется, а я донимаю его. Скоро Соня ушла. Мы с Надей остались одни. Ходим себе, балагурим кой о чем. Никого не пропускаем.
Вдруг слышим сзади голос «Это Лебедева, да?» «Да» отвечает другой. Я машинально обертываюсь. Оказывается, это два семинара. Они уж обращали на нас свое внимание. Проходя мимо нас, один наклонился и говорит «Я Вас ждала!» Да с такой гримасой, с такой миной, что мы невольно разсмеялись. Проходя же мимо них, Надя говорит: «А Вы… Вы все не шли!» «Вот носит этого-то» Они и стали ходить сзади нас и говорить про меня. Потом коснулись моей родни. Я, конечно, в недоумении. Почему они знаю меня и всех нас?... А они еще больше подзадаривают мое любопытство. Проходя мимо нас, один говорит: «Село Салопенки!» Ну, тут уж окончательно я не могу сдержаться. «Жан» подумала я и говорю Наде: «Когда пройдем мимо, то ты скажи: «А Вы не из мышейского завода»». Сказано-сделано. Но зачем сделано??? Я сама убедилась, что это не Жан[53]. Потом мы с ними как то разошлись. Тут встретился Болислав[54], он поклонился. Потом Сережа Соколов, но как он одет?.. В шляпе… вот чудак то!. Он смеется, но не кланяется, идут сзади строевой и разговаривают.
Немного постояли мы на улице, (народ стоял на улице, так как места не хватало!) и пошли к Ивану Предтечи[55], а из церкви уж народ идет. Мы опять в Благовещенскую[56], еще немного постояли. «Идем теперь на бульвар!» говорю я Наде. «Ни за что!» говорит она: «В церкви не были, а на бульвар идти!» Но она не соглашается. Я взяла тогда да одна завернула за Юрьева[57], а сама хохочу. «А что я на бульваре буду делать одна? Хотя не стать привыкать, ну а все ж таки?!».. Да и страшно! Я тогда решила вернуться. Но Надьку не догоняю… Гляжу она обошла каких то хулиганов, а я прямо прошла около них и говорю: «Что испугалась!?» А она говорит: «А это ты!?» «Да, я!» … Она удивилась. Я перегнала ее. Она за мной. Хохочем. Наконец, взялись под ручку, серьез кончился!.. Вдруг видим на той стороне целая толпа не то семинаров, не то, просто, хулиганов. Кто-то из них крикнул: «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» отвечаю я. «Как поживаете?» «Ничего, слава Богу» отвечает Надя. Вдруг, о Боже! Двое из них перешли на нашу сторону и припустились за нами. Мы от них. Сердце бьется, стучит. Голова болит… Но все бежим. Дух захватывает… Перевели дух, оглянулись, глядим никого как будто нет. Но… вдруг… о, Боже! Надя через несколько времени оглянулась и со словами «бегут!» припустилась что есть духу. Я за ней. Одни пятки сверкают. Наконец добежали!.. Около дома остановились и расхохотались. Вошли домой как ни в чем не бывало!.. А интересно все ж таки кто б это мог быть?..
25 марта – понедельник: Сегодня Благовещенье! Мы пошли в церковь. Я стояла там одна, чему была очень, очень рада. Хотя раз могла я сравнительно усердно помолиться. А впереди стоят Валька с Мишкой[58]. Валька все время оглядывается на барышен, которых было целый цветник! Варя, Лена, Надя, Женя[59], ну, словом много!.. Потом они ушли со своего места. Проходя мимо меня, Валя говорит: «Здравствуйте!»… Они стали сзади наших барышен. Те смеются. Весело им… Я хотела просить Бога, что бы он позволил осуществиться моему желанию. Но что я?.. Ведь грех просить об этом Бога!..
Но усердно молиться я все ж таки не могу. Настроение не благоговейное… веселое… Гляну на Ленку и засмеюсь. Сегодня нужно выпускать птичек на волю. Как я рада за них. Мы решили в складчину купить одну птичку и выпустить ее, но нам не удалось. Всех птичек уже раскупили около нашей церкви. Вот Варя Гречанинова[60] выпустила птичку. Та вспорхнула, весело запела и улетела. Мне невольно вспомнилось: она исчезла, утопая в сияньи голубого дня и так запела улетая, как бы молилась за того, кто ее выпустил. Уж ея нет!.. Она рада, безгранично рада, что она может жить на воле. Нет железной темницы, кругом оживающая природа. Все ликует, манит. Надя Гр.[61] Тоже выпустила птичку, та тоже расправила крылышки и утонула в безбрежном просторе голубого неба. Она снова заживет веселой радостной жизнью, ей все улыбается. О, милая птичка, как я рада за тебя!.. Но… вместе с тем как я завидую тебе!.. Как бы я хотела быть на твоем месте. Улетела бы я подальше от этого мира…… Но не судьба…
А третья птичка в руке у барыни, которая хочет ее выпустить дома. А птичка не чувствует этого… Ея маленькое сердечко уж, наверно, бьет тревогу. Ей, наверно, кажется, что ее опять посадят в ненавистную ей клетку. Я смотрю ей в глазки. Они блуждают, жалостно смотрят на все. Но ничего, милая птичка, погоди. Через какой-нибудь час и ты увидишь своих подруг, будешь весело распевать свои песни…. Но вот обедня кончилась.
Мы пошли домой. Напились чаю. Стали просматривать уроки. Надя пошла учить на окно в сенях и позвала меня. Мы глянули против и что увидели: на балконе в соседнем саду офицер Климов сидит с какой-то барышней. Они смеются. А мы тоже давай хохотать. Друг на друга смотрим и смеемся. А Женька гогочет, как мужик деревенский!... «К экзаменам вместе будем готовиться!» решили мы. Но вот мы выучили кой-как. До Сони пошли в загородный сад с мячиком. Там все баловались с тремя, а потом с 5-ю семинарами. Хотели кинуть в них мячик, но потом не стали. Это все происходило около Яченки. Потом семинары пошли в самый загородный сад, а мы, немного погодя, за ними. Они сели на одной лавочке, а мы почти что visavi на другой. Пересмеиваемся. Я вырезывала вензели на лавочке, а Надя тоже. Я вырезала С. Л. М. С. А. С. Ф. О. Н. А. Чичири, Федя, С. Т., Н. З., В. Л. Вот сколько!.. А Надя немного…
В загородном были Знаменский[62], Заринский[63], Федя Орлов[64]!.. Первые два поклонились, но третий уж, конечно, нет. Когда он прошел мимо нас, я невольно опустила глаза вниз. Потом все ж таки посмотрела на него и засмеялась. А между тем … что творилось в моей душе? … Что? … Все и вся отлетели на задний план. Один Федя наполнил все мое существо… Чувство проснулось, зашевелилось и я не могла сдержать его. Оно рвалось навстречу ему… Но что я получу? Не ясно. Взгляд суровый мне говорит презрительное «нет». И, крылья опалив, зачем я рвуся снова на обжигающий меня так больно свет. Но Федя прошел – я посмотрела ему вслед. Его уж нет… Он ушел. И чувство стало стихать. Веселое настроение дало себя знать!.. По загородному прошел Ник. Леон.[65] с ребятами. Они к нему льнут, как мухи к варенью. Какой он добрый!
Ведь надо же заслужить такую любовь учеников!... Трудно и даже очень угодить на прихотливых, баловни как… Надо уменье. А главное терпенье… Но надо писать про трех семинаров. Надя с Женей прошли около них, а они около нас. Словом. Началось!... Но вот мы увидали, что идут П. С. и А. П. Мы побежали к ним, поздаровались. «Дай», думаем: «покажем семинарам, что мы не самая «шантропа», с офицерами знакомство имеем». Семинары так на нас посмотрели…
Мы пошли к Яченке[66]. Дорогой нам поклонились Порфиша Поздняев[67] и Володя Сахаров[68]. «Сколько у них кавалеров-то знакомых!» говорит П. С. Ал. Петровичу[69]. Немного посмотрев на Яченку, мы пошли снова в загородный и сели как раз напротив тех семинаров. Сидели мы очень интересно. Надя, П. С., я, А. П. и Женя. Семинары смотрят на нас и смеются. А мы тоже!... Да тут еще П. С. разсмеивает и такие вещи говорит, что невольно приходится краснеть. Но вот мы решили идти домой обедать. Семинары тоже шли домой впереди нас. А мы перешли на другую сторону, предварительно убежав от офицеров. Идем и смеемся. Семинаристы тоже. Мы глянем на их сторону и обязательно встретимся глазами. Наконец, нам нужно поворачивать на свою улицу. Мы в последний раз глянули на них и повернули. Впрочем… что я?... Последний!.. Мы смотрели до тех пор друг на друга, пока наконец не скрылись из глаз. Они уж нам посылали и кулаки и воздушные поцелуи и грозили пальцами ну, словом, не поймешь что!
Дома мы посерьезничали как следует с Д. В[70]., что пришли поздно. Но ничего!.. Дело уладилось. Пришла Соня и мы пошли кто-куда: кто в синематограф, кто на Стерн. Но сначала все вместе на бульвар. Только что вышли из дома, как увидели Митю и Ваню, переодетых. Мы пошли все вместе на бульвар. На бульваре как-то с Надей и Женей разошлись. Идем мы с Соней. Вдруг вижу я идет Витя Лун.[71] «А, Витя!» говорю я «Здравствуйте!!» отвечает он и подходит к нам. Соня в удивлении. Он тоже идет в синематограф. Вот хорошо-то!.. Он ходил то по Сонину сторону, то по мою. Встретили много знакомых: Пушкина. Ватопедского, «барышню», Николаева[72] – они все поклонились. Чичири-то! «Вот чего не ожидала!» Проходя мимо нас он посмотрел на меня и поклонился. А Соня даже и не заметила этого. Мне нужно бы ему не кланяться, а я поклонилась. Вот дурра-то я! Впрочем, кто-же сомневается в том, что я дура??? Никто!.. Значит, от меня все станется. Не то что это. Да и потом по одной или даже по двум причинам хорошо, что я поклонилась. Мурочка[73] гуляла с Сахаровым. Проходя мимо них, Сонька и говорит: «?» Ну, и дура же!.. Я даже не знала, что с ней сделать за подобную штуку… Мы курили, сидели на лавочке.
Наконец, решили идти в синематограф. Живо дошли до него. Купили билеты. Долго ждали начала сеанса. Наконец, слава Богу, можно идти!.. Мы стали занимать места. Но к сожалению, нашли только два стула! Вите пришлось стоять. Как жаль! Ведь тут шло самое смешное: «Как Глупышкин добыл себе жену и экономная бабочка». А мы отдельно от Вити, следовательно, не пришлось как следует похохотать. Когда же шло: «Тайны Сандомирского монастыря», Витя сел к нам, так как место освободилось. Но хохотать тут уже не пришлось. Надо слезы лить! (Ну это еще положим!) Хоть какая сильная драма будь и то мы не заплачем. Вещь была немножко того с … не цензурная, а Витя как раз рядом со мной сидит. Ну, что тут делать? Я толкаю Соню, а она шепчет: «ничего, и это бывает». А я уж и не смотрю на Витю. К концу картины уж мы с Соней стали поговаривать, как пойдем домой. Хоть не стать привыкать ходить однем. Ну, а все же таки, ведь уже 11 часов!.. Переговариваемся, а сами хохочем. «Что будет, то будет!» решили мы. Сколько планов созревало в наших головах, но ни один не подходил. Но вот программа кончена. Мы нерешительно поднимаемся с места. Идем к выходу. Мы с Сонькой друг друга толкаем. «Ну, куда ж мы теперь идем?» спрашивает Витя. «Однако!» подумала я. «Я иду провожать Соню!» говорит Соня. «А где Вы живете?» спрашивает он у меня. «На том свете!» отвечаю я. «Нет, Вы как следует ответьте!» «На Нижне-Садовой[74]!» говорю я. По интонации его голоса можно было догадаться, что ему страшно не хочется идти меня провожать. Но как же быть? Ведь долг вежливости требует этого и он, скрепя сердце, идет. На душе, небось, кошки скребут, но на вид он этого не показывает. Шутит, смеется. А мне совестно!!! Ведь через силу пошел, я это знаю, но уйти одна я не могла – неудобно, страшно. Идем и толкаем мы с Сонькой друг друга… Как я была благодарна ей… А то, если бы она не пошла и он бы не пошел. Ведь ему куда интересней ее провожать, нежели меня. Наконец, дошли. Я вынесла Соне ея форменную кофту, распрощалась с ними. Витя передал Наде почтение. «Ну, небось, в любви дорогой друг другу объясняются» подумала я. Немного посидела, а потом легла спать. Только что я легла, как пришли Надя с Женей. Разсказывают про времяпровождение.
Спрашивают про меня. Спорят, что я это, или нет. А Строева возьми да уверь их. Проходя мимо меня, она как крикнет: «Лебедева, здравствуй!» Ну, они тут совсем убедились. Ходят сзади и заговаривают. К нам подошел Соколов Сережа. Мы стали с ним гулять, а Ваня Кр. Из себя выходил. С утлой компанией ходит сзади и такие глупости плетет. То возьмет и опередит нас, то, наоборот, пойдет сзади. В общем, видно было, что он злится неимоверно. Но вот мы собираемся уходить. Они тоже идут. Хорошо, что Сережа Соколов пошел нас провожать, а то бы дело плохо вышло: они бы нас исколотили. Дорогой мы все больше разговаривали про Смирнова[75] «чичири». Какие он, нахал этакий, распускает про нас слухи. Это Бог знает, что такое!.. Как будто мы у него раз 20 были в больнице, надоедали ему. Это прямо бизобразие!!!... Уж от него-то мы этого не ожидали! От кого, только не от него. Как-нибудь поймаем его, раздакажем тогда!!!... Дорогой встретили Сахарова, он поклонился. Но вот и наш дом!.....
В самом начале свела картинку! Деточка.
21го апреля – воскресенье: Сегодня ехать в Калугу. Однако!... И хочется и нет! Хочется увидеться с Надей и Соней и вообще с некоторыми. А не хочется держать экзамены!... Рез! Больше ничего!.. А, может быть, какими-нибудь судьбами переползу. Ну, оставлю это!.. Надо описывать этот день, а то я уж порядочно запустила!.. Сходили к обедне в сандальях… Дома напились чаю и стали ждать… Левон подкатил на своей кляче. Мы живо оделись, простились со своими и поехали. Всю дорогу разговаривали с Женей о Калуге. Как, в общем, приятно ехать!.. Увижусь со своими! О, это восхитительно!!!.. Прощайте, Солопенки, не много нужны!.. Вот вы уже и скрылись. И слава
Богу!... Вот уж и Средняя… Входим в зал. Садимся. Все та же обстановка кругом, картины лишь нет. Вдруг дверь отворяется и входят Горевы[76]. Вот совестно – то!... Здороваться с ними не хочется, ну, их куда подальше в задницу!... И они смотрят на нас, думают мы поздороваемся. Но…. Дорогие мои, не лелейте надежду, мы далеки от того, чтобы кланяться вам. Куды нам до аристократов!... Да и потом нуждаюсь ли я в вас хоть сколько… Нет!...
Еще дверь отворяется. Входит Санька Яхонтов[77]. Быстро здоровается с Горевыми и садится (неразб.) к нам. Но потом обертывается и пристально смотрит на меня. Я невольно под его взглядами стеснялась и опускала глаза. Вдруг он срывается со своего места и подойдя ко мне говорит: «Извините, я с Вами тоже знаком!» И протягивает мне лапку. «С Вами тоже знаком!» говорит он Жене. «Нет!» «Ну, тогда позвольте познакомиться, Яхонтов!»… Горевы на нас вытаращили глаза. Санька начал разговаривать. Бабус разсыпался в философских фразах и разсуждениях. Разговорились про семинаров. Я спросила у него про Тихомирова[78] …. Дальше, - больше и наконец про Смирнова. Кстати нужно с ним танцовать мысленно (жаль!) лезгинку. Ну, как бы это так протанцовать, чтобы батюшка не видал. Ну, начинаю… Руки в сторону!... Лихо!.. «Вы были у нас на вечере?» говорит Саня. «Была!» «А я вам хотел билет дать!» «Вот как» подумала я. «Что то странно» Мне … билеты … Нужно было бы поблагодарить его, а я даже и не подумала. А он продолжает. «Жаль, право, что я был в это время в больнице и не мог передать Вам!.» И тут я не поблагодарила его. Вот дура-то! Все молчу. «А мы у Вас были в больнице!» говорю я. «Да я Вас видел, когда Вы приходили к Смирнову – я смотрел с лестницы»… (Нет, Соня, уж пики козыри, а не трефы!... Что-то к трефам и не подходит! А у тебя всегда «трефы» козыри, да?... Счастливая!) Но вот звонок… Поезд вышел. Через несколько времени мы вынесли вещи на платформу. «Давайте я вам куплю билеты!» говорит Санька. «Нет, уж Женя пусть, а то вы с льготками запутаетесь!» Вещи он нам нес.
Вот поезд уж пришел. Мы живо стали взбираться в вагон. Я ударилась ногой о чугунную лестницу. Так вышло наикрепчайшее, что я потом всю дорогу ныла. С Санькой живо распростилась. Он так нерешительно подал руку, думая, что я еще буду с ним разговаривать. Но увы!... Я уж села. А напротив техник да такой еще хорошенький, что невольно теряется взор! Он с таким невозмутимым спокойствием смотрел на нас, что прямо удивляешься. Глянешь, это, бывало, на него, он тоже посмотрит на меня. И …некоторое время смотрим друг на друга, первая всегда отворачивалась я. Он все затворял дверь и притом так смешно. Как сейчас помню его: со спокойным видом отталкивает от себя дверь. Потом по Жениной просьбе или вернее он предупредил ее желание, затворил дверь. Ну, наконец, доехали. Извозчики заламывают Бог весть какие цены. Только отойдя от вокзала на порядочное разстояние мы наняли его.
Нади да и, вообще, всех, нет дома. Неприятно и даже очень! Беру дневник Нади и читаю. Какие-то новые лица… Фу, ты, Господи!!! Мурашев[79], какой-то! Значит, перекинуло!.. Чудно!.. И это бывает. Но вот я легла спать… А Нади все нет. Наконец, они пришли, а мы приставились, что спим. Но разбудила Надя… Все утихло!.. Заснули все!..
22ое- апреля – понедельник: Новыя впечатления! Чувства … мысли! Слава Богу! Дорогое трио: Разсказывать нет конца!
23гоапреля: вторник. Сегодня идти к Шурке Т.[80] на именины, а потом … потом в Дворянское. И хочется и не хочется… Да еще юбку не достали! Как быть? Последняя надежда на Мурочку. Идем к ней. «Иду сама!» ясно и коротко! Как жаль! Но делать нечего нужно идти к Шурке. Встретили дорогой Шуру Брызгалова[81]. Все такой же маленький, миленький. Остановились, поговорили с ним. А из-за угла вдруг идет сам… Ну, кто вы думаете? Кто! Меныч[82]!!! Я даже рот разинула от изумления. А он в пенсне, как Федя! Куда ему до Феди! Мы скорей прощаться с Шуркой, а Меныч остановился с ним. «Давай зайдем к Ракову[83] за шоколадом», говорю я Наде: «и, таким образом подождем его». Сказано – сделано. Входим к Ракову. А нам, как на грех, не отпускают.
Меныч же уже подходит к окну. Мы скорее бежать, не купив и шоколаду. Да за ним! Никак не можем догнать!!! Вот уж ему нужно завертывать за угол. Он быстро обертывается на нас и живо заходит за угол. Мы по другой стороне за ним. Но он скрылся воротах дома! Пришли это мы к Шурке. Манька Тимоф.[84] уже у нея. И каково же наше удивление? Она подарила ей тоже конвертик и притом две коробки. Ну, и нахалка же! Бывают же такия! Назло нам она сделала это. Ну, пусть. Все равно. Напились чаю. Пришла Анька Бобк.[85] и еще двое. Но скоро мы ушли и прямо к Соне. Она, оказывается, идет в Дворянское[86] с мамой. Как жаль, право! Пришлось нам идти домой не солоно хлебавши. Что же делать!.. Надо смиряться.
Оделись мы и пошли в Дворянское. (Надо сказать, что Шурка дала юбку). Поздно, но мы все таки решили зайти на бульвар. Знакомых порядочно… Вот первый идет «чичири». Какая-то дрожь пробежала по всему телу. Что было со мной, я не могу сказать. Но что то странное творилось. «И вдруг еще не поклонится, О!!!» подумала я. Но слава Богу, он снимает фуражку. И смотрит на меня. Вот сидит Витя Л.[87] на лавочке, тоже кланяется с улыбочкой. А Парфиша во весь рот смеется, встретившись с нами. Болислав и еще несколько (Николаев, кажись!) снимают фуражки. Техников нет. Немного жаль, право!.. Пройдя раз, мы пошли в Дворянское и увидели «чичири» тоже направляющегося к Дворянскому. «Неужели он будет там? Зачем?» О, Боже!.. Хотя бы не было, а вместе с тем, пусть, может быть протанцует хоть раз со мной. О, нет, ни за что!. Да, я сознаю это, что ни за что!.. Какой интерес ему танцевать с тем, кого он ненавидит. Вот Соня другое дело!. Он в нее влюблен, уж это я давно знаю!.. Значит, ей будет весело. А я?.. О, я это знаю… Я проведу этот вечер в больших страданиях! Входим. Разделись и идем наверх. Купили билеты и стали гулять. Вдруг, о Боже!!!.. Не обман ли зрения? Билет покупает Сережа!.. Боже!.. Что делать?... Потом Витя, Петя Никольский[88]. Они все здесь!!!.. Вот звонки возвещают, что нужно садиться.
Мы сели на диван сзади всех. И весь концерт похохотали. А на нас все смотрят!. Семинары же наши совсем не далеко от нас сидят. Нет да нет да и посмотрят на нас и смеются. А мы прямо умираем со смеху. Значит, я не знала, что к концу вечера буду чуть ли не плакать! не соберешь никого!.. Володя надел мою шапку и побежал разыскивать Женю с Ланеевой. Наконец, они пришли. Стали делиться на партии. Целый скандал!.. Мы с Надей попали нечайно с намерением в одну партию, это всем бросилось в глаза. Начали спорить. Все переругались. Кончилось тем, что Женька с Лизой заявили, что им не хочется играть и ушли в бор. Ну, тут мы с Надей разделились. Играть было страшно не интересно. Все ругаются, чуть ли не дерутся. «Лучше бы я не ходила!!» подумала я. Но уже поздно!.. Что хочешь, то и делай!.. «Егорка! сбегай за Женей и Лизой, позови их играть!» говорит Володя. «Не смей!» говорю я: «Они не хотят играть, а им еще кланяться». Но их все ж таки приняли играть. Тогда я решила идти одна домой. Сначала позвала Надю, но она не согласна. А я играть больше не могу. Надоело слушать ругатню!.. Молча я надеваю шапку и ухожу. «Соня, куда ты?» говорит Надя, когда я уж немного отошла. «Нужно!» ответила я и скорым шагом пошла по поляне.
Грязно… неудобно идти одной, но что же делать? Ведь не лучше же играть со своими?.. Какие-то хулиганы что-то сказали мне, но я, молча, прошла мимо них. Но вот и гора! Стала взлезать. Встретила Таню Кр[89]. И Тоню Баск.[90] – поздаровалась с ними. Живо взобралась в гору, пробежала по загородному саду. Какие-то два семинара так подозрительно с любопытством посмотрели на меня. Уж я подумала, что я с ними знакома, но нет, я ошиблась… Вот я и дома!..
Скоро пришла одна Надя (значит, все по-одному. Лихо!!!) Но вот все собрались. Мы пообедали, напились чаю. Стали заводить граммофон. Потом пошли ко всенощной. Решили идти в мужскую гимназию[91]. Но сначала зашли на бульвар. Кой-кого встретили: Николаева и еще подобную шваль!... Идем с бульвара, а сзади нас идут Митя, Миша и Ваня. Мы знаем, что они идут, но не оглядываемся. Они, наконец, осмелились, подошли к нам. На Никитской[92] мы с ними разошлись. Подходим мы к Николаевской гимназии, но там темно. Нет сомнений – всенощная кончилась!.. Мы в Благовещенскую, совершенно позабыли, что там завтра престольный праздник (Чистый четверг?- прим. составителей). Подходим и останавливаемся в изумлении. Множество народа, ветки можжевельника… Ну тут уж мы догадались. Ваня Васильев[93] поклонился нам, а какие-то реалисты говорят: «Вань, познакомь!» В церкви вздумали знакомиться.
29, 30 апреля, 1,2 мая: вот уж прошел апрель, наступил май!.. Гулять как-то хочется, но нельзя, приходиться серьезничать с Д.В. даже из-за загородного сада. Один раз выбрались мы Сниматься к Ченцову[94]. Снялись, только уж, наверно, я не знаю, как выйду!. ..Зашли на бульвар. Там был Федя с Заринским и Знаменским. Никто из них нас не видел. А мне так бы хотелось, чтобы Федя кланялся. Все время мы пробыли с Якушенко. Боже, что он только ни говорил и что он ни делал ?!! Мы прямо умирали на него со смеху. Прямо идиот он!.. И регентовал в беседке и плевал в дерево!.. Встретили «за ручку»[95], он поклонился. Соня ушла, а мы же гуляли. Наконец, тоже решили идти. Я подошла к «за ручку» и говорю: «Есть у Вас часы?». Вместо того, чтобы спросить, сколько время?.. Он так на меня посмотрел, часов у него нет!.. Мы с Надей ушли…
Это так один день провели, не помню какой… Другие же ходили в загородный, хулиганили там, что есть мочи!.. Вася[96] передал мне привет от курсиста Остроглазова[97]. Это оказывается кто же?.. Витя Остроумов[98]. Как мне приятно, в общем, о нем вспоминать! Он такой был милый, да и потом наше знакомство было в дорогой Дугне[99]. Перейти туда не удается. Дядя Сережа[100] не соглашается. Как жаль, право. Мы его уговаривали, уговаривали, нет, он непреклонен. Он нам дал рубль. Это все хорошо!.. Не знаю, право, что еще писать про эти дни. Вот нехорошо запускать-то!. Мысли все скучные по многим причинам!.. Иногда я бываю готова на Бог знает что!.. Я хочу любви и хочу счастья, оттого, что не была счастлива и любима!!!!!
3 мая пятница
Батька (законоучитель – прим. составителей) поправлял по закону, но не поправил. Как я была на него зла!.. Я готова его кажись растерзать. Завтра еще спросит!.. А ведь завтра письменная по алгебре. Лена[101] пришла заниматься. Поделали задачки, поиграли на балалайке и гитаре и она ушла. Вечером ходили в загородный. Все баловались с велосипедистами. Я со своим «реалистом» встретилась в узком месте в калитке и говорю «Приятная встреча в узком месте!» А он смеется!.. Весело живется нам, право!.. А завтра лететь!..
4 мая – суббота: пришли в класс рано. На первом письменная по алгебре. Мы делали ее сообща. Да все равно ничего не получается!.. Уж Серж подсказал, тогда я её только решила! Ну, и трудная же была письменная, длинная!.. Во вторник опять будет. Вот и закон. Соня поправилась. Встаю и я… Сердце стучит. Кое-как ответила со грехом пополам, что разслышу , а что и нет. Поправилась! Ура!.. 5 теперь!.. На немецком мы ходили на бульвар. Зашли сначала в Никольский соборчик[102], а оттуда на бульвар. Встретили Володю Н., Митю А. и Барятинского[103]!.. Только всего!.. По физике занималась с Надей. Спросили. Обоим по 4: а я – то думала по 2, не больше!.. Как повезло, право, сегодня!.. Хотя бы всегда так! Я была бы рада!!!.. Из класса мы ходили к портнихе, нам шьют формы. Вечером в загородный, а потом в церковь!.. Все хохотали мы с Надей. Узнала я теперь ея Мурашова[104]. Ну, спаси его Господи!. Уж дюже то хорош!. Ничего в нем нет загадочного, странного! Простой, уличный мальчишка!.. Как это он Наде понравился!.. Хотя сердцу не прикажешь. Во всеночной был «Суистка»[105]. Он так подозрительно… улыбался!..
От всеночной мы с Надей пошли в загородный, а оттуда домой!.. Наши в бане сейчас, а я сижу одна! 10 часов!.. Что-то сейчас Соня делает?..Спит!? А?..
5го мая воскресенье (Пасха Христова – прим. составителей) Сегодня думаем идти на бульвар. Ведь там грандиозное. Но надо, понятно, описывать этот день сначала. Ходили в церковь. Какой там симпатичный Семинарик был! Прямо, чудо!.. В одни штиблеты влюбишься!.. Ножки маленькие, аккуратненькие!!!...Богомольный такой!.. С Ленкой мы все баловались. Скоро экзамен, а мы все балуемся в церкви!.. Ведь Бог нам тогда не поможет низа что!.. Придя домой, мы стали тогда учить уроки. Как не хочется!!! Но что же делать?.. Вот уж и 12 часов! Надо идти за Соней, а потом к Ченцову за карточками.
Пришли к Соне. Она живо (в первый раз в жизни) оделась и мы пошли… Пришли к Ченцову, нам подали наши карточки. Я, понятно, как и всегда, чудно вышла. Прямо смотреть на нее не хочется. Хотя… почему бы мне выйти то хорошо?.. Такие физиономии всегда так выходят! А жаль, право, что я всегда хуже всех выхожу. Надя с Соней замечательно вышли, а я?...Ну, ладно… Все равно…Пришел за карточкой такой миленький духовничек[106]… Надя сразу нашла его карточки, он очень хорошо вышел!.. Зато и сам симпатичненький!.. Взяв карточки, мы один раз прошлись по бульвару, никого не встретили и пошли домой. Пообедали, напились чаю (зачеркнуто).
Вот уже дошли до Каменного моста[107]. Вдруг видим идет «лобастенький»[108]. Мы давай изучать его признаки». В них!» говорит Надя… Вообще, все разобрали- и курточку и брюки и штиблеты… все… На него мы часто оглядывались. Он заметил это и обогнал нас, предварительно пристально посмотрел нам в лицо. Он шел впереди совсем близко от нас, и мы давай говорить вслух фамилии знакомых курсистов. «Надя», говорю я: «Что с нами Саша пойдет?». «Чей Саша?» говорит она вслух, а сама шепчет мне «Назови фамилию». Но я не могу, хохочу во всю… А она продолжает с хладнокровным видом: «Котельников[109]-то?...Обязательно даже… И Вася Волков[110] тоже». Ну, тут уж я не могу сдержаться, заливаюсь громким смехом… Надя же моя смело и громко продолжает: «Михин, Биликов, Остроглазов, Прозаркевич[111] тоже пойдут. И давай говорить фамилии знакомых и незнакомых курсистов. «Пушистенький»[112] самодовольно улыбается. Но вот ему нужно заворачивать за угол. Я перехожу на другую сторону, загораживая лицо руками. А Надя идет по его стороне. Он все время оглядывался и улыбался. А уже под конец даже задом шел. Всю остальную дорогу мы с Надькой прохохотали… Но вот пришли. Рассказали Васе про «лобастенького». После обеда поучили уроки, и я как-то нечайно заснула. Часов в 5 слышу меня кто-то будет. Это Надя. «Идем скорей к Соне, а то она опять ругаться будет!»
Я встала. Оделись и пошли все втроем. А то ведь без Женьки то и не пустят. Пришли к Соне. А она и не думает одеваться. Все прохлаждалась. Повела нас в полисадник. Все хохотали мы там на Борю. Он нам рассказывал про войну Австрии с Россией. Рисовал их на песке. Уж там не поймешь, какие где государства.
(ряд страниц пропущен)
Надо научиться свято и беззаветно любить! Но так можно любить только одного. А я… Пишу сюда о любви к целым трем, если не больше. Значит, они мне просто нравятся. Ну, просто, я увлекаюсь кем-либо не надолго. А серьезно любить ,мне кажется, еще рано. Это впереди!.. А интересно, право знать, что будет впереди, что?... Как мне хочется заглянуть хоть одним глазком, в будущность. Но все покрыто мраком неизвестности!.. Но что об этом писать?.. Кончу этот день и тогда уж примусь и за мысли и думы.
Вот, значит, мы сидим и пишем. Вдруг входят техники, здороваются с нами. «Христос воскресе!» говорит Виноградов[113]. «Воистину воскресе!» отвечаю я. «И только?!» говорит он. И оба как расхохочатся. «Мы не помешаем вам?» продолжают они. «Нет, нисколько!» отвечаем мы. Все расселись по разным углам и стали писать. Я написала «ясным пуговицам[114]», потом техникам от всех. Спрашиваем у них, как провели пасху и удивляемся тому, что они почти не ходят на бульвар. Мы решили уйти из беседки. Я подхожу к техникам и отдаю им письмо. Потом догнала своих и мы стали гулять. Воображали, что я – Витя, Надя – Коля. И вот давай спорить из-за Сони. Дело до дуэли дошло. Я Надьке кинула перчатку. А она её истоптала, а потом подняла. Вообще, мы очень дурили. Соня с Надей изображали Федю и Сережу. Был Меныч. Он сначала не видел Надю, поклонился только мне. Наде же – немного погодя. Она написала ему: «Я Вас любила и т.д. Мне нужно было ему передать. Вот, значит, проходит, он мимо. Я нерешительно сую ему письмо. А он, прокаянненький, и не замечает. И… таким образом, я не передала ему письмо. Но вот мы встречаемся с ним во второй раз. Тут уж я решительно даю ему письмо и говорю» Вот Вам письмо!» Меныч протянул с удивлением «Мне» Да Вам отвечаю я. И он куда-то скрылся, так что мы потом не разу его не встретили. Соня написала приколунку ??? от Рофе[115]: «Очи черные, очи жгучие» и т.д… Тот взял письмо и пошел отвечать. Вот мы несколько раз проходим мимо него…он улыбается. Наконец, дает мне секретку. Я живо передаю её Соне. Боже мой !!! Что там было написано! Ну и налетели же мы!...
Сначала надо ответить Соне. Ведь я, милый товарищ, пишу 5 мая, а ты я знаю, спрашивал про 7. Так, 7го мне очень очень хочется, что потом я не могу ничего поделать с собой. Ты являешься предо мной со своим всегдашним выражением лица… и я заливаюсь громким смехом. Только тогда я сознаю, как ты бесконечно дорог мне… и смолкаю. Заставляю утихнуть сердце…ненависти как и не бывало. Снова я люблю тебя да притом еще горячей…нежней…искренней… Но что я говорю об этом. Зачем вдаваться в подробности? Лучше нужно описать эти дни!...
Значит, Рофевский отдал письмо, где желает познакомиться с многоуважаемой незнакомкой…Нет! Это уже совсем наикрепчайшее!.. Он собрал толпы хулиганов и стал ходить сзади нас!.. «Ясным же пуговицам» мы написали про снежки, жалели, что снег стаял. Ведь недавно намело снега, да жаль право, что в небольшом количестве. Хотя мы и играли с Валькой Люб.[116] В снежки! (А Надя сейчас говорит про Федю Орлова «Он Соньке Толстовой в любви. Тогда объяснился. Знаем мы это. Еще удивить хочет. Да и потом , мне кажется, она нарочно говорит это, чтобы расстроить меня… Вообще, по-видимому она ни сколько не сочувствует…да и врядли еще кто сочувствует). Соня опять про техников…Ну, что… нравятся они мне, а один даже очень…И только… А ты не смеешь. Ведь да ? да??? Опять отвлеклась я от дела.
«Ясные пуговицы» все ходил сзади нас, но ответа еще не передавал. Потом опять стал около дерева. Проходим мы мимо него. Вдруг он дает мне нашу секретку и говорит: «За неимением секретки отвечаю вам темже!» Ага!.. Значит и они рады возобновить снежки…Однако!...Это все же таки приятно!.. А техники к нам и не подходят. Вот странно то!. А мне бы так хотелось, чтобы они подошли!.. Они передали нам ответ. На конверете написано: «Любезному трио». Там пишет один только Ваня, а Вася и не думает: «Весело вам?» спрашивают они. «О да, очень!» отвечаем мы, а сами ходим скучные. «Давайте хохотать, проходя мимо них» предлагаю я. Все согласились и вот проходим уж мимо них… и не можем смеяться.» Что ж смеяться то!?» говорю я и как расхохочусь, а за мной и все. Да так расхохотались, что на силу остановились. Смех без причины, хоть и признак дурачины, на а все ж таки!..
Техники, глядя на нас, тоже смеялись. Но вот они куда-то исчезли, и я как ни старалась, не могла их увидать. Зачем они ушли?.. Зачем?. Вот вопрос, который мучил меня. «Хотя бы…О Боже!.. Хотя бы… увидеть мне знакомые лица!.. Но увы!. Все тщетно… Предо мной мелькают лица, знакомые и нет, но не близкие , не милые мне. Я уже почти отчаялась их видеть. Вот уже разноцветные искры фейерверка ярко блестят на небе и жгучими змейками сыпятся на землю. Треск… свист ракет!. Но я ни на что не обращаю внимания «Где техники, где?».. Сейчас уж идти домой. Д.В. пришла за нами.
В лентах серпантина с заветными мыслями в сердце, с тяжелой головой я ухожу с бульвара. Последним взглядом окидываю его и … О… о Боже!.. Около дерева стоит Виноградов с печальным, растерянным видом!.. Он здесь&hellip
|
Метки: лебедевы дворянское образование калуга |
Хроники истории |
Хроники истории
Это наша Великая история. Она наставник, она судья, кровавая в своей бессмысленной жестокости и сияющая славой подвигов человеческой личности, пасторально-наивная в быте славянского землепашца и величественно-грандиозна монументальностью мегаполисов, она - наша история. Без нее нет и нас.
Гимназистки, ученицы. Российская империя.
 |
| г. Новочеркасск. Донской Мариинский институт благородных девиц. 1904-05 гг. |
Лица учениц и студенток Российской империи.
(100 фотографий, кликабельны)
 |
| Мариинская Донская женская гимназия. 1899-1900 гг. |
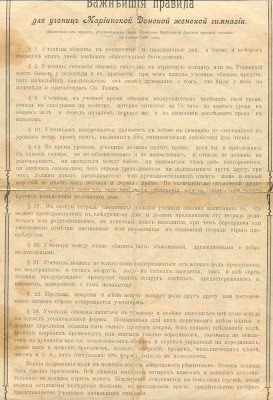 |
| Правила Мариинской Донской женской гимназии. 1-я стр. |
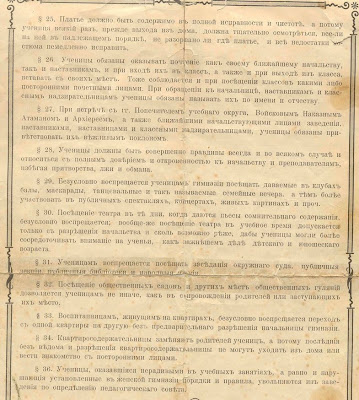 |
| Правила Мариинской Донской женской гимназии. 2-я стр. |
 |
| г. С.-Петербург. Екатерининский институт, 1912 г. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. С.-Петербург. Екатерининский институт, 1915 г. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. Москва. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. С.-Петербург. |
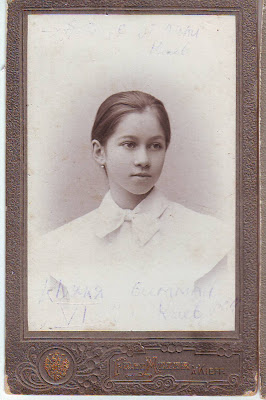 |
| г. Киев. |
 |
| г. Пенза. |
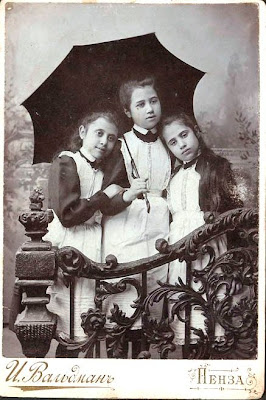 |
| г. Пенза. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. Псков. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. С.-Петербург. |
 |
| г. Петроград. С наградой за отличное окончание Института Благородных Девиц. |
 |
| г. Москва. |
 |
| г. Москва. Воспитанницы Московского Елизаветинского Института благородных девиц, княжна Софья Туркестанова (слева), и Каземира Ярковская. 1895г. |
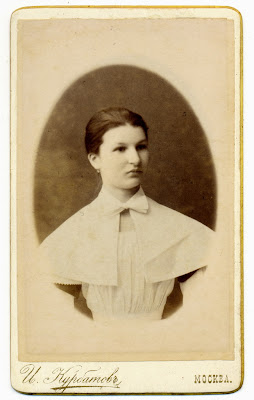 |
| г. Москва. 1890г. Княжна Елизавета Ухтомская, воспитанница Московского Елизаветинского Института благородных девиц. |
 |
| Царское Село. |
 |
| Царское Село. 1911г. Ксения Густавна Берман, дочь царскосельского пастора. |
Текст на обороте фотокарточки Ксении Берман:Голоса сосен, уносимые ветром, раздавались далеко, как будто они стояли не тут, близко так над нами. Но иногда стихавший ветер делал слышными их голоса, и тогда они как-будто говорили: "Мы стоим здесь давно, когда вас никого ещё не было на свете, но люди были уже; вы умрёте и любовь ваша, и злоба и слава ваша исчезнут, а мы всё ещё будем стоять – и нет у нас ни любви ни злобы, а есть вековая красота и слава; но пройдут века, и мы упадём, и поднимутся вершины наших детей, и они с веками тоже падут, а вечная душа наша – созидающая нас вечная природа, и Бог, вечно живущий над ней, пребудут вечно. И вы, рождаясь на мгновенье, живите, познавая вечную общую душу природы, вечного Бога, и умрите с верой, что останетесь в природе и в Боге. И не старайтесь увидеть их умом и глазами, потому что слабы глаза ваши, и ум ваш безсилен; но сердцем вашим всеведущим, но душой вашей вечной слушайте наши голоса, голоса всей великой вечной природы, и в звуках её неумирающей музыки услышите красоту, истину и добро, и утишатся страсти ваши, и познаете любовь, и в ней познаете вечного Бога, - узнаете Бога, узнаете вечного Бога… вечного Бога… Бога".Будьте счастливы, дорогая Лидочка, и вспоминайте иногда искренно Вас любящую Ксеню Берман.
26 мая 1911г. Церковная, 36
 |
| 1915 г. |
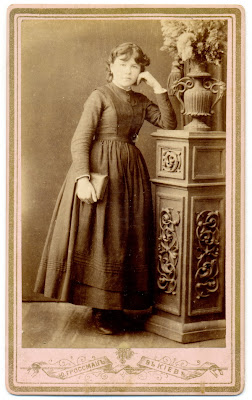 |
| г. Киев. Гимназистка Меланья Чернова. 1888г. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. Воспитанницы с классными дамами. Киевский институт благородных девиц. 1909г. |
 |
| г. Киев. Киевский институт благородных девиц. 1881г. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
 |
| г. Киев. |
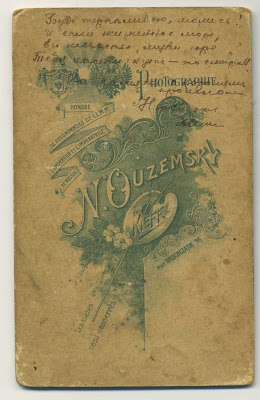 |
| г. Киев. Памятная надпись на оборотной стороне одной из фотокарточек. |
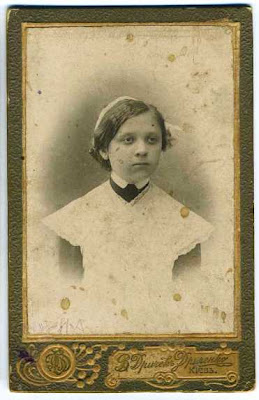 |
| г. Киев. |
| г. Киев. (не в гимн. форме) |
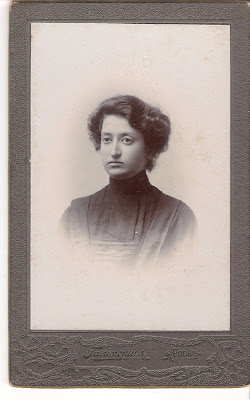 |
| г. Ровно, 1905г. |
 |
| г. Варшава |
 |
| г. Варшава |
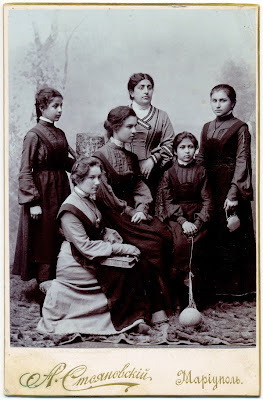 |
| г. Мариуполь. |
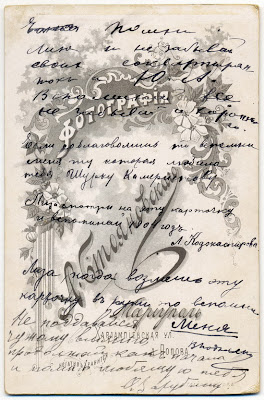 |
| г. Мариуполь. Памятная надпись на оборотной стороне фотокарточки. |
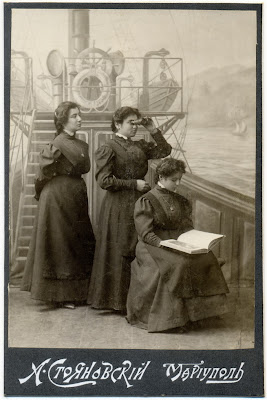 |
| г. Мариуполь. |
 |
| г. Харьков. 2-ая женская гимназия. |
 |
| Харьковский институт благородных девиц. |
 |
| г. Харьков. Гимназистка. |
 |
| г. Харьков. 2-ая женская гимназия. В руках книга к 50-летнему юбилею отмены крепостного права. |
 |
| г. Харьков. Гимназистка. 1909 г. |
 |
| г. Харьков. Ольга Оберемкова, ученица 1-й женской гимназии, дочь харьковского купца А.А.Оберемкова. |
 |
| г. Харьков. Ольга Оберемкова (на качелях) с подругой - ученицы гимназии. |
 |
| г. Харьков. |
 |
| г. Харьков. 2-ая женская гимназия. |
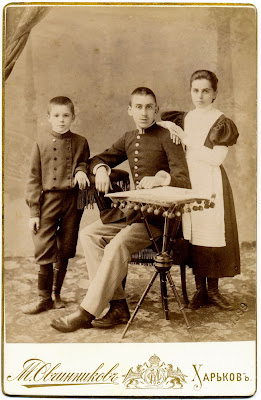 |
| г. Харьков. |
 |
| Гимназистки с классной дамой Севастопольской женской гимназии, 1912г. |
 |
| г. Симферополь. Гимназистка Нина Попруженко. |
 |
| г. Вильна. Выпускница гимназии Вера Космачевская. |
 |
| г. Вильна. Выпускница гимназии Нина Янишевская, ок. 1911 г. |
 |
| г. Полтава. Институт благородных девиц. 1898г. |
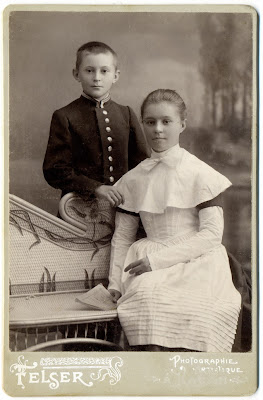 |
| Зинаида Карзина. Казанский институт благородных девиц. |
 |
| 01.06.1909 г. |
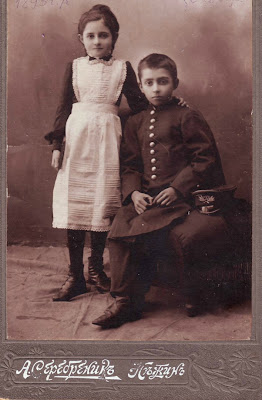 |
| г. Нежин. |
| г. Нежин. |
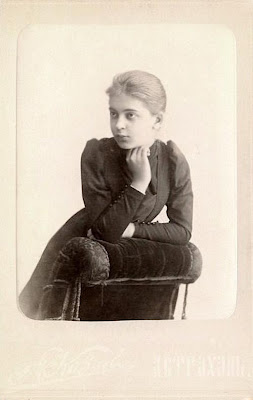 |
| г. Астрахань. |
 |
| Гимназистка Астраханской Мариинской женской гимназии. |
 |
| Астраханская Мариинская Женская Гимназия. |
 |
| Астраханское епархиальное женское училище. |
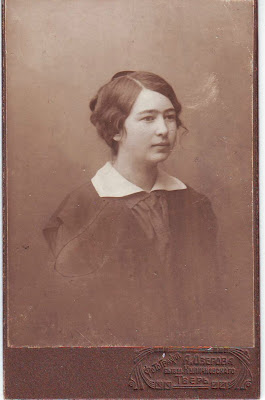 |
| г. Тверь, 1915 г. |
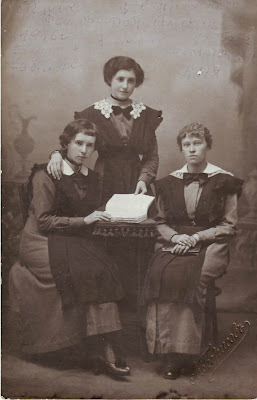 |
| Гатчинская женская гимназия, 1916 г. |
 |
| Плоцкая женская гимназия. |
 |
| г. Славянск |
 |
| Ученицы Ольгинского Осетинского женского приюта во Владикавказе. Татарова Вера, Туаева Ольга, Дзугаева Вера (стоит). |
 |
| Групповая фотография Одесского Института благородных девиц. В центре у двери — Габриэль Хриановская (в замужестве — Блаватская) в возрасте 22 лет. |
 |
| Ученицы 3-го Мещанского женского начального училища. 1897 г. |
 |
| Ученицы 2-го Красносельского женского начального училища. 1911 г. |
 |
| Корсунская женская гимназия. Примерно 1911-1913 г.г. |
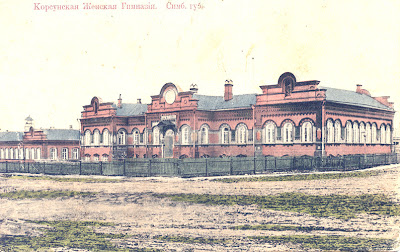 |
| Корсунская женская гимназия. |
 |
| Смольный Институт Благородных девиц. На катке. 1889 год. |
 |
| Преподавательский состав учебного заведения Российской империи. |
 |
| Преподавательский состав учебного заведения Российской империи. |
 |
| Ученицы Ольгинского приюта. Осетия.1870-е гг. |
Ссылка:
http://xponolog.blogspot.com/2013/04/blog-post_28.html
Источник - 1 >>>>>>
Источник - 2 >>>>>>http://xponolog.blogspot.com/2013/04/blog-post_28.html?m=0
|
Метки: дворянское собрание институт благородных девиц |
Пречистенское образование: истории из жизни лучших московских школ |
Пречистенское образование: истории из жизни лучших московских школ
 832 30.09.2016 / Алексей МИТРОФАНОВhttps://www.miloserdie.ru/article/prechistenskoe-o...zni-luchshih-moskovskih-shkol/
832 30.09.2016 / Алексей МИТРОФАНОВhttps://www.miloserdie.ru/article/prechistenskoe-o...zni-luchshih-moskovskih-shkol/
Мы писали о лучшей мужской гимназии – Льва Поливанова. Интересно, что лучшая женская гимназия – Арсеньевская – располагалась на той же Пречистенке, номер 17, напротив, практически дверь в дверь

Семён Кожин, особняк Дениса Давыдова на улице Пречистенка (2005). Изображение с сайта kozhinart.com
Дом-легенда
Само здание было с историей. Мы упоминали о нем, когда вели повествование о докторе Илларионе Дуброво, одном из прототипов чеховского Осипа Дымова (повесть «Попрыгунья»). Дуброво проживал в этом доме, а до этого здесь обретался легендарный партизан-поэт Денис Давыдов. Старый рубака приобрел его в 1835 году, руководствуясь единовременным порывом (дом ему просто понравился, Давыдов писал: «Что за дом наш, милый друг! Всякий раз, как еду мимо него, любуюсь им, это Hotel или дворец, а не дом»), а потом вдруг выяснилось, что содержать этот «Hotel» стоит невероятных денег, еле удалось его продать.
До Давыдова усадьба была в собственности передовой военной семьи Бибиковых («В особливости щеголял музыкою генерал Гаврило Ильич Бибиков», – примечал по одному из поводов бытописатель и, опять таки, военный Андрей Болотов).
Затем здесь жил секретарь голландского посольства Х. Сольдейн. Его супруга, Вера Яковлевна, принимала у себя в гостях самого Пушкина (поэт писал: «Жизнь моя однообразная, выезжаю редко. Зван был всюду, но был у одной Солдан, да у Вяземской»). Затем – упоминавшийся Денис Давыдов, упоминавшийся Илларион Дуброво и, наконец, гимназия Софьи Александровны Арсеньевой.
Почтовый голубь Николай Андреевич

С.А.Арсеньева и Л.И.Поливанов; Арсеньевская и Поливановская гимназии
Эта гимназия по праву считалась элитной. Татьяна Аксакова-Сиверс писала: «В восьмидесятых годах прошлого века двумя выдающимися педагогами того времени – Софьей Александровной Арсеньевой и Львом Ивановичем Поливановым – были учреждены в Москве в районе Пречистенки две гимназии – Арсеньевская и Поливановская. Связь между этими школами была самая тесная; если сыновья учились у Поливанова, дочерей отдавали к Арсеньевой. Преподаватели были в большинстве случаев общие, почти все учащиеся знали друг друга, и начиная с 6-го класса между ними возникали юношеские романы.
Бывали случаи пересылки записок в карманах пальто математика Николая Андреевича Игнатова, который переходил с урока на урок, не подозревая, что играет роль почтового голубя.
Поливановцы не имели казенной формы, они носили штатские пальто, мягкие шляпы и черные куртки с ременным поясом без бляхи, что нам казалось очень элегантным».
Очевидно, что определенную роль здесь играло именно статус школы «для своего круга». Конечно, семьи, проживающие в окрестностях Пречистенки старалась, по возможности, определить детей поближе к дому. Но это обстоятельство особой роли не играло – извозчиков в Москве хватало, а у родителей пречистенских гимназистов денег хватало не только на извозчиков, но и на собственные экипажи – по крайней мере, если попытаться поставить их доход в соответствие с расценками на пречистенское образование. А они – и в том, и в другом случае – были весьма ощутимыми.
Одна из поздних, уже советских обитательниц этого дома, М. Дриневич писала в своих мемуарах: «Немногие знают, что изящный московский особняк на Пречистенке, известный в начале XIX века как дом поэта Дениса Давыдова, в 70-е годы прошлого столетия принадлежал частной женской гимназии с пансионом. Основательницей гимназии и ее бессменным директором с 1873 года и до революции была моя двоюродная бабушка Софья Александровна Арсеньева, урожденная Витберг, родственница архитектора А. Л. Витберга, автора первого – неосуществленного – проекта храма Христа Спасителя. Все гимназическое хозяйство вела ее сестра – моя прабабушка Александра Лукинична Дриневич. У нее было три сына и три дочери, две из них – Мария Николаевна и Александра Николаевна – после окончания Арсеньевской гимназии служили там классными дамами и даже подменяли учителей иностранных языков, так как свободно читали и разговаривали на многих европейских языках. Моя мама Ольга Александровна Дриневич, внучка Александры Лукиничны, тоже окончила эту гимназию.

«Мемуаристка М. Дриневич то ли нарочно, то ли случайно делает биографию Софьи Александровны более скромной. На самом деле она была не просто родственницей, а родной дочерью архитектора Витберга.» Пётр Соколов, портрет Александра Витберга (1820-е гг). Изображение с сайта wikipedia.org
Гимназия Арсеньевой считалась элитной: плату за обучение брали большую, но и преподавание велось на самом высоком уровне. У меня сохранилась программа, из которой видно, что гимназистки в 3-м классе изучали алгебру, геометрию, анатомию, грамматику славянского языка. Особое внимание уделялось иностранным языкам».
Сохранились также мемуары, собственно, гимназистки, Т. Аксаковой-Сиверс: «Когда я в 1902 году поступила в 1-й класс, Софья Александровна Арсеньева была уже стара и отошла от непосредственного руководства школой, она жила в левом крыле большого особняка… занимаемого гимназией, и появлялась только тогда, когда случалась какая-нибудь неприятность и требовалось ее воздействие. Быть вызванной на «ту половину», как мы называли апартаменты начальницы, не предвещало ничего хорошего. Помню, как в конце ноября 1905 года в зале была назначена панихида по скоропостижно умершему ректору Московского университета Сергею Николаевичу Трубецкому. Расстроенная этой смертью, Софья Александровна вышла к нам, чтобы сказать несколько слов о покойном. Собравшиеся в зале 8 классов представляли большую толпу, не сразу замолкшую при ее появлении. На нашу начальницу нашел приступ гнева, и она ушла, хлопнув дверью, и не сказав приготовленного некролога.
Непосредственное ведение гимназических дел было в руках племянниц Софьи Александровны – Марии Николаевны и особенно Александры Николаевны Дриневич. Злые языки отмечали некоторую семейственность в управлении школой, но беды от этого никакой не было. Все родственницы начальницы: Арсеньевы, Дриневичи, Витберги были людьми высокой порядочности и эрудиции. Классной наставницей моей в продолжение 8-ми лет была тоже родственница Софьи Александровны – Надежда Александровна Сагинова (урожденная Мерчанская), отличавшаяся мягкостью и женственностью. Коса, спускавшаяся до колен и собранная в узел на затылке, так оттягивала ей голову, что она должна была иногда распускать узел и становилась в такие минуты очень моложавой.
Ко мне Надежда Николаевна относилась хорошо, и только в старших классах, когда моя «непосредственность» стала бить ключом, и я, не умея сдержать натиска обуревавших меня впечатлений, постоянно собирала вокруг себя «род веча», она прозвала меня «кумой»».
Гулять крокодилом

«Москва зимою. Пречистинка»; открытое письмо, 1904 год. Изображение с сайта retromap.ru
Пусть Софья Александровна и отошла от дел, все пребывало под ее контролем, да и отлажено было в активный период преподавательской и организационной деятельности основательницы и первого директора. Тот факт, что дело вели ближайшие родственницы, давал лишний повод поверить: все было устроено в соответствии традиции. Вот, строки из записок гимназистки: «Гимназия находилась как раз напротив пожарной части с каланчой. Из ворот со звоном иногда выезжала пожарная команда, и в санях проносился, козыряя мне, московский брандмайор Гартье с лихо закрученными усами на умном лице французского склада. В низкой просторной передней меня встречал швейцар Александр, маленький толстый старичок, топтавшийся на месте, как медвежонок, и его жена, дельная, быстрая старушка Наталья, ведавшая более 30-ти лет и вешалками, и кипяченой водой, и подаванием звонков. Мой класс насчитывал около 40 человек, учился хорошо, но был какой-то разношерстный…
После трех утренних уроков и завтрака мы отправлялись парами гулять по улицам (это называлось «крокодилом»). Маршрут был всегда один и тот же: по Пречистенке до Зубовского бульвара и обратно, мимо Лицея, по Остоженке. Если в кармане лежала плитка шоколада, купленная за 5 копеек в мелочной лавке гимназического поставщика Капустина, то гулять было не так скучно.

Нивелирный план Москвы 1888 года, фрагмент прилегающих к Пречистинке мест от храма Христа Спасителя до Зубовской площади. Изображение с сайта retromap.ru
Кроме того, с годами я стала обладать унаследованной от матери способностью извлекать интерес из всех жизненных положений. В три часа, к концу занятий, за мной иногда заходила мама. Когда она, в коротенькой каракулевой жакетке, такая элегантная и не похожая на других мамаш, ожидая меня, стояла внизу лестницы, по которой мы шумной лавиной спускались после звонка, я видела, что все девочки смотрят на нее с нескрываемым любопытством. Еще больший интерес возбуждала мама, когда с ней была охотничья собака Альфа. Альфа или, как я ее называла, Бубочка, появилась на Пречистенском бульваре маленьким щенком вместе со мною и прожила 12 лет как член семьи. И мама, и я одинаково ее любили, причем выражали мысль, что для простой собаки Бубочка слишком умна и что она, наверное, заколдованная принцесса».
Собака Бубочка, заколдованная принцесса

Сёстры-гимназистки начала 20 века. Москва, улица Пречистинка, женская гимназия С.А.Арсеньевой. Фото с сайта pavelbers.com
Мемуаристка М. Дриневич то ли нарочно, то ли случайно делает биографию Софьи Александровны более скромной. На самом деле она была не просто родственницей, а родной дочерью архитектора Витберга.
Если для юноши, будущего мужчины того времени желаемыми чертами характера были дерзновенность, стремление к открытиям, способность отстаивать свое мнение (и, на секундочку, иметь его), определенная эпатажность, артистизм и склонность к либерализму, то у девушки все было по-другому. Прогулки «крокодилом», неизменный маршрут тех прогулок, вовремя поданная горячая вода, а в качестве проявления крайнего либерализма – пятикопеечная плитка шоколада в кармане пальто.
Нигилистки уже появлялись, но о них больше знали по слухам и по романам господина Лескова. Женские курсы и даже университетское образование – это для самых дерзких. Идеальная женщина, идеальная жена мужу-интеллигенту расцветала как раз из таких воспитанниц, вплоть до обряда венчания верящих в происхождение собаки Бубочки из каких-то там принцесс, когда невинные эпистолярные романы с юношами-поливановцами – верх безумства.
Собственно говоря, роль Софьи Александровны в создании и поддерживании именно такой гимназии – не меньшая миссия, не меньшее служение, чем роль Поливанова. Из этой гимназии не выходили яркие личности – ученые дамы, активистки, революционерки, бомбистки. Выпускницы становились прекрасными женами, о роли каковых в устройстве семьи и общества, история, естественно, умалчивает. Но что может быть важнее традиции, которую усваивает и несет женщина – несет стойко и непублично. И скрытность, непубличность самой Арсеньевой – одно из важнейших условий всего воспитательного процесса.
Категории: История благотворительности/History of philanthropy
https://www.miloserdie.ru/article/prechistenskoe-o...zni-luchshih-moskovskih-shkol/
|
Метки: москва пречистенка дворянское образование поливановы |
Графиня Дарья Ливен: самый опасный мировой дипломат Российской империи |
Графиня Дарья Ливен: самый опасный мировой дипломат Российской империи
Все знают политического агента двух разведок Мату Хари или дипломата Александру Коллонтай. А вот Дарья Христофоровна Ливен больше известна любителям «дамских любовных исторических романов» от английских основоположниц этого жанра: Джорджетт Хейер и Джудит Макнот. Кто из дам высшего английского света, кроме графини Сэфтон, герцогини Эстерхази и леди Сары Дарси придет на помощь юной героине, бросившейся покорять Лондон почти в любой из книг этих сверхпопулярных писательниц? Конечно, графиня – затем и княгиня Ливен!
Дочь генерала Бенкендрофа, и родная (и любимая) сестра прославленного первого шефа царских жандармов! Если бы писательницы только задумывались о том, сколько «агентов влияния» в Лондоне навербовала графиня, благодаря свой светской деятельности! Впрочем, в мире Дарья Христофоровна известна как «первая русская женщина-дипломат!». Более серьезным, в основном отечественным (потому что иностранным нет дела до тайной царской дипломатии) историкам эта светская львица известна и как самый лучший тайный агент Российской Империи времен наполеоновских войн и даже позднее.
Путь генеральской дочери в дипломатию в конце XVIII века
Не в пример временам середины столетия, к концу правления Екатерины Смольный Институт стал действительно достойным учебным учреждением: было бы время и желание. К тому же Дарья (Доротея-Катарина-Александра) находилась под патронажем супруги Павла I. Она вышла из Смольного в совершенстве владея четырьмя иностранными языками (плюс «родные» русский и немецкий). Затем последовал счастливый брак с любимцем Павла, молодым дипломатом графом Ливеном, от которого и родились единственные, не скончавшиеся преждевременно, дети.
Как всегда в России, переворот с цареубийством немного помешали счастливой паре: вместо перспективной карьеры граф Ливен получил должность посла в тогдашней «глухомани» - Берлине. Но именно в этот период его супруга начала находить вкус в политике и открыла для себя «Высшее Светское общество» - бывшее тогда (как и сейчас) интернациональным, а потому не дорожившее национальными секретами. Но кто же мог представить, какой удачей станет для прекрасной брюнетки Венский Конгресс (дипломатическое совещание стран-победителей Наполеона)!
Недооцененная историками ирония этого конгресса заключается в том, что у вышедшего на первый план Меттерниха было минимум две любовницы: белокурая княгиня Багратион (ушедшая от прославленного мужа еще до его гибели), внучка Бирона герцогиня Саган (как и Дарья Ливен, из Курляндии родом) и… Тут стоит умолкнуть: точных данных нет, но в Лондоне, куда Ливены отправились после Конгресса, крестником третьего сына жгучей брюнетки Дарьи Христофоровны, Георга, стал сам принц-регент, а высшее общество называло ребенка «чадом Конгресса».
В любом случае из спора трех самых красивых женщин мира в Вене графиня Ливен вышла победительницей. О княгинях Саган и Багратион далее упоминается только в частной истории, а вот Дарья Ливен не только стала самой видной женщиной Лондона, но и.. – это именно она привезла чопорным англичанам вальс и добилась разрешения танцевать дебютанткам «непристойный танец» в знаменитом танцевальном зале «Альмакк». Вскоре она (наряду с упомянутыми английскими леди лучших кровей и женой австрийского посла) стала патронессой клуба аристократок-дебютанток.
«Как жаль, что графиня Ливен носит юбку» (с), Александр I
После блистательного вхождения в высший лондонский свет, родным пошли донесения от Светской Львицы Лондона номер один. Часть сведений она сообщала мужу, часть отсылала прямиком брату, генералу А. Бенкендорфу. Если учесть, что на балах присутствовали не только глуповатые (если верить романисткам – исключительно умные) дебютантки, но и их матери, жены виднейших деятелей, а на «охоту» за юными невестами приходили лорды и генералы (известен случай, когда туда не пустили - исключительно из-за формы одежды, не соответствующей бальному залу, - самого Веллингтона), то можно вообразить себе объемы и качество информации, поставлявшейся Дарьей Христофоровной российской дипломатии.
С двадцати семи до сорока девяти лет блиставшая в Лондоне высокая брюнетка с продолговатым аристократическим лицом, чуть великоватым носом и огромными глазами, продолжала оставаться лучшим другом любого премьер-министра, а с принцем, затем и королем Георгом её и вовсе связывала тесная дружба. Уже в 31 год она была не только произведена в статс-дамы, но и ─ небывалое дело, ─ награждена орденом («Св. Екатерины»), а в 1825 году стала княгиней Ливен, под каким именем войдет в мемуары и более чем сотню романов, изданных миллионными тиражами (хотя в них ни слова не будет о её разведмиссии).
Враги хоть что-то поняли?
Нессельроде впоследствии говорил:
«Будь жива Ливен, Крымской войны бы не случилось, союза Лондона и Парижа мы бы избежали».
А что же «враги»? Они хоть что-то поняли? Старик Веллингтон о чем-то догадался, когда было уже поздно: он утратил рычаги влияния на власть, и Дарья Ливен вместо него стала дружить с новым премьером, Греем:
«боюсь, дама отплатит Англии злом за все добро, что от нас видела» - сказал старый вояка.
Что не помешало ему стать крестным очередного сына уже княгини Ливен, Артура. Вдова Грея впоследствии издала переписку своего мужа с Дарьей Ливен, с предуведомлением:
«вот в какой интимной близости находились наши секреты от русских!».
Но самый злобный и несправедливый отзыв о Д.Х. Ливен оставил так ничего и не сообразивший Шатобриан. Он обозвал (единственный!) её некрасивой и глупой, интересующейся лишь «пошлостью политических сплетен».
Ларчик открывается просто: салон княгини Ливен на время затмил салон мадам Рекамье, ну а о том, какой массив реальной разведывательной информации можно извлечь из сплетен интернациональной элиты, бедолага Шатобриан так и не узнал до конца своих дней.
https://zen.yandex.ru/media/history_world/grafinia...perii-5c7cf9aeeada0500b2d91d33
|
Метки: ливен бенкендорф |
Толстые в 21 веке |
Толстые в 21 веке
Автор Дмитрий -
Мар 15, 2019
Oleg Tolstoy
«Толстые в 21 веке» — это серия из восьмидесяти двух портретов живых потомков и родственников Льва Толстого. Они собрались из столь далеких стран, как Великобритания, Чешская Республика, Италия, Швеция и США для воссоединения. Проект был опубликован в качестве книги в 2015 году.
Фотографии были сделаны в Ясной Поляне под Тулой, месте рождения Льва Толстого, где он писал и похоронен. Дом, практически не тронут со времён великого писателя, поэтому на портретах люди окружены личными вещами Льва Толстого.
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoy
Oleg Tolstoyhttps://photar.ru/tolstye-v-21-veke/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: толстые |
Сергей Оболенский |
Сергей Оболенский, старший сын Платона Сергеевича Оболенского-Нелединского-Мелецкого и Марии Константиновны Нарышкиной, принадлежал к высшему кругу русской знати. Служил в Кавалергардском полку, а в 1916 году женился на морганатической дочери императора Александра II светлейшей княжне Екатерине Юрьевской.
С.В.Сорин. Портрет князя Сергея Оболенского
Во время Гражданской участвовал в Белом движении, но высоких постов по молодости не занимал (в мемуарах он объяснял, что в первый период после октября 1917 года занимал открыто антибольшевистскую позицию, но большевики его не арестовали из-за его незначительности; в общем, видимо, на уровне "корнет Оболенский, налейте вина"). После Гражданской - в эмиграции в США.
Екатерина Александровна Юрьевская
В 1924 году развелся с Екатериной и женился на Элис-Мюриэль Астор, дочери миллионера Джона Джейкоба Астора IV и начал работу в гостиничном бизнесе (принадлежавшем Асторам с XIX века - вспомните первую гостиничную сеть "Асторий").
Элис Мюриель Астор-Оболенская

С.В.Сорин. Портрет княгини Оболенской
Со второй женой Сергей (или Серж, как он представлялся в эмиграции) Оболенский развелся в 1932 году, но карьеру в гостиничном бизнесе не оставил.
Самый интересный поворот в биографии князя случился с началом Второй мировой войны. Оболенский стал сотрудником Управления Стратегических Служб США (предшественника ЦРУ), дослужившись до звания подполковника. В 53 года он оказался самым старым парашютистом в армии США (первые 5 прыжков он сделал в 1943 году), став одним из основателей американского спецназа (U.S. Special Forces).
Оболенский готовил группы агентов УСС для засылки во Францию, а также тренировал спецназ; недавно появился рассказ об одной из таких тренировок, когда агенты УСС под командой русского князя успешно захватили и условно "заминировали" радарную станцию в Martha's Vineyard.
Сотрудники УСС в тренировочном лагере в Бетесде, Мэриленд. Майор Оболенский в первом ряду справа
В сентябре 1943 года, вскоре после отстранения от власти Муссолини, Оболенский, высадившись на Сардинии с отрядом из трёх человек, вошел в контакт с генералом Бассо, командовавшим итальянскими силами на Сардинии, и, передав ему специальные сообщения от Эйзенхауэра, итальянского короля и маршала Бадольо, уговорил его перейти на сторону союзников (подробное описание операции). Захват Сардинии стал одним из самых впечатляющих успехов УСС во Второй мировой войне.
После войны князь Оболенский вернулся в гостиничный бизнес и светскую жизнь.
На этом фото Оболенский танцует с Уоллис, герцогиней Виндзорской, той самой дважды разведенной американкой, ради женитьбы на которой король Эдвард VIII в 1936 году отрекся от английского трона.
Вот уж заодно и Уоллис с Эдвардом в день их свадьбы
В те годы расширявший гостиничную империю Хилтон купил Уолдорф-Асторию. К Хилтону ушел работать и князь Оболенский, а к 1958 году он стал уже вице-председателем совета Hilton Hotels Corporation. Помимо отелей князь Оболенский открывал и фешенебельные рестораны.

Оболенский в своем ресторане St.Regis Roof, Нью-Йорк, 1964
В 1971 году Сергей Оболенский женился в третий раз на Мэрилин Фрэйзер Уолл (Marilyn Fraser Wall; 1929—2007). Ему 81 год, избраннице 42. Газеты описывают "роман в голливудском стиле".
Последние годы жил в богатом пригороде Детройта — Гросс-Пойнт. Умер в 1978 году, немного не дожив до 88 лет.
Tags: Аристократия, Белая армия, Оболенские-Нелединские, титулованные белогвардейцыhttps://cattus-marinus1.livejournal.com/41879.html
|
Метки: оболенские |
С чего начинается Геликон-опера |
С чего начинается Геликон-опера
Оригинал взят у 

Понемногу улеглись сумбурные, и в то же время яркие, впечатления от посещения бывшего Дома медицинских работников, а ныне Геликон-оперы, а ранее — усадьбы XVIII века. В годы моей "туманной юности", я часто бывала там на интересных вечерах или на просмотрах каких-нибудь особенных зарубежных фильмов. Помню этот Дом медика с уютным залом, лестницей, зеркалами во всю стену, — это был один из самых любимых клубов Москвы. И вот наконец, когда уже остались в прошлом переживания по поводу реставрации этой усадьбы, отгремели битвы за её сохранение и победило здоровое любопытство, выбрав для посещения оперу Оффенбаха "Сказки Гофмана", мы отправились в театр. Для того чтобы не торопясь осмотреть отреставрированную усадьбу, приехали заранее — перед спектаклем в Геликон-опере проводят экскурсии по историческим залам, рассказывая о владельцах усадьбы Шаховских.
1. Но времени всё равно не хватило — все исторические залы, кроме белоколонного зала княгини Шаховской, как раз того, в котором я бывала раньше, были открыты. О белоколонном зале расскажу отдельно, после уже запланированного посещения. Сначала всё же немного из услышанного об истории главного дома усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских.

Фасад театра «Геликон-опера» на Большой Никитской 19/16
В 1759-1761 годах в доме, где сейчас находится "Геликон-опера", жила Настасья Михайловна Дашкова, которая часто устраивала домашние концерты. На этих концертах пела ее невестка — Екатерина Романовна Дашкова.

Портрет Екатерины Романовны Дашковой (неизвестный художник, ок. 1762)
С 1768 года дом принадлежал сенатору и генерал-аншефу Федору Ивановичу Глебову. Занимая самое высокое положение в свете, Федор Иванович и его жена Елизавета Петровна принимали на Большой Никитской членов великокняжеской семьи и высший свет. После смерти мужа в 1799 году дом перешел к вдове Елизавете Петровне (урожденной Стрешневой). В 1803 году Елизавета Петровна выхлопотала для себя и сыновей разрешение именоваться Глебовыми-Стрешневыми.
С 1864 года главной наследницей огромного состояния Глебовых-Стрешневых стала двадцатитрехлетняя Евгения Федоровна Шаховская (в девичестве фон Бреверн). По Высочайшему повелению ей и ее мужу Михаилу Валентиновичу Шаховскому "дозволено именоваться князьями Шаховскими-Глебовыми-Стрешневыми".

Княгиня Евгения Федоровна и князь Михаил Валентинович Шаховские-Глебовы-Стрешневы
2. Обосноваться в Москве супруги смогли только в конце 1870-х годов. Княгиня немедленно приступила к перестройке родовой усадьбы Покровское-Стрешнево неподалеку от Москвы.

3. Домашний театр в Покровском-Стрешневе воодушевил Евгению Фёдоровну купить в 1885 году владение на углу Большой Никитской улицы и Малого Кисловского переулка. Почти все постройки бывшей усадьбы Зарубиных-Ефремовых были снесены. В 1885-1886 годах на свободной площадке по проекту К.В. Терского (автором фасада стал Ф.О. Шехтель) было построено здание частного театра в "русском" стиле. В 1887 году между театром и главным домом основной усадьбы был сооружен крытый переход на уровне второго этажа, удобно соединявший оба строения, до нашего времени переход не сохранился. Театр был построен для сдачи в аренду антрепренеру и актеру Георгу Парадизу. В 1910 году он был перестроен архитектором А.А. Галецким. Сейчас в этом здании находится театр имени Маяковского.

Главный дом усадьбы XVIII века тоже был перестроен его владелицей в 1886 году. Архитектор К.В. Терский пристроил к дому крыльцо в формах XVII века — со столбами-кубышками, висячей гирькой и шатром, по-видимому, владелице нравился такой псевдорусский стиль. В Покровском-Стрешневе строил для княгини тот же архитектор и в таком же красно-кирпичном стиле.

Фото из интернета
4. В центре полукруга служебных строений Терский возвёл ворота с крепостной башенкой. В Калашный переулок выходили два флигеля, один из которых был решен в той же древнерусской стилистике. Парадный двор усадьбы Шаховских был одним из самых живописных в Москве. В XIX веке усадьба была театром, в котором выступали французские и итальянские актёры, а также труппа Венской оперетты.

5. Шаховские-Глебовы-Стрешневы вскоре утратили интерес к владению на Никитской улице. Они подолгу жили в Европе, а затем обосновались на курортах земли Гессен в Германии, откуда были родом предки Евгении Федоровны — фон Бреверны. После смерти мужа в 1892 году вдова окончательно покинула дом на Большой Никитской и жила или в Покровском-Стрешневе, или в Европе. Все строения московского владения сдавались в аренду. В парадных комнатах второго этажа главного дома устраивались "свадьбы и домашние балы".

6. В начале XX века здесь была открыта камерная сцена, а в советское время после 1937 года находился Клуб медицинских работников. Время его наибольшего расцвета пришлось на 70-е — начало 90-х годов прошлого столетия, когда им руководил Александр Семёнович Бертман — отец Дмитрия Бертмана.
В 2009 году по проекту архитектора А.В. Бокова начались работы по перестройке усадьбы Шаховских, в результате была разрушена часть исторических строений. В ночь на 19 июня 2011 года был снесён флигель усадьбы XIX века, несмотря на решение об отмене всех выданных ранее согласований о сносе исторической застройки в центре столицы.
Всё это уже осталось в прошлом…

7. Итак, входим в театр, и как обычно он "начинается с вешалки", т. е. с зрительского гардероба, куда нас вежливо направляют молодые люди, по-видимому студенты Дмитрия Бертмана, по блестящей чёрной лестнице.

8. Лестница и посетители многократно отражаются в ступенчатом зеркальном потолке и в зеркалах по обеим сторонам, а внизу под струящейся водой встречает нас огромная афиша очередной премьеры.

9. Реальный мир дробится на осколки, и мы попадаем в театральный мир, как будто в Зазеркалье..

10.

11.

12. В фойе гардероба висит портрет бывшей хозяйки усадьбы — княгини Евгении Фёдоровны Шаховской. Говорят, портрет очень понравился потомку Шаховских, посетившему усадьбу после реставрации.

13. По театральному выглядит и фойе гардероба.

14. Понравился атриум, образованный из проезда во двор благодаря застеклению арочного проема. Атриум носит имя Шаляпина, который когда-то выступал в стенах особняка.

15. Атриум тоже настраивает на театральную волну.

16. В полу атриума сделана стеклянная витрина, и в ней представлена археологическая инсталляция.

17. Под стеклом артефакты — некоторые энергетические вещи для театра, есть и камень из Греции с горы Геликон, где по преданию музы встречались с Аполлоном.

18. На табличке перечислены все предметы инсталляции.

19.

20.

21. Лестница ведёт в фойе второго этажа, здесь находится историческая часть здания с отреставрированными интерьерами, которые уцелели к моменту начала реконструкции в 2000-е годы.

22.

23. По левой стороне исторического фойе анфиладой вдоль главного фасада идут три небольших зала, носящие имена Покровского, Тихонова и Образцовой, а по правой стороне находится белоколонный зал княгини Шаховской.

24. В историческом фойе устраиваются временные выставки.

25. Маленький зал, где давала первые спектакли труппа Геликон-оперы, называется "Покровский" — в честь Бориса Александровича Покровского. Сейчас этот зал используется для небольших камерных спектаклей.

26.

27. В этом зале стоит клавесин, изготовленный по модели И. Рюккерса 1612 (1617) года московским мастером Дмитрием Беловым. Дмитрий окончил Московскую консерваторию по классу органа и классу композиции, параллельно с учебой работал реставратором в музеях и реставрационных фирмах России, а также органным мастером Малого и Белого залов в Московской консерватории. Его мастерская музыкальных инструментов "Клавир" на сегодняшний день является первой и единственной мастерской, специализирующейся на изготовлении клавикордов.

28.

29.

30. Следующий зал в анфиладе "Тихонов" назван в честь дирижера Кирилла Климентьевича Тихонова (1921-1998). В 1990 году он стал главным дирижером и музыкальным руководителем Геликон-Оперы. В этом зале на стене висит гобелен, где изображен Аполлон с музами на горе Геликон.

31. На противоположной стене камин с часами, здесь же костюм Отелло, принадлежавший великому тенору XX века Марио Дель Монако.

32. Третий зал анфилады носит имя Образцовой. Елена Васильевна Образцова работала и дружила с коллективом "Геликон — оперы" со времён основания театра. Мебель и предметы интерьера из московской квартиры Елены Васильевны подарила театру дочь певицы, здесь же личный рояль певицы. На стене висит картина "Елена Образцова в роли графини из Пиковой дамы", её написал петербургский художник Туман Жумабаев.

33. В этом же зале представлена историческая афиша театра Ла Скала (1964 год, дебют Образцовой).

34.

35. Одна из любимых оперных партий Елены Образцовой — Кармен.

http://govza.ru/2017/04/13/s-chego-nachinaetsya-gelikon-opera/
|
Метки: театр дворянские владения |
Поговорим о балах |
Поговорим о балах
Февраль 2012 года оказался щедрым на бальные действа, которые так любимы в Московском Дворянском Собрании. Непростая подготовка этих красивых, но весьма сложных и многолюдных событий выпала, как всегда, на долю департамента культуры МДС. С его директором, Надеждой Владимировной Дмитриевой, об особенностях двух зимних балов побеседовал корреспондент газеты «Дворянский мир Москвы».
Корр.: У вас был такой насыщенный февраль — два бала, детский и взрослый. Расскажите о них.
Н.Д.: Действительно, сложный для нас месяц, но и приятный. Всегда хорошо, когда делаешь нечто такое, что радует других — а особенно детей. Я вообще люблю детские балы, и за эти годы уже сложилась определенная их структура. Я вижу, как это нравится детям, и с каждым годом растет число желающих попасть на наш бал. В этом году мы даже не делали рассылки приглашений и сменили место проведения бала. Прекрасный зал Международного славянского культурного центра теперь стал для нас мал.
детей. Я вообще люблю детские балы, и за эти годы уже сложилась определенная их структура. Я вижу, как это нравится детям, и с каждым годом растет число желающих попасть на наш бал. В этом году мы даже не делали рассылки приглашений и сменили место проведения бала. Прекрасный зал Международного славянского культурного центра теперь стал для нас мал.
Хочу выразить глубокую благодарность о. Димитрию Смирнову, предоставившему нам зал приходского культурного центра церкви Благовещения в Петровском парке. Особая признательность Марии Дмитриевне Смирновой, заместителю директора Кадетского центра имени священномученика митрополита Серафима (Чичагова) — ее кадеты украсили бал и стали прекрасными кавалерами для наших нарядных барышень всех возрастов. А хореографический коллектив народного танца «Фантазия» под руководством Натальи Александровны Ильиной… Эти прекрасные дети в замечательных костюмах показали народные танцы — индийский, корейский, казахский, молдавский, венгерский, кельтский, греческий. Маленькие гости бала сами отгадывали, танцы какой страны были исполнены. Вдохновительницей этой программы стала Татьяна Николаевна Оболенская. Очаровательная Анжелла Михайловна Королько, педагог-хореограф, учила наших детей историческим танцам — полонез, полька, вальс, «ручеек»… Получилось весело, трогательно и очень красиво.
Корр.: Обычно вы устраиваете на детских балах еще и конкурсы.
Н.Д.: Замечательный вокальный конкурс провела хорошо нам знакомая певица Анна Клепикова. Татьяна Голицына экзаменовала знания английского языка. Сама я, как могла, провела исторический конкурс — дети рассказывали о своих предках — участниках войны 1812 года. И в очередной раз убедилась, что наши дети — талантливые и очень развитые. Очередь к микрофону на сцене не уменьшалась — дети пели, читали стихи, играли на пианино.
А потом всех ждало угощение и сладкие «кремлевские подарки».
Я счастлива, что у нас есть такие прекрасные друзья, как Валерия Королева и Эльвира Павловна Судравская. Благодаря всем им наш детский бал удался, и счастливые лица детей стали лучшим тому свидетельством.

Корр.: А бал для взрослых?
Н.Д.: Их мы проводим уже двадцать лет. Накоплен огромный опыт. Но каждый новый бал несет что-то свое. Повторяться здесь нельзя, каждый раз нужно находить что-то новое, необычное, интересное.
Корр.: И что нового было на этот раз?
Н.Д.: Юбилей Отечественной войны 1812 года. Сам Бог велел посвятить очередной бал этой дате. Мы специально пригласили потомков героев 1812 года, состоящих не только в Московском дворянском собрании, но и в обществе «Багратион», в ассоциации «Суворовское наследие». Прямой потомок Кутузова Юлия Васильевна Хитрово преподнесла Кадетскому центру им. Серафима (Чичагова) именную Кутузовскую медаль, рядом с ней на сцене стояли и потомки самого митрополита-священномученика.
В течение бала я приглашала к микрофону потомков героев Двенадцатого года, и они рассказывали о своих славных предках.
Необычайно широкой была на этот раз и благотворительная программа. В помощь восстановлению полузатопленной церкви Рождества Христова в Крохино на Белом озере Катрин Дюрбер провела лотерею с прекрасными призами из Франции. Была организована и выставка «Флотская слава Отечества».
В концертной программе бала выступали молодые артисты. Московский музыкальный институт имени Шнитке, как оказалось, готовит прекрасных вокалистов и инструменталистов. Для нас стало приятной неожиданностью знакомство с певцами - Давидом Целаури, Ириной Кистиковой, Юлией Бычковой, Марией Некалиной. Руководитель этой оперной группы - Светлана Ливанова. Аккомпаниаторы - Владислав Фадеев, Ренат Кармаков, Оксана Мамонова, Ольга Радзецкая, Тимур Колодежный, Нина Евграфова.
Поразил всех замечательный инструментальный ансамбль «Credo» - Катаржина Фльорчик, Александра Коновалова, Алексей Бухарин и Максим Макагонов.
Как всегда, блистала в своем музыкальном салоне Нонна Николаевна Кристи.
Особенно удался фуршет. Он был продуман и хорошо выстроен, в чем особенная заслуга руководителя фонда «Русский имперский бал» Андрея Юсупова.

Корр.: Помимо нового, должны поддерживаться и традиции…
Н.Д.: Конечно. Структура бала у нас не меняется. Мы стараемся, чтобы танцевали все, кто пришел, поэтому наш бал состоит из нескольких отделений с танцами разных эпох. Ведь в каждом времени можно найти что-то особенно красивое. Традиции мертвы, если нет движения. Традиция — это живая связь времен.
Корр.: Здесь вы конкурируете с клубами исторического танца?
Н.Д.: Совершенно нет. У нас разные задачи. Они делают исторические реконструкции так, как такие реконструкции им видятся. Честь и хвала клубам за это. А мы делаем общественные балы для всех, кто любит исторические танцы, народные танцы, и даже стандарты «латино» (здесь особо отмечу вокалисток ансамбля «Royal voice» Валерию Королеву и Светлану Перминову). Важно, чтобы все это не смешивалось, чтобы сохранялись четкая структура и последовательность танцевального действа. Этому мы за двадцать лет научились. У нас прекрасный профессиональный педагог, доцент Московской государственной академии хореографии Татьяна Докукина.
Татьяна Николаевна всю жизнь занимается историческими бальными танцами, и успехом своих балов мы во многом обязаны именно ей. Я особенно хочу подчеркнуть это, так как сейчас среди педагогов исторического танца почти нет профессионалов. Пришло много дилетантов, которые считают, что если они видели много балов, то уже стали крупными специалистами.

Корр.: А это не так?
Н.Д.: Можно всю жизнь лежать по больницам, а врачом не стать. Нужно много учиться, и желательно у хороших педагогов. А Московская государственная академия хореографии — наиболее авторитетное учебное заведение такого рода в России. Здесь готовят самых профессиональных специалистов - и в области историко-бытовых танцев в том числе.
Корр.: А какую эпоху Вы бы сами предпочли?
Н.Д.: Вторую половину XVIII века, это мое время, оно у меня в подсознании, менуэт — мой любимый танец. Но я прекрасно понимаю, что есть и другие люди, с другими интересами, и не стоит навязывать всем остальным свои пристрастия, считая их «единственно верными».
Корр.: Что главное на бале?
Н.Д.: Атмосфера. В идеале — любви, радости и веселья. Потому что все красивое — естественно. Тогда как самое плохое для бала — вульгарность, снобизм, игра в «аристократов», и в итоге — скука. Слава Богу, избегать ее мы научились.
Предыдущая новость Следующая новость На главнуюhttp://msk.nobility.ru/rus/rus_52.html
|
Метки: дворянское собрание |
Татьяна Николаевна Оболенская р. 6 декабрь 1959 |
Татьяна Николаевна Оболенская р. 6 декабрь 1959
Запись:373556
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Оболенские |
| Пол | женщина |
| Полное имя от рождения |
Татьяна Николаевна Оболенская |
| Родители
♂ Николай Владимирович Оболенский [Оболенские] р. 20 июль 1927 ♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская) [Сарафановы] р. 1 январь 1926 |
|
События
6 декабрь 1959 рождение: Москва
титул: княжна, княгиня
1992 брак: Москва, ♂ Михаил Всеволодович Оболенский [Оболенские] р. 1963
19 август 1993 рождение ребёнка: ♂ Александр Михайлович Оболенский [Оболенские] р. 19 август 1993
27 май 1996 рождение ребёнка: ♀ Мария Михайловна Оболенская [Оболенские] р. 27 май 1996
8 февраль 2000 рождение ребёнка: ♂ Владимир Михайлович Оболенский [Оболенские] р. 8 февраль 2000
Заметки
Окончила Московский государственный университет, литературный редактор.
Ближайшие предки и потомки
Деды
♀ Мария Александровна Гудович (Львова)
рождение: по 1904
брак: ♂ Сергей Сергеевич Львов
титул: графиня
смерть: 1940
♂ Андрей Александрович Гудович
рождение: 1907
титул: граф
смерть: 1994
♂ Дмитрий Александрович Гудович
рождение: 1904
титул: граф
смерть: 1937, Москва, Бутырская тюрьма
♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская)
рождение: 1900, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: графиня
брак: ♂ Владимир Васильевич Оболенский , Москва, СССР
смерть: 1938, умерла (расстреляна) в тюрьме
 ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ w Павел Сергеевич Шереметев , Москва, СССР
смерть: 2 июнь 1942, Умерла в заключении в застенках НКВД
♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова)
рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ Владимир Васильевич Арсеньев , Москва, Российская империя
...: 1934, Париж, Франция, Второй муж: граф Александр Салтыков (1872, Санкт-Петербург – 1940, Париж)
смерть: 1952, Брюссель, Бельгия
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя
войсковое звание: 1898, Москва, Российская империя, Вышел в отставку с чином поpучик запаса
...: 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
место жительства: 12 февраль 1910, Москва, Российская империя, Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
...: ок. 1918?, Москва, Российская империя, Развод. Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
эмиграция: ок. 1919?, Югославия
...: 1920, Югославия, Брак. Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
...: 1921, Югославия, Родилась дочь: Мария Васильевна Оболенская. Муж с 1946, Clamart, Лопухин Михаил Николаевич (1918, Тюмень).
...: 1924, Югославия, Родился сын: Павел Васильевич Оболенский. Жена с 1945, Cognac, Jacqueline Bonnet (1923). Дочь Ariane (1950)
смерть: 22 ноябрь 1952, Сент-Женевьев-де-Буа, Парижский регион, Франция
♂ Сергей Васильевич Оболенский
рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 29 апрель 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp
смерть: 1936, Выборг, Финляндия
♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская)
рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна
...: 4 июнь 1897, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Владимир Константинович Шиловский (умер в 1907)
рождение: 1908, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Евгений Михайлович Слатвинский (Slatvinsky) (1872-1930, умер в заключении)
смерть: 1933, СССР, Умерла в заключении
♂ Алексей Васильевич Оболенский
рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 4 апрель 1904, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева
профессия: 1906, Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД
смерть: 21 ноябрь 1969, Стокгольм, Швеция
♂ Николай Васильевич Оболенский
рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь
смерть: 1918, Красково, Московская губерния, Российская империя, Пpапоpщик аpтиллеpии
♀ Евфимия Васильевна Оболенская
рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна
смерть: 1960, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Андрей Васильевич Оболенский
рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь
смерть: 30 декабрь 1882, Москва, Российская империя
♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко)
рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна
...: 1905, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Прутченко Николай Михайлович (1869-1929, Царицыно), офицеp л.-гв. Гусаpского полка
смерть: 1961, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Александр Васильевич Оболенский
рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 1917, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Lydia Koumbo
...: до 1933, Marvejols, Франция, Развод. Бывшая жена: Lydia Koumbo
...: 1934, Marvejols, Франция, Брак. Жена: Lucienne Marie Vanasson
смерть: 1971, Marvejols, Франция
♂ Владимир Васильевич Оболенский
рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь
брак: ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) , Москва, СССР
место жительства: 1937, Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован
смерть: до 1940, расстрелян в тюрьме
Деды
Родители
♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова)
рождение: 1922, Царицыно, Московская область, СССР
...: 1949, Москва, СССР, Брак. Муж: Павлинов Пьер (Pierre) Павлович (1921, Москва - ?)
♂ Андрей Владимирович Оболенский
рождение: с 1923 по 1924, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Николай Владимирович Оболенский
рождение: 20 июль 1927, Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР
титул: князь
брак: ♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)
♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)
рождение: 1 январь 1926
брак: ♂ Николай Владимирович Оболенский
Родители
== 3 ==
♂ Владимир Николаевич Оболенский
рождение: 28 январь 1966
титул: князь
♂ Михаил Всеволодович Оболенский
рождение: 1963, Париж
титул: князь
брак: ♀ Татьяна Николаевна Оболенская , Москва
♀ Татьяна Николаевна Оболенская
рождение: 6 декабрь 1959, Москва
титул: княжна, княгиня
брак: ♂ Михаил Всеволодович Оболенский , Москва
== 3 ==
Дети
♂ Александр Михайлович Оболенский
рождение: 19 август 1993
титул: князь
рождение: 27 май 1996
титул: княжна
♂ Владимир Михайлович Оболенский
рождение: 8 февраль 2000
титул: князь
Дети
|
Метки: оболенские |
Бобринский, Владимир Алексеевич (политик) |
Бобринский, Владимир Алексеевич (политик)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Бобринский, Владимир Алексеевич (1867)»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Бобринский.
Не следует путать с Бобринский, Владимир Алексеевич (министр).
| граф Владимир Алексеевич Бобринский | |
|---|---|
 |
|
| Дата рождения | 28 декабря 1867 (9 января 1868) |
| Дата смерти | 13 ноября 1927 (59 лет) |
| Место смерти | Париж, Франция |
| Род деятельности | политик, министр |
| Образование | |
| Партия | умеренно-правые |
| Отец | Алексей Павлович Бобринский |
| Дети | Георгий Владимирович Бобринский |
Граф Влади́мир Алексеевич Бо́бринский (28 декабря 1867 (9 января 1868) — 13 ноября 1927) — русский политический деятель, монархист, член Думы трёх созывов, один из лидеров партии умеренно-правых, лидер неославянского движения. Отец американского филолога Г. В. Бобринского.
Биография
Саша Чёрный. Зеркало
Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил...
Граф Бобринский во время Первой мировой войны, 1914 год.
Сын министра путей сообщения Алексея Павловича Бобринского. Землевладелец Богородицкого уезда Тульской губернии (3000 десятин).
Высшее образование получал на первом курсе Московского университета, однако вынужден был оставить учёбу из-за участия в студенческих волнениях. Он поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. Затем он сдал экзамены в Михайловском артиллерийском училище, вышел в запас, и закончил образование в Париже и Эдинбурге.
Владел сахарным заводом. В 1895—1898 годах был председателем Богородицкой уездной земской управы, в 1904 году был избран уездным предводителем дворянства. Также трижды избирался в Думу: 2-го (фракция октябристов, затем умеренно-правых), 3-го (фракция умеренно-правых) и 4-го (фракция умеренно-правых и националистов) созывов, он состоял членом Главного совета Всероссийского национального союза[1].
В 1907 году создал[источник не указан 937 дней] «Галицко-русское благотворительное общество», в 1908 году участвовал в славянском конгрессе в Праге. Поддерживал русское движение в Прикарпатской Руси, субсидировал русскую прессу в Австро-Венгрии: «Славянский век» (Вена), «Червоная Русь», «Русское слово», «Галичанин» (Львов), «Русская правда», «Православная Буковина»[источник не указан 937 дней] (Черновцы).
После начала Первой мировой войны в июле 1914 года поступил корнетом в тот же лейб-гвардии Гусарский полк. Служил ординарцем у командующего VIII корпусом генерала Р. Д. Радко-Дмитриева. В августе 1914 года участвовал в боях, за что был награждён орденом и произведен в поручики. В июне 1915 года демобилизовался и вскоре вернулся к парламентской работе, стал одним из лидеров группы прогрессивных националистов в составе Прогрессивного блока (вошёл в состав Бюро). 5 ноября 1916 года избран товарищем (заместителем) председателя Думы.
Во время Гражданской войны примкнул к Белому движению. В 1918 году возглавил монархический союз «Наша родина» (Киев). После поражения белых эмигрировал во Францию. Его старший сын Григорий был одним из последних офицеров-преображенцев в рядах ВСЮР. Являлся сотрудником канцелярии великого князя Кирилла Владимировича. Умер в Париже 13 ноября 1927 года, где и похоронен на кладбище Монмартр в семейном склепе.
Литература
- Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны.
- Бобринский Владимир Алексеевич
- Поп И. Бобринский, Владимир Алексеевич // Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2005, С. 117.
- 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
- Государственная дума Российской империи, 1906—1917: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 2008. С. 58—59.
|
Метки: бобринские |
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ |
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

В разные эпохи и разные времена люди жили своей обычной жизнью. Разные потрясения этих эпох вносили в их жизнь те перемены, которые они явно не хотели.
Этот небольшой рассказ посвящен истории одной семьи, по которым невзгоды двадцатого века прошлись в полной мере, семья, в которой было три человека. Они жили и трудились, в их делах не было подвигов или великой известности. Обычная семья. Глава семейства, его супруга и их сын. Фамилия их Степанцовы.
Глава семьи, Степанцов Порфирий Михайлович, родился 14 августа 1899 г. в крестьянской семье в селе Лукач Полтавской губернии.
В 1918 г., июня по ноябрь, он работал помощником машиниста на Московской железной дороге в г. Нижнем Новгороде, затем старшим техником-оценщиком в жилищно-земельном отделе Бауманского Совета рабочих депутатов в Москве.
27 ноября 1919 г. мобилизован в Красную Армию, направлен в 5-й запасной стрелковый полк, расквартированный в Москве, в декабре откомандирован на Московские высшие инженерные курсы, затем направлен на аналогичные курсы в г. Киев.
В октябре 1920 г. по окончании киевских курсов назначен командиром взвода 2-й роты 7-го запасного инженерного батальона в г. Кунгуре.
В ноябре 1921 г. поступил на учебу в техническую школу при Русско-американском инструментальном заводе, по окончании учебу, получив соответствующее удостоверение, до мая 1924 г. был преподавателем.
18 сентября 1922 г. в его жизни важное событие – Порфирий Михайлович женится на Людмиле Эрнестовне Фрицсон.
Л.Э.Фрицсон была родом из Курляндской губернии, ее отец, Эрнест Карлович, сын крестьянина, лютеранского вероисповедания, служил телеграфным чиновником, затем в Московской телеграфной конторе. Мать, Елена Петровна, православного вероисповедания.
Людмила родилась в августе 1898 г. в Москве. В 1907 г. поступила в частную гимназию Л.Д.Ежовой, которую и закончила в 1914 г. С августа 1914 г. по апрель 1915 г. окончила 8-й дополнительный класс гимназии, после чего получила право вести преподавательскую деятельность. Шла война, в октябре-ноябре 1915 г. она окончила курсы медсестер при Никольской общине сестер милосердия.
В 1915 г. Людмила поступает на Московские высшие женские курсы, на историко-философский факультет, которые и оканчивает в 1918 г., тогда же поступила на работу в 5-ю экспедицию Московского почтамта и одновременно заканчивает телеграфную школу. Время заставляет, разруха, идет гражданская война.
12 февраля 1919 г. она поступает на работу в Управление московских телеграфов и радиостанций, где проработала до марта 1925 г. Одновременно ей приходится использовать и приобретенные знания: в 1921 – 1924 гг. работать в Тверском врачебно-контрольном пункте, Арбатском бюро врачебной экспертизы, а в декабре 1920 г. быть учительницей в Детском доме им. Р. Люксембург (бывший приют Бахрушина). Не отпускает и общественная деятельность – с июля 1924 г. по март 1925 г. – председатель арбатского бюро Московского губернского комитета соцстраха, в марте 1925 г. еще и член поверочной комиссии соцстраха.
18 сентября 1922 г. Людмила Эрнестовна выходит замуж за П.М.Степанцова.
Теперь вернемся к Порфирию Михайловичу. Он теперь глава семейства. В 1923 г. он поступает на механический факультет МВТУ им. Баумана, учится и продолжает работать.
С июня по октябрь 1923 г. работал на Озерковской суконной фабрике треста «Моссукно», а с мая по ноябрь 1924 г. работает на суконной фабрике «Освобожденный труд» им. П.Алексеева.
12 февраля 1924 г. у них рождается сын, назвали его Виктором.
В январе 1925 г. Степанцов зачислен преподавателем в школу ФЗУ при фабрике «Освобожденный труд», с августа 1926 г. назначен помощником технического руководителя. Проработал на фабрике до ноября 1929 г., в январе 1929 г. закончил институт, защитил дипломную работу по теме «Переоборудование суконной фабрики на 16 станках» и было присвоена квалификация «инженер-механик». В постановлении дипломной комиссии было сказано, что проект по заданию весьма сложен и ответственен, ибо связан с осуществлением в действительности переоборудования и увеличения размеров производства существующей фабрики и при условиях продолжающейся ее работы.
С февраля 1929 г. зачислен инженером-прядильщиком в 1-й государственный Шерстяной трест, в феврале 1930 г. переведен в Шерстяное управление на должность заместителя руководителя группы тонкосуконного производства.
В 1930 г. инженер и старший инженер прядильной тонкосуконной группы Всесоюзного объединения «Союзшерсть».
В 1931 г. переведен на должность заведующего группой.
В 1932 г. он впервые за долгий период побывал в официальном отпуске. Жизнь налаживалась.
В октябре 1934 г. П.М.Степанцов назначен начальником Оперативно-технического сектора Главного управления шерстяной и валяльно-войлочной промышленности Народного комиссариата Легкой промышленности СССР. В отпуск они теперь направляются каждый год летом. Появились премии за досрочное выполнение годовых планов. Отмечая инициативу в связи с созданием и освоением новых сортов доброкачественных рисунков в грубых тканях премирован деньгами в 1934 г., а затем несколько раз были премии и в 1935г.
Теперь вернемся к Людмиле Эрнестовне. Как складывается ее, уже семейная, жизнь.
В 1930 г. она пошла на курсы иностранных языков им. Чичерина, которые закончила и получила свидетельство переводчика с техническим уклоном 2-й категории по немецкому языку.
Проживала их семья в Москве, на улице Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 1, квартира 43. Муж работал, Людмила Эрнестовна воспитывала сына. Виктор в 1931 г. пошел в первый класс средней школы № 351.
Наступил 1937 год. 5 октября Порфирий Михайлович был арестован и осужден на 10 лет без права переписки.
Так, она осталась одна с 13-летним сыном и соответствующей репутацией. Однако, ее не тронули, сын продолжал ходить в школу. С октября 1937 г. по июль 1938 г. Людмила Эрнестовна работала на Металло-штамповальном заводе стальных изделий сборщицей, затем ее жизнь была связана с ВНИИ стекла – она стала работать секретарем.
Виктор закончил среднюю школу и хотел поступать в Институт истории, литературы и философии. Началась Великая Отечественная война. Людмила Эрнестовна стала работать заведующей складом. Для нее 1941 г. стал годом новых испытаний.
Формировалось московское ополчение. 13 июля 1941 г. семнадцатилетний Виктор был зачислен в 7-ю дивизию народного ополчения (Краснопресненского района г. Москвы), прошел подготовку. Последнее место его службы – отдельная рота 1294 стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии 32-й Армии Западного фронта. Из его письма, посланного матери, следовало, что они готовы к боям. Дивизия попала в окружение в районе Вязьмы, и в октябре 1941 г. рядовой Виктор Степанцов попал в плен. Для Людмилы Эрнестовны это уже было много – муж «враг народа» и сын пропавший без вести. Но она работала. В 1944 г. после работы в должности заведующей складами стала заместителем начальника отдела снабжении ВНИИ стекла, в 1945 г. – исполняющей обязанности научного сотрудника.
От сына и мужа вестей не было. Но, вдруг она получает от сына письмо. Виктор пишет, что безмерно рад победе над Германией и скоро возвращается домой! Письмо датировано 19 мая 1945 г. Затем было еще письмо от 29 августа 1945 г. Получалось, что Виктор Степанцов был освобожден из плена, вновь направлен в Красную Армию и продолжал службу в 20-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая тогда находилась на территории Румынии. Однако, сын домой не вернулся. Он был арестован. Арестовали и Людмилу Эрнестовну.
Особым Совещанием МВД СССР от 06 мая 1946 г. она была осуждена на 5 лет ссылки. Наступил новый период ее жизни. Место ссылки было назначено в поселке Тея, Северо-Енисейского района Красноярского края.
Сначала Людмила Эрнестовна работала в поселении-совхозе «Таежник» Управления «Славзолото» пять месяцев чернорабочей.
С декабря 1947 г. по июль 1948 г. в Тайском врачебном участке дезинфектором, с сентября 1948 по март 1949 г. сторожем в Тейской строительной конторе. В марте ноябре 1949 г. еще одно место работы – Тейская электростанция – дежурная электромонтер у щита. После, в течение месяца, работала в горном цехе рудника дверовой.
С января 1950 г. она наконец стала работать по одной из своих специальностей – медсестрой в системе Северо-Енисейского райздравотдела. В 1951 г. срок ссылки закончился. Но, видимо, в Москву возвращаться было нельзя. Продолжала работать медсестрой, в июне 1952 г. закончила школу медсестер в г. Канске и начала работать в медсестрой в Тейской психоневрологической больнице.
В сентябре 1954 г. Людмила Эрнестовна уехала в г. Владимир и проживала на улице Сакко и Ванцетти, в доме № 15.
В 1956 г. она, наконец, смогла приехать в Москву. Поселилась на Ладожской улице, дом 13/17, в квартире 8. Теперь она была пенсионеркой. Общалась со своими старыми гимназическими подругами Еленой и Катей, которые сами были уже пенсионерки. Теперь она занялась поисками сведений о судьбе своего мужа и сына, стала направлять письма в разные инстанции. На одно из первых ее писем был ответ от 17 сентября 1954 г. ЗАГСа г. Москвы, что сведениями о смерти Виктора Степанцова не располагают. 3 августа 1956 г. Людмила Эрнестовна получила свидетельство о смерти своего мужа, Степанцова П.М., где указывалось, что он умер в лагере 15 июля 1942 г. от воспаления почек. Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 20 октября 1956 г. Степанцов Порфирий Михайлович был посмертно реабилитирован.
Степанцова переехала в новую, маленькую однокомнатную квартиру общежитийного типа, без кухни, на Бойцовой улице. Теперь продолжились поиски сына. Ей стали помогать. Какие-то детали его дальнейшей биографии стали вырисовываться. Примерно они выглядели так. Находясь в плену, в сентябре 1943 г. он был арестован гестапо и попал в концлагерь. В мае 1945 г. был освобожден, прошел фильтрационный лагерь и был направлен для прохождения военной службы. Война уже закончилась. И вдруг, его арестовывают, 20 октября 1945 г. судом военного трибунала 20-й Гвардейской стрелковой дивизии приговаривают к смертной казни (за поведение в плену) по статье 58-1, пункт «Б». Военный трибунал Южной группы войск приговор отменяет и решением от 22 октября 1945 г. назначает 20 лет лагерей. И с тех пор о Викторе Степанцове ничего не известно.
Но знакомая Людмилы Эрнестовны продолжает поиски. И однажды, из Военной коллегии Верховного суда СССР пришло письмо от 30 августа 1989 года № 1н-0320/89, где было сказано следующее. «Сообщаю, что в связи с Вашей жалобой в Военной коллегии Верховного Суда СССР изучено уголовное дело в отношении Степанцова Виктора Порфирьевича.
Степанцов В.П. обоснованно осужден за измену Родине. Действительно в 1941 г. он ушел на фронт добровольцем, но затем сдался в плен к немцам, принял присягу и служил в немецкой армии. После направления Степанцова в лагеря для военнопленных, он сотрудничал с гестапо и жестоко относился к находившимся там военнопленным. Эти факты, помимо свидетелей-очевидцев, подтвердил на следствии и в суде и сам Степенцов.
За содеянное Степанцов В.П. был лишен свободы на 20 лет, где находится он в настоящее время, данных в деле нет.
Дело в отношении Фрицсон-Степанцовой Л.Э. направлено для рассмотрения в Прокуратуру СССР, поскольку к уголовной ответственности она не привлекалась. Дело в отношении Степанцова Порфирия Михайловича прекращено Военной коллегией Верховного Суда СССР 20 октября 1956 года за отсутствием в его действиях состава преступления. Врио Заместитель председателя военной коллегии Верховного Суда Союза ССР И.Сурков».
Вот такое письмо. Но Людмила Эрнестовна Степанцова его уже не увидела. В апреле 1988 г. она скончалась от открытой формы туберкулеза, немного не дожив до девяноста лет.
|
Метки: степанцовы гимназия л.д.ежовой |
История деревни Калчуга Одинцовского района |
История деревни Калчуга Одинцовского района
Вблизи Усова, на высоком берегу Медвенки, неподалеку от ее впадения в Москву-реку, находится деревня Калчуга (в разные времена – Пустошь, Петрушкино, Колчуга), возникшая на месте выселок из Усова. По одной версии, название деревни Калчуга произошло от искаженного «кольчуга» – в далекие времена в этом селе жили мастера-кольчужники, по другой – деревню назвали по имени протекавшей тут некогда речки Кольчуги и название ее происходит от колчи — кочка, кочковатое болото, бугристая поверхность. Деревня известна с начала XIX века как выселки села Узкое, принадлежала сёстрам Вельяминовым. В то время там проживало 32 души мужского и 36 женского пола.

Семейный портрет Воронцовых-Вельяминовых
Участок, где позже возникла усадьба Зубалово, находящаяся в деревне Калчуга, в исторических документах известен с 1806 года, когда владелец деревни Усово гвардии капитан Дмитрий Михайлович Лассенгефнер продал его графу Николаю Ивановичу Салтыкову. В 1852 году здесь было две усадьбы: первая ― калежского ассесора Абрама Петровича Хвощинского (22 человека крепостных), и вторая ― Анны Дмитриевны Зандгален, построившей в усадьбе химический завод, выпускавший глауберову соль и селитру.
В 1857 году она продала 8 десятин здешней земли крестьянам Щавелеву из Барвихи и Кондратьеву из Луцкого (их потомки живут и сейчас в Барвихе и Жуковке). В давние времена в Калчуге Кондратьев и Щавелев пытались развить начатое семейством Зандгален производство удобрений, но из этого ничего не вышло.
В 1892 году они были вынуждены продать свою землю, прилегающую к деревне Калчуга, бакинскому нефтепромышленнику-миллионеру Льву (Левану) Константиновичу Зубалову (Зубалашвили), который здесь, на высоком холме, по обе стороны живописного урочища Медвенки, в конце 1890-х – начале 1900-х годов построил четыре дома – для себя, отца, брата и дяди. Проектировали их в псевдоготическом стиле архитекторы Н.Н. Чернецов и П.С. Бойцов. В этом же стиле выдержаны и хозяйственные постройки. Усадьбы в Калчуге были обнесены каменной оградой. Зубаловы хорошо знали Барвихинский край – здесь жили их родственники Майендорфы и Трапезниковы. Вместе с Майендорфами они владели лесопилкой в Усове. Зубаловы стали прихожанами усовской Спасской церкви и щедро ей помогали.
Когда-то десятикилометровое Красногорское шоссе называлось Зубаловским, и местные старожилы охотно рассказывали, что его еще до революции проложили меценаты Зубаловы, состоявшие в родстве с баронами Мейендорфами из Барвихи. Князь Кирилл Голицын в своих записках, изданных в 1997 году, пишет о Зубалово: "Увидел я загородное владение миллионера-нефтяника издали в 1923 году. Случилось это так. Примерно через месяц после смерти моей матери, в июне 1923 года, нас с отцом потянуло к родным в Москву, так как в Петрограде никого из близких уже не осталось. В Москве никого не застали — Голицыны были на даче, которую сняли в селе Знаменском, расположенном на правом берегу Москва-реки напротив родового голицынского Петровского. Станция Усово помещалась тогда в старом товарном вагоне без колес, одиноко стоявшем возле путей.

Усадьба Зубалово
Там перед отправлением поезда продавались билеты. А приехавшему в Знаменское предстояла от Усова прогулка пешком — около трех километров. Однако здесь, между станцией Усово и Знаменским, с дореволюционных времен стояла усадьба Зубалова, которую он укрепил не хуже, а может быть, и лучше своего московского дома. И эти укрепления сыграли свою роль в истории владения. Именно благодаря мощной стене, железным воротам и «персональной» железной дороге «Зубалово» в советское время стало одной из первых «высоких резиденций».
После Октябрьской революции усадьба стояла без пригляда, пока на лето 1924 года сюда не приехал с женой Ф. Э. Джержинский. Дзержинскому место понравилось, и по его инициативе здесь создали образцовый совхоз Горки-2 для снабжения госаппарата сельскохозяйственными продуктами. Постепенно сюда переместились на летний отдых, а после и на постоянное жительство И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Бухарин, А. И. Микоян и другие. И. Сталин перебрался отсюда в 1932 году на кунцевскую дачу после самоубийства жены Надежды Аллилуевой.






В книге «Двадцать писем к другу» Светлана Аллилуева вспоминает: «Солнечный дом, в котором прошло мое детство, принадлежал раньше младшему Зубалову,нефтепромышленнику из Батума. Анастас Микоян с семьей и детьми, Ворошилов и несколько семей старых большевиков разместились в Зубалове-2, а отец с мамой ― в Зубалове-4, неподалеку, где дом был меньше. Осенью 1941 года было взорвано наше дорогое Зубалово, так как ждали, что вот-вот подойдут немцы. Мы поселились во флигеле». Это о Зубалове-4. А Зубалово-2, где жил Микоян летом 1963 года, ещё сохранялось.
Племянник жены Сталина В. Ф. Аллилуев вспоминает: «В предвоенные годы Светлана жила в Зубалове со своей няней Александрой Андреевной Бычковой, там же жили дед (С. Я. Аллилуев), бабушка (О. Е. Аллилуева)… Одна из комнат на первом этаже дома была особенно светлой, так как её стена, выходящая в сад, была стеклянной… В комнате было множество занятных вещей — поделки замысловатые, инструмент и главное — верстак, установленный вдоль стеклянной стены. Дед любил эту комнату и проводил в ней все время, он вечно что-то мастерил, строгал. Писал он здесь и свои воспоминания „Пройденный путь“…».







В другой зубаловской усадьбе, так называемой Зубалово-4, на левобережье Медвенки с 1919 по 1932 год, до самоубийства жены, жил И.В. Сталин с семьей. Главный въезд в усадьбу был со стороны Знаменской дороги (современного Красногорского шоссе), которая соединяла Одинцово с селом Знаменским. Дорога шла через глухой девственный лес, тот, что остался и сейчас. На пути встречалась только одна деревня – Лайково, она была в полутора километрах от усадьбы. Дорога и местность вокруг очень живописны. Спуск к Зубалову больше напоминает горный серпантин. Особенно красив этот спуск ранней весной, когда тает снег и по обочинам возникает множество маленьких водопадов. Красива дорога и в начале мая, когда по берегам Медвенки цветет черемуха. Красоту этому месту придает и популярный родник. Невозможно понять, что за таинственная жизнь идет сейчас за зловещей, поросшей седым мхом стеной. За ней видны только вековые ели. Даже птиц не слышно в этом малопривлекательном месте, где таились от глаз людских победившие вожди революции. Зубаловы когда-то укрывались в этой усадьбе от экспроприаторов, а сами экспроприаторы по достоинству оценили крепость, возведенную под Москвой их классовым врагом.
https://www.rublevka24.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE...D0%BB%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0/
|
Метки: дворянские владения |
"Парень с Сивцева Вражка" Автор книги: Алексей Симонов |
0
Парень с Сивцева Вражка
- Текст добавлен: 15 октября 2016, 06:03
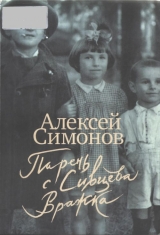
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
И еще – отцовские руки, которые держат карты. Тут уже карты – вещь случайная, просто вспомнилось в связи с канастой. А руки отца в те годы: тыльная сторона кистей в язвах, в красно-коричневой коросте заживающих и в очагах новых, похожих то ли на прыщи, то ли на нарывы. Все эти годы у отца была какая-то нервная экзема, и не увидеть, не заметить ее, даже для пацана, приезжающего или привозимого нечасто, было невозможно. После 1956 года я ничего подобного не помню. Отцовские руки – часть его жеста, их можно увидеть на многих фотографиях, экспрессивные и яростно выразительные. И руки его чисты. Не берусь этого утверждать, но надеюсь, что догадка моя верна. Мне кажется, что эта экзема – прямая реакция нервной системы на постоянный, причем усиливающийся раздрай между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.
Кстати, во время войны никакой экземы у отца не было. Возникла она где-то в году сорок седьмом и промучила его, как я уже говорил, до 54-го, 55-го. Мне почему-то кажется, что и эта игра в канасту, и постоянное сидение в разнообразных президиумах имеют к экземе прямое отношение, может быть, тут нет причинно-следственных связей, но необходимость «убивать время» была оборотной стороной сверхвысокого имиджа, которому надо было соответствовать, и как-то они связаны. О том, что это десятилетие – самое тяжелое и противоречивое в жизни отца, я уже писал, цитировать самого себя как-то не хочется.
И последнее про Переделкино. Слева от дома, если смотреть на него от калитки, стояла аккуратная будка, которая большей частью бывала закрыта. По младости мы туда заглядывали, но ничего интересного там внутри не было: метлы, лопаты, пустые бутылки, словом, хоздворная постройка, сделанная с некоторой щеголеватостью, так чтобы назначение не бросалось в глаза.
Не могу объяснить, знаю я это или у меня это чувство возникло позднее, но я – последний раз в Переделкине. После этих дней себя я там не помню. Толя в Нижнем Тагиле. Дача пуста, в ней живут только трое: отцовская домработница Марья Акимовна, двоюродный брат Вали – Костя Либкнехт и я. Как минимум эта история продолжалась три, а то и четыре дня.
Сначала про Марью Акимовну, еще именуемую Машей Черной в отличие от другой домработницы, Маши Белой. В доме отца она появилась в войну, когда отцу впервые дали квартиру на Ленинградском проспекте, в так называемом ажурном доме. Была Акимовна похожа на куклу-неваляшку, маленькая, плотная, без острых углов. Отцу была предана безмерно, хотя и осуждала за разные, с ее точки зрения, неправильные поступки. Но эти свои претензии держала при себе, а с другими людьми, в том числе с его женами, стояла за него насмерть, почему и с Валентиной Васильевной не всегда находила общий язык, да и с Ларисой Алексеевной тоже.
«Хозяин у меня хороший. Не пристает никогда». Это ее откровение было, мягко говоря, неактуально, учитывая ее редкую некрасивость. Жила она в доме отца много лет, переезжала с ним во все его «дома» и похоронена на кладбище в Красной Пахре, где была последняя отцовская дача.
Гостей любила, особенно мужиков, и, по словам отца, имела одно бесценное и таинственное свойство: какая бы в доме ни была накануне пьянка, как ни обыскивали с целью «добавить и закусить» вверенную Марье Акимовне квартиру, наутро перед отцом на завтрак стояла тарелка борща и хорошая стопка водки. Где и как она хранила этот запас, семейная история умалчивает. А еще говорят, что все тайное когда-то становится явным.
У Серовой были две тетки – по возрасту ненамного ее старше, которых Роднуша воспитывала как Валиных сестер. Костя был сыном средней из сестер Половиковых и фамилию Либкнехт носил по отцу. Какая-то связь со знаменитым немецким социалистом была, но я уже сейчас не помню какая. Костя был крупный, массивный, старше меня лет на семь-восемь. В семидесятые годы работал на ТВ, где мы с ним изредка сталкивались, и хотя отношения были, скорее, с оттенком симпатии, никогда не возникало серьезной потребности увидеться, поговорить – слишком, видимо, глубокий рубеж прорезал между мной и семьей Валентины Васильевны отец своим уходом, разводом, разделом имущества и так далее.

Марья Акимовна на празднике своего 50-летия. В кружевном воротнике между Н. П. Гордон и С. Г. Карагановой
Но это в перспективе, а пока мы – на даче, и нам скучно. От скуки слоняюсь по двору и вижу, что будка не заперта и, после долгого перерыва заглянув в нее, обнаруживаю, вот не знаю, как сказать, – склад или свалку пустых бутылок из-под спиртного. Их не просто много, их тьма, причем если бутылки из-под водки просто поверхностно грязные, то бутылки из-под вина выглядят варварски, словно тем, кто это вино пил, было недосуг найти в доме штопор: пробка для быстроты продавлена внутрь и болтается там чужеродным поплавком.
Такое ощущение, что кто-то из хозяев, а было их всего двое, пил от другого тайком, наспех, старясь добраться до содержимого как можно скорее. Какая-то большая беда, или – мягче – неблагополучие в доме, стояло за этим кладбищем бутылок.
Но это все куда более поздние соображения, а тогда сдача бутылок была занятием доходным и весьма актуальным. Посему, взяв таз с водой и прочную бечевку, я, пользуясь неизреченным сочувствием окружающих, принялся извлекать пробки из бутылок, мыть бутылки и ставить их на солнышко сушиться. К концу дня, нагрузив найденные Акимовной две здоровые сумки, я прицеплял их на руль велосипеда и вел этот велосипед на станцию, в Переделкино, где имелся пункт приема стеклопосуды. Ехать не мог – коленям мешали слишком большие сумки.
За три имевшихся в моем распоряжении дня, я мало истощил имевшийся в будке запас, но каждый день привозил домой полную четвертинку, которую мы втроем и распивали. Остальными деньгами я честно делился с Костей, а Акимовна свою долю не брала, ограничиваясь участием в распитии четвертинки – не смела она посягнуть на хозяйское добро. Подозреваю, что это и был мой первый честно заработанный рубль.
Не знаю почему, но и эту историю я никому не рассказывал, может быть, подспудно ощущая ее неявный смысл, ставший очевидным мне много позже.
Алинька

Княжна А. Л. Оболенская – воспитанница Смольного института благородных девиц
Первое живое воспоминание о бабке Але – шестилетнее. А может, мне уже семь, хотя вряд ли – я, по-моему, еще не хожу в школу. Почему-то мы остались с ней вдвоем на Сивцевом Вражке. И почему-то вместо сахара она в варящийся в кастрюльке кофе насыпает полную пригоршню соли – кофе мгновенно выкипает, обжигая Алиньке руку и тут… Тут я должен признаться, что любые мои воспоминания о живой Алиньке связаны с внутренней неловкостью, не сегодняшней, а тогдашней. Так вот, бабка без малейших колебаний тащит меня в туалет и, спустив с меня штанишки, требует, чтобы я пописал на обожженное место, потому что, как по ходу дела объясняет мне Алинька, лучшее лекарство от ожога – это детская моча. Эта новость и еще более неожиданное ее поведение вводят меня в ступор, и ждать моей струйки приходится нестерпимо долго.
Второе из первых воспоминаний – Дубулты, Рижское взморье, 1948 год – первое мое лечебное лето. Алиньке 58 – она стройна, с незапамятных для меня времен седовласа и похожа на прибалтийскую даму, что часто служит причиной мелких недоразумений. Для их разрешения бабка выучила по-латышски «не понимаю», что, если память мне не изменяет, звучит как «несо прут». Для удобства запоминания моя лингвистически одаренная бабка переделала это латышское «не понимаю» в русское «не сопрут».
И вот мы выходим с территории литфондовского Дома творчества в сторону, противоположную взморью, и оказываемся в прекрасном сосновом лесу. Тут к нам подходит красивый латышский старик и без тени сомнений обращается к бабке на прекрасном латышском языке.
«Не украдут», – с достоинством отвечает бабка. По лицу старика пробегает тень недоумения.
«Не стырят», – с тем же апломбом объясняет ему бабка Аля.
Старик делает попытку отступить.
«Ну, как это по-вашему, – не слямзят…»
Старик готов удариться в бега.
«…Не сбондят…» – удивительное для выпускницы Смольного института благородных девиц богатство русского языка.
«…Не свистнут… – и уже вслед скоро семенящему от нее латышу: …Ох, ну, не сопрут, не сопрут!»
Примерно тогда же бабкины записи фиксируют первые проявления моей наследственной гениальности. Среди ее бумаг мною найдено первое мое стихотворение:
Алинька, милая и дорогая,
Вышла она из цветущего рая.
Ангела хочет создать из меня,
Но нам обоим дорога трудна.
С припиской: «Первый поэтический опыт. Алексей серьезен и, видимо, талантлив». Что из приведенных строк абсолютно не следует и, на мой сегодняшний взгляд, даже не предполагается.
Еще один эпизод, но на этот раз не из памяти, а из семейных легенд, хотя по времени он восходит примерно к тем же 1946–1947 годам. В Ленинград поехала группа высокопоставленных деятелей культуры, чтобы оценить ущерб, нанесенный городу блокадой и обстрелами. Был включен в эту группу и отец. И поскольку общение со своей мамой всегда стояло для него отдельной строкой во временном его, очень, особенно в те годы, плотном расписании, и всегда было «проблемой», он решил воспользоваться этой командировкой и взял мать с собой.
И вот идет эта высокопоставленная команда по коридорам Смольного и с важным видом поворачивает головы в соответствии с призывом сопровождающих лиц то вправо, то влево и, соответственно, то охает, то вздыхает. Алинька держится от группы на вежливой дистанции, но внезапно церемонную процедуру нарушает ее громкий голос: «Кирюша! Ну посмотри же сюда, здесь был мой дортуар!»
Надо добавить, что раз написав отцу:
Константина не желала,
Константина не рожала,
Константина не люблю
И в семье не потерплю…
…Она всю оставшуюся с 1939 года жизнь продолжала звать его Кириллом. А «дортуар» – это по-нашему спальня. Только и всего.
Вот теперь попробую сформулировать, что же вызывает в памяти чувство внутренней неловкости. Бабка Аля в любых жизненных обстоятельствах вела себя совершенно естественно, но… без учета и самих обстоятельств, и задействованных в этих обстоятельствах ролевых актеров. Актеров «кушать подано» она могла просто не замечать. Это могло быть почти незаметно, как во всех вышерассказанных эпизодах, но могло прозвучать и как вопиющая бестактность, совершенно ею не замечаемая. Как оперный певец с хорошо поставленным голосом вдруг пользуется этой «поставленностью» в быту, вызывая у окружающих ощущение фальши, к которой очень трудно привыкнуть до степени незамечаемости.
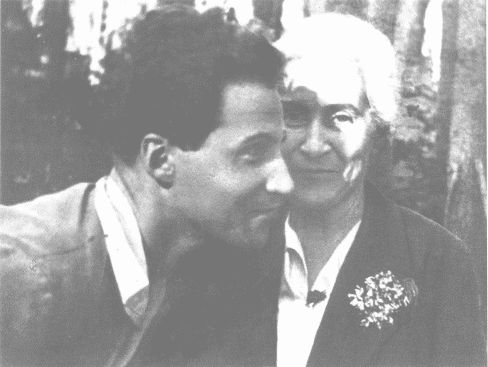
А. Л. Иванишева с сыном, еще Кириллом Симоновым, середина 30-х.
Я приведу здесь отрывок из бабкиного письма отцу, которое, как мне кажется, может этот феномен объяснить.
Октябрь 1943 года. Бабка Аля и деда Саша находятся в эвакуации, в Молотове. Поскольку мне еще не раз придется цитировать эпистолярии бабки Али, предуведомляю: все сокращения, в том числе и труднорасшифруемые – специфика бабкиного письма. В тетрадный лист или открытку Александра Леонидовна пыталась втиснуть столько слов, что писала сначала вдоль, потом на относительно свободных местах – поперек (низ страницы, место сгиба), а потом на белых образовавшихся пятачках – как придется, нумеруя эти «добавки», чтобы читающий уловил логику изложения. И все это почерком ученицы, имевшей за чистописание твердую пятерку – такое вот экзотическое сочетание, а может быть, привычка экономить бумагу. Впрочем, как вы увидите из письма, оснований для экзотических сочетаний в бабкиной жизни, характере и мировоззрении было вообще пруд пруди. А сокращения я буду, когда почту непонятными, расшифровывать в скобках.
«Теперь о возвращении в М. [Москву] – я полагаюсь на судьбу и только внушаю себе, что наступит день, когда неизвестность этих дней будет в прошлом. Одно скажу, что в моем пребывании у тебя была еще 1 (одна) сторона. Ты о комфорте, кот. себе честно заработал и в кот. сейчас живешь, знал из книг и по рассказам, в жизни реальной – детства и юности – твоим комфортом были мои заботы и любовь. Я родилась, выросла и 25 лет своей жизни прожила в нем, в условиях, когда даже сама не разувалась. Потом жизнь круто сломалась, и ты знаешь и помнишь, что мать оказалась на высоте <…> без неискренности и ложного пафоса.
Но сейчас я устала жить, в каждом шаге надеясь на себя: убрать, выстирать, вынести, вылить, сходить в магазин, б-ная (оч. больная), здоровая – рассчитывать не на кого. И, скажу откровенно, мне хочется и я честно по-моему имею на это право, пожить так, как живет мой сын, кот. я вырастила, – в хорошо обставленной комнате, с возможностью взять ванну, пользоваться услугами. И мне больно подумать, что может по моему приезду в М. (Москву) быть иначе. Это уж я не смогу пережить, понимаешь, того факта, что ты мог после всего пережитого это допустить.
А как мы с папой прочли Вал. ( Валентинино или Валюшино, в зависимости от контекста.– А. С.) письмо о том, что ее кв. [квартира] меняется не для тетки и нас, как ты мне говорил, и, следовательно, мечта об иной жизни, чем на Петровке, – блеф, папа и говорит: „Ну, конечно, разговоры одни, как и с шубой, обещает и не исполнит“.
Но я не сдаюсь и говорю: „Нет, он понимает, нет, этого не может быть“. Ведь правда, Кирюня, не может?! <…>
Ведь знаешь, вдруг прикоснуться к тому, на чем рос, и опять свалиться в яму, очень тяжело».
То есть начиная с 25 лет Алинька жила не своей жизнью, смиряя себя, загоняя эту жизнь в подполье памяти и сознания, но она все-таки прорывалась и тогда, по обстоятельствам, бабка давала петуха, громкого и не очень, резкого или помягче, но непременно.
В этой части моей семейной истории, слава богу, есть письма и документы, позволяющие представить себе этот жестокий рубеж бабкиной жизни, разделивший ее на жизнь, которой надо было соответствовать, и жизнь, о которой следовало забыть.
Александра Леонидовна Оболенская – младшая дочь князя Леонида Николаевича Оболенского – одного их тех титулованных дворян, кто сделал карьеру на гражданской службе; действительный статский советник, прошедший все чиновничьи ступени, начиная с низших, что отложило отпечаток на его личность – методическую до пунктуальности, трепетно оберегавшую свое княжеское достоинство и характер, подверженный приступам ярости ( о чем ниже.– А. С.).
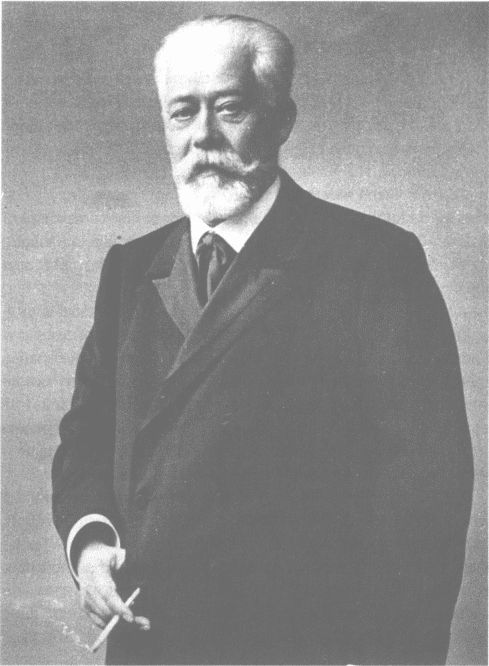
Мой прадед – князь Л. Н. Оболенский – действительный статский советник
В 1874 году, когда Леониду Николаевичу был 31 год, он женился. Женился на Дарье Ивановне Шмидт – отец которой был действительным статским советником, а мать – урожденная княжна Шаховская, откуда и примесь восточной крови в нашем семействе.
В январе 1875-го у них родилась дочь Людмила.
В марте 1876 года – дочь Дарья.
В июне 1877 года – дочь Софья.
В июле 1878 года – сын Николай, и наконец в апреле 1890 года родилась дочь Александра.
Вы чувствуете эту железную русско-дворянскую поступь: рожать до самого сына. Три года подряд дочки – наконец долгожданный Николай, названный в честь деда, и пауза, а может, и вовсе удовлетворенность результатом. И только через 12 лет, в уже установившиеся, обкатавшиеся семейные отношения, ритуалы и традиции – маленькая Аля, которая младшего моложе на 12 лет, обречена быть шалуньей и любимицей, анфан терибль семейства, где бесконечно любят маму, а отца побаиваются, и присутствие его оказывает дисциплинирующий эффект… на всех, кроме маленькой Алиньки, которой про это пока ничего не известно.
Да и жизнь налажена: отцовы гражданские должности и обязанности по службе уже не напрягают княжескую гордость, а, скорее, льстят ей. Уже и благополучие семейства, пусть относительно скромное, но куда более комфортное, чем 12 лет назад, позволяет младшую отдать в Смольный институт, где все устроено по-английски строго, говорят день по-французски и день по-немецки, а на выпускном балу танцуют с непременно присутствующим на каждом выпуске государем императором.
Но я обещал про яростные вспышки Леонида Николаевича. Жертва одной из таких вспышек постоянно присутствовала перед глазами в качестве живого укора и предупреждения: дочка Дарья, в семье именуемая Долли, получила непоправимое телесное увечье в результате такого приступа ярости. По одной версии, отец швырнул в нее тяжелым, в коже, фолиантом и попал по лицу. По другой – этот удар сбил ее с ног, и она осталась хромой на всю жизнь. Это определило всю ее дальнейшую стезю – ни надежд, ни помыслов о браке, сестра милосердия в Первую мировую, тайное монашество после 1917 года, высылка из Ленинграда в Оренбург в 1934-м и смерть в 1940-м в одиночестве, без близких, без защиты и поддержки и в результате – без могилы. Отец мой ее знал, но не любил, она была странна ему до отчуждения.

Дарья Ивановна Оболенская (Шмидт) – моя прабабушка
Вот… А природу этих вспышек, мне кажется, я понимаю. Ведь, как я уже сказал, начинал прадед гражданскую службу с низших ее ступеней; несоответствие должностей и амбиций, происхождения и положения должно было накапливаться, а разрядиться «в присутствии» не могло – возможность вырваться, то есть постепенно идти по служебной лестнице вверх и вверх, зависела от того, насколько ровно и сдержанно проходишь ты отведенную судьбой должностную дистанцию: тот случай, когда судьба и служба – пусть на время – одно и то же. И не выплеснутое на службе копилось, нагреваясь иногда до белого каления, и выплескивалось яростно и некрасиво, по ничтожному поводу дома.
Вы только подумайте, услышать: «А столоначальником у нас князь Оболенский», или обращенное к тебе равным по рангу чиновником: «Ну, князюшка, тут вы дали маху!» Или того хуже – издевательское: «Высокое происхождение не снимает с вас обязанности составлять бумагу грамотно». На единственной сохранившейся фотографии он бородат, суров и благообразен. Но кто ж не благообразен на этих жесткого картона карточках до самых 20-х годов. Там даже немногочисленные шутки, так и те – благообразны: слишком долго нужно было фотографию экспонировать, чтобы непосредственным было изображение.
Леонид Николаевич умер в 1910-м. Самая старшая из сестер, Людмила Леонидовна, была к тому времени замужем за военным инженером Тидеманом, старшего ее сына по традиции назвали Леонидом, он в войну погиб в ополчении, двое других ее детей – Маруся и Андрей – поехали в 1934-м следом за матерью в ссылку. В 1911 году женился брат Николай, а поскольку семейные связи были еще нерушимо крепки, то его родившийся в 1913-м сын назван был Николаем Николаевичем, так как наследственная традиция была уже в семье соблюдена. Две другие старшие сестры Алиньки никогда не вышли замуж: Долли – по вышеупомянутой причине физической и психологической травмы, а Софья, видимо, по причине редкой некрасивости, которая, впрочем, никак не сказалась на ее на редкость контактном, веселом и щедром на добро характере.

Бабка Аля – выпускница Смольного института
Центром семьи продолжала быть мать – Дарья Ивановна – глубоко и преданно любимая всеми членами семьи, что можно увидеть по любому из сохранившихся писем. Сохранилось их не так много, главным образом – письма 1920–1923 годов, которые сбережены были братом в Париже, а не другими членами семьи в российских пределах и российских переделках, и отношение к матери в них одинаково трепетное во всех. Где-то в конце 13-го или начале 14-го года замуж выходит и Алинька. Начинается история ее недолгого, полного драм и тайн первого замужества, и входит в наше повествование полковник, давший нам с отцом фамилию Симонов.
Есть и послужной список Симонова Михаила Агафангеловича. Когда услышишь это отчество, сразу исчезают бесконечные домыслы о кавказском, армянско-грузинском происхождении отца. К сожалению, разработать генеалогию этого семейства мне не удалось, впрочем, я и не особенно старался, но имя Агафангел уж никак не взывает к горным вершинам Кавказа, хотя и произносится с ударением на ангела.
Послужной список
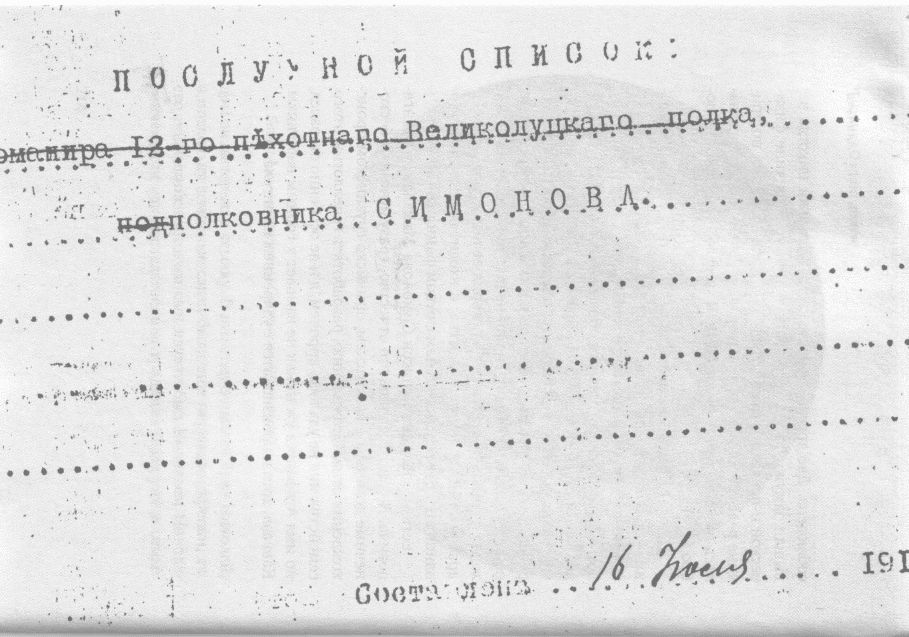
Страница из сохранившегося Послужного списка деда – Михаила Агафангеловича Симонова
Данный послужной список составлен 16 июля 1915 г., Михаил Агафангелович еще полковник. Из более позднего документа – списка Генштаба от октября 1917 года, следует, и это последние официальные следы М. А., что в чине генерал-майора он в октябре 17-го является начальником этапно-хозяйственного отдела штаба 5-й армии.
Родился 29 марта 1871 года.
Из дворян Калужской губернии.
Православного вероисповедания.
Учился в Орловском имени Бахтина кадетском корпусе, откуда в 1889 году, то есть в возрасте 18 лет принят в училище.
По 1-му разряду, то есть хорошо и очень хорошо, окончил Военно-Александровское училище в 1891 году и по первому же разряду в 1897-м – курс Общего и Геодезического отделений Николаевской академии Генштаба, и за отличные успехи в науках произведен в штабс-капитаны.
Имеет ордена: Святого Станислава 2-й и 3-й степени, Святой Анны 3-й степени, георгиевское оружие и несколько юбилейных медалей (в память 1812 года, 300-летия дома Романовых и даже 200-летия Полтавской победы).
Звания полковника удостоен в декабре 1907.
В этом звании переменил много должностей, пока в 1911 году не стал начальником штаба 1-го пограничного округа ( а надо сказать, что пограничник в тогдашнем понимании, это офицер, занимающийся фортификационными сооружениями в приграничной полосе.– А. С.). Он ездит с контролирующими офицерами в соседние округа и вообще, по воспоминаниям бабки Али, занимается фортификацией, то есть строительством приграничных, в том числе и береговых укреплений.
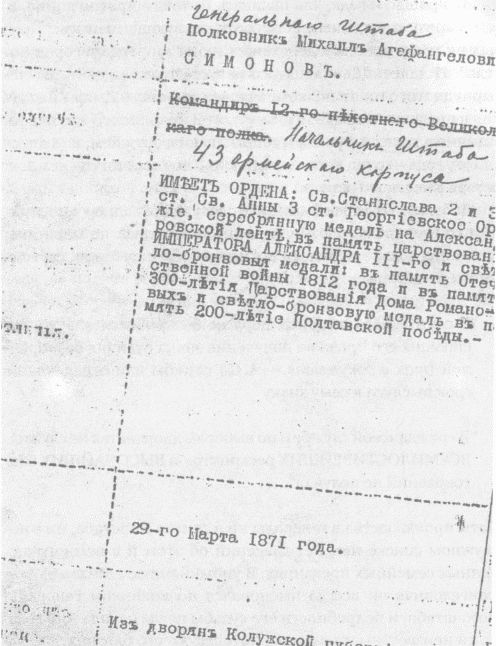
Одна из страниц послужного списка Симонова М. А.
1 августа 1913 года он сдал штаб округа по случаю отъезда в 2-месячный отпуск. Поскольку иных документов – ни гражданских, ни религиозных – мне найти не удалось, готов рискнуть сделать предположение, что именно в эти два месяца он, как сказано в послужном списке, женился «первым законным браком на девице княжне Оболенской Александре Леонидовне. Жена вероисповедания православного». Даты этого события нет в послужном списке. Так что, скорее всего, я прав, и в августе 1913 года Михаил Агафангелович, сорокадвухлетний холостяк-полковник, женился на барышне, на 19 лет его моложе, хотя, повторяю, не нашли мы об этом ни записей в церковных книгах Петрограда, ни в записях актов гражданского состояния.
Не прошло и года, как началась Первая мировая война, о чем в послужном списке есть соответствующая запись: «Прибыл на театр военных действий 1 июня 1914 года в город Ковель». И далее: «Двенадцатого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года с полком перешел границу у Дмары и вступил в пределы Австро-Венгрии». <…> В ноябре того же года за отличие в делах награжден георгиевским оружием, а 18 апреля 1915 года – отец еще не родился – по болезни отчислен в резерв Киевского округа.
Добавим, что с этой даты все следующие записи в послужном списке сделаны от руки, а не напечатаны на машинке. Есть и несколько не имеющих прямого отношения к службе записей, например:
«В службе сего штаб-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия безпорочной ( так в документе. – А. С.) службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку».
«В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИХ рескриптов и ВЫСОЧАЙШИХ благоволений не получал».
Даты производства в генералы ни в списке Генштаба, ни в послужном списке нет, нет сведений об этом и в немногочисленных семейных преданиях. В упоминаниях о Михаиле Агафангеловиче он всегда именовался полковником Генерального штаба, и подробности его судьбы после начала 1916 года то ли неизвестны, то ли мало интересуют его близких.
Смутно помню только, как бабка Аля, которая и в минуты лирические не забывала о неуклонном своем предназначении – помогать всем мужчинам семьи в осуществлении их миссии – делилась со мной воспоминаниями о жизни с М. А. Про ее участие в рязанской кустарной кооперации вместе с дедом Сашей и моем поэтическом взрослении вы уже читали, от работы над своими литературными произведениями отец ее решительно и рано отдалил, что было одним из неизменных поводов для переживаний, но начиналось это сразу после замужества: Михаилу Агафангеловичу Алинька помогала чертить схемы для книги – единственного нерукотворного свидетельства его присутствия в этой жизни ( ну, разумеется, не считая отца и фамилии Симонов. – А. С.) – «Современная оборона морских границ», вышедшей в 1915 году, экземпляр которой имеется в отцовском фонде РГАЛИ.
Назад к карточке книги "Парень с Сивцева Вражка"
https://itexts.net/avtor-aleksey-simonov/218026-pa...leksey-simonov/read/page-9.htm
|
Метки: симоновы |
Почему Дмитрий Менделеев признал японскую внучку |
Почему Дмитрий Менделеев признал японскую внучку
Александра Камнева
8 февраля 2019, 12:31
Дмитрия Ивановича Менделеева справедливо считали «русским да Винчи». Фото: globallookpress.com
8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося русского ученого
Со школьной скамьи большинству из нас он известен как создатель периодической таблицы химических элементов, которую он открыл 150 лет назад. Но Дмитрий Иванович обладал поистине энциклопедическими знаниями. Физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель – круг его интересов был обширен.
Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Его отец, Иван Павлович, был директором Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Мама, Мария Дмитриевна, вела хозяйство, занималась детьми. Семья даже по тем временам была огромной – Митя родился последним, семнадцатым по счету. К сожалению, восемь его братьев и сестер умерли еще в младенчестве, а одна из сестер, Маша, в 14 лет сгорела от чахотки.
В семье была большая библиотека, и маленькие Менделеевы с четырех-пяти лет уже умели читать. Мария Дмитриевна играла на фортепиано, приобщая к музыке многочисленных отпрысков.
Дмитрий рос обычным мальчишкой, умел за себя постоять. Спустя много лет сын Дмитрия Ивановича Иван будет вспоминать, что однажды, когда отец был не здоров, он произнес: «Ломит все тело так, как после нашей школьной драки на Тобольском мосту».
Учеба давалась Менделееву нелегко. С первого курса Главного педагогического института в Петербурге, куда он поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета, его чуть не отчислили за неуспеваемость. По всем предметам он имел двойки и лишь математику тянул на трояк. Но на старших курсах Дмитрий взялся за ум и к выпуску подошел с золотой медалью и дипломом старшего учителя.

Могила на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге
Не «отец водки»
Менделеева часто называют изобретателем русской водки. Но уже давно установлено, что это не так. Сорокаградусная появилась в России в 1843-м, когда Дмитрию Менделееву было всего девять лет. Впрочем, тема этого напитка действительна была не чужда нашему герою: в 1965-м Дмитрий Иванович защитил диссертацию под названием «Рассуждение о соединении спирта с водою». Возможно, легенда об изобретении Менделеевым водки получила распространение после вхождения Дмитрия Ивановича в «Комиссию для изыскания способов к упорядочению производства и торгового обращения напитков, содержащих в себе алкоголь». Комиссия занималась вопросами акциза и качества продукции.
Чемоданных дел мастер
Химия – не единственная страсть ученого. В молодости он увлекался изготовлением чемоданов. Даже изобрел состав клея, благодаря которому изделия получались суперпрочными. В жизни Дмитрия Ивановича был период, когда он практически ослеп, - и тогда он делал дорожные сумки на ощупь. Его чемоданы очень ценились - покупатели с гордостью говорили, что они «от самого Менделеева».

С первой женой Феозвой Никитичной
Признал японскую внучку
В первом браке - с Феозвой Никитичной Лещевой – падчерицей сказочника Петра Ершова - Менделеев прожил 20 лет. У супругов родилось трое детей. Дочка Маша появилась на свет в 1863-м и ушла из жизни еще ребенком.
Сын Владимир был морским офицером на фрегате «Память Азова», который часто заходил в единственный открытый для иностранцев японский порт Нагасаки. Там Менделеев-младший познакомился с японкой, ставшей его «контрактной» женой. В 1893 году Така Хидэсима родила девочку Офудзи. Дмитрий Иванович внучку признал, помогал ее матери. Но следы японской родни Менделеевых потерялись - предположительно, Офудзи и ее мама погибли во время землетрясения.
Дочь Дмитрия Ивановича Ольга дожила до 1950 года. После революции она служила в кинологическом питомнике НКВД в Москве. Ее единственная дочь Наталья сильно болела и рано умерла. В 1947-м вышла книга Ольги Дмитриевны «Менделеев и семья».

Вторая жена Анна Попова
Женился на молоденькой
Когда ученому стукнуло 43, он познакомился с 17-летней художницей Анной Поповой. И был настолько ею очарован, что стал добиваться развода с Феозвой Никитичной. К урегулированию этого вопроса подключил всех – близкий друг, ботаник и педагог Андрей Бекетов увещевал Феозву Никитичну отпустить неверного мужа на все четыре стороны. Она согласилась, но по церковным законам после развода нельзя было повторно жениться в течение шести лет. Дмитрий Иванович уговорил священника за немыслимые по тем временам 10 тысяч рублей обвенчать его с Анной.
Во втором браке у Дмитрия Ивановича родилось четверо детей: двойняшки Василий и Мария, дочь Любовь и сын Иван. Мария стала мамой дочери Катерины, которая дожила до наших дней. Василий поссорился с матерью, не разрешавшей ему встречаться с понравившейся девушкой, и ушел из дома. Предположительно он умер во время эпидемии тифа в 1922 году.
Любовь Дмитриевна Менделеева вышла замуж за поэта Александра Блока.
Иван Дмитриевич Менделеев стал писателем, философом, ученым. Умер в 1936-м в деревне, где раньше жил великий химик.

Дочь учёного Любовь Дмитриевна-Блок
Немецкая кровь
Ходили слухи, что в Германии у русского ученого был бурный роман актрисой Агнессой Фойгтман. Но фройляйн не ограничивала себя в общении с разными мужчинами одновременно, и когда родила девочку, Дмитрий Иванович сильно сомневался в своем отцовстве. Тем не менее, он поддерживал Агнессу до того момента, когда ее 18-летняя дочь вышла замуж.
Читайте также:
 Кто из великих был в школе двоечником
Кто из великих был в школе двоечником
Этот признак указывает, что у вас сахарный диабет
 Самые распространенные мифы об ученых, которые нам внушали со школы
Самые распространенные мифы об ученых, которые нам внушали со школы
Дмитрий Менделеев, Интересная история, Фото eg.ruhttps://www.eg.ru/society/699518-pochemu-dmitriy-m...nal-yaponskuyu-vnuchku-070762/
|
Метки: наука менделеевы |
История петербургских бань |
История петербургских бань
В отличие от Западной Европы, в Древней Руси бани были настолько широко распространены, что заслужили обязательного упоминания о них многими иностранными путешественниками.
Например, о русских банях писал английский поэт и дипломат, автор описания Русского царства в XVI столетии Джильс Флетчер:
Вы нередко увидите, как они для подкрепления тела выбегают из бань в мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются нагие в реку или окачиваются холодной водой, даже в самый сильный мороз.
В XVII веке ему вторит британский аристократ Чарльз Карлейль, приближенный английского короля Карла II, посланный им в 1663 году к царю Алексею Михайловичу:
Нет города в их стране, где бы не было общественных и частных бань, так как это почти всеобщее средство против болезней.
Культ общественных бань дожил до XVIII века и получил дальнейшее развитие в Петербурге. Естественно, что здесь строительству бань придавалось большое значение, не говоря уже о том, что Петр I извлекал из этого определенный доход для государственной казны, так как бани облагались значительным налогом.
Только из официальных источников известно, что уже в 1707 году бани стояли на Адмиралтейском дворе и вблизи Гавани, причем как солдатские, так и торговые, то есть общие. В первой четверти XIX века в Петербурге насчитывалось около пятидесяти торговых бань, в то время как количество домашних уверенно приближалось к полутысяче.
В XX веке строительство бань приобрело новое качество. К их проектированию привлекались видные архитекторы, а их внешнему облику придавалось преувеличенное значение. Они в полном смысле слова становились общественными сооружениями общегородского значения. Не случайно городской фольклор так точно сформулировал отношение петербуржцев к этому своеобразному общественному социальному институту: «Без Петербурга, да без бани нам как телу без души» и «Когда б не питерские бани, мы б все давно уже пропали».
Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанами, мраморными бассейнами
Из наиболее известных городскому фольклору петербургских бань считается баня в Фонарном переулке, построенная в 1870–1871 годах по проекту архитектора П. Ю. Сюзора. Бани, принадлежали купцу 2-й гильдии М. С. Воронину. В свое время они были знамениты своим великолепным убранством — мраморными ваннами, зеркалами, пальмами. Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанами, мраморными бассейнами, отдельными номерами из пяти комнат. Бани считались лучшими в Европе. В народе их называли «Воронинские», «Бани на Фонарях» или просто «Фонари». Бани пользовались популярностью. Однако слава о них ходила не самая лестная.
В первую очередь это связано с репутацией самого Фонарного переулка. Известно, что к началу XX века количество открытых публичных домов в Петербурге перестало поддаваться точному подсчету. Появились целые районы красных фонарей. Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в Фонарном переулке. Название производили то ли от местного Фонарного питейного дома, то ли из-за фонарных мастерских, находившихся поблизости.
Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в Фонарном переулке
До конца XIX века это название не вызывало никаких ассоциаций, пока вдруг, по необъяснимой иронии судьбы, в этом незаметном переулке не начали появляться один за другим публичные дома с «соответствующими им эмблемами в виде красных фонарей».
Но, конечно, в создании дурной репутации «Фонарных бань» сыграли не последнюю роль и сами бани. Если верить легендам, бани «На Фонарях» любил посещать Григорий Распутин. В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в банях.
В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в банях
Из бань, построенных в советское время, внимания городского фольклора заслужили бани, возведенные в 1966 году на углу улиц Марата и Стремянной, на месте снесенной Троицкой церкви, и названные «Невскими».
В петербургском городском фольклоре Невские бани известны под другими именами. В шутку их называют высокопарно «Дворец мытья» или по-простому «На стременах», от названия Стремянной улицы, куда выходит один из фасадов здания бань. Но есть у Невских бань и более изощренное прозвище. Оно навеяно реакцией на название улицы Марата, на которой бани расположены. Улица названа по имени одного из вождей Великой французской революции Жана Поля Марата, который погиб во время мытья в собственной ванне от удара кинжалом, нанесенном француженкой дворянского происхождения Шарлоттой Корде, сумевшей проникнуть в его дом. Так вот, Невские бани частенько называют «Бани имени Шарлотты Корде». Чего здесь больше: банных ассоциаций или намеков на судьбы революционеров, сказать трудно.
Известны в городском фольклоре и другие петербургские бани. Это «Пушкинские бани» на Благовещенской площади, которые, по легендам, посещал Пушкин; «Шаляпинские бани» на Большой Пушкарской улице; «Круглая баня», «Шайба» или «Циклотрон» на площади Мужества; «Красный фонарь» на 5-й линии Васильевского острова; «Плёха» на улице Черняховского.
Об авторе
Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.
https://zen.yandex.ru/media/antennadaily/istoriia-...h-ban-5c87c8901b57ec00b29bab1b
|
Метки: санкт-петербург |
Свадьба Пушкина |
https://www.liveinternet.ru/users/tantana/post386021960/
2 марта 1831 года Александр Пушкин венчался с первой московской красавицей Натальей Гончаровой. Как известно, дата венчания Александра Пушкина и Натальи Гончаровой не раз переносилась — тёща не хотела выдавать дочь за поэта-ловеласа, а в день свадьбы вообще отказалась ехать в церковь.
|
Метки: пушкины |
История дома «История дома №12» |
История дома
«История дома №12»
«Объект культурного наследия», — встречает гостей и прохожих синяя табличка у входа в парадный подъезд дома №12 по улице Арбат. Что скрывается за причудливой мозаикой компьютерного штрих-кода? Какими событиями и личностями наполнена история этого арбатского особняка да и само место, на котором он стоит?

Церковь Николая Чудотворца Явленного на Арбате.
Литография начала XVII века.
Повествование начнем с далекого 1593 года, когда построилась у смоленской дороги церковь Николая Чудотворца Явленного. К сожалению, до наших дней храм не сохранился — он был варварски уничтожен большевиками в 1931 году.
По мнению историков, царь Борис Годунов явил в деле строительства храма самое деятельное участие и опеку. Вскоре, вокруг прихода церкви стал селиться так называемый «черный люд» — трудники, мостившие деревом проезжую часть смоленского тракта. Так постепенно выросла вокруг церкви «черная слобода». А соседствующие с ней мелкие ремесленники увековечили себя в названиях множества арбатских переулков — «Серебрянный», «Староконюшенный», «Плотников» и т.д.
В начале XVII века, территорию «Черной слободы», при церкви Николы Явленного, начинают заселять стрелецкие караулы, исполнявшие службу по охране Арбатских ворот Белого города. Наряду с деревянными постройками, начинают появляться первые в Земляном городе каменные строения, — приказные палаты, карульные и съезжие стрелецкие избы. К 1613 году, при приходе церкви Николы Явленного, формируется «стрелецкая слобода», где расквартирован полк Полтева, так же известный позднее, как Алексеевский Приказ Полтева. Применительно к современной карте города, стрелецкие постройки занимают территорию четной стороны улицы Арбат, от Арбатского до Серебряного переулка.
В 1619 году к Арбатским воротам Белого города подступил Гетман Сагайдачный, но потерпел поражение и понес значительные потери. В память этой победы сооружен был придел в церкви Николы Явленного во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Стоит упомянуть, что в те времена церковь Николы Явленного уже имела каменную ограду с башенками и видом своим более походила на монастырь. В церковной ограде, по-видимому, располагалось и кладбище. При реставрационных работах у этого храма в 1846 году было открыто множество костей человеческих. В числе здесь погребенных было немало могил и именитых людей. У стен Николая Явленного похоронен генерал-майор Василий Вяземский, герой отечественной войны 1812 года. В этот храм часто ездила молиться императрица Елизавета Петровна. Она приезжала сюда служить панихиды над гробницею Василия Болящего, скончавшегося 7-го ноября 1727 года и погребенного в трапезе. Юродивый Василий, живший при звоннице колокольни, однажды предсказал княжне Елизавете, что «быть ей великою царицей», хотя вероятность взойти на российский престол у неё, на тот момент, была крайне мала. Каждый свой приезд в Москву, императрица посещала церковь Николы Явленного, богато одаривала приход и усердно молилась об упокоении души Блаженного Василия. Из вкладов этой государыни известен в приделе образ во имя Ахтырской Богоматери.
После подавления стрелецкого бунта в 1698 году, и упразднения стрелецого войска, часть территории бывшего стрелецкого приказа при церкви Николы Явленного на Арбате была пожалована государем Петром Алексеевичем генерал-поручику И.И. Чамберсу, первому командиру Семеновского полка, принявшего самое деятельное участие в подавлении восстания стрельцов, массовых казнях и репрессиях. Так на месте будущего дома №12 возникает первое подобие московской городской усадьбы.
Будучи вечно занятым в военных походах, генерал И.И. Чамберс редко бывает дома и в итоге, в 1701 году продает своё московское владение дьяку Поместного приказа Феодосию Семеновичу Манукову. В 1728 году Феодосий Мануков отдает усадьбу в приданое своей старшей дочери Авдотье, которая выходит замуж за бомбардир-сержанта (поручика) Преображенского полка Василия Суворова. В этой усадьбе в 1729 году и появился на свет их первенец Александр – будущий генералиссимус и великий русский полководец. Здесь же он провел свои детские годы. Частым гостем в доме Суворовых был генерал Абрам Ганнибал, прадед А.С. Пушкина. Считается, что именно он первым сумел разглядеть в маленьком Александре талант военного стратега и горячо настаивал на армейской карьере мальчика.
В 1740 году Авдотья Суворова (Манукова) продает усадьбу подпоручику Преображенского полка Сергею Васильевичу Поздееву. Позднее, хозяевами усадьбы становятся князья Гагарины.
В 1793 году усадьба переходит во владение губернскому прокурору князю Петру Шаховскому. К этому же периоду времени можно отнести и капитальную перестройку усадьбы, когда Шаховские практически полностью сносят старые суворовские палаты и на их месте возникают новые строения. Однако, в 1812 году, во время нашествия армии Наполеона, усадьба практически полностью сгорает в пламени большого московского пожара.
После событий Отечественной войны 1812 года, княжне Анне Петровне Шаховской удалось восстановить каменный западный флигель и деревянный восточный на шесть покоев. Примерно тогда же, княжна поделила большую усадьбу на две части и западный участок продала князьям Оболенским.
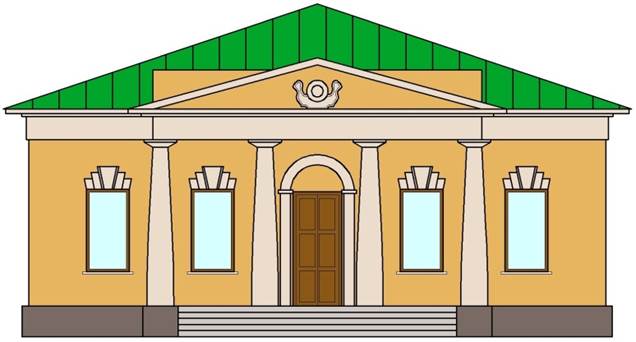
Дом княжны Анны Шаховской (восточный флигель). Одноэтажный, деревянный на шесть покоев. Дом построен примерно в 1818 году. Реконструкция по архивным материалам.
В 1829 году усадьба переходит во владение известному московскому фортепьянных дел мастеру Егору Григорьевичу Гильдебранту. В середине пятидесятых годов её унаследует его сын, коллежский асессор Федор Егорович Гильдебрант.

Вид с Арбата на колокольню и купол церкви Николая Чудотворца Явленного на Арбате (не сохранились). На переднем плане дом князей Оболенских, бывшая западная часть общей усадьбы княжны Анны Петровны Шаховской (не сохранился, уничтожен в 1941 году в результате прямого попадания авиационной бомбы). Снимок примерно 1928 года.
В 1873 году усадьбу приобрел московский купец 2-й гильдии Дмитрий Федорович Орлов. В том же году, рядом со старым деревянным домом, по красной линии Арбатской улицы купец Орлов возводит каменный двухэтажный особняк. Во вновь построенном двухэтажном особняке, купец Орлов держит торговлю винами и колониальными товарами. В 1877 году, по другую сторону фасадной части Арбата, Дмитрий Орлов строит большую оранжерею из камня и стекла. О природной предприимчивости Орлова красноречиво говорит тот факт, что происходит он из «отпущенных на волю» крестьян. Получив в 1856 году вольную, уже через год он сумел поступить в 3-ю гильдию московского купечества. А спустя еще несколько лет получает титул почетного гражданина Москвы, известного своей благотворительной деятельностью.

Вид усадьбы в 1877 году, при купце 2-й гильдии Д.Ф. Орлове.
Реконструкция по материалам архивов.
Современный же вид, дом окончательно приобретает уже 1889 году, когда на месте прежних строений, усилиями его сына Михаила Дмитриевича Орлова, появляется «Доходный дом», трехэтажное каменное здание в архитектурном стиле поздней эклектики, которому был присущ мелкомасштабный декор. Его еще называют «московским купеческим» стилем. Первый этаж дома отныне отводился под торговые помещения, а второй и третий этажи дома занимали квартиры. За это время, в доходном доме Орлова меняется множество арендаторов. В 1897 году в главном доме помещалось «скульптурное заведение» Ивана Александровича Орлова, в начале 1900х годов – книжный магазин Дмитрия Померанцева, магазин «Живые цветы» Бауэра, магазин «Музыкальные инструменты и ноты» П. Пинка, табачный магазин, магазин «Зонты и трости», а уж знаменитый магазин игрушек был известен всем дореволюционным детям Арбата. Среди известных жильцов можно назвать профессора консерватории по классу фортепьяно Анну Павловну Островскую и писателя Ивана Ивановича Катаева, одного из руководителей литературного объединения «Перевал».

«Доходный дом Орлова», построенный в 1889 году по проекту московских архитекторов И.Т. Владимирова и И.Г. Кондратенко. Реконструкция по материалам архивов.
В 1905 году дом оказывается в самом эпицентре революционных волнений. У стен дома вырастают баррикады и начинается вооруженное противостояние народных дружин с верными Государю армейскими и казачьими формированиями.
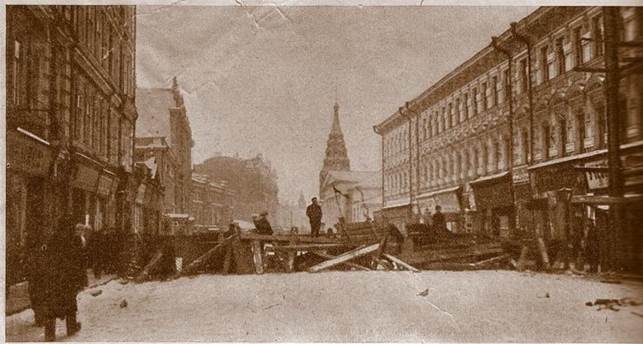
Баррикада у дома №12 (справа) в 1905 году. Архивное фото.
К 1912 году Михаил Дмитриевич Орлов становится единственным владельцем дома. Он никогда не был женат. Не имея наследников и будучи уже в преклонном возрасте, он принимает решение капитально реконструировать здание и пожертвовать его Московскому Купеческому обществу.
На прибыль от деятельности доходного дома, в течении пяти лет, Московское купеческое общество должно было построить богадельню для бедных престарелых женщин простого звания с домовой церковью во имя Архистратига Михаила. Доходный дом в то время приносил порядка 30 тысяч рублей парибыли в год. О разрешении на пожертвование в 1912 году Михаил Дмитриевич ходатайствует перед Государем Императором Николаем II. Высочайшее согласие на пожертвование недвижимости было получено от Его Величества 29 мая 1914 года. Однако пожертвование так и не было реализовано и дом оставался в пожизненном владении жертвователя. Точная дата смерти М.Д. Орлова неизвестна.
Проект капитальной реконструкции «Доходного дома Орлова», разработанный известным московским инженером-архитектором и академиком архитектуры Николаем Дмитриевичем Струковым еще в 1911 году и утвержденный московской Городской Управой, так же остался нереализованным. Надо отметить, что проект был весьма интересен, предполагал снос печей дровяного отопления и устройство центрального парового, с собственным водогрейным котлом. Намечалось обустройство ванных и туалетных комнат, прачечных, а так же кухонных плит с применением самого передового на тот момент оборудования. Так же предполагалась надстройка четвертого жилого этажа.
В постреволюционный период, судьба дома №12 по улице Арбат мало, чем отличается от участи сотен других уникальных объектов архитектуры и истории. Вплоть до середины шестидесятых годов, первый этаж здания, сменяя друг друга, занимают бесчисленные лавочки, кооперативные магазины, парикмахерские и рабочие столовые. На двух верхних этажах размещаются коммунальные квартиры.

Общий вид домов №14 «Дом Оболенских» и №12. Снимок 1930 года.
В таком виде дом пережил Великую Отечественную Войну, немало пострадав от десятков ночных рейдов фашистской авиации. В дом попадает несколько зажигательных бомб, которые удается потушить. А 23 июля 1941 года, здание сотрясает мощная ударная волна от взрыва двухсот пятидесяти килограммовой авиационной бомбы, которая стирает с лица земли соседний дом №14, — «Дом князя Оболенского».
В шестидесятых годах прошлого века в здании находился архитектурно-проектный институт спортивных и зрелищных сооружений Бориса Сергеевича Мезенцева.

Вид дома №12 в конце шестидесятых годов XX века.
Первоначально, институт существовал, как Управление по проектированию Дворца Советов (УПДС). УПДС объединило в себе выдающихся мастеров архитектуры, техники и искусства: А.В. Власова, Б.С. Мезенцева, инженеров Н.В. Никитина, Т.А. Мелик-Аракеляна, Б.П. Щепетова, художника А.А. Дейнеку, скульптора Н.В. Томского. В начале 1963 года решением Правительства СССР прекращено проектирование Дворца Советов и УПДС было реорганизовано в ЦНИИЭП зданий культуры, спорта и управления. В стенах этого здания были разработаны десятки уникальных архитектурных проектов того времени в России и за рубежом. Самые известные из них: Останкинская телебашня и спортивный комплекс «Лужники» в Москве, мавзолей Хо Ши Мина в Ханое, Центральная площадь Ташкента и Владимирский государственный театр.
В настоящее время здание принадлежит ООО «Каприто» и функционирует как офисное и административное, с торговыми помещениями на первом этаже.

Вид дома №12 в 1987 году.

Современный вид дома №12, 2014 год
г. Москва, улица Арбат, дом 12, строение 1.
+7 925 502 59 50, E-mail: info@arbat-12.ru
|
Метки: москва |
Уроки стиля от последней российской императрицы: как одевалась супруга Николая II Александра Федоровна |
Уроки стиля от последней российской императрицы: как одевалась супруга Николая II Александра Федоровна
Виктория Алиса Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, императрица Александра Федоровна, которую супруг Николай II нежно называл «Аликс», отличалась безупречным вкусом и слыла законодательницей мод. При этом сама она не увлекалась модными журналами и не следила за современными тенденциями – ее пуританское воспитание и природная сдержанность исключали страсть к роскоши и охоту за модными новинками.
Она категорически отвергала «крайности моды»: если популярные фасоны платьев казались ей неудобными, она их не носила.
Александра Федоровна | Фото: liveinternet.ru
Слева – Цесаревич Николай Александрович и принцесса Гессенская Алиса после помолвки. Фото 1894 г. Справа – коронационное платье Александры Федоровны и мундир Николая II | Фото: plam.ru
Многим придворным дамам Александра Федоровна казалась слишком чопорной, неприветливой и холодной, в чем даже усматривали признаки болезни. Однако такое поведение объяснялось лишь застенчивостью и смущением из-за общения с малознакомыми людьми, а также английским воспитанием, которое она получила у своей бабушки, английской королевы Виктории. Пуританские взгляды отразились и на манере ее поведения, и на вкусовых пристрастиях и стиле. Многие предметы роскоши и модные наряды отвергались ею как «бесполезные». Так, например, императрица отказалась носить узкую юбку из-за того, что в ней было неудобно ходить.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Вечерние платья от Альбера Бризака | Фото: liveinternet.ru
Вечерние платья от Альбера Бризака | Фото: liveinternet.ru
Последняя российская императрица предпочитала наряды от братьев Ворт (сыновей известного французского кутюрье Чарльза Ворта), Альбера Бризака, Редферна, Ольги Бульбенковой и Надежды Ламановой. Братья Ворт и Бризак шили для нее вечерние и бальные наряды, Ольга Бульбенкова – парадные платья с золотым шитьем, у Редферна она заказывала удобную городскую одежду для визитов и прогулок, а у Ламановой – как повседневную одежду, так и платья для балов и приемов.
Вечернее платье от Надежды Ламановой | Фото: livemaster.ru
Вечернее платье от Надежды Ламановой | Фото: livemaster.ru
В ее гардеробе преобладала одежда нежных пастельных оттенков, светло-розовые, голубые, бледно-сиреневые и светло-серые наряды эпохи Ар Нуво. Модельер Поль Пуаре называл эти цвета «неврастенической гаммой». Атласные туфли императрица не любила, она предпочитала замшевые туфли с длинным узким носком, золотистого или белого цвета.
Туфли для коронации императрицы | Фото: liveinternet.ru
Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru
Ее стилю были присущи спокойные элегантные силуэты и тончайшие изысканные оттенки, которые соответствовали ее статусу, гармонировали с типом внешности и в то же время были отражением ее природной сдержанности и скромности. Ее современницы отмечали, что «одевалась она очень хорошо, но не экстравагантно», а некоторые даже утверждали, что нарядами она и вовсе не интересовалась.
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Изысканные наряды императрицы | Фото: pravme.ru
Слева – Е. Самокиш-Судковская. Императрица Александра Федоровна. Справа – Н. Бодаревский. Портрет императрицы Александры Федоровны, 1907| Фото: liveinternet.ru
Платье императрицы Александры Федоровны | Фото: liveinternet.ru
(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<
Александра Федоровна практически не пользовалась косметикой, не делала маникюр, объясняя это тем, что императору не нравятся «наманикюренные ногти», волосы завивала только накануне больших дворцовых выходов. Ее любимыми ароматами были «Белая роза» парфюмерной фирмы «Аткинсон» и туалетная вода «Вербена». Эти ароматы она называла самыми «прозрачными».
Надежда Ламанова занималась модным дизайном одежды не только для Александры Федоровны: кутюрье из России, которая шила наряды и крестьянкам, и императрицам
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140317/33799/
Источник https://kulturologia.ru/blogs/140317/33799/
Смотрите также публикации по темам
Понравилось?
Культурология | kulturolohttps://zen.yandex.ru/media/kulturologia/uroki-sti...rovna-5c89fa3373174100b4cfc4d5
|
Метки: романовы мода |
Ольга Врангель: что стало с женой легендарного белого генерала |
Ольга Врангель: что стало с женой легендарного белого генерала
Автор: Юлия Попова | 2019-03-10 15:43:05

Ольгу Врангель можно смело назвать ангелом-хранителем «Черного барона». Она заботилась о муже и разделяла с ним все горести и невзгоды до конца его дней. Именно супруге военачальник был обязан своим исцелением от тифа. Мало того, Ольга Михайловна спасла Врангеля от расстрела в 1918 году.
Фрейлина и заядлый холостяк
Ольга Михайловна Иваненко не только отличалась благородным происхождением, но и эффектной внешностью. Эти качества и позволили ей стать одной из самых любимых фрейлин императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. Впоследствии она стала близка и с женой Николая Александрой Федоровной. Обе женщины увлекались медициной и окончили курсы сестер милосердия. В общем, Ольгу Иваненко можно было смело назвать не только красавицей, но и умницей. По воспоминаниям современников, она вольна была выбрать для себя самого завидного жениха: мало кто из мужчин оставался к ней равнодушен.
Однако сама Иваненко не выказывала предпочтения никому до 25 лет, пока не встретила на светском балу поручика Петра Врангеля. В 1908 году она стала законной супругой своего избранника. Врангель, который, по сути, до 30-летнего возраста предпочитал холостяцкую жизнь, поначалу с трудом справлялся с новой ролью семейного человека. Однако любовь, забота и терпение Ольги принесли свои плоды. Вскоре Петр Николаевич, уже как образцовый отец, радовался рождению старшей дочери Елены. А затем на свет появились Петр, Наталья и Алексей.
Исцеление и спасение
К слову, младшего сына Врангелей Алексея могло и не быть. Дело в том, что когда Наталье едва исполнилось 5, главу семейства арестовали и отдали под революционный трибунал. Спасла Петра Николаевича от расстрела его жена. По крайней мере, так эти события описывает автор книги «Врангель. Трагический триумф барона» Валерий Краснов. Председатель трибунала спросил у Ольги Михайловны, за что ту взяли под стражу. А Иваненко ответила, что пришла вслед за супругом по собственной воле, потому что желает разделить его участь до конца. Большевики отпустили обоих.
Спустя несколько месяцев семью настигла новая беда. Петр Николаевич заболел тифом. В те годы эта болезнь свирепствовала повсюду и многих забрала на тот свет. Только Ольга Михайловна отказывалась верить в то, что ее любимый скоро умрет. Она ухаживала за Врангелем круглыми сутками. Благо, знания в области медицины у нее имелись. Впоследствии Петр Врангель не забудет указать в своих мемуарах о том, что своим чудесным исцелением он обязан именно Ольге Михайловне.
В эмиграции
Когда супруги оказались в эмиграции, Ольга отдавала свою заботу не только мужу и детям, но и другим беженцам. Общественный деятель Сергей Палеолог вспоминал, что бежавшие из советской России в Константинополь, где поначалу и жили Врангели, только и говорили: «Ольга Михайловна поможет… напишет… скажет… сделает…». Именно благодаря стараниям Ольги Врангель в Европе появились санатории для больных, страдающих туберкулезом. От аналогичного недуга скончался и сам Петр Врангель.
После его кончины Ольга Михайловна больше замуж не вышла. Некоторое время она жила в семье старшей дочери Елены, а после вместе с ней, ее мужем и внуками переехала на постоянное место жительства в США. Там же в 1968 году Ольга Врангель и скончалась. Ее похоронили на самом крупном православном кладбище Америки при Ново-Дивеевском Успенском монастыре, расположенном в штате Нью-Йорк.
https://cyrillitsa.ru/history/84757-olga-vrangel-chto-stalo-s-zhenoy-legen.html
|
Метки: врангели |
Как стирали кружево в старину |
5 февраля
Как стирали кружево в старину
Кружево! Нежное и воздушное! Оно было одним из самых дорогос элементов костюма. И ухаживать за ним было довольно сложно. Очень часто хозяйка дома даже не доверяла эту работу служанкам, а занималась ею сама.
Екатерина Вюртембергская, Франц Сераф Штирнбранд, нач. 1820-х
С особо нежными кружевами приходилось долго возиться. Вот, например, один из способов.
Для него нужна стеклянная бутылка и керамическая миска. Бутылка должн быть абсолютно новой, чтобы остатки содержимого не повредили кружево. Металлические, например, оловянные миски тоже нельзя было использовать - кружево могло потемнеть.
Когда приступали к стирке кружева, бутылку плотно оборачивали белым полотном (тоже новеньким) и зашивали, чтобы оно не развернулось. Затем кружево смачивали водой, и аккуратно оборачивали вокруг бутылки. Закрепляли парой стежков вверху и внизу. Бутылку клали в миску с прохладной водой и оставляли ночь.
Софья Бобринская, Карл Брюллов, 1849 г., из коллекции Государственного Эрмитажа
Утром вторую миску наполняли очень холодной водой и добавляли белое мыло (не ароматизированное!). Затем бутылку с помощью верёвочек закрепляли в миске так, чтобы при кипении она не билась об её стенки. И кипятили на углях час-другой.
После этого бутылку вынимали и ставили сушиться на солнце. Нет, сушить в доме возле очага было нельзя, ведь кружево могло потерять свою белизну! Так что, конечно, для сушки нужна была хорошая погода.
Иоганна фон Йеклин, неизвестный художник (подпись "Рицци"), 1865 г.
Можно было и аккуратно постирать кружево в молоке. В романе Элизабет Гаскелл "Крэнфорд" есть трогательная и страшноватая история. Одна из героинь, пожилая дама, была обладательницей воротничка из чудных старинных кружев, единственной её памяти о лучших днях. "Я боюсь доверить его стирку даже моей горничной. И всегда стираю его сама. И однажды оно чуть-чуть не погибло. Конечно, вашей милости известно, что такие кружева нельзя ни крахмалить, ни гладить. Некоторые стирают их в сахарной воде, а другие — в кофе, чтобы они обрели нужную желтизну, но сама я пользуюсь очень хорошим рецептом и стираю их в молоке — оно их и подкрахмаливает, и придает им очень хороший сливочный цвет. Так вот, сударыня, я аккуратненько их сложила (а прелесть тонких кружев в том, что они занимают совсем мало места, если их намочить) и опустила в молоко, но тут, к несчастью, мне пришлось выйти из комнаты. Вернувшись, я увидела на столе мою кисоньку: она воровато оглядывалась и как-то странно кашляла, точно подавилась..." Да, кисонька выпила молоко, а заодно и проглотила кружевной воротничок, который, когда намок, превратился в маленький комочек.
Мария Елизавета Спорон, Нильс Петер Хольбех, 1856 г.
Хозяйка кружева была твёрдо намерена вернуть свою единственную драгоценность. Кисоньке дали лакомство, в которое подмешали "рвотный камень": "Я чуть было не расцеловала ее, когда она вернула кружево почти совсем таким, каким оно было раньше. У Дженни уже кипела вода, и мы долго его отмачивали и снова отмачивали, а потом разложили на ветках лавандового куста на солнцепеке, и только после этого я смогла до него дотронуться и положила его снова в молоко. Зато теперь вашей милости и в голову бы не пришло, что оно побывало внутри у кисоньки".
Продолжение следует!
Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма!https://zen.yandex.ru/media/eregwen/kak-stirali-kr...arinu-5c4f4e4bdf2d7400ade061bc
|
Метки: кружева |
Дачники |

Ижевск
https://www.izh.kp.ru/daily/26264/3142935/
 Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии
Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии
Изменить размер текста:
Фонд «Московское время» предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии из коллекции «Дачная жизнь в фотографиях конца XIX — начала XX века», в нее вошли фото из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности.
Многие зажиточные московские фамилии имели загородные усадьбы, в которые переезжали с прислугой на летние месяцы развеяться от городской суеты. Семьи со средним достатком старались снять с июня по август более скромные домики. Самые популярные дачные направления тех лет - Малаховка, Перерва, Перловка, Немчиновка, Пушкино и Люблино (тогда нынешний район Москвы был всего лишь селом).
Особый шик — пригласить из города фотографа, чтобы сделать постановочный семейный снимок. Из закромов, естественно, доставались самые лучшие наряды. Сюжеты таких «фотосессий» не отличились большим разнообразием, а качество снимков зависело от мастерства фотохудожника, его умения подловить живой момент и раскрыть индивидуальность снимаемых персонажей. Эти картинки потом бережно подшивали в альбомы, которые спустя годы становились семейными реликвиями.

Благородное семейство за столом — еще один жанр таких постановочных дачных фото.

Домашнее музицирование было непременным атрибутом семейной жизни русской интеллигенции. С детства мальчики и девочки обучались пению, игре на фортепиано, скрипке. Поэтому на дачах импровизированные концерты становились для соседей одним из главных вечерних развлечений. В некоторых дома играли на фортепиано в четыре руки, пели романсы.

Домашнее варенье было в те времена самым традиционным угощением к чаю. Вкуснятину из фруктов и ягод начинали варить ближе к концу лета. Причем настоящие хозяйки не зависимо от сословия не доверяли это кухаркам, все делали сами. По осени банки с вареньем перевозились в Москву в сундуках, набитых для мягкости сеном. А потом в городе послеобеденный и вечерний чай пили не с сахаром, как сейчас, а именно с вареньем; оно же шло в пироги.

Как и сейчас, 100 лет назад постоять на бережку с удочкой было одним из главных дачных развлечений.

Но еще более сильным культом для мужчин разных сословий была охота. Кстати, на некоторых старых снимках с охотничьими ружьями позируют и подростки и совсем еще дети лет 8-9. В наше время сказали бы: «понты»! Так и есть. На самом деле, по законам дореволюционной России до 16 лет невозможно было получить разрешение на использование огнестрельного оружия, а до 21 года — только при поручительстве родителей.

Городской мальчик позирует в деревенском антураже: рубаха, поле, сноп, страда в разгаре...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва сто лет тому назад
Столичный фонд «Московское время» сравнил, как выглядели знаковые места Москвы сто лет назад и сегодня. Современные фотографы постарались полностью повторить ракурсы снимков вековой давности
Оригинальные фото в 1910-х годах сделал московский общественный деятель Эмилий Готье-Дюфайе. Потомок французского книготорговца и коллекционера, переселившегося в Россию в середине 18 века. Благотворитель, член Императорского Московского археологического общества. По поручению этой организации он и начал снимать улицы столицы. (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
|
Метки: их нравы |
Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам |
Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам
 6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН
6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН
Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов
Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов.
 Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/
Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/
Небывалая длительность боя и сила огня
Первая мировая война продолжалась более 4 лет с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918-го. В ней участвовало 38 государств, а на ее полях сражалось свыше 74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 млн искалечено. Во время этой кампании военные действия стали по-настоящему массовыми в связи с применением новейших видов техники (танки, авиация, химическое оружие).
«Необычна прежде всего длительность боя, ведущегося непрерывно, в то время, как в прежние войны, в том числе и в русско-японскую, бои велись лишь периодами, а остальное время было посвящено маневрированию, укреплению позиций и т.д. Необычайная сила огня, когда, например, после удачного шрапнельного залпа из 250 человек остается не получившими ранения всего 7 человек», — отмечалось в журнале заседания Главного Управления Российского Общества Красного Креста от 14 сентября 1914 года.
Позиционная война вела к тому, что значительное количество времени солдаты проводили в антисанитарных, тяжелых условиях, холодных и влажных окопах, что способствовало развитию таких заболеваний как артроз, ревматизм, различным инфекционным заболеваниям. В связи с этими особенностями, организация лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий войск русской армии во время Первой мировой войны также отличалась от прежних военных кампаний.
 На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.
На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.
(снято в 100 шагах от германских окопов). 1915 г. /http://rusarchives.ru/
По словам современников, за время войны, было не только разрушено все хозяйство страны, но и впервые особенно остро встал вопрос о восстановлении сил пострадавших от ран и болезней, так как размеры этой проблемы превосходили все возможные предположения и выходили далеко за пределы прошлого.
Тотальная эвакуация
В основе санитарного обеспечения в период Первой мировой войны лежала доктрина, основанная на принципе «эвакуации во что бы то ни стало», удаление всех больных и раненых как можно дальше в тыл страны.
 Переноска раненых на лыжах
Переноска раненых на лыжах
Фотооткрытка издательства «Richard» в С.-Петербурге времени Первой мировой войны /http://rusarchives.ru/
Основными звеньями эвакуационной цепи были:
— головной эвакуационный пункт, предназначенный для приема и временного размещения раненых и больных, доставляемых из корпусных районов, до их отправки на тыловой эвакуационный пункт. На данном этапе могло работать только военное ведомство и Красный Крест;
— тыловой эвакуационный пункт, который отсортировывал пострадавших по степени тяжести для дальнейшей отправки на распределительные пункты и их временного размещения. На данном и последующих этапах уже могли помогать другие общественные организации: Всероссийский союз городов, Всероссийский земский союз;
— распределительный эвакуационный пункт. Располагался либо во внутреннем районе, либо в узле железной дороги, как можно ближе к границе тылового района. Отсюда раненые подлежали дальнейшей эвакуации в окружные эвакуационные пункты.
— окружной эвакуационный пункт находился в каждом военном округе, где раненые должны были содержаться до полного выздоровления. Окружные эвакуационные госпитали находились в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове.
Для того чтобы выстроенная система была эффективна, необходимо, чтобы все звенья этой цепи работали максимально слажено. Однако, состояние и количество железнодорожных и автомобильных дорог, оборудованных госпиталей в тылу, а также вспомогательных помещений для этапных и подвижных лазаретов на фронте не соответствовало масштабам проблем.
Кроме этого, упор на полную эвакуацию не соответствовал действительному положению на фронте. Так, за время войны во внутренние районы страны было эвакуировано около 2 474 935 раненых и отравившихся газом, а также 1 477 940 больных. 61% эвакуированных составляли легкораненые. При этом получить реальную медицинскую помощь они могли только в распределительных госпиталях. Это было крайне неэффективно и тяжело для врачей.
Об эффективности системы можно судить по показателю возвращения раненых в строй. В русской армии он составлял не более 50% их суммарного числа, при уровне смертности в 11,5% и инвалидности в более чем 20%, в тоже время в германской армии возвращалось в строй около 76%, во французской – 75 — 82%.
Противником такой системы эвакуации был хирург-консультант ряда фронтов профессор Военно-медицинской академии В.А.Оппель. Позднее основные положения новой системы эвакуации были сформулированы в работе другого видного русского хирурга, академика Н.А.Вельяминова «Инструкции по организации хирургической помощи раненым на фронте».
Уже на первых потоках раненых, которых старались срочно переместить в тыл, эвакуационная система начала давать сбои. При большом наплыве раненых они скапливались на головных эвакуационных пунктах, случалось, что сутками стояли в ожидании отправления. Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных дорог не давали возможности равномерно заполнить больными и ранеными весь созданный объем больничных мест в лечебных учреждениях.
Раненые накапливались в распределительных пунктах, куда их свозили с передовых позиций, в результате чего близлежащие эвакуационные пункты были переполнены, а лечебные учреждения в отдаленных районах пустовали.
Дело призрения увечных воинов возглавлял Верховный совет с образованной в его составе особой комиссией. В Москве и Московской губернии руководство осуществлял комитет Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны, в прочих губерниях и областях — губернские и областные отделения этого комитета, а в Петрограде и Петроградской губернии — действовал особый комитет Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольга Николаевны.
В состав этих комитетов входили назначаемые Верховным советом должностные лица — непременные члены с их канцеляриями, ответственные за дело призрения в подлежащих их заведованию губерниях. Органами, осуществляющие дела призрения являлись местные отделения комитетов. Комиссия Верховного Совета совместно с местными отделениями комитета Елизаветы Федоровны решали финансовые вопросы, и от них зависело выделение средств, необходимых для осуществления тех или иных мероприятий призрения местными органами.
Значительную роль в деле призрения военно-увечных играли общероссийские военно-общественные организации, созданные в первые месяцы войны, – Всероссийский союз городов (далее ВСГ) и Всероссийский земский союз (далее ВЗС), и местное самоуправление, которые после длительных дискуссий добились признания права участвовать в этой работе. Союзы решали возникающие вопросы военного времени в области снабжения, медицинской помощи и пр., а также уделяли большое внимание теоретической разработке вопросов, касающихся оказания помощи различным категориям пострадавших.
Мероприятия по оказанию помощи военно-увечным можно разделить на три этапа. Первый длился с лета 1914 по осень 1915. В это время основной задачей было создание общей, всероссийской санитарно-лечебной системы помощи больным и раненым. На втором этапе с осени 1915 года по март 1916 года были обозначены основные проблемы военно-увечных и в общественных организациях были сформированы первые специальные отделы, занимающихся вопросами оказания различных видов помощи военно-увечным. На третьем этапе – с конца февраля 1916 года началась разработка теоретических подходов к решению поставленных проблем на общероссийском уровне.
В первые дни войны было важно оборудовать на всех этапах эвакуации необходимое количество госпиталей и лечебниц для приема раненых.
Как уже указывалось выше, большинство выбывших из строя составляли легко раненые (70-80%), поэтому они не нуждались в продолжительном стационарном лечении. Так, согласно данным собранным осенью 1914 года в лечебных заведениях Москвы из числа эвакуируемых только около 25% были уволены с военной службы, как явно неспособные (без руки, без ноги и пр.), остальным требовалось госпитальное лечение.
 Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления
Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления
Поезд передан Всероссийскому союзу городов. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Койки и бумаги
Всероссийский земский союз разделил все лечебные места на три разряда.
Койки 1-го разряда — госпитальные, были предназначены для тяжело раненых. 2-й разряд — койки госпитально-патронажные, на которых размещали легкораненых, не нуждающихся в сложных операциях, а также более трудных терапевтических больных. Койки 3-го разряда — патронажные, были созданы для тех, кто уже выздоравливает, но еще нуждается в амбулаторном лечении и наблюдении врача (положение от 26 сентября 1914 года).
Больше всего было создано коек 1-го разряда, которые были самыми дорогими, меньше затрат требовалось для создания коек 3-го разряда. Однако, уже в ноябре 1914 г. вопрос о необходимости устройства и содержания патронатов был снят, т.к. было решено, что их содержание не входит в задачи Союза. Таким образом, данная категория людей осталась практически без контроля. Это также способствовало увеличению числа хронически больных, так как раненые не долечивались.
В первые дни войны для раненых освобождали здания, в которых располагались другие социальные учреждения (богадельни, ночлежные дома, школы, училища и пр.).
 Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина
Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина
Москва, ул. Б. Ордынка. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Параллельно с созданием коечного фонда, разрабатывалось документальное обеспечение лечебного процесса, которое должно обеспечить координацию деятельности по движению больных и раненых. Все гражданские лечебные заведения должны были иметь:
• приемную книгу для записи всех поступающих в лечебные заведения больных и раненых воинов;
• истории болезни, которые составлялись на каждого воинского чина, поступающего в лечебное заведение, и заключали в себе данные о течении болезни и методах лечения; уведомительную карточку или приемный листок для уведомления подлежащих органов военного ведомства о поступлении воинского чина в лечебное заведение;
• отчетно-осведомительную карточку для уведомления подлежащего военного начальства, а также российского общества Красного Креста и главного военно-санитарного управления о выписке, переводе или смерти воинского чина;
• билет о ранении для выдачи воинскому чину на руки, как документ, удостоверяющий его право на возбуждение в будущем ходатайства о пенсии или пособии. Билет должен быть выдан в первом лечебном заведении, последующие же лечебные заведения, через которые раненый проходит, должны делать лишь отметки о том, что он у них лечился. Документ оставался у раненого. Для удобства, билет был напечатан маленьким форматом и заключен в особую папку.
Отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении, вначале были не предусмотрены, поэтому только к концу октября 1914 г. они были отпечатаны и разосланы во все губернские комитеты с соответствующей инструкцией. Однако, еще в законе № 417 от 25 июня 1912 года «О призрении нижних чинов и их семей» все без исключения учреждения (воинские части, врачебные заведения, госпитали, перевязочные пункты, эвакуационные комиссии, санитарные поезда и пр.) были обязаны вносить все сведения, которые влияли на получение пенсии, в записную книжку. Информация должна была дублироваться в регистрационные книги самих учреждений.
Вероятно, отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении были «забыты» в связи с тем, что указания в законе были ориентированы исключительно военно-лечебным заведениям, в тоже время в первую мировую войну лечение раненых и больных воинов, особенно во внутренних губерниях империи, в основном осуществлялось в гражданских лечебных заведениях.
Таким образом, в первые месяцы войны значительное количество раненых не получили необходимые документы, в связи с тем, что лечебные заведения не были ими снабжены. В тоже время цепочка лечебных учреждений, через которые проходил раненый, была длинной, и сбой на одном из этапов, уменьшал эффективность работы следующих. В последствие это привело к затруднениям в получении пенсий и пособий.
Особое внимание – душевнобольным
Когда наконец проанализировали оказание помощи по категориям увечных и больных, было обнаружено, что на некоторые категории традиционно обращали большее внимание, а другие не попадали в поле зрения специалистов и чиновников. Единственной категорией, находившейся под пристальным вниманием общественных деятелей уже с первых дней войны, и для которой была разработана даже особая система помощи – это были душевнобольные воины. Кроме этого имелся опыт работы с ними и во время русско-японской войны.
Так, по поручению Всероссийского Земского Союза, в сентябре 1914 года была создана Объединенная комиссия по организации помощи душевно–больным, в которые входили по два члена от земского союза и союза городов, а также от союза психиатров и невропатологов Н.А. Вырубов, В.И. Яковенко.
Комиссией был разработан план организации помощи душевно больным воинам. Согласно плану сортировка больных должна была проводиться в Москве, Петрограде и Харькове через распределительные психиатрические госпиталя. Помощь предполагалось оказывать в форме выделения денежных средств на наем помещения, оборудование, устройство новых отделений и содержание душевнобольных. Земскому Союзу уже в первые месяцы войны удалось оборудовать около 1 000 коек в губерниях.
К сожалению, план ВЗС не был осуществлен, так как военное ведомство перепоручило осуществление плана оказания помощи душевнобольным Российскому Красному Кресту, а на те лечебные места, которые уже оборудовали губернии, за счет ВЗС, стали перемещать душевнобольных из местных больниц.
Об остальных категориях людей с ограниченными возможностями, которым необходима специализированная помощь, отдельных упоминаний в материалах первых месяцев войны не обнаружено.
25 тысяч ампутантов
Проблемы военно-увечных, как отдельной категории нуждающейся в особых мероприятиях, впервые были сформулированы в феврале 1915 года, на 2-ом Съезде Союза Городов. В первую очередь был поднят вопрос об оказании специальной медицинской помощи. До этого времени общественные деятели не обсуждали проблемы воинов, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй. Мероприятия в данном направлении заранее не планировалась, а развивались стихийно. На съезде также особо была выделена новая категория инвалидов, нуждающаяся в особых мероприятиях – ампутанты – люди, лишившиеся каких-либо конечностей.
 Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны
Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны
Москва, Ивановская ул., дом Бахрушина. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Во втором периоде, осени 1915 г. – весна 1916 г., все более актуальной задачей становиться оказание широкой, планомерной помощи увечным, т.е. воинам, которые после окончания лечения в лазаретах, не могли продолжать службу, так как полностью или частично утратили свою трудоспособность. Поставив перед собой данную задачу ВСГ и ВЗС, стали искать способы ее решения.
Работа с военно-увечными шла по нескольким направлениям:
1. создание системы учреждений, где было бы возможным предоставлять специальные виды лечения. Развитие сети санаторно-курортных учреждений;
2. Привлечение раненых и увечных к различным работам (трудовая реабилитация) в лазаретах и после выхода из больницы;
3. Создание учреждений или организаций для призрения неспособных к труду.
По статистическим данным в сентябре 1915 г. только тех, кто лишился конечностей, насчитывалось около 25 000. По данным московского губернского санитарного бюро, при выписке из лечебниц и госпиталей Московской губернии, полностью выздоровевших больных было почти вдвое меньше, чем с хронической болезнью или увечностью.
По мнению медиков, около 60% всех больных нуждались в дополнительных видах лечения. Кроме этого, в общественной помощи и призрении нуждались около 17%, т.е. приблизительно 212 500 чел. (в том числе до 2% (приблизительно 25 000 чел.) в качестве неизлечимо-больных, в протезах была потребность у 2% (25 000 чел.) выбывших из лазаретов.
Создание специализированных учреждений было необходимо по двум основным причинам: во-первых, используя современные методы лечения, правда, часто сложные и дорогие, можно было не только значительно улучшить здоровье пострадавших, но и возвратить трудоспособность. А во-вторых, необходимо было освобождать койки для новых раненых, поступавших с поля боя.
Обустройство таких учреждений было дешевле, чем оснащать дорогостоящей техникой все лечебные заведения. При этом требовалась специализация врачей, что в дальнейшем позволит более квалифицированно оказывать помощь больным, а также транслировать и передавать опыт молодым специалистам. Все это требовало значительных финансовых средств и технологий обучения и переквалификации.
В тоже время, открывая лазареты и приюты для инвалидов, специалисты столкнулись с тем, что многие раненые не хотят или не могут вернуться домой, так они стали слишком большой ношей для семьи, которая не имеет средств к существованию и были не в состоянии прокормить еще одного нетрудоспособного члена.
Поэтому планировалось создавать приюты для увечных по типу участковых попечительств для бедных, чтобы общественность могла принимать более активное участие в оказании помощи инвалидам. Отметим, что данный вид учреждений требовал большой социальной активности населения, на которую в условиях военного времени оно не было способно.
На 3-ем съезде Городов, который проходил 7–9 сентября 1915 г. впервые были одобрены общие принципы постановки дела помощи увечным. Планировалось сконцентрировать свои силы на следующих основных направлениях помощи: восстановление трудоспособности, снабжение искусственными конечностями и протезами, обучение ремеслам и занятиям, которые бы соответствовали сохранившей трудоспособности, поиск работы.
Планировалось провести тщательную регистрацию увечных в специальных учреждениях, в том числе на биржах труда, в приютах и патронатах. Участники Съезда предлагали, чтобы деятельность в области оказания помощи увечным, регулировал единый для всех организаций орган, в который бы вошли представители всех организаций и где аккумулировались бы специальные государственные средства.
Следует заметить, что в материалах Съезда, можно найти и рекомендации более частного характера, так, например, активно обсуждались вопрос организации протезных мастерских. Съезд постановил признать желательным: увеличение числа протезных мастерских, поощрение изобретений протезов, образцы которых необходимо было направлять в Главный комитет на утверждение. В Особой Комиссии Верховного Совета проект комплексной организации помощи увечным воинам впервые был рассмотрен 6 октября 1915 г. Была избрана Особая комиссия по увечным.
Вопрос развития сети учреждений для лечения грязями, в курортных местностях, а также кумысолечение, был признан одним из насущных задач, от решения которого зависел процент выздоравливающих и процент полностью утративших работоспособность воинов. Затраты по созданию системы подобных учреждений взяли на себя поровну ВСГ и ВЗС. Бальнеологическое и санаторное лечение предназначалось для людей, страдающих травматическими повреждениями костей и суставов, которые сопровождаются обширными костными мозолями, сведениями и ограничениями подвижности крупных суставов и т.п.; тяжелыми формами травматического невроза; ревматическими поражениями суставов и мышц; ограничениями подвижности крупных суставов; болезнями органов грудной полости; брюшной полости и мочевых путей.
На Собрании уполномоченных губернских земств 12 — 13 марта 1916 года еще раз было сформулировано, что дело попечения и призрения увечных, больных и неспособных к труду воинов является общегосударственной задачей.
В 1917 году отделом помощи увечным ВСГ была предпринята попытка разработать законопроект о помощи увечным воинам. Разработка такого законопроекта была насущной проблемой, так как без законодательных принципов организовать такую работу повсеместно в должных размерах не получалось.
Итак, проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов. В их ведении оказались и готовая сеть лечебных заведений, и живые связи с населением, и общественный ореол, который быстро сделал земство центром самых живых забот о помощи раненым.
Различные общества и учреждения оказывали вещевую и материальную помощь, выделяли средства на организацию различных специализированных учреждений, предназначенных для различных категорий больных и раненых воинов.
К сожалению, комплексного решения проблемы не было осуществлено. Кн. Львов, выступая на открытии съезда ВЗС указывал на большую значимость военного времени для развития системы хозяйствования и системы призрения особенно: «какова бы ни была наша скорбь за Россию, не забудем какие огромные приобретения сделала русская общественность за время войны. Создались новые навыки, способности разрешать практические задачи, умение находить практические средства для целей, которые поставлены беззаветною любовью к своему народу и верой в него».
_1407169340.jpg?x41640) «Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/
«Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/
Многие вопросы были решены совместно Земским союзом и Союзом городов, так как именно в деле организации помощи увечным, в виду ее чрезвычайной сложности и разнообразия особенностей, было понятно, что без полного объединения всех государственных и местных органов, общественных организаций, задействованных в осуществлении задач, невозможно будет наладить действительно эффективную работу.
.jpg?x41640) «Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/
«Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/
Несмотря на то, что самим земским деятелям не удалось полностью реализовать свои проекты, многие их разработки в дальнейшем легли в основу политики уже советского государства по отношению к инвалидам.
После революции 29 декабря 1917 года был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина о реорганизации Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам. Этим Декретом все предприятия и учреждения Всероссийского Земского Союза были объявлены собственностью Российской республики. Главный Комитет старого состава был распущен и вместо него был образован новый комитет. 9 января 1918 года был опубликован Декрет и о реорганизации Красного Креста и Всероссийского Союза Городов, все медицинские отделы и имущество лечебных заведений, а также медико-санитарных учреждений Всероссийского Земского Союза были переданы в ведение Народного комитета здравоохранения.
Категории: Больные и инвалиды/, Война, История благотворительности/History of philanthropy
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Кто устранил царскую семью? |
Кто устранил царскую семью?
Большие споры разворачиваются время от времени на тему заказчиков убийства царской семьи. Обсуждается всегда один вопрос, кто именно дал добро на такие санкции? На одной стороне стоит Уральский совет, решивший судьбу монарха без приказа Кремля. На второй — большевистская верхушка, лично заинтересованная в расстреле.
Фотография царя Николая II, его жены и детей
После своего отречения Николай II остается под домашним арестом в Александровском дворце. Министр Временного правительства Павел Милюков пытается организовать переезд царской семьи в Англию к брату Николая, Георгу V. Но тот впоследствии отказывает в помощи.
Николай II и его двоюродный брат Георг V
В середины августа 1917 года вся царская семья находится в городе Тобольск ввиду разгорающихся в Петрограде волнений. В добровольном порядке к ним присоединяется свита и вооруженный отряд гвардейцев для охраны.
Царская семья в Тобольске зимой 1917 года
После Октябрьской революции большевики не вспоминали про царскую семью, так как страна находилась в состоянии войны. Другими словами — имелись и гораздо более важные дела.
Но в начале марта 1918 года о решении дальнейшей судьбы царя заговорили в Уралсовете. Вот как вспоминает это глава исполнительного комитета совета:
Из воспоминаний Павла Быкова
Стоит также упомянуть о настроениях, которые царили в Уралсовете в 1918 году: большинство придерживалось эсеровских взглядов, не поддерживало внешнюю политику центра. А после объявления Брестского мира объявила свою, революционную войну, Германии.
По прибытии уральских отрядов в Тобольск заполучить царя последним не удалось, так как вооруженная охрана отказала в выдаче в виду отсутствия у прибывших указаний сверху. В ответ большевики начали скапливать в городе вооруженные силы в городе. Одновременно в Москву посылались телеграммы с разной информацией, что привело к непониманию центра относительно положения дел в Тобольске.
В ответ Москва выслала чрезвычайного комиссара Василия Яковлева с задачей вывезти царскую семью в город Екатеринбург для дальнейшей пересылки в Москву. Там царя должны были предать суду.
Во время операции по пересылке уральские большевики всячески пытались склонить Яковлева к расстрелу царя по дороге в Екатеринбург. После неудавшихся уговоров в ход пошли угрозы. Желание уральцев покончить с царем оказалось настолько сильным, что они были готовы расправиться и с комиссаром, присланным из Москвы по личному поручению Ленина и Свердлова.
Из воспоминаний Василия Яковлева
Только с помощью переговоров Свердлова с Уралсоветом удалось достичь консенсуса, в ходе которого Яковлев передал царя под расписку взамен на обещания о его неприкосновенности.
В то время в Москве выявлялись все большие расхождения большевиков с левыми эсерами. В июле 1918 года последними в попытке снова разжечь войну был убит германский посол. А 11 числа партия левых эсеров была объявлена незаконной.
На фоне этих событий сочувствующий эсерам Уралсовет принимает решение о расстреле царя и его семьи. В Москву для передачи решения отправляется Филипп Голощекин.
Центр распорядился отменить решение Уралсовета и организовать пересылку царя в Москву. С этим решением 12 июля Голощекин возвращается в Екатеринбург, а 17 числа, игнорируя указания центра, санкционируется расстрел.ttps://zen.yandex.ru/media/id/5c14f16634e04800ab50e602/kto-ustranil-carskuiu-semiu-5c1bd386e69ca200aa48d401
|
Метки: романовы |
В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый. |
[]
В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый.
December 14th, 2016
У В. Борисова-Мусатова призрак – это и дом, и хрупкая девушка, и кто-то, уже ушедший из картины, только край плаща или платья мелькает слева. Герои картины идут от дома по парку, но получается, что они словно уходят из самой картины. Символично. С символистами В. Борисова-Мусатова роднит ещё и образ двоемирия: мир, изображённый на картине, совмещает в себе прошлое и настоящее, мир реальный и мир невидимый, тот, куда уходят две дамы.
В. Борисов-Мусатов «Призраки» (1903)
Образ уходящей в прошлое дворянской усадьбы в 1890-1900-е, как известно, был очень популярен в творчестве и писателей (И.А. Бунин «Антоновские яблоки» (1900), З.Н. Гиппиус «Богиня» (1893), «Кабан» (ок.1902), А.П. Чехов «Вишнёвый сад» (1903) и др.), и художников В. Максимов, В. Борисов Мусатов и др.. Напрямую с этой темой связан и образ сада как непременная составляющая русской дворянской усадьбы.
В «Чёрном монахе» А.П. Чехова место действия – сад и дом: «Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки…» .
В финале рассказа Коврин умирает, а Татьяна остаётся одна с огромным домом и с садом. Из её письма: «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие …» . Можно думать, что на картине В. Борисова-Мусатова «Призраки» (1903) – Таня, «бледная, слабая, несчастная Таня», оставшаяся одна.
Один и тот же вижу странный сон:
Брожу подобием души разбитой,
Иль тихим призраком былых времён
В усадьбе опустевшей и забытой.
Вот лестница – ступеней водопад,
В саду - деревьев стройные шеренги.
С колонным полукружием фасад -
Дань модному решению Кваренги.
Здесь жизни дни как будто сочтены
А в ветре зреет дикая свобода.
Вступаю в дом… с укором со стены
За мной следят с портретов предки рода.
Хозяев нет, они давным-давно
В столице шумной или за границей.
И только времени веретено
Поскрипывает старой половицей.
В глуши непотревоженных миров
Очаг свой теплит здешняя обитель,
Полотна кисти лучших мастеров
Ещё хранит поверенный смотритель.
Здесь жизни дух струился и сверкал,
Но вызрело незримо отторженье.
Стираю пыль с пустых глазниц зеркал
И в них уже не вижу отраженья.
Ах, это знак, что всё предрешено -
В безумной власти смутного и злого
Без смысла всё здесь будет сожжено,
Умолкнет невоспринятое слово.
Но я приют гармонии люблю,
Ах, мне природу красоты узнать бы!
Как мотылька безудержно ловлю
Тепло и свет оставленной усадьбы.
Всё пусто… Осень… Ветер лишь кружит,
И только изредка, как на картине,
Чуть слышно платьем в сумерках шуршит
Мелькнувший призрак дамы в кринолине.
25.05.10 г. на картину В.Э. Борисова-Мусатова
На переднем плане картины изображены загадочные женские фигуры в широких, длинных, атласных платьях. В поздних сумерках они, словно сотканные из тумана, проплывают по партерному парку в своих старинных, соприкасающихся с землёй, одеяниях. Одна уже на половину скрылась за рамкой холста, другая с опущенными вниз глазами грациозно движется за первой. Кто эти загадочные дамы? Возможно это обитательницы большого дворца с высокими колоннами. Это воздушное нерукотворное сооружение, словно упирается в небо своим шпилем и почти сливается с осенними серыми тучами. Рядом с ним видны странные белоснежные фигуры, стоящие по краям лестницы ведущей к входу в таинственный дворец, они похожи на ожившие каменные статуи, которые решились вслед за призрачными дамами, спуститься с лестницы и погулять в окрестностях парка. Эти пастельные размытые видения настолько зыбки, что в любой момент могут изменить свою форму, стать ускользающей дымкой.
К необычной картине Борисова-Мусатова хорошо подходят проникнутые элегическим тоном сочинения Василия Андреевича Жуковского, жившего в ту эпоху, которую так сильно любил художник.
Стихотворение В.А.Жуковского - Таинственный посетитель.
Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?
Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.
Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?..
Дни любви, когда одною
Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он...
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье - сон.
Не волшебница ли Дума
Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума
И мечтательно к устам
Приложивши перст, приходит
К нам, как ты, она порой
И в минувшее уводит
Нас безмолвно за собой.
Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли;
С ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.
Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
И в далекое манит.
Водоём. Мусатов.
Большое внимание художник уделял красивым пейзажам, проникнутым мистическим таинством, в которых подчёркивалась гармония человека и природы. Борисова-Мусатова называли певцом «дворянских гнёзд» за его любовь к старым усадьбам, тенистым паркам и зеркальным прудам.
Одиночество. Мусатов.
|
Метки: дворянские владения мусатовы мир живописи |
Художник Борисов-Мусатов. |
Борисов-Мусатов. Символист русской старины.
Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (2 (14) апреля 1870 — 26 октября (8 ноября) 1905) остался в истории русского искусства одним из самых поэтичных и одухотворенных живописцев.
Всё его наследие - это тихое, долгое, печальное сновидение. Природа полуденно-сонна или вечерне-утомлена, героини - то ли заколдованные девы, то ли сами тянущие нить заговоров между молитвами помещицы, то ли забытые драгоценные куклы...а может быть это образы душ давно умерших прекрасных дам. И всё это в атмосфере, которая источает летний аромат, которой хочется дышать.
В дневниках Мусатова есть запись: «Мои помыслы — краски, мои краски — напевы». И еще: «Когда меня пугает жизнь, я отдыхаю в искусстве и в музыке»
"Всюду у Мусатова за зеркальной поверхностью тишины буря романтики," - говорил Андрей Белый. "Тончайшим и нежным горбуном" назвал он Борисова-Мусатова.

«Одиночество» или На балконе. Пастель. Серпуховский художественно-исторический музей, Серпухов
|
Метки: мир живописи |
Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович |
Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июня 2018; проверки требует 1 правка.
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилиями Борисов и Мусатов.
| Виктор Борисов-Мусатов | |
|---|---|
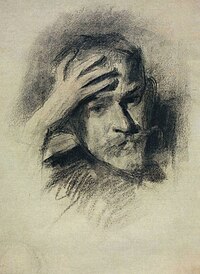 Автопортрет 1904-1905 гг. |
|
| Дата рождения | 2 (14) апреля 1870 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 26 октября (8 ноября) 1905 (35 лет) |
| Место смерти | |
| Страна | |
| Жанр | бытовой жанр, пейзаж, портрет |
| Учёба | П. П. Чистяков |
| Стиль | символизм |
 Работы на Викискладе Работы на Викискладе |
|
Ви́ктор Эльпидифо́рович Бори́сов-Муса́тов (2 [14] апреля 1870 — 26 октября [8 ноября] 1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд»[2].
Содержание
Биография
Виктор Борисов-Мусатов родился в Саратове 2 (14) апреля 1870 года в семье Эльпидифора Борисовича и Евдокии Гавриловны Мусатовых, бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Отец был железнодорожным служащим. Незаурядной личностью был дед будущего художника, Борис Александрович Мусатов — его имя впоследствии художник присоединил в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов.
В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни.
Первоначальные знания и навыки рисования получил от преподавателя рисования Ф. А. Васильева. В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков.
Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». В 1895 году путешествовал по Крыму и Кавказу. Борисов-Мусатов вступает в Союз русских художников.
С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Уже тогда усадьба пребывала в запустении, редко посещаемая тогдашними хозяевами. В 1902 году Борисов-Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой Еленой и художницей Еленой Владимировной Александровой — будущей женой.
Его сестра Елена вспоминала:
Глубокая осень в Зубриловке также увлекла брата по своим блеклым тонам красок умирающей природы… Возле дома, где он нас писал в солнечные летние дни, краски уже были печальные, серые, все гармонировало с темным осенним небом, покрытым тучами. Казалось, что и дом замер с окружающей его увядающей зеленью. Это и дало настроение брату написать картину — «Призраки»… Он лично пояснял нам, как я помню, будто с окончанием жизни опустевшего помещичьего дома — «все уходило в прошлое», как изображены им на первом плане картины удаляющиеся призрачные фигуры женщин.
Эти две поездки в усадьбу нашли отражение в работах «Гобелен» (1901), «Прогулка при закате» (1903), «Призраки» (1903), «Сон божества» (1904—1905).
С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе. В декабре 1904 года в семье Мусатовых родилась дочь Марианна[3].
Борисов-Мусатов скончался в Тарусе 26 октября (8 ноября) 1905. Похоронен на окраине Тарусы, на высоком берегу реки Оки. На могиле художника в 1910 году был установлен памятник работы его однокашника-саратовца скульптора А. Т. Матвеева[4]. В память о художнике место его захоронения называют Мусатовским косогором.
Основные работы
- Автопортрет с сестрой,
- Встреча у колонны,
- Гобелен, 1901;
- Весна, 1901;
- Водоём, 1902;
- Призраки, 1903;
- Изумрудное ожерелье, 1903—1904
- Осенняя песнь, 1905
-
Автопортрет с сестрой, 1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
-
Дама в качалке (эскиз к неосуществленной картине "Maternite"), 1897, Государственная Третьяковская галерея, Москва
-
У водоёма (эскиз), Частное собрание, Москва
-
Водоём, 1902, Государственная Третьяковская галерея, Москва
-
Призраки, 1903; Художник запечатлел Южный фасад дворца в усадьбе Зубриловка.
Семья
- Родители — Евдокия Гавриловна и Эльпидифор Борисович Мусатов.
- Борисова-Мусатова, Елена Эльпидифоровна (1883—1974) — младшая сестра художника, модель множества его полотен. Художник по фарфору, переводчик.
- Александрова, Елена Владимировна (1874—1921) — жена Борисова-Мусатова, также художница.
- Борисова-Мусатова, Марианна Викторовна (1905—1991) — дочь художника, также художница, книжный график. Муж — Сергей Николаевич Тройницкий (1882—1948), доктор искусствоведения, первый выборный директор Эрмитажа (1918—1927)[5].
Примечания
- Мусатовские музы. Две Елены и Марианна (англ.). radmuseumart.ru. Проверено 15 июля 2017.
Библиография
- Шилов К. Борисов-Мусатов. — Москва: Молодая гвардия, 1985. — 335 с. — (ЖЗЛ). — 150 000 экз.
Ссылки
- Биография и творчество художника на Artonline.ru
- Картины Борисова-Мусатова (в хронологическом порядке) на World-Art.ru
- «Просто красивая эпоха: Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов» — статья в журнале «Православие и мир»
- Картина художника Виктора Борисова-Мусатова «Водоём» в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 26.11.2006
- Акварель «Реквием» художника «Дворянских гнезд» Виктора Борисова-Мусатова в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 27.07.2008
- Дореволюционная биография Борисова-Мусатова (недоступная ссылка)
- Дмитриенко А. Ф., Кузнецова Э. В., Петрова О. Ф., Федорова Н. А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. Ленинград, 1971 г.
- Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. Цветная и тоновая фотосъёмка А. П. Дорофеева М. Искусство 1980 г. 234с., с илл.
- Биография и 35 картин Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова
|
Метки: мир живописи |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II
У великих правителей мира тоже есть слабости, сугубо личного характера, присущие простым смертным, которые они проявляют на стороне от семейных очагов. Благодаря неузаконенным любовным проявлениям, на стороне появляются не заявленные продолжатели знатных родов, не имеющих никакого права даже на претензии. Хоть и редки, но бывают случаи, когда монаршие особы узаконивают свое внебрачное потомство, как это случилось с Екатериной Юрьевской, императорской дочерью. Так как сложилась жизнь этой светлейшей княжны?
Дитя морганатического брака
Своему появлению на свет, в 1878 году, Екатерина обязана страстному увлечению Александра II, Российского императора, Екатериной Михайловной Долгоруковой. Благодаря этой любовной связи родителей, у Екатерины были старшие брат и сестра.
В 1870 году княгиня Долгорукова, по настоянию своего коронованного любовника, переезжает в Зимний дворец и становится официальной фавориткой императрицы. Роман Александра и княгини становится известен всем. Трудно представить, что испытывала законная жена, но видимо ей приходилось мириться не только с этим, ведь дети от этого романа родились практически через стенку от нее. Только одна Екатерина Александровна родилась в Крыму и единственная из детей проживала на постоянной основе в Зимнем дворце.
Матушка Екатерины мечтала стать законной женой и императрицей, но этому мешал законный брак императора. Посему ей приходилось довольствоваться ролью законной любовницы и ожидать, когда освободится столь вожделенное место, так как Мария Александровна, супруга императора, была серьезно больна.
В 1880 году, когда императрица скончалась от изнурительной болезни, княгиня Долгорукова стала настойчиво требовать от императора законных действий в отношении нее и их детей. До этого времени, на императора было совершено не одно покушение на убийство, и боясь, что в конечном итоге террористы смогут добиться желаемого, а его вторая семья останется в не лучшем положении, Александр решается на венчание с княжной.
Естественно, этот морганатический брак вызвал нескрываемое недовольство среди членов семьи императора, особенно царевича Александра, и в самом великосветском обществе. Никто не хотел принимать и узаконенных внебрачных детей императора.
Через год этих событий, Александр II погибает от рук террористов, на тот момент Екатерине Александровне исполнилось всего 4 года. В этом возрасте она, со своей матерью, братом и сестрой, вынуждены были эмигрировать во Францию, в Ниццу. О периоде пребывания юной Екатерины во Франции никаких данных нет, кроме тех, что ее матушка, транжирила унаследованные деньги от покойного супруга налево и на право, и совершенно не занималась воспитанием своих детей.
Княгиня Долгорукова забрасывала письмами Николая II, который вступил в 1894 году на престол, и был более терпелив по отношению к ней, что позволило ей с детьми вернуться в Россию.
Не задавшиеся супружества Екатерины
Во Франции, Екатерина Александровна знакомится с князем Барятинским, за которого выходит замуж в 1901 году. Но это брак оказался тяжелым испытанием для Екатерины, так как князь не испытывал тех пылких и искренних чувств, какие питала к нему жена.
Он был давно и прочно влюблен в итальянскую певицу Кавальери, но не смел противиться воли родителей и императора, запретивших им сочетаться браком. Барятинский был очень богат, и внимание тратил на оперную диву, и такого же обожания требовал от своей супруги. Они даже путешествовали и селились в одних апартаментах вместе.
Этот неравный по чувствам треугольник конечно же причинял невыносимые мучения Екатерине. Такое ощущение, что судьба решила отыграться на ней за все страдания, причиненные ее матерью первой жене Александра II.
Екатерина шла на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание любимого супруга, она стригла и красила волосы в черный, делала прически, одевалась и перенимала манеры, свойственные оперной певице, и обучалась пению. Но все старания, и даже рождение двух мальчуганов, не смогли исторгнуть из их семьи присутствие Кавальери. Этот унизительный брак, продлившийся девять лет, закончился только со смертью Барятинского. После этого умирает отец супруга, и дети Екатерины стали наследниками огромного состояния, которым на время их несовершеннолетия стала распоряжаться она.
В 1916 году Екатерина Александровна возвращается из Европы в Россию и селится в Крыму, где она встречается с соблазнительным красавцем офицером и князем Оболенским. Несмотря на большую разницу в возрасте, князь был младше на 12 лет, их романтичные увлечения перешли в законный брак.
По началу все складывалось отлично для Екатерины, обеспеченная жизнь, рядом дети и любимый муж, но тут грянула Первая мировая война, которая лишила благосостояния и безопасности. Супругам с детьми едва удалось вырваться живыми из революционного водоворота, и используя поддельные паспорта бежать в Киев, а затем чудом, достигнуть Англии.
Там, оставшись без средств к существованию, Екатерина, пытаясь продержать на плаву семью, вынуждена была выступать с вокалом в холлах гостиных, ресторанах и на других концертных площадках. Только финансовое положение оставалось плачевным, его даже не улучшила смерть матери, от которой должно было достаться неплохое наследство. Но, увы, княгиня Долгорукова, не заботясь о будущем своих детей, промотала все средства. И в 1922 году, князь Оболенский бросает свою обедневшую супругу и разводится с ней на следующий год в Австралии, где находит себе новую богатую спутницу жизни.
Вокалистка
К своим 45 годам, Екатерина Александровна стала успешной и востребованной певицей, известной под фамилией – Оболенская-Юрьевская. Ее приглашали с выступлением на различные мероприятия, где она радовала лондонцев и мигрантов из России своими вокальными данными, исполняя песни на нескольких языках.
Окончательно обосновавшись на Английской земле, Екатерина Александровна перешла от православия в католицизм. В 1932 году княгиня Юрьевская, страдающая астмой, приобретает в Гемпшире дом, что находился на острове, который очень подходил ей своим климатом. В 1934 году, она официально присутствует на свадебной церемонии, что проходила в Вестминстерском аббатстве между ее дальней родственницей, принцессой Греческой, и принцем Георгом.
До 1953 года Екатерина Александровна пользовалась благосклонностью вдовствующей королевы Виктории, получая от нее пособие, на которое она и жила. Но, с ее смертью, княгиня, оставшаяся снова без средств, вынуждена была распродавать все украшения и остальное имущество. Впоследствии она попадает в дом престарелых, находящийся в том же Гемпшире, и там же, в 1959 году, умирает.
Любимую дочку русского императора и талантливую вокалистку, Екатерину Александровну Юрьевскую похоронят в английской земле, на кладбище святого апостола Петра. И на скромной погребальной церемонии будут присутствовать только двое из ее родственников, Александр Юрьевский, племянник, и последний бывший супруг, Оболенский.https://zen.yandex.ru/media/history_world/ekaterin...ra-ii-5c73f191c1146f00b3cce88e
|
Метки: романовы юрьевские оболенские долгоруковы |
Кружевной промысел на рубеже веков |
Кружевной промысел на рубеже веков
22.06.2013 637 Главная страница » История Ельца » Промышленность города » Елецкие кружева и кружевницы
Продолжение книги «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)».
Глава III. Кружевной промысел Елецкого уезда на рубеже двух веков
Второе тридцатилетие XIX века было периодом расцвета елецкого кружевного промысла. Елецкий промысел сохранил свое ведущее место по объему производства различных кружевных изделий высокого качества и по количеству кружевниц в России. Город Елец с населением в 46 тысяч стал не только одним из крупных и красивых уездных городов России, но и крупным железнодорожным узлом, а также одним из центров всероссийского рынка кружевной торговли.
В 1896 г. на Нижегородской выставке экспонируются кружевные изделия елецкого промысла. За художественные качества и прочность они получают диплом II-ой степени и серебряную медаль. Изделия елецких кружевниц еще в 1890 г. вышли на международный рынок. Тогда было заключено торговое соглашение с Парижем о ежегодной поставке елецких кружев на 100 тысяч рублей [1]. В 1900 году изделия елецкого кружева были представлены на Всемирной выставке художественных изделий в Париже и пользовались боль-шим успехом, получили сбыт в странах Европы, Америки и Азии.
В конце XIX века значительно выросли роль и удельный вес кружевного промысла в экономике города. Он становится отраслью промышленности и массовым художественным искусством. Если в 1883 году, по данным земской статистики, в уезде было более 13 тысяч кружевниц, которые производили кружевного товара на сумму 500 тысяч рублей, то в 1890 году в кружевном промысле было занято более 30 тысяч кружевниц. Соответственно в два раза вырос объем стоимости произведенной кружевной продукции, что составляло около одного миллиона рублей (850 тысяч рублей точнее). В сравнении с уездной и городской отраслью кожевенной промышленности, которой славился Елец, это в два раза больше, чем два кожзавода Ростовцева и Валуйского, а также 25 кустарных заведений по выделке кож. Интересные данные по кустарной промышленности Елецкого уезда имеются за 1893 год. Всего в Елецком уезде было 488 фабричных и кустарных заведений с производством на сумму 377 тысяч рублей в год. Это в три раза меньше, чем производство кружев [1].
России были известны не только елецкие кружева, но и Елецкий драматический театр, основанный в 1848 году. Его посещали и выступали на его сцене знаменитые артисты 2-ой половины XIX века: Ермолова, Комиссаржевская, Качалов, Станиславский и другие. В 1894 г. приезжала Мария Ермолова. Она заказала модное кружевное манто. Его должны были изготовить мастера Паленской школы кружевниц Н.А. Огаревой-Стахович.
Кружевные изделия паленских мастериц по заказам отправлялись в Париж, Москву, Петербург. Две мастерицы — художницы по сложным узорам работали более месяца по 12-14 часов в день, изготовляя модное, красивое шелковое манто Ермоловой. Знаменитая артистка была в восторге от этой неповторимой красоты и решила заплатить за изделие золотой монетой. Из любопытства положила на весы платье и полученные золотые монеты, которые по весу оказались больше, чем вес платья из елецких чудесных золотых кружев.
Если говорить о роли кружевного промысла в экономической жизни Ельца, то достаточно сказать, что город поставил кружевных изделий во Францию на сумму 100 тысяч рублей. По документальным данным, в 1893 году в Елецком уезде было всего изготовлено 1 млн. 736 тысяч 600 аршин только мерного кружева на сумму 272 тысячи 700 рублей и штучного кружева до 32550 штук изделий. Экономическое содержание и роль любого производства определяется производительностью труда, его затратами на производство единицы продукции в условную единицу времени и уровнем оплаты труда.
[singlepic id=1365 w=450 h=500]
Взрослая, опытная в плетении кружевница, чтобы произвести 10 аршин мерного кружева стоимостью 3 рубля 80 копеек, должна была затратить 20 рабочих дней по 12-14 часов, плетя 8 вершков (40 см). Но для производства 10 аршин кружева, стоящих 9 руб. 80 коп., она должна для плетения 6 вершков (18-25 см) затратить 27 рабочих дней. Этот вид кружев требует 12-14 часов работы в день.
В г. Ельце и его пригородах производилось парное и сцепное кружево. Для производства одного штучного изделия: дорожки, шарфа или косынки — стоимостью от 3-х до 5-и рублей работница затрачивает 20-25 рабочих дней, а для плетения штучного изделия, стоимостью от 5-и до 10-и рублей, затрачивается 40-45 рабочих дней [4].
«При самом усердном занятии, не покладая рук, более 15 копеек не заработаешь в день, да и то, с трудом. Дело это организовано так, что все идет в пользу скупщиков», — так писал о производстве кружев Немирович-Данченко. Елецкие женщины в селах плели кружево в свободное время от сельхозработ, от Покрова до Пасхи. Надо учитывать, что 25% работниц промысла были девушки — подростки от 12 до 16 лет и дети от 8 до 15 лет.
Часть кружевниц работали самостоятельно, они сами закупают сырье и материалы. Оборудование кружевного производства стоит довольно дешево: подушка для крепления и плетения кружева — 20-30 копеек, коклюшки — 1 рубль за сотню, булавки — 10 копеек за сотню, подставка для подушки — ящик — 25-30 копеек, ножницы — 35-40 копеек. В целом стоимость оборудования составляла более 2-х рублей.
Для сложных художественных узоров кружевница должна была купить сколок-снимок художественных форм и мотивов кружевного изделия с указанием технологии его плетения. Его стоимость от 1 рубля до 5 рублей. Весь кружевной товар реализовывался на рынке и кустарном складе в Ельце. Сбыт кружевных изделий на рынке осуществляется через скупщиков, которые занимают монопольное господствующее положение. Большинство кружевниц селений и деревень работает по заказам скупщиков, которые снабжают их сырьем, материалами и сколками.
Самостоятельно работают и принимают заказы городские мастерицы-кружевницы женского монастыря. Они плели блонды, то есть кружева из шелка, цветных х/б нитей, канители — из серебра и золота.
Лучше оплачивались клюни и гипюр, от 24 до 36 копеек. Гипюрная косынка оплачивается за работу и материалы — 6 рублей, а в продаже идет по 9 рублей 50 копеек. Черная косынка, елецкая — 4 рубля, а в продаже — по 6 рублей. На елецком Женском рынке скупщики покупают кружево по искусственно заниженным ценам, но кружевные изделия в России, прежде чем попасть в руки потребителя, перекупались 5-6 раз.
Самыми опытными кружевницами и лучшими художниками были работницы-монахини Знаменского монастыря. В первой половине XIX века Елецкий Знаменский монастырь, где более 200 монахинь плели кружева, был своеобразной школой для елецких кружевниц. Там мастера- художницы готовили «сколки» для городских кружевниц. Монастырь принимал заказы на кружева для украшения церквей, одежды священников, а также заказы на штучные изделия из шелковых, бумажных, цветных серебряных и золотых нитей для царского двора. Об этом рассказывают монастырские кружевницы конца XIX века.
Домна Серафимовна Лоткина, жительница Черной Слободы, в молодости была монахиней, мастером кружевоплетения и художницей по изготовлению «сколков». Игуменья Феодора заказала ей сделать сколок и сплести накидку для госпожи Веры Николаевны Черникиной. За работу получила она золотой крестик и много денег. Деньги сдала в кассу монастыря, а крестик оставила себе на память.
В связи с приездом в Елец великого князя Михаила Романова, Домне заказали два сколка на платье княгине Ольге Александровне и Ксении Александровне. Платья изготовили за месяц. Художнице-мастеру заплатили сто рублей и перстенек. Деньги она сдала на монастырь. Затем она рассказала, как монастырь получил заказ изготовить покрывало на аналой Рождественской церкви — кружевное покрывало длиной в 2,5 аршина, шириной в 1 аршин. Работу поручили выполнить классным кружевницам Стириной Ольге Петровне, Завьяловой Дарье Никифоровне (художница) и Степкиной Зинаиде. Художница сколок готовила 10 дней. Это было покрывало с изображением Георгия Победоносца на коне и драконами по углам, на жемчужной сетке из шелка, бумажных и металлических ниток. Это чудо цветов, блеска изготовили три кружевницы за 2,5 месяца, получив 145 рублей.
В 1880 году кружевной промысел развивался в 10 волостях, а его основным ядром был Елец и 25 сел вокруг города. К концу XIX века промысел охватил 18 волостей Елецкого уезда с общим количеством кружевниц 42605. За 20 лет их количество выросло в четыре раза. В уезде появилось еще два ядра концентрации высококвалифицированных кружевниц: Паленский — усадьба Стаховичей — 22 селения и Долгоруковский узел, село Свишни — 25 деревень [5].
Если в России, в 17 губерниях насчитывалось около 100 тысяч кружевниц, то только в Елецком уезде их было 50% . Их изделия славились и пользовались огромным спросом не только в России, но и на рынках стран Западной Европы, Азии и Америки.
Возникает вопрос: чем отмечен быстрый рост и процветание елецкого кружевного промысла в конце XIX века? Почему кружевной промысел был преимущественно женским промыслом? Причем, главным образом, характерным для крестьян?
Елецкий кружевной промысел не был чисто женским. По материалам земской статистики, а также по итогам и таблицам трех обследований Российской комиссии по изучению промыслов, с 1880 года в Елецком уезде кружевоплетением занимались 16-20 мужчин.
Необходимо выяснить, почему сельские женщины всю жизнь, с 7-8 лет до старости, занимались тяжелым, изнурительным и кропотливым трудом по производству кружев. Во-первых, это женская потребность быть красивой и создавать прекрасное, любовь к искусству, духовное стремление творить по законам красоты. Но художником, музыкантом, скульптором, кружевницей надо родиться. Немаловажное значение имела русская национальная традиция. Женщина, девушка должна уметь шить, вязать, заниматься рукоделием. От этого зависела их роль и положение в семье — как хозяйки дома. Во-вторых, это связано с положением русской женщины в обществе, семье, с экономическими условиями сельской и городской жизни. Огромное значение имели национально-нравственные духовные традиции русской общественной сельской и региональной жизни, отношение к труду, а также психологический склад характера и традиций народов России.
Поэт русской революционной демократии Н.А. Некрасов блестяще раскрыл мужество и духовное богатство женщин русских селений: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Замечательный русский художник В.А. Тропинин создал талантливую картину «Кружевница», где изображен светлый образ девушки за плетением кружев с чарующей улыбкой, добрым взглядом голубых глаз, образ художницы и труженицы народного искусства, создающей прекрасное.
В Елецком уезде было 252162 человек населения, из них женщин -128298 человек, в Ельце — 46900 горожан в 1890 г. К 1910 г. население Ельца выросло до 54 тысяч человек.
В Елецком уезде, в экономическом и правовом отношении положение женщин было различное. Государственных крестьян в уезде было 2/3 от общего количества дворов. Среди них было 75% занято в кружевном промысле. В 70-80-х годах насчитывалось по 1-2 кружевницы на двор. В 90-х гг. XVIII в. рост кружевниц шел за счет помещичьих крестьян, в связи с разорением мелкопоместного дворянства. Это объясняется тем, что помещичьи крестьяне до 90-х годов были заняты на поденных работах и отработках, которые были дополнительным денежным доходом для крестьянских семей, что не имели государственные крестьяне. Их денежные доходы пополнялись за счет кружевного промысла.
Для всех крестьянских дворов сельских общин существовал порядок, согласно которому земельные наделы получали на новорожденных мальчиков. Поэтому женщины деревни, от рождения не получавшие земельного надела, вынуждены были кормить себя не только трудом в сельском хозяйстве, но и в свободное время добывать хлеб и деньги кружевоплетением на рынок, участием в течение 7 месяцев в промысле. Кроме этого, существовала российская традиция: взрослая девушка, готовясь стать женой, выйти замуж, должна иметь «приданое». Это целый набор одежды, обуви, постельных принадлежностей.
Поэтому доходы от сбыта и плетения кружев шли не только для семьи, но девушки с подросткового возраста копили деньги и тратили на «приданое». В Елецком уезде даже свадебные обряды включали определенные атрибуты кружевных изделий. Фату и венчальное платье невеста изготовляла из кружев, сплетенных своими руками.
Когда в Шаталовке министр Хвостов в конце прошлого века женил сына, то для его невесты воронецкие кружевницы изготовили из шелка, канители и тонкой цветной бумаги кружевное платье. Даже девушки, которые участвовали в свадебной церемонии, все были убраны в кружевные одежды. Кружевные изделия вошли в быт не только богатых дворян, купцов, но украшали одежду всех жителей Елецкого уезда XI-XX вв.
Быстрое развитие кружевного промысла Елецкого езда в конце XIX века характеризовалось двумя противоречивыми тенденциями: ростом его количественных экономических показателей и снижением качества кружевных изделий как художественных ценностей, как прикладного искусства. Дело в том, что в 70-80-х гг. елецкие кружевницы были и производителями кружевных изделий, и одновременно предприимчивыми торговками. Целыми семьями отправлялись они на рынки от Финляндии до Кавказа для продажи кружевных изделий, для закупки необходимых товаров. Рекламировали елецкое кружево на российском рынке.
К 1890 году елецкий кружевной промысел прочно завоевал международный рынок. Его изделия, тонкие, ажурные, продавались и имели спрос не только в странах Европы, но и Индии, Китае, Турции и Америке. Производителям елецких кружев теперь сбывать свои замечательные изделия было гораздо легче на внутреннем российском рынке. Елец стал крупным центром кружевной торговли.
На внутреннем рынке в России елецкое и вологодское кружево имело огромный спрос. Кружевные изделия были ходовым товаром, поэтому сбыт и торговля кружевным товаром стали монополией скупщиков и различных перекупщиков, которые господствовали на рынке, диктовали цены. Все доходы шли в карманы елецких и приезжих купцов. В Елец приезжали за «русским» кружевом купцы из Варшавы, Одессы, Хельсинки, Украины, Сибири и Крыма.
Наиболее крупными скупщиками кружев в Ельце были Орловы, Левыкины, Мямлины, Малохановы. В городе в конце XIX — начале XX века самой крупной скупщицей была госпожа Икрянникова, она много лет поставляла елецкое кружево Московскому губернскому кустарному складу, который сбывал изделия в страны Европы. Крупные купцы покупали кружевной товар оптом, чаще всего их поставщиками были средние и мелкие скупщики, которым крупные купцы «давали возможность как-то жить». Крупные скупщики кроме оптовой скупки покупали кружева на базаре, на дому у кружевниц по заказам, через своих агентов, скупали в деревнях у сельских торговцев. Средних торговцев-скупщиков в городе было более сотни. Это, как правило, женщины, бывшие кружевницы, они на базаре, по селам уезда скупают кружево крупными партиями. Покупают хорошее дорогое и грубое кружево, а также трудоемкие и средние штучные из-делия без браковки по одной цене, занижая стоимость хороших и плохих изделий. Затем закупленное кружево, качественные и низкосортные изделия делят по цене на партии от 10 рублей до 100 рублей. Второсортное, низкосортное кружево сдабривают хорошим дорогим и рассылают товар по магазинам, по заказам, где предъявляют требования по качеству и ассортименту изделий. Мелкие и средние скупщики в основном имели дело непосредственно с кружевницами- одиночками. Они играли главную роль в сбыте и рекламе елецкого кружева от Балтики до Кавказа, от Бреста и Варшавы до Урала и Сибири. Скупщики не только сбывали кружевной товар, но и принимали заказы от потребителей. Главное, путешествуя по России, елецкие женщины-скупщики собирали новые образцы кружев, новые узоры и композиции.
В итоге средние и большое число мелких скупщиков вносили положительный вклад в обогащение художественных форм и качеств елецкого «русского» кружева, в технику и технологию кружевоплетения. Например, в середине XIX века в Вологде Анфия Федоровна Брянцева создала «вологодский манер» плетения сцепного кружева, когда при наличии 6-12 пар коклюшек можно выполнить одновременно сложные узоры и различные виды фоновой сетки. Это от крыло возможности для производства штучных кружевных изделий.
Елецкие кружевницы не только быстро овладели вологодской парно-сцепной техникой, но и значительно усовершенствовали сцепное кружевное производство, особенно тучные изделия: накидки, блузки и женские платья. Они были вне конкуренции и славились не только в России своей легкостью, ажурностью и художественной выразительностью.
[singlepic id=1366 w=450 h=500]
На внутреннем рынке сбыта кружева господствовали крупные и средние скупщики. Чтобы получить побольше прибыли, они искусственно снижали цены на кружевные изделия. Сельские женщины, девушки и подростки нуждались в деньгах, но, чтобы получить деньги за кружево, они могли продать все свои изделия только скупщикам по низким ценам. Эти стихийные законы рынка пагубно сказывались на качестве елецких кружев и положении кружевниц. С.А. Давыдова сообщает: «В связи с тем, что скупщики снижали цены на кружева, покупали у кружевниц весь товар без браковки, хорошие и плохие изделия по одной цене, тонкое и изящное плетение должно было уступить место более грубому и жидкому кружеву» [2].
Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дали материалы Российской комиссии по кустарным промыслам 1886 г.: «Дешевые цены, предлагаемые скупщиками кружевницам за их изделия, дают им повод небрежно относиться к своему рукоделию».
Мастера используют худшие материалы, сокращают сложность узора, потерю в цене они пытаются наверстать скоростью в работе. Так на рынке появляется низкосортное, жидкое «мыльное» кружево. В чем его особенности?
В орнаменте черных шарфов, косынок и мерных парных кружев, шелковых и бумажных, появляются узоры и мотивы нечеткие и запутанные, с однообразными изгибами велюшек. Зубцы сцепного кружева становятся невыразительными. Некоторые рисунки и узоры, мотивы выполняются в стиле «модерн» — это лилии, амуры с ирисами, жанровые, сентиментальные сцены.
Мотивы — это мелкие художественные кружевные формы, ромбы, овалы, треугольники, квадраты с изображением ветки с цветком, оленем и птицы, розы и другие узоры. Все эти геометрические формы и мелкие кружевные узоры непо-средственно вшивались для украшения одежды и в готовые изделия. Мотивы были модными в 80-90-х годах, но их плетение не требовало хорошей выучки, знания техники и технологии исполнения, поэтому этим делом были заняты под-ростки и дети. В ухудшении качества и художественных достоинств кружевных изделий, в появлении на рынке грубого «мыльного» кружева были повинны скупщики. Им было легче сбыть дешевое кружево, чем тонкое высокосортное, да и качество их не интересовало. Они стремились выполнить запросы потребителей и получить доход за счет труда кружевницы, покупая их изделия по заниженным ценам.
Снижение цен на кружевные изделия на рынке сбыта в период с 1880 до 1913 г. повлекло за собой снижение годового дохода кружевниц Елецкого уезда. Если в 1880 г. годовой доход взрослой кружевницы при 120-и рабочих днях составлял 34 рубля 64 копейки, то в 1890 г. доход женщины-мастерицы средней квалификации составлял 30 рублей и 40 рублей у мастериц шелковых кружев и гипюров (их было 12% от всех кружевниц уезда). В период засилья скупщиков и перекупщиков на кружевном рынке, с 1892-1893 гг. по 1913 г., годовой заработок взрослых девушек и женщин составлял 19 рублей 87 копеек. Заработок детей и подростков — 10 рублей 30 копеек. При таком падении доходов было невыгодно с экономической точки зрения заниматься производством кружев. Но, несмотря на это, в г. Ельце и уезде кружево плести не перестали.
Все 18 волостей уезда (более 40 тысяч кружевниц) делились на две части. 48% плели белое бумажное и льняное кружево, тонкое, легкое и дорогие высокосортные изделия. Остальные производили модные черные шарфы, косынки, черные кружева и штучные изделия. На модных шарфах, косынках, мотивах специализировались подростки и дети. В большинстве сельских семей на крестьянский двор приходи лось по две кружевницы: взрослая и девушка-подросток. Вдвоем в год они могли заработать 30 рублей 17 копеек на крестьянский двор, но в среднем по уезду на крестьянский двор приходилось 29 рублей 29 коп. Доход выравнивался за счет роста общего количества кружевниц, а вот качество кружевных изделий в начале 90-х гг. XIX века к 1910 году значительно снизилось.
Все трудности с производством и качеством кружева, снижение цен на рынке сопровождались огромным спросом на елецкое кружево на российском и внешнем рынке. Поэтому повышенный спрос стимулировал рост производства, а низкие цены влияли на снижение зарплаты кружевниц, но были сильным средством в конкуренции на рынке. На елецком кружевном рынке можно было встретить изделия из кружев различных регионов страны, но елецкое кружево по ценам и качеству было вне конкуренции. В 1894 году на рынках Воронежа, Ельца и Ефремова появилось модное, дорогое, тонкое игольное задонское кружево, вышитое на тюлевой сетке. Вот это «новое» кружево и стало конкурентом не только елецкому, но и всему русскому плетеному кружеву.
Так случилось, что в Задонском уезде в имении Е.Н. Чоколовой была создана мануфактура, где 50 кружевниц и мастеров производили по парижским и брюссельским узорам трудоемкое, красивое и качественное игольное кружево [3].
Это кружево появилось в России в 1844 г., когда в Москве была построена тюлевая фабрика. Но крепостные фабрики игольного кружева не могли конкурировать на рынке с дешевым плетеным кружевом, поэтому через 2-3 года фабрики закрылись, а игольные кружева пропали с рынка. В 90-х гг. XIX века появление игольного кружева на елецком рынке было не «новым», а возвратом хорошо забытого старого. Могло ли задонское кружево быть опасным для развития елецкого промысла? Во-первых, безусловно, «новое», модное дорогое и красивое игольное кружево могло конкурировать с изделиями елецкого промысла. Это бы усилило трудности его производства и сбыта.
Во-вторых, появление на елецком рынке задонских кружев заставило елецких кружевниц овладеть сцепной техникой плетения кружевных штучных изделий, а также внедрить в производство сетчатое плетение. Все это значительно повысило качество елецких кружев, их прозрачность, многообразие фонов и узоров, а низкие цены обеспечили им победу в конкурентной борьбе на рынке. Подлинно новое задонское кружево пропало с елецких рынков через 3 года.
Забытое старое не может быть новым. Только подлинно новое неодолимо в своем развитии.
С.П. Ершов. Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк). — Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. — 129 с.
Источник http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/
Литература:
1. Брокгауз, Ефрон. Энциклопедия. 1894. — Т.22. — С. 604.
2. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. — СПб, 1892. — С. 24.
3. Там же. — С. 150.
4. Твердова-Савицкая З.М. Кустарные промыслы Елецкого уезда. — М., 1916. — С.28-29.
5. Там же. — С.10-11.
Статья подготовлена по материалам 2-го издания книги Ершова С.П. «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)», изданной в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. В статье воспроизведены все изображения, использованные автором в работе.
·
http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/
|
Метки: купечество промыслы елец орловы |
Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века |
Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века
подслушано в Прибитюжье:
В середине января маслозавод "Эртильский" был выставлен на продажу почти за 2,32 млрд рублей
На сегодня от когда-то богатого имения сохранилась величественная церковь Рождества Христова, один из флигелей, старая больница и старинный парк. Усадьба Барятинских расположена в восточной части посёлка Анна на вытянутой мысообразной полосе между поросшим лесом правым берегом реки Битюг и прудом. С начала XIX века принадлежала Ростопчиным, с 1853 по 1873 гг. – Левашовым. В 1873 году усадьба перешла к древнему дворянскому роду князей Барятинских.
Двухэтажный дворец не сохранился, его уничтожил пожар в 20-е годы. В северной части усадьбы находится парк, имеющий форму трапеции, ограниченный улицами и автомагистралью Воронеж - Саратов. Со стороны леса сохранился ров. Утрачены небольшой пруд у главных ворот и некоторые посадки, часть территории отведена под больницу и стадион. В 140 м северо-западнее угла парка, у бровки склона балки (над прудом), находится 13-главная церковь Рождества Христова. В юго-западной части парка, параллельно ул. Ватутина, от церкви до дворца была проложена главная подъездная аллея шириной 15 м. Сохранились остатки дорожки от дворца к парку. С северной стороны к дворцу примыкал небольшой участок с регулярной планировкой липовых аллей. Часть аллей утрачена. Предположительно, аллеями была изображена римская цифра XIX или XX, символизировавшая век.


К концу XIX века усадьба «Анна» превратилась в крупное имение. За усадьбой вдоль балки с пруда располагался винокуренный завод, маслозавод, кирпичный завод, конный завод (к настоящему времени перестроены). На территории усадьбы сейчас находится Аннинская спецшкола (детская колония).
Флигель
подслушано в Прибитюжье:
На молочном заводе в Анне в текущем году откроют цеха мощностью 20 т в сутки по производству творога
расположен в северо-западной части парадной зоны усадьбы. Одноэтажное кирпичное здание с большим деревянным мезонином. Первый этаж расчленяют лопатки и опоясывают надоконная и подоконная полочки, окна прямоугольные, с бровками. Мезонин завершён карнизом на фигурных S – образных кронштейнах. Между кронштейнами размещены накладки. Над карнизом с юга и севера возвышаются фигурные аттики с датой «1908 г». Окна большие прямоугольные в простых наличниках.


Жилой дом
Расположен в южной части усадьбы на краю склона. Здание кирпичное, двухэтажное, в плане прямоугольное. От первоначального декора сохранились лишь элементы, образующие центральную ось главного западного фасада: на первом этаже – двухколонный портик, на втором – рустованные лопатки. Здание опоясывает межэтажный карниз. Окна первого этажа прямоугольные, на втором этаже – с лучковыми перемычками. Планировка полностью изменена.
Парк
Парк площадью 23 га примыкает восточной стороной к массиву прибрежного леса. Спланирован в пейзажном стиле, имеет трапециевидную форму с обсадкой по периметру. В устройстве парка большое внимание было уделено целостности структуры и формированию пейзажей. Использован сравнительно небольшой ассортимент завезённых растений 6-7 древесных пород. Пейзажи построены с ориентацией на столичные образцы. В центральной части на газоне размещены крупные группы декоративных деревьев, образующих несколько камерных полян, перетекающих друг в друга. Здесь же размещены группы лиственных пород деревьев (берёза, дуб, ясень). Лиственные группы, более светлые, эффектно смотрятся на фоне тёмных, плотных групп хвойных деревьев (сосна, ель, лиственница), составляют основу посадок. В настоящее время часть исторического парка используется в качестве городского парка.
|
Метки: барятинские дворянские владения воронежская губерния |
Мария Барятинская -О Распутине |
Глава 14
Революция. – Распутин. – Отречение царя. – Возвышение Керенского и Ленина
Как-то в воскресенье в конце декабря 1916 года я пошла, как обычно, в церковь. Ее величество вдовствующая императрица посещала богослужения в Киеве в личной часовне губернатора, графа Игнатьева, поскольку в императорском дворце личной часовни не было. После молебна ко мне подошел граф и спросил: «Вы слышали самую последнюю новость? Знаменитый Распутин убит». – «Неужели это правда? – спросила я. – А кто это сделал?» – «Пока дело покрыто тайной, даже его тело еще не найдено. Ее величество вдовствующая императрица знает о трагедии. Однако я очень беспокоюсь, какое влияние окажет эта новость на императрицу Александру Федоровну. Как вы знаете, она так безоговорочно верила в могущество Распутина, что, боюсь, его смерть станет для нее страшным ударом».
Императрица так и не сумела понять, что так называемый старец был не кем иным, как шарлатаном и мистиком, обладавшим огромной гипнотической силой, а также совершенно беспринципным человеком. Веру императрицы в него он использовал в личных целях и оказывал на ее величество пагубное влияние. Она была очень религиозна и верила, что этот человек явился с особой миссией от Бога, хотя все остальные видели истинную его суть и пытались предостеречь ее от него и открыть ей глаза на его подлинный характер. Но государыня никого не слушала – вера ее в него была абсолютной. Распутин обладал над немногими людьми некой очень мощной властью, которую просто невозможно описать, и использовал свое влияние на доверчивую императрицу, внушившую себе, что тот владеет силой спасти ее любимого сына.
Жизнь Распутина не раз оказывалась под угрозой, но, говорят, он как-то изрек: «В день, когда исчезну я, перестанет существовать и императорская семья, а Россия рухнет!» Я, конечно, не могу утверждать, так это или нет. В те смутные времена в воздухе витало столько безумных изречений…
Я его видела лишь один раз несколько лет назад на вокзале Царского Села, когда он выходил из поезда, и мой друг показал мне этого «знаменитого Распутина». Я его хорошо разглядела: он был одет под крестьянина, заношенная до предела шапка была натянута на самые глаза. Внешне он был грязен и неприбран, но на нем была красивая и дорогая меховая шуба. Лицо худощавое и бледное, но глаза его были удивительны – большие и глубоко посаженные, а взгляд настолько пристальный, что, казалось, проникал внутрь человека или всего, что встречалось его взору. Он вызывал отвращение с первого взгляда.
Его дожидалась придворная коляска. Он поспешно взобрался на нее, съежился в углу, как будто пытаясь спрятаться, озираясь с таким видом, будто опасаясь, что кто-нибудь последует за ним. Но лицо его никак не отражало его внутреннюю суть, хотя оно и было правдивым признаком его характера. Это был пьяница-скандалист и даже хуже. И тем не менее он через свою удивительную способность ослаблять страдания юного наследника добился такого влияния на императрицу, что никто не мог убедить ее, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Императрица любила своего сына больше всего на свете и находилась в такой постоянной тревоге за жизнь дорогого цесаревича, что была готова использовать любые методы для его лечения. Она была убеждена, что Распутин, и только он один, может вылечить ее обожаемое дитя.
В тот день я пришла домой из церкви и спросила мужа: «Ты знаешь, что Распутина убили? Как ты думаешь, последствия будут серьезными?» И он ответил: «Слава богу, это гнусное чудовище подохло! Что до последствий – люди поговорят и забудут, что оно когда-то существовало. Такова жизнь».
Со своей стороны я не разделяла мнение мужа. У меня были свои опасения. Я знала, каким ударом будет это для императрицы, которая из-за своего наивного низкопоклонства сотворила из него мученика, наделив, еще при жизни Распутина, его нимбом святости.
В течение нескольких дней газеты не могли писать ни о чем другом, кроме смерти Распутина: колонку за колонкой киевские газеты публиковали его портрет, его биографию и детали убийства, сообщали, где и как он был убит, что труп его куда-то исчез и его до сих пор не могут найти, что петроградская полиция напала на след и что, наконец, останки «старца» были найдены подо льдом в одном из каналов, впадающих в Неву…
Император, в то время находившийся в штабе в Могилеве, немедленно выехал в Царское Село, чтобы быть рядом с императрицей, которая была в отчаянии, доводящем ее до безумия. Тело убитого отправили в один из монастырей в Петрограде, а оттуда перенесли в церковь по соседству с госпиталем Анны Вырубовой, где в присутствии их величеств и немногих близких друзей состоялось временное погребение. Сообщалось, что Распутин похоронен в парке в Царском Селе. Какой прискорбный промах! Какой риск с дальнейшими трагическими последствиями – посещать похороны человека, который не знал ни веры, ни закона! Естественно, все это широко обсуждалось, и нам было очень неприятно от всякого рода беспочвенных слухов.
Люди, принимавшие участие в убийстве Распутина, были сурово наказаны, а потрясения, вызванные этим делом, имели самые фатальные последствия. Бедная императрица! Можно только сожалеть о ее слепоте и осуждать тех, кто осмелился представить эту ужасную тварь ее величеству, сыграв на ее сокровенных чувствах – ее любви к своему сыну и ее религиозной экзальтации, а потом поддерживал государыню в ее несчастной вере в могущество Распутина. Все эти люди – просто преступники, поскольку они заботились лишь о своих собственных интересах, надеясь тем самым попасть в фавор к императрице и сколотить себе состояние.
Император вызвал моего мужа с фронта в Царское Село для беседы. Толи нашел, что его величество выглядит очень утомленным и озабоченным, и заметил, что царь очень похудел. Глаза государя, всегда такие выразительные, сверкали, когда он рассказывал, что ожидает быстрых успехов со стороны союзников, что боеприпасы поступают со всех сторон и что есть надежда скоро начать всеобщее наступление. Он говорил только о войне и сообщил моему мужу, что надеется вскоре увидеть его в штабе. Император предложил моему мужу навестить до отъезда императрицу, добавив, что ее величество чувствует себя очень плохо и находится в подавленном состоянии.
Мой муж через несколько минут встретился с императрицей в ее гостиной комнате. У нее было неестественно раскрасневшееся лицо, и она нервничала, но пыталась выглядеть спокойной. Она говорила резко, почти отрывисто, из чего было видно, как глубоко она страдает. Государыня расспрашивала обо мне, моей дочери и моем госпитале и сообщила моему мужу, что вскоре собирается поехать на фронт вместе с императором. Его величество еще не имел возможности поблагодарить гвардию после больших сражений июля 1915 года. Мой муж был очень тронут этим визитом и с целью отвлечь ее величество от ее горестных дум рассказал ей о недавно вышедшей из печати американской книге, содержавшей карикатуры о войне, которая была очень забавной и развлекательной. Позже он позволил себе смелость послать ей из Киева экземпляр этой книги.
Когда мой муж после обеда покидал императора и императрицу, оба величества послали с ним любезные послания для меня и поблагодарили меня за то, что продолжаю так долго заниматься своим госпиталем. Так он в последний раз увидел наших любимых монархов, и в последний раз я получила от них послание напрямую. Этот визит произвел глубокое впечатление на моего мужа, который увидел огромную тревогу, угнетающую оба величества, и был необычайно удивлен веянием трагического, витавшего в этом разговоре.
Мой муж сказал мне, что состояние Петрограда было совсем не обнадеживающим. Интерес к войне, казалось, потух, а прекрасное чувство патриотизма вообще испарилось. Тема всех разговоров – политика и критика правительства.
Ходили также слухи о голоде, и это совершенная правда, что у мест раздачи хлеба выстраивались длинные очереди. Также, что там холода и народ стоит часами, дрожа от холода. Также правда, что для распространения враждебной пропаганды и для того, чтобы доказать слабым духом, уставшим от военных лишений гражданам, что никто о них не заботится и никто на них не обращает внимания, поезда с продовольствием задерживались и делалось практически все, чтобы ускорить приход революции.
|
Метки: барятинские мемуары |
Мария Барятинская -О награждении царя орденом Георгия 4-й степени |
Осенью 1915 года император решил устроить смотр своим войскам на фронте, надеясь, что это поднимет их дух. Во время этой поездки его величество оказался на небольшой станции Кливяны, откуда он отправился устраивать смотр войскам. Все ехали в автомашинах, и на обратном пути на станцию, чтобы сесть на императорский поезд – а уже было темно, – императорский водитель заблудился. Вдруг, к своему великому удивлению и ужасу, генерал Иванов услышал знакомый шум германских аэропланов. Так император оказался очень близко к линии вражеского огня. Тотчас был отдан приказ повернуть все пушки против германских машин и отогнать их.
Все были встревожены этим несчастным случаем. Однако император оставался абсолютно спокоен и сдержан. Когда он доехал до станции, к нему подошел генерал Иванов и спросил: «Не соблаговолит ли ваше величество принять крест ордена Святого Георгия?»
Орден Святого Георгия, управлявший собственным Советом (Орденской думой), был создан императрицей Екатериной Великой, а крест выдавался за храбрость. Одно из правил, записанных в уставе ордена, гласило, что любой член императорской семьи, который подвергнется опасности перед лицом врага, имел право на этот крест.
В ответ на вопрос генерала Иванова император со своей обычной скромностью уклонился от этой почести. «Я был не в большей опасности, нежели остальные», – настаивал он. Генерал продолжил упорствовать, и государь раздраженно ответил: «Пожалуйста, больше не касайтесь этого вопроса!»
Посоветовавшись с моим мужем, генерал Иванов решил созвать Совет ордена, который единственно имел право награждать. Зная антипатию императора к нарушению правил, он надеялся, что его величество будет вынужден принять крест, если награда будет произведена по решению Совета. Кворум Совета в количестве семи человек собрался в Бердичеве и утвердил награждение, изложив в надлежащей форме основания для награждения крестом. И моего мужа отправили в Петроград в качестве представителя Совета ордена, чтобы произвести награждение царя.
По пути в Петроград муж заехал в Киев, где «завербовал» меня в свой заговор. Он очень сомневался в своей способности уговорить императора. «Боже, помоги его величеству принять этот крест, – сказал он, – потому что все его предшественники имели крест, и я знаю, с какой гордостью император будет носить его!»
Муж взял с меня обещание хранить секрет и, уезжая, сказал мне, что пришлет телеграмму «Прекрасная погода», если его миссия завершится успехом. А если в телеграмме будет написано «Погода была плохая», я должна это понять так, что он потерпел неудачу. Как только я получу эту телеграмму, мне надлежало позвонить в Бердичев генералу Иванову, и было отдано распоряжение, чтобы мне помогли сделать звонок немедленно.
В день приезда мужа в Петроград я получила телеграмму «Погода чудесная!». Я тут же позвонила генералу Иванову и по его голосу поняла, что тот был в огромном волнении. «Слава богу!» – восклицал он.https://unotices.com/book.php?id=123093&page=54
|
Метки: барятинские первая мировая война романовы российская императорская армия |
Барятинская Мария Сергеевна-О браке с Анатолием Барятинским |
Барятинская Мария Сергеевна - Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870–1918. Читать книгу онлайн. Cтраница - 4
После обеда он рассказал нам забавную историю. Начал следующим образом:
– В тот же день, когда я повстречал вас в Монте-Карло, – возможно, вы это помните, потому что всякий, кто меня хоть раз увидит, уже никогда не забывает, – скромно добавил он, – я купил билет до Ливорно. Оттуда я намеревался отплыть на Корсику, чтобы посетить великого князя Георгия Александровича (второго сына царя Александра III. – Авт.), который находился там по причине своего слабого здоровья. Меня по ошибке приняли за самого великого князя, поскольку губернатору Ливорно была послана телеграмма, в которой говорилось, что великий князь Георгий путешествует инкогнито под именем князя Барятинского. В то время я ничего об этом не знал и, к своему удивлению, добравшись до Ливорно, удостоился государственного приема со стороны важных сановников.
Я прослушал длинную речь, в которой часто упоминалась высокая честь, которую я оказал этому городу своим личным визитом, и, наконец, меня провели к большому внушительному ландо. Я хотел избежать дальнейших почестей, и так как шел сильный дождь, я быстро забрался в карету, сел на место у окна и поспешно закрыл дверь, надеясь, что губернатор поймет, что церемония подошла к концу. Но – увы! Несмотря на проливной дождь, он, обогнув карету, подбежал к другой двери, вскочил в карету и уселся рядом со мной. Я сразу же увидел, что он не понимает моего французского, на котором я отчаянно пытался объяснить ему, что я вовсе не его императорское высочество великий князь. Наконец, я оставил свои попытки, и мы поехали в отель, где я увидел, как он заговорщицки шепчется с привратником. Я очень устал, и мне хотелось спать, но скоро мои сновидения были потревожены оркестром, заигравшим под окном российский государственный гимн.
Это оказалось последней каплей! Я вскочил и неистово попытался разъяснить ситуацию. Но повсюду видел сияющие лица и склоненные фигуры! Ничто из сказанного мною не могло изменить их уважительного отношения, поэтому я отказался от попыток доказать мою истинную личность и в конце концов пошел спать.
Та же программа продолжилась наутро и на борту корабля. На это я мог не обращать внимания, так как был неважным моряком. Море штормило, будто присоединилось к заговору против меня, а потому я провел все время в одиночестве в своей отличной каюте. Когда мы прибыли на Корсику, капитан и пассажиры построились в два ряда, через которые я прошел, чувствуя себя очень глупо и неловко. Наконец, благополучно добравшись до места назначения, я рассказал всю эту историю великому князю, отчего он хохотал от всей души.
Сообщение во всех газетах о моем «императорском визите» гласило, что великий князь Георгий благополучно прибыл в Аяччо, а чтобы избежать церемоний, приличествующих его положению, он путешествует инкогнито под именем князя Барятинского.
Эту вырезку из газеты мой супруг послал своему отцу, который показал ее императору Александру III, а когда мой муж вернулся в Россию, его величество, улыбаясь, поинтересовался о происшествиях в ходе этой забавной поездки.
Мне понадобилось очень короткое время, чтобы понять, что Толи был действительно моей первой любовью. Примерно в середине марта князь Барятинский сообщил мне, что собирается вместе с друзьями поехать на охоту на медведя, к которой у него была большая страсть. Это достаточно опасный вид спорта. Медведи все еще спят в глубоких берлогах и приходят в ярость, когда их будят ищейки. Полусонных, их надо убивать прямо на месте, иначе раненый медведь становится страшным соперником в поединке с человеком.
Я сама как-то видела трагические последствия одного неудачного выстрела. Полковой друг моего мужа, лейтенант Нефф, выстрелил в медведя, и тот упал. Считая, что зверь мертв, он подошел к нему, и тут, к его ужасу, медведь вдруг поднялся и зажал его в тиски. Лейтенанта спасли лишь друзья, застрелившие медведя, но зверь до этого успел отгрызть большую часть его ноги и бедра.
Князь Барятинский признался мне, что если он будет достаточно удачлив и убьет медведя (а у него было девять или десять ружей), то сочтет это хорошим предзнаменованием (Толи был очень суеверен, да и я такая же). Но, несмотря на мои мольбы, он так и не сказал, что имел в виду. Но полмесяца спустя он приехал ко мне и заявил: «Я убил медведя, и вы должны стать моей женой. Это и есть хорошая примета, о которой я говорил две недели назад». Я ему ответила, что все еще несвободна; хотя мой брат, видя мое несчастье в браке, настаивал на разводе, тем не менее это потребовало времени. Я вернулась в поместье брата. Пройдя через многие затяжки и трудности, в 1894 году я вышла замуж за князя Анатоля Барятинского. К тому времени мой первый муж уже умер.
В период моего второго замужества отец моего супруга исполнял обязанности генерал-адъютанта его величества на службе у вдовствующей императрицы; у него и моей свекрови было три сына и три ttps://unotices.com/book.php?id=123093&page=4дочери, и к тому времени никто из них не состоял в браке. Наша свадьба была первой в этой семье. Потом мой молодой деверь Владимир женился на актрисе Лидии Яворской; затем моя самая старшая золовка Анна вышла замуж за князя Щербатова, адъютанта великого князя Николая Николаевича. Мой самый старший деверь Александр женился только в 1901 году, как я упоминала ранее, на княжне Екатерине Юрьевской, изумительно красивой дочери императора Александра II от морганатического брака с княгиней Долгорукой. Ей был дан титул княжны Юрьевской.
Из оставшихся двух сестер Ирина вышла замуж за капитана Мальцова, морского офицера (моя свекровь какое-то время противилась этому браку), а другая дочь, Елизавета, стала супругой графа Апраксина, впоследствии назначенного к особе ее величества императрицы Александры Федоровны. Это назначение всех удивило, так как у него было слишком мало качеств для столь высокого поста.
Родители моего мужа были исключительно добры ко мне, и у нас всегда были самые лучшие отношения. Моя свекровь была очень добродетельной и набожной женщиной, чьим девизом в жизни был долг. Несмотря на больное сердце, она редко думала о себе, все свои силы она направляла на то, чтобы помочь окружающим. Когда я вышла замуж за Толи, ее старая мать все еще здравствовала и проживала в том же доме вместе с дочерью и зятем. У нее была своя половина из нескольких комнат. Звали ее графиня Стенбок-Фермор, и она была одной из самых богатых женщин в Европе. Ей принадлежали огромные рудники на Урале и в Сибири, дома, деньги и другая собственность. Она была хрупкой женщиной, одевалась очень скромно, была очень религиозной и помогала многим монастырям.
Однажды она позолотила за свой счет купола монастыря Святого Сергия недалеко от Санкт-Петербурга. Это стоило ей невероятных денег. Она была крайне консервативна во взглядах, не одобряла современных новшеств и никогда не ездила поездом, а также не допускала установки телефона у себя в доме. У нее был уникальный характер; ей был присущ исключительный ум, и своими делами она управляла с огромным искусством. В денежных вопросах она часто совершала неожиданные поступки. Как-то случилось, что ее старший сын Алексей, молодой офицер, влез в долги. Она отказалась уплатить их, и его мебель и другие вещи были объявлены к продаже. Лишь посредничество его величества Александра II вынудило ее уладить дела.
В другой раз, однако, мой деверь, ее внук, Александр сообщил семье, что собирается признаться бабушке, что также серьезно задолжал. «Я попрошу сразу же, если она меня примет», – заявил он. Мы думали, он шутит, но он пошел к бабушке, и, вероятно, его благосклонно выслушали, потому что через полчаса он вернулся, сияя, с чеком на 200 000 рублей. «Бабушке очень понравилось, что я был с ней откровенен», – спокойно рассказал он нам. Но потом он по секрету признался мне, что, когда он вошел к старой даме и начал свою историю, его терзали сомнения. И все же приятные манеры и глубокий ум моего деверя компенсировали его непрактичность.
Когда бабушка умерла в возрасте восьмидесяти трех лет, она оставила после себя огромное богатство в размере примерно 100 000 000 рублей, и, хотя эта сумма была поделена среди очень большой семьи из нескольких поколений, каждому досталось очень прилично.
ttps://unotices.com/book.php?id=123093&page=4
|
Метки: барятинские мемуары |
Княгиня Мария Барятинская об Оболенском |
Великий князь Николай Константинович умер во время войны.
Моего мужа освободили от занятий, и поскольку он был заядлым спортсменом, то горел нетерпением собрать компанию для охоты. В туркестанских степях полно гусей, диких уток и всевозможных перелетных птиц. Муж слышал, что стаи гусей здесь так велики, что буквально небо темнеет, когда они пролетают. Только здесь можно найти дикого горного барана и гималайского козла, а также таких необычных птиц, как карликовую степную куропатку, чукару, и соек особой окраски.
Задуманной экспедиции предшествовали такие гигантские приготовления, что я не могла удержаться от иронии: «Можно подумать, что вы собираетесь, как минимум, на Северный полюс. Надеюсь, вы не станете тратить время и гоняться за невозможным». Но группа упорствовала в своем мнении и отвечала с глубокомысленным видом: «Все будет хорошо!»
Компания состояла из князя Оболенского, моего племянника, одного из офицеров Главного штаба, моего мужа и, конечно, неизбежного Жозефа. Как только они добрались до места назначения, являвшегося главным станом кочевых племен, они обнаружили там большой киргизский шатер, поставленный для них. Земляной пол шатра был покрыт толстыми коврами, место посреди оставалось свободным для того, чтобы можно было разжечь костер из кустарника, единственного топлива, которое можно найти в этих выжженных солнцем степях. Ветки уже были сложены, и оставалось только поджечь их, если понадобится. Дым уходил через отверстие в крыше шатра. Однако они не стали заботиться об огне, потому что хотя и был март, но было так тепло, а солнце было таким жарким, что можно было подумать, что уже наступило лето.
Песчаные степи простирались на мили и мили вокруг шатра однообразной серой пеленой. Ее расцвечивали только безукоризненно белые маленькие ручейки, вьющиеся через эту монотонную пустынную ширь. Вдоль их берегов появлялась свежая зеленая трава, в которой было рассыпано множество маленьких белых цветов, а также изумительных цветков лимонно-желтого цвета растения дикий лук. Он растет в изобилии на гребнях гор Тянь-Шаня, образуя там сплошное покрытие, и с расстояния похож на желтый ковер. Эти покрытые цветами горы так и называются – Луковые горы.
Два дня обещание немыслимого количества и разнообразия дичи оставалось только обещанием. Наши охотники настреляли немного уток, одна из которых оказалась экземпляром, совершенно отличным от тех, что им приходилось встречать раньше. Голова ее была похожа на голову старой женщины в красном капюшоне.
Этой охоте было суждено завершиться неожиданным образом. Резко испортилась погода, и обрушился проливной дождь. Изменение температуры повлияло на состояние князя Оболенского, страдавшего астмой, и с ним случился сильный приступ. Во время приступов кашля он не мог лежать и был вынужден стоять на коленях и наклониться для опоры над стулом, пока пытался восстановить дыхание. Его нельзя было шевелить, и компании пришлось прекратить охоту. Князь не мог ни идти, ни ехать, а другого способа добраться до Ташкента не было. Мой муж решил сразу же вернуться в город и прислать слугу князя с лекарствами и респиратором и оставил с больным моего племянника, юношу девятнадцати лет.
Ночью налетел буран с ледяным дождем и мокрым снегом. Температура все падала и падала, ударил мороз. Наутро земля была скользкой и гладкой, как стекло. А так как князь из-за своего недуга не выносил жара костра, они чуть не окоченели. Когда мой племянник вышел из шатра наружу, он увидел трех крупных волков, занятых поисками пищи, которых он поначалу принял за собак. Это было необычное явление, потому что волки редко появляются открыто.
Мой бедный племянник много часов провел в тревожном ожидании слуги князя, который вез лекарства. Тот приехал поздно, ведь бедняге пришлось преодолеть большое расстояние от станции по дороге такой скользкой, что его неподкованная лошадь не могла тащить коляску.
Теперь возникла другая проблема – как вывезти больного. И в конце концов было решено, что легче всего будет поднять его на лошадь. К несчастью, он терпеть не мог запаха этого животного, который вызывал у него спазмы насморка, и его астма, естественно, усилилась.
Путешествие до станции оказалось очень изнурительным. Лошадь спотыкалась и скользила на каждом шагу. Вести бедное животное было невероятно трудно и утомительно, поэтому, когда они добрались до станции, все были полностью измотаны. Мой бедный племянник перевел дух, когда занял свое место в вагоне поезда.
Спустя несколько дней князь Оболенский рано утром ворвался в наш дом полуодетый и в заметно возбужденном состоянии. Его старый слуга, возможно под влиянием частой смены температур, вдруг потерял рассудок и попытался застрелить своего хозяина, повсюду гоняясь за князем с револьвером в руках, и тому пришлось спасаться бегством через окно. Мы приняли князя у себя, а слугу отправили в Санкт-Петербург в сумасшедший дом. И он так и не вылечился.
Перед отъездом из Санкт-Петербурга в Ташкент меня приняла вдовствующая императрица, и я спросила ее величество, могу ли я присылать ей кое-какие фрукты, которыми славился Туркестан. Зимой можно было найти только дыни, которые сохранялись в хорошем состоянии. Я спросила генерала Самсонова, как мне отправить несколько туркестанских дынь ее величеству, поскольку я знала, что в это время года они в Санкт-Петербурге большая редкость. «Я могу послать специального курьера, – ответил он, – и сделаю это с удовольствием. Найду для этого надежного казака, дам распоряжение отыскать лучшие в Туркестане дыни, которые, полагаю, будут достойны того, чтобы ее величество согласилась их принять».
Так и было сделано, и перед отъездом посыльный получил строгие инструкции держать фрукты в прохладе и на время дороги подвесить их. Но тот полагал, что сам лучше знает, что делать, и, чтобы их не раздавило, завернул дыни в свою одежду. Когда он приехал в дом родителей моего мужа и с большой гордостью распаковал эти дыни, то обнаружилось, что хотя внешне они выглядели весьма неплохо, но внутренность их полностью сгнила. Бедняга был в отчаянии. Мой свекор рассказал эту забавную историю в числе других ее величеству. Она, с ее обычной добротой, зная, как был огорчен бедный казак, и понимая, какую радость и гордость он ощущал бы, если бы ему было дозволено видеть ее величество после такого длинного путешествия, и с каким триумфом он бы рассказывал в своем полку об оказанной ему чести, дала ему аудиенцию.
По возвращении, когда он привез письма и подарки из дому, казак с восторгом рассказывал о приеме. «Я с радостью поеду еще раз, но не думаете ли вы, ваше сиятельство, что было бы лучше послать ковер ее величеству? Я уверен, ее величеству он бы больше был по душе, да и принес бы больше пользы. Наверняка вам должно быть стыдно посылать ее величеству такой подарок, как дыни! Старый князь покачал головой – и я видел, что он был недоволен».https://unotices.com/book.php?id=123093&page=38
|
Метки: барятинские оболенские мемуары ташкент |
Лев Термен - разведчик из будущего |
|
Лев Термен - разведчик из будущего
На вопрос, что общего между электронной музыкой и шпионажем, трудно ответить, не зная этой истории... 
В 1951 году радист британского посольства в Москве неожиданно услышал на одном из открытых каналов разговоры, которые, как оказалось, велись в здании американского диппредставительства. Это значило, что в посольстве США была организована прослушка... После долгих поисков «жучка» присланные Госдепом специалисты обнаружили странное устройство без проводов и источников питания внутри герба США, подаренного в 1945 году послу Гарриману на Ялтинской конференции. Лишь много лет спустя они узнали, что таинственный прибор, прозванный “The Thing” («Эта вещь»), собрал тот же человек, что в 30-е годы собирал полный зал нью-йоркского Карнеги-холла - своими концертами на первом в истории электронном музыкальном инструменте. Это был Лев Сергеевич Термен — потомок мятежных французских аристократов-альбигойцев, который творил чудеса на благо Советской власти, получив содействие от самого Ленина. Его имя до сих пор окутано туманом неразгаданных тайн. 
При поддержке Ленина терменвокс, созданный молодым изобретателем Львом Сергеевичем Терменом, становится воплощением прогресса. Правительство большевиков использовало концерты Термена, чтобы сделать пиар своему великому плану ГОЭЛРО, который должен был развеять над страной тьму невежества. Лев Сергеевич дал 150 концертов. «Разрешение проблемы идеального инструмента. Приблизительно шестьдесят октав слышимых звуков, в том числе двадцать четыре октавы музыкальных звуков, вместо шести на рояле, звуки освобождены от „примесей“ материала. Начало века радиомузыки», - писали про Термена в газетах. На дворе была эра Футуризма, и терменвокс вписывался в неё как нельзя лучше. Зарубежные журналисты даже высказывали мнение, что электронные инструменты вытеснят «устаревшие» традиционные. На тот момент Советская власть была благосклонна к Термену, несмотря на его «классово чуждое» происхождение. Без Льва Сергеевича и его терменвокса было бы невозможно создание электронного синтезатора — одного из «столпов» современной музыки. Термен оставил след и в искусстве, и в современной технике. Он запомнился современником как смелый, увлекающийся человек, который любил шутить и удивлять других людей. В Америке о вымышленных приключениях молодого Льва Сергеевича рисуют научно-фантастические комиксы, как и о другом выдающемся учёном - Николе Тесле, с которым у нашего героя есть немало общего. Были ли они знакомы? Меня не оставляет этот вопрос. 
О музыкальной и изобретательской деятельности Термена известно немало по обе стороны Атлантики. Но куда меньше мы знаем о Термене — «бойце невидимого фронта». В 1929 году его отправили на Запад, сначала в Европу, а потом и в Америку — не только для повышения престижа Советского Союза, где смог развернуться такой талант, но и для разведдеятельности, прежде всего - наблюдением за техническим прогрессом. В США была эпоха «ревущих двадцатых». Время взлёта экономики, науки и техники. Время новой музыки — джаза. Началось массовое радиовещание, радиолы становились предметами обстановки, на экранах появились первые звуковые кинофильмы, и радиомузыка Термена оказалась как нельзя кстати. После триумфального успеха в Карнеги-холле и Метрополитан-опере изобретения Льва Сергеевича привлекли к себе внимание американских предпринимателей. Удивительно, но, работая в США, Лев Сергеевич, не скрывал свою преданность Советскому Союзу и идеям социализма: он даже выступал с концертом на мероприятии местной компартии. Между тем, в числе его знакомых были не только Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин, но ещё Форд, Рокфеллер, Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США, и военный специалист Лесли Гроувс, ставший руководителем атомного «Манхэттенского проекта». Термен был членом клуба миллионеров и наверняка был осведомлён о многих вещах, но, совсем как в кино, «погорел» на романе с красивой женщиной. Тайн в этой истории немало. Какие научно-технические сведения добыл наш гениальный соотечественник? В чём его разведдеятельность помогла Советскому Союзу перед войной? Почему после ареста и отправки на Колыму в Кремле решили вернуть его из лагеря, хотя предъявленные Термену обвинения вполне могли его погубить?.. Вот еще один малоизвестный факт. Хотя «отцом» телевидения считается Владимир Зворыкин, а началом телевизионной эры принято считать 1931 год, в 1920-х годах Термен создал собственную телевизионную систему «дальновидение», которая опережала систему Зворыкина самым удивительным образом. Весной 1926 года инженер Лев Термен демонстрировал в Наркомате обороны первую в мире телевизионную установку — дальновидение. Он установил объектив камеры на улице, экран расположил в кабинете, и красные полководцы Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный и Тухачевский дружно вскрикнули от восторга: на экране по двору шел Сталин! В нем использовалась чересстрочная развертка на 32 и на 64 строки, изображение воспроизводилось на экране размером 1,5х1,5 м. До него такого разрешения не удавалось добиться ни одному инженеру: экраны западных телевизоров были размером со спичечный коробок. Интересы Льва Сергеевича были разносторонними, как у гениев эпохи Возрождения. Он интересовался не только механизмами, но и загадками человеческого организма: в частности, его интересовала консервация организма в условиях холода — то, с чем экспериментируют учёные в наши дни. Ещё в молодости он собирался бросить вызов самой смерти, когда скончался Ленин. С поразительной, даже пугающей уверенностью он писал: «Как только я узнал об этом, то принял решение: Ленина надо похоронить в мерзлоте, а через несколько лет я его восстановлю! <…> У меня был надежный помощник, которого я послал в Горки, чтобы выяснить, как все это оформить. Он вернулся очень скоро; сделать уж было ничего нельзя, слишком поздно. Оказалось, что мозг и сердце Ленина доктора уже извлекли, поместили в банку, залили спиртом и таким образом убили все клетки. Я был сильно огорчен. Мне казалось, что, заполучив тело Ленина, мы, на том уровне науки, смогли бы разобраться, в чем дефект того или иного органа человеческого тела. Я был готов к этому». Впрочем, его исследований в данной области то ли не оценили, то ли... побоялись. К теме продления жизни он вернулся уже на закате Советской эпохи, будучи сам девяностолетним (в 95 он давал концерт в США). Он выступал на семинаре «О бессмертии», также он придумал систему очистки и омоложения крови и пришёл предложить её в ЦК, но человека, подобного Ленину, когда-то «пригревшему» гения, там уже не нашлось. Как передавал сам Лев Сергеевич, «там сказали, что нам нужно прокормить население, а не продлять ему жизнь». Так что же конкретно хотел сделать Термен и насколько его проект был оправдан с научной точки зрения? http://steeme.ru/%40olivera-despina/lev-termen-razvedchik-iz-budushego |
|
Метки: термен наука |
Счастье и трагедия прекрасной Лебеди Врубеля |
Счастье и трагедия прекрасной Лебеди Врубеля
Кто не знает эту чудесную картину, где в буйстве белых лебединых крыл на нас своими огромными бездонными глазами смотрит прекрасная девушка в драгоценном кокошнике! "Царевна Лебедь" Михаила Врубеля.
Художник написал свою жену Надежду Забелу-Врубель, оперную певицу, в исполняемой ею роли. Она пела партию Царевны Лебеди в опере про царя Салтана. Дивный, сказочный образ, передающий дух пушкинского произведения и музыки Римского-Корсакова.
Есть фотография Надежды в костюме Лебеди. Сравнивая оба изображения, понимаешь, насколько глаз художника острее и глубже проникает в суть образа.
Врубель охотно писал свою жену, оставив несколько ее портретов. Но такого уровня романтизации, как в Лебеди, больше не достиг.
Обладательница превосходного сопрано, Надежда, проведя детство в Киевском институте благородных девиц, поступила затем в Петербургскую консерваторию. После ее окончания певица начала выступать в Киевском оперном театре. Проработав там всего один сезон, уехала в Тифлис, оттуда в Петербург, пела также в Москве.
Знакомство с Врубелем состоялось во время репетиций оперы "Гензель и Гретель" в частном Панаевском театре в Петербурге. Художником этой постановки был как раз Михаил Врубель, который попал туда чисто случайно - он заменил собой Константина Коровина. Художник с первого взгляда влюбился в прелестную Надежду. Будучи человеком темпераментным, он немедленно очень бурно выразил свое восхищение, целуя ей руки.
Через год после знакомства Врубель и Забела поженились. Свадьба состоялась в Швейцарии. В качестве свадебного подарка Михаил преподнес невесте брошь с бриллиантами и опалом.
Семейная жизнь протекала поначалу безоблачно. Супруги любили друг друга, каждый был занят творчеством, между ними было взаимопонимание. Надежда продолжала блистать на сцене, особенно ей удавались образы из опер Римского-Корсакова. Современники восхищались ее исполнением, отмечая особенную удачу в роли Марфы в "Царской невесте".
Ольга Книппер-Чехова, например, писала Чехову об этом исполнении:
Она удивительно просто ведет сцену сумасшествия, голос у нее чистый, высокий, мягкий, ни одной крикливой ноты, так и баюкает. Весь образ Марфы полон такой нежности, лиризма, чистоты — просто из головы у меня не выходит.
Вот так одна актриса оценила другую.
В новый век Надежда вступила с радостью, но ожидали ее только бедствия...
Родившийся в 1901 году долгожданный сын оказался очень болезненным мальчиком и умер в два года. Смерть сына очень плохо сказалась на Врубеле. Симптомы душевной болезни стали проявляться все чаще и глубже.
Переехав из Москвы в Петербург, Надежда поступила в Мариинский театр, где пели самые выдающиеся исполнители. В театре царило соперничество, не было атмосферы тепла, уюта, как в частном Мамонтовском театре в Москве, где Надежда работала ранее.
Забела не получала те роли, в которых могла бы блистать во всей красе. Одновременно муж все более погружался в бездну своей болезни, и теперь мог содержаться только в больнице. Там он и умер в 1910 году от воспаления легких.
Все эти события подкосили жизненные силы Надежды. Она впала в депрессию и покончила с собой в 1913 году.
https://zen.yandex.ru/media/lichop/schaste-i-trage...belia-5c78ce1cc01dc600b2816875
|
Метки: врубели театр мир живописи |
Барокко Строгановых: трехсотлетние палаты в Усолье |
Барокко Строгановых: трехсотлетние палаты в Усолье
На территории Приуралья и Урала сохранилось немного каменных зданий начала XVIII века.
Но те, что есть – часто не только исторически значимы, но еще и очень красивы!
Признаюсь: когда я ехала в Усолье, в моем списке объектов для обязательного посещения были только храмы. Уезжала я с багажом снимков в гораздо большем «ассортименте».
Памятник светского барокко, восстановленные палаты Строгановых на берегу Камы впечатляют! Восточная сторона, парадная – оформлена лестничными пролетами вполне в дворцовых вкусах монархов предыдущих столетий. Окна второго этажа заставляют замереть - их изящество почти неожиданно для суровой геометрии всего здания.
Занятный факт: в России в эти годы (а строительство Строгановских палат относится к 1724) уже начинается регламентация строительства, из стольного Петербурга по образцу его застройки во все города и веси разлетаются стандартные проекты домов, по которым обязуют строить и дома, и присутственные здания, и даже храмы.
Но Строгановы в Усолье сами цари и боги, и свои палаты, в которых они никогда не будут жить постоянно, они строят на свой вкус.
Знаменитый «жучок» - квадратно-ромбический орнамент (его мы встречаем почти исключительно в храмовом зодчестве); замысловатые и изысканные наличники, подчеркнутые контрастной окраской; углы, фланкированные почти коринфскими полуколонками… Провинциальная красота как она есть!
Очень хочется рассказать о Строгановых – история этой династии и ее ветвей накрепко вписана в историю России. Соляные короли; приращение к Московскому царству Урала и Сибири руками того еще бандита Ермака; строгановский стиль в архитектуре; коллекции искусства; традиции благотворительности; судьбы некоторых представителей фамилии… Только Строгановым можно отдать несколько лет научной биографии, поэтому я выдыхаю и добавлю буквально пару слов о архитектуре палат в Усолье.
С точки зрения конструкции – это вполне традиционная для московского зодчества жилая постройка. Подклет – полуцоколь, этаж для подсобных помещений. Здесь это кухня, каретная, склад и «людская», в каждое помещение есть отдельный вход.
Второй этаж – это четыре большие комнаты – палаты, жилые помещения хозяев и кабинет. Принцип размещения комнат анфиладный, по центру находятся «сени» с лестницей на первый этаж. Потолки обоих этажей сводные, соответственно их высота разная, от 3-х до 6,5м в самой высокой точке.
Фото 1960-х гг, из архива музея
Сейчас здание полностью отреставрировано, в нем находится музей. Туда я не попала, так как была в Усолье в праздник. И очень жалею. А вообще Усолье – это чудесное место для знакомства с историей региона и каменной архитектуры!
л!Хороших дорог и чистого неба, друзья
|
Метки: строгановы |
Почему "Мастер и Маргарита" Булгакова является наихристианнейшим романом 20-го века. |
Почему "Мастер и Маргарита" Булгакова является наихристианнейшим романом 20-го века.
- Jun. 3rd, 2013 at 2:55 PM
 Я надеюсь, что я убедил вас, мои дорогие читатели, что автор "Белой Гвардии" и "Театрального романа" не мог быть примитивным "готом", смакующим описание всевозможных упражнений в черной магии аля даже не доктор Фаустус, а кот Мур, начитавшийся "Молот Ведьм" с комментариями махатмы Блаватской. Римлянцы, это же не Акунин, это Булгаков. Ну не может сын ведущего христианского историка Российской Империи разбрасываться упоминаниями о рукописях Сильвестра II без всякой цели, просто так, чтобы показать что он тоже читал Британскую Энциклопедию. В том-то и дело, что если роман "Мастер и Маргарита" это упражнение в гностицизме, то он не только анти-христианский, он невыносимо пошл. Неужели кто-то может поверить, что по поводу этой пошлятины, достойной разве что Брэма Сто́кера, создатель "Дней Турбиных", умирая, шептал "Чтоб знали, чтоб знали." Я даже могу себе представить, что Михаил Афанасьевич на старости лет решил побаловаться сатанизмом (со скрежетом зубовным, но могу), но я никогда не поверю в то, что и в этом случае он мог считать Иешуа-Га-Ноцри, упоминаемого в Талмуде и в писаниях Иоахинана-бен-Заккаи, Мессией и Спасителем Нового Завета.
Я надеюсь, что я убедил вас, мои дорогие читатели, что автор "Белой Гвардии" и "Театрального романа" не мог быть примитивным "готом", смакующим описание всевозможных упражнений в черной магии аля даже не доктор Фаустус, а кот Мур, начитавшийся "Молот Ведьм" с комментариями махатмы Блаватской. Римлянцы, это же не Акунин, это Булгаков. Ну не может сын ведущего христианского историка Российской Империи разбрасываться упоминаниями о рукописях Сильвестра II без всякой цели, просто так, чтобы показать что он тоже читал Британскую Энциклопедию. В том-то и дело, что если роман "Мастер и Маргарита" это упражнение в гностицизме, то он не только анти-христианский, он невыносимо пошл. Неужели кто-то может поверить, что по поводу этой пошлятины, достойной разве что Брэма Сто́кера, создатель "Дней Турбиных", умирая, шептал "Чтоб знали, чтоб знали." Я даже могу себе представить, что Михаил Афанасьевич на старости лет решил побаловаться сатанизмом (со скрежетом зубовным, но могу), но я никогда не поверю в то, что и в этом случае он мог считать Иешуа-Га-Ноцри, упоминаемого в Талмуде и в писаниях Иоахинана-бен-Заккаи, Мессией и Спасителем Нового Завета.
(На рисунке Маргарита и Мефистофель. Автор рисунка - мадам Блаватская)
Итак, мне кажется можно считать доказанным, что роман "Мастер и Маргарита" это не "готика", а аллегорический рассказ о мистической сушности тех событий, свидетелем которых стал Михаил Афанасьевич на протяжении всей своей жизни. Например целый ряд подробностей рассказа о Пилате и Иешуа-Га-Ноцри явно отсылают нас не только к Талмуду, но и к апокрифическому "Евангелие от Никодима", ставшему главным источником сведений об Иосифе Аримафейском - основателе старейшей на "глобусе" Церкви Англии. Я не собираюсь сейчас давать полную расшифровку аллегорий и аллюзий романа "Мастер и Маргарита", да это и невозможно в принципе, но мне кажется что из вышеупомянутых обстоятельств, а также из того места, которое в романе "Мастер и Маргарита" занимает романе об Иешуе-Га-Ноцри, трудно не сделать вывод, что он считал именно историю Церкви сакральной историей спасения человечества от метафизического зла и движущей силой все тех изменений, которые произошли в России и во всем мире в начале 20 века. А крупнейшим событием в истории Церкви на рубеже веков был провал или вернее незавершенность переговоров об объединении Церкви Англии и Русской Православной Церкви, и вполне естественно предположить, что Булгаков именно это в 1935 году считал причиной и Первой Мировой Войны и Русских Революций, и того всемирного пожара который начался в 1941 году, но вспышки которого Михаил Афанасьевич увидел в отсветах огней знаменитого глобуса Уильяма Буллита в Спасо-Хаусе в 1935 году. Причем это предположение превращается почти в уверенность, если вспомнить, что в переговорах Церкви Англии и Русской Православной Церкви решающую роль играли работы его отца, Афанасия Ивановича Булгакова, а на бале в Спасо-Хаусе Михаил Афанасьевич скорее всего своими глазами увидел создателя общества Туле профессора Карла Хаусхофера и коменданта Бремена Вильгельма Кейтеля.
В том то и дело, что помимо конкретных исторических форм история имеет и духовное, и я бы даже сказал религиозное содержание. Например в рунете живет и размножается масса спекуляций на тему того, что было бы если бы Николай II не стал объявлять всеобщую мобилизацию в ответ на вполне разумное требование Австро-Венгрии о допуске австрийских полицейских к расследованию убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда. На самом деле в той ситуации, когда этой войны хотели абсолютно все, речь могла идти только об отсрочке, причем очень не большой отсрочке, тем более что за спиной у Гаврилы Принципа маячили не только и даже не столько "черная рука Аписа", сколько теософы Вагнеровского общества и Бальфуровского кабинета. Зато переход в Православие Церкви Англии, главой которой была королева Виктория, а затем основатель династии Виндзоров Едвард VII, несомненно поменял бы саму суть мировой политики. Как минимум, (как минимум!) испарилась бы без следа традиционная английская поддержка мусульманских богослужений в Святой Софии, а "Гебен" и "Бреслау" врядли бы прорвались в Стамбул в августе 1914 года.
Более того, радикально изменились бы интересы великих держав, те самые которые государству заменяют друзей. Действительно, если посмотреть ретроспективно на вторую половину 19-го века и начало 20-го, то трудно избавиться от впечатления, что все это время "история" неустанно работала над разрушением монотеистических Империй: Русской, Германской, Австро-Венгерской и Турецкой. В Российской Империи она создала то, что я называю кризисом артикуляции, лишив Православную Империю языка для адекватного времени выражения своей наиболее сакральной части, и попыталась насадить вместо него чуждый русским великодержавный шовинизм, временами напоминающий нацизм, оборотной стороной которого в многонациональной Империи оказалась весьма причудливая смесь всевозможных национализмов и самого безудержного интернационализма. В Германии "история" разрушала наследие Бисмарка - культуркампф, замещая протестантизм не католичеством, а всевозможными видами гностических сект, а в Австро-Венгрии она руками антиправославной атеистической "Млады босна" и венгров в лице эрцгерцога Франца-Фердинанда убила Империю, в которой славяне и чехи получили бы равноправие, но католичество сохранило бы свое влияние. А Турции "история" расправилась с традиционным исламом в лице таррикатов, например бекташей, и насадила откровенно масонские ложи, арабский национализм и тщательно выращенный в Катаре ваххабизм. Последний пример особенно ярко демонстрирует то, почему эту таинственную силу "истории" зачастую называют "англичанкой". По сути речь шла о разрушении любой организованной формы объединения людей на основе монотеистического мировоззрения авраамических религий.
Но перевес в балансе сил англичанки и всех этих Империй был очень неустойчив, так как все эти страны находились тогда в конечной стадии выхода из кризиса духовных основ своей государственности и если бы им это удалось, они совсем не обязательно вцепились бы друг в друга. А Россия могла стать лидером, как государство имевшее опыт сосуществования по крайней мере двух таких религий, поскольку я, в отличии от Солженицина, не могу считать опыт сосуществования с иудаизмом удачным.
И вот представьте себе, что в тот момент, когда эта таинственная англичанка уже празднует полную победу, она получает сокрушительный удар у себя дома, в единственной Империи, которая все это время набирала мощь: Церковь Англии начинает переходить в Православие, образуется англо-православное Оксфордское движение и Общество Ревнителей Единения Восточно-Православной и Англиканской Церквей, под покровительством Великой Княгини Елизаветы Федоровны, переход которой в Православие поддержала сама королева Виктория.
Но чуда не произошло: в церкви Англии активизировались старые анти-Византийские тенденции, да и Русская Церковь не смогла сделать шаг навстречу и перешагнуть через чисто политические и процедурные вопросы. Оксфордское движение из англо-православного превратилось англо-католическое, причем с отчетливым привкусом цистерианства - вековечного врага Православия. Конечно заинтересованный диалог продолжался, но было поздно: Европа вошла в штопор Мировой войны, как будто пресловутая англичанка сказала себе: "Все, пора, завтра будет поздно".
Причиной того, что две великие Церкви так и не смогли понять друг друга кроятся в различных трактовках взаимоотношений Христа и Пилата, и как следствие Церкви и Империи, корни которых в "Деяниях Пилата" - основной части апокрифического "Евангелия от Никодима", ставшего главным источником сведений об Иосифе Аримофейском - основателе Цекви Англии. Именно этим трактовкам посвящена работа Афанасия Ивановича Булгакова "О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви." 1906, и роман Мастера "Евангелие от Воланда" в романе "Мастер и Маргарита", который через 30 лет написал его сын Михаил Афанасьевич Булгаков.
Я надеюсь, что я убедил вас, мои читатели, что любая попытка интерпретировать "Мастера и Маргариту" без учета этих факторов, является очередной выходкой кота Мура, который, по моему, последние 30 лет поставил себе задачей максимально изгадить русскую литературу. Кроме того, мне кажется очевидным, что роман как сталактит рос в течении долго времени и состоит из отложений гностических, сатирических и даже фарсовых, исторических, и вовсе апокалипсических, но единство действия этому роману придает балл Воланда, который на самом деле являлся баллом Буллита. И этот бал отбрасывает таинственный отблеск высокого искусства и на антихристианский роман о Христе, и на историю поистине роковой любви ведьмы и автора этого романа, человека без преувеличений одержимого, и на примус кота Бегемота, и на описание Москвы 1935 года, бывшей тогда столицей мирового антихристианства. Достаточно вспомнить, что за четыре года до этого был взорван Храм Христа Спасителя, а 15 мая 1932 Декретом правительства объявляется "безбожная пятилетка", поставившая цель: к 1 мая 1937 "имя Бога должно быть забыто на территории страны". Сдедует отметить, что пик репрессий пришелся как раз на 35 год. и хотя убийства священников, ставшие частью "Большого террора", превзошли безбожную пятилетку, но никогда раньше и никогда позже государство не ставило себе таких задач, а уже через 7 лет попыталось опереться на Православие в борьбе с нацисткой Германией. И именно в 1935 году что-то сломалось в этой тенденции и есть все основание полагать, что это было связано с событиями, описанными в "Мастере и Маргарите", поскольку, как я уже говорил, только удивительное ощущение доподлинности описываемых событий и фонтанирующий из каждой строчки метафизический реализм, делает этот роман великим произведением искусства.
Прежде всего следует сказать, что Уильям Буллит имел репутацию визионера, чьи отчеты неоднократно поражали даром предвидения Государственный департамент и коммиссии Конгресса США. В частности он до этого балла в 1935 году достаточно упорно предвидел будущее, в деталях описанное в 1923 году в романе "Трест «Д. Е.»" другим визионером Ильей Эренбургом. За исключением того, что у Ильи Эренбурга страной безудержного нацизма и фашизма оказалась Франция, а не Германия.
Я уже писал, что предположение о том, что балл Воланда является аллегорическим рассказом о событиях имевших место быть в Спасо-Хаус 24 апреля 1935 года. Это позволяет не только лучше понять замысел Булгакова, но и вспомнить, что тогда происходило в мире. В частности есть очень серьезные основания полагать, что поводом к сбору сильных мира сего в американском посольстве в Москве у знаменитого визионера Уильяма Буллита был провал фашистского переворота во Франции 6 февраля 1934 года, который в случае удачи несомненно направил бы события в русло обрисованное Ильей Эренбургом в "Тресте «Д. Е.»"(весьма примечательно, что соответствующей статьи уже нет в русской википедии). А через год, то есть за 3 месяца до балла Буллита (Воланда) Гитлер выбросил в помойку Версальский договор и начал открыто строить флот и ВВС, причем Англия предпочла с этим согласиться. А еще через три месяца были приняты рассовые законы Нюренберг, а а ученик присутствовавшего на бале профессора Карла Хаусхофера Рудольф Гесс стал заместителем Гитлера. Это я так, к вопросу о многовариантности истории. Кстати именно Буллит в 1939 году был первым, кто в одном из своих предвидений представленных Конгрессу США употребил слово "холокост" и настоял на ускоренной разработке и внеочередной передаче Франции нескольких сотен фронтовых бомбардировщиков "Ду́глас ДБ-7 Бо́стон", который вполне могли бы предотвратить прорыв немецких танков в Бельгии, осцществленный под руководством еще одного гостя балла Вильгельма Кейтеля.
Хочу особо отметить, что ситуация с Англиканской Церковью только что на моих глазах повторилась, когда была торпедирована первоначально весьма успешная попытка Митрополита Американской Православной Церкви Ионы Паффхаузена привести к Православию "англикан" в США. Причем Коровьев и Бегемот этим точно занимались, когда Собор, якобы единогласно проголосовавший за отставку Митрополита , был проведен методом телеконференции. Иерархам некогда из-за таких пустяков съезжатся, а то, что теперь никто не хочет признаваться в участии в этом "соборе", так это просто пустяки. Прямо хоть продолжение "Мастера и Маргариты" пиши (правда меня все на Шеспира тянет - см. Комедию ошибок). А для того чтобы усугубить ощущение актуальности вопроса о христианском значении "Мастера и Маргариты" предлагаю всем ознакомиться с комментариями людей, которые жаждут обнаружить своих родственников в списке гостей Уильма Буллита в 1935 году, хотя по моим сведеньям на баллу у Буллита были только родственники самой Маши Гессен и Александра Гольдфарба. Кстати мне кажется, что они все на самом деле хотят оказаться гостями не Буллита, а Воланда. Я прямо вижу, как они все стоят в очередь целовать посиневшее правое колено обнаженной женщины, роковую красоту которой не может испортить ведьмино косоглазие и даже будто усиливает хищный оскал и жестокостю и буйность черт. Какие собственно еще нужны доказательства связи балла Волланда с баллом Буллита. Вот он идет, не скрываясь, на нащих глазах, сегодня, сейчас.
Как Вы сами понимаете, ключ к пониманию романа является список гостей балла Буллита, который до сих пор не может превзойти ни один депломатический прием в мире, котоый продолжают вспоминать в Дипкорпусе Москвы и специалисты в геополитике. Причем широкой публике ( в том числе и мне) этот список до сих пор неизвестен, за исключением жертв борьбы за власть в Москве в последующие 3 года, и только случайно всплываюшие документы позволяют узнать, о присутствии на нем то Радека и Олбрехта, то Роберт Оппенгеймера. И, поскольку такого рода баллы ну никак не могут ограничиваться военно-политическими вопросами и на нем несомненно присутствовали ведущие художники и ученые мира, то я позволю себе озвучить слух, что именно на этом баллу Борис Яковлевич Подольский обсудил с Натаном Розеном публикацию парадокса ЭПР и его будущую работу в пустыне Негев, а с Буллитом осенний семестр в университете Цинцинати. В результате Розен поехал в Киев, а Подольский ради этого университета покинул Украинский физико-технический институт, который тогда опережал Институт Макса Планка и Кавендишскую лабораторию, и где 10 октября 1932 года впервые расщепили ядро атома. Вот такой вот Абадонна был у Буллита в загашнике. А может быть это был не его загашник.
T
https://abrod.livejournal.com/322451.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: булгаковы |
15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны |
День в истории. 15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны

В этот день исполняется 100 лет со дня проведения одной из крупнейших боевых операций петлюровских войск — еврейского погрома в городе Проскурове. Это был первый случай целенаправленного уничтожения «нетитульного» населения ради строительства «украинской Украины».
До этого на территории, занятой петлюровцами, бывали погромы с большим количеством человеческих жертв, но их целью были грабежи и насилие. В Проскурове же, где на момент бойни евреи составляли половину из 50-тысячного населения, случилось то, что три десятилетия спустя будет определено как геноцид. И, стало быть, те, кто прославляют Петлюру и его войско (включая нынешних президента и нардепов), соответственно, признают право на геноцид для осуществления своих целей.
Сам штаб Петлюры в те дни находился в Виннице, куда головной атаман и его кабинет бежали из Киева. Он передвигался на поезде по Подольской губернии. В Проскурове же незадолго до погрома объявилась Запорожская казачья бригада во главе с Иваном Семесенко, не успевшая себя проявить в общении с местным населением и располагавшаяся в вагонах на железнодорожной станции.
Главным объяснением погрома со стороны украинского войска и местных властей было то, что проскуровские большевики попытались накануне устроить «антиукраинское» восстание. Местные большевики действовали в одиночку без поддержки.
Первым делом восставшие захватили почту и телеграф и арестовали коменданта Киверчука, зная его, как опасного черносотенца и погромщика. Теперь же он из русских националистов перешел в украинские. В центре города в одной из квартир дома Трахтенберга повстанцы открыли свой штаб. Часть из них отправилась в казармы 15-го Белгородского и 8-го Подольского полков, постоянно дислоцированных в Проскурове. Там они разбудили спавших солдат и объявили им, что восстание началось и что органы большевистской власти уже формируются.
Разагитированные солдаты арестовали своих офицеров, а равно и тех солдат, которые были против выступления. Они захватили полковое оружие и выступили по направлению к вокзалу, где открыли огонь по вагонам, в которых находились казаки Семесенко. Но когда те покинули вагоны, и пришедшие солдаты убедились в их многочисленности, они отступили к своим казармам. Казаки последовали за ними и начали обстреливать казармы. Тогда солдаты отступили к Фельштину и Ярмолинцам, а затем рассеялись по разным местам и, таким образом, скрылись от преследования. Успели бежать и организаторы выступления.
Восстание закончилась провалом, и победители взялись определить и карать виновных в мятеже. Городской голова и председатель городской думы увидели подъехавшего к комендатуре освободившегося после бегства охраны коменданта Киверчука и от него узнали, что он был арестован. На вопрос, кто его арестовал, комендант ответил: «Жиды — члены квартальной охраны». Он прибавил, что с ними заодно выступил его ординарец, которого Киверчук «только что собственноручно застрелил».
Атаман Семесенко при поддержке Киверчука вступил в исполнение обязанностей начальника гарнизона.
«Свое вступление он ознаменовал пышным угощением гайдамаков и казаков и за обедом угостил их водкой и коньяком. По окончании трапезы он (Семесенко — А. Г.) обратился к гайдамакам с речью, в которой обрисовал тяжкое положение Украины, понесенные ими труды на поле сражения и отметил, что самыми опасными врагами украинского народа и казаков являются жиды, которых необходимо вырезать для спасения Украины и самих себя. Он потребовал от казаков присяги в том, что они выполнят свою священную обязанность и вырежут еврейское население, но при этом они также должны поклясться, что они жидовского добра грабить не будут», — сообщается в докладе представителя Российского отделения Красного Креста А. И. Гиллерсона (ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 24. Д. 17. Л. 30-46.).
Казаки Запорожской бригады были приведены к знамени и принесли присягу, что будут резать, но не грабить. Когда один полусотник предложил вместо резни наложить на евреев контрибуцию, то Семесенко пригрозил ему расстрелом. Нашелся также сотник, который заявил, что он не позволит своим подчиненным резать невооруженных людей. «Запорожцы», как описывает Гиллерсон, выстроившись в походном порядке, с музыкой впереди и санитарным отрядом позади, отправились в город и прошли по Александровской улице. Там они разбились на отдельные группы и рассыпались по боковым улицам и переулкам, сплошь населенным евреями.
Особую подлость этому мероприятию придало то, что погром проходил в субботу, когда евреи отмечали шабат и заведомо не могли оказать сопротивление. «Правоверные евреи с утра отправились в синагогу, где помолились, а затем, вернувшись домой, сели за трапезу. Многие, согласно установившемуся обычаю, после субботнего обеда легли спать.
Рассыпавшиеся по еврейским улицам казаки группами от 5 до 15 чел. с совершенно спокойными лицами входили в дома, вынимали шашки и начали резать бывших в доме евреев, не различая ни возраста, ни пола. Они убивали стариков, женщин и даже грудных детей. Они, впрочем, не только резали, но наносили также колотые раны штыками. К огнестрельному оружию они прибегали лишь в том случае, когда отдельным лицам удавалось вырваться на улицу. Тогда им вдогонку посылалась пуля», — сообщается в докладе Гиллерсона.
Погромщики зарубили пытавшегося образумить их православного священника Климентия Васильевича Качуровского, который, однако, успел спрятать еврейских детей от расправы. «По ошибке», по словам коменданта Киверчука, подверглись нападению военнослужащих и несколько христианских жилищ.
Вот лишь несколько свидетельств чудом выживших. По словам свидетеля Шенкмана, казаки убили на улице около дома его младшего брата, а затем ворвались в дом и раскололи череп его матери. Прочие члены семьи спрятались под кроватями, но когда его маленький братишка увидел смерть матери, он вылез из-под кровати и стал целовать ее труп. Казаки начали рубить ребенка. Тогда старик-отец не вытерпел и также вылез из-под кровати, и один из казаков убил его двумя выстрелами. Затем они подошли к кроватям и начали колоть лежащих под ними. Сам он случайно уцелел. Свидетель Маранц сообщал, что в доме его друга Авербуха было убито пять человек и четверо тяжело ранено. Когда он обратился к соседям-христианам, чтобы те помогли ему перевязать раненых, то только одна крестьянка согласилась оказать ему помощь. Прочие от оказания помощи отказались.
К дому Зельмана казаки подошли стройными рядами с двумя пулеметами. С ними была сестра милосердия и человек с повязкой Красного Креста, доктор Скорник, вместе с сестрой милосердия и двумя санитарами. Когда одна сестра крикнула ему: «Что Вы делаете, ведь на вас повязка Красного Креста!», он сорвал с себя повязку и бросил ей. И продолжал резать. Скорник, вернувшись после резни в свой вагон, хвастался, что в одном доме им встретилась такая красавица-девушка, что ни один гайдамак не решился ее зарезать. Тогда он собственноручно ее заколол.
А вот как описывал происшедшее один из погромщиков, ставший потом классиком украинской советской литературы, Владимир Сосюра:
«Старшины говорили, что это евреи сагитировали белгородцев (поддержавших восстание солдат Белгородского полка — В. С.). Говорили, что казаки первого куреня поклялись под флагом денег не брать, а только резать. Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую бедноту. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали. Был один казак, который знал еврейский язык. Он подходил с товарищами к запертой двери и обращался к перепуганным жителям на еврейском языке. Ему открывали…
Одной гимназистке воткнули между ног штык… А расстреливали так: стреляют и смотрят не так, чтобы попасть смертельно, а как-нибудь, дают залп и наперегонки бегут к еще живым расстрелянным. И хватают из одежды то, что перед залпом каждый наметил на своей жертве» (Володимир Сосюра, «Третя рота», К., «Знання», 2010).
К вечеру погром в Проскурове сбавил интенсивность и пререшел в соседнее местечко Фельштин. Там подручные Семесенко «работали» в воскресенье.
По распоряжению Семесенко жертвы субботней резни должны были быть погребены в понедельник. Таким образом, погибшие оставались в домах и валялись на улицах с субботы до понедельника. Много тел было изгрызено свиньями.
17 февраля с утра многочисленные крестьянские подводы с останками направились к еврейскому кладбищу. На кладбище, по словам свидетеля Финкеля, появились мародеры, которые под разными предлогами подходили к трупам, ощупывали их и грабили. Находили женщин с отрезанными на руках пальцами, на которых, очевидно, были кольца. Заполнение братских могил длилось до позднего вечера.
В 1926 году в Проскурове поставили памятник жертвам погрома, который стоит до сих пор.
По приблизительному подсчёту уполномоченного Отдела помощи погромленным при РОКК на Украине А. И. Гиллерсона, в Проскурове и в его окрестностях было всего убито свыше 1200 человек, кроме этого, умерла половина из более 600 раненых.
Сразу после погрома вышел «Наказ по Запорожской Казацкой Бригаде Украинского Республиканского Войска имени Головного Атамана Петлюры» от 16 февраля 1919 г., изданный в Проскурове атаманом Семесенко.
В нем говорилось: «Предлагаю населению прекратить свои анархические взрывы, поскольку с вами у меня достаточно сил бороться; это более всего относится к жидам. Знайте, что вы народ всеми нациями не любимый, а вы устраиваете такое бесчинство между крещенным людом. Разве вы не хотите жить? Разве вам не жаль своей нации? Если вас не трогают, то сидите молча, а то такая несчастная нация баламутит бедный люд». В том же наказе Семесенко приказывает в трехдневный срок переписать все вывески по-украински: «Чтобы я ни одной московской вывески не видел. Вывески должны быть написаны литературно, заклейка букв строго воспрещается. Виновные в этом будут предаваться военному суду».
В тот же день был выпущен и другой наказ, в котором Семосенко пишет, что «в ночь с 14 на 15 февраля какие-то неизвестные бессовестные, нечестные люди подняли восстание против существующей власти. Люди эти, по имеющимся сведениям, принадлежат к еврейской нации и хотели забрать в свои руки власть, чтобы произвести путаницу в государственном аппарате и повести столь много перестрадавшую Украину к анархии и беспорядку. Были приняты самые решительные меры, чтобы восстание было подавлено. Возможно, что между жертвами есть много невинных, так как ничто не может быть без ошибки. Но кровь их должна пасть проклятием на тех, которые проявили себя провокаторами и авантюристами». Вам это ничего не напоминает?
Для расследовагния погрома из Каменца в Проскуров была командирована комиссия. Но Семесенко, как показывает свидетель, гласный городской думы Верхола, эту комиссию расформировал и назначил свою комиссию для расследования не погрома, а… большевистского выступления.
Трудно удержаться от того, чтобы не сравнить и обвиенние жертв, и следственные действия украинских властей с реакцией на события в Одессе 2 мая 2014 года…
Одним из наиболее деятельных членов этой самой комиссии оказался гайдамак Рохманенко, настоящая фамилия которого была Рохман. Будучи евреем, он поступил, по его собственным словам, в гайдамаки в качестве добровольца. Но он был персонаж, по оценке Верхолы, малоинтеллигентный, нуждающийся и живший раньше на средства, которые он добывал уроками иврита. Этот Рохман, как сообщал свидетель Штер, арестовывал преимущественно сыновей богатых родителей и через еврея Прозера, у которого он проживал на квартире, получал за них выкуп.
Верхола произвел обыск у Рохманенко, отобрал у него 18 тыс. рублей наличными, арестовал его и на допросе принудил сознаться в шантажах и вымогательствах. При этом Рохманенко объявил, что полученные им взятки он большею частью передавал начальнику штаба бригады Гаращенко.
Следственное производство велось вяло, хотя имена погромщиков были хорошо известны и комиссии, и городской общественности. Рохманенко, будучи в тюрьме, хвастал, что никто не смеет предать его суду, что он скоро будет свободен и жестоко отомстит своим врагам. Когда началась эвакуация петлюровцев из Проскурова, решено было перевести Рохманенко из общей тюрьмы в другое место, так как опасались, что его друзья его освободят и увезут. Тогда кто-то из личной мести его застрелил. (И вновь напрашиваются параллели с сегодняшним днем: персонажи, подобные Геннадию Корбану, Александру Ройтбурду или Дмитрию Гордону, проявляли себя и сто лет назад).
Как отнесся к действиям Семесенко и его подчиненным Симон Петлюра?
«Доктор Абрахам Салитерник, лечивший Семесенко от «нервного расстройства» венерического происхождения, и атташе Датского Красного Креста Хенрик Пржановский утверждают следующее. Первый говорит о том, что на второй день погрома его пациент был вызван на станцию для доклада к прибывшему туда Верховному, что его явно встревожило, но вернулся он в хорошем настроении.
Второй (Пржановский) в тот же день добился аудиенции у Петлюры, «во время которой Семесенко ворвался в комнату с возгласом: «Согласно приказу Верховного Атамана, я начал погром в 12:00 дня. Четыре тысячи зарегистрированных евреев уничтожено». С.Петлюра был очень смущен, бросил на Семесенко злобный взгляд и попытался перевести разговор на тему о большевистском восстании в городе. Стоя у стола, он спросил: «Чего большевики хотели?» И опять Семесенко, не уловив хода С.Петлюры, ответил: «Евреи ничего не хотели». С.Петлюра выпроводил Семесенко и попросил Пржановского «забыть то, что он слышал», — говорится в архиве И. Чериковера.
Сам Петлюра в своей последней книге, изданной за несколько месяцев до смерти, писал: «Когда же вспомнить об украинских жидах, то много из них тоже на большевицкую сторону подались, надеясь, что здесь они наверх выплывут, силу будут иметь, на первые места достучатся. В старину им путь не давали, то они думали, что за большевиков самыми старшими станут. Так вот много жидов, а особенно молодых — сопливых, побольшевичились и коммунистами сделались». (Петлюра С. Московська воша, Париж, 1926, стр. 25-26).
Как же относятся к этому событию современные националисты?
Издание Depo.Хмельницкий пишет так: «Провокация большевиками евреев к вооруженной борьбе против УНР повлекла восприятие евреев как антиукраинской силы. Инициаторы восстания бежали, а пострадало мирное еврейское население. Более того, было активное участие части евреев в вооруженных выступлениях против власти УНР с целью ее свержения, как это имело место во многих населенных пунктах Украины, в частности в Проскурове».
В апологетической литературе можно встретить упоминание о том, что Петлюра расстрелял Семесенко. Да, расстрелял, но вовсе не за погром, а за кражу казенных денег. В общем, борьба с коррупцией, как и сегодня, превыше межнационального согласия.
Сам Петлюра, как известно, был застрелен в Париже евреем Самуилом Шварцбардом. Не секрет и то, что суд оправдал убийцу после того, как были представлены свидетельства о погромной деятельности подчиненных Главного атамана войск УНР. Но, пожалуй, основным аргументом в пользу Шварцбарда было его происхождение — он был родом из Проскурова и 15 февраля 1919 г. стал черным днем для его собственной семьи.
Самого же города Проскурова сегодня не отыскать на карте. В 1954 г., в честь «300-летия воссоединения Украины с Россией» он был переименован в Хмельницкий. Известно, что казацко-крестьянское восстание, вошедшее в историю как Хмельниччина, сопровождалось массовым избиением еврейского населения восточных окраин Речи Посполитой.
Источник: https://sem40.co.il/310521-den-v-istorii-15-fevral...vremen-grazhdanskoj-vojny.html
- Вперёд soteric4u.com/esoteric-materialy/evreiskii-voporos-i-antisemitizm/2132-den-v-istorii-15-fevralya-petlyurovtsy-ustroili-krupnejshij-evrejskij-pogrom-vremen-grazhdanskoj-vojny
|
Метки: гражданская война украина штер |
Овсянниково |
Овсянниково
Подробности
Опубликовано 22.07.2016 06:39
Овсянниково. Прямые дороги в Овсянниково - через Ложки и Майдарово. Но они используются мало. Основная дорога в село сейчас идет из-за Клязьмы, по мосту, со стороны Литвиново. По ней в Овсянниково и окрестности прибывают машины многочисленных дачников. От старины в селе остался один маленький усадебный парк.
В исторических документах Овсянниково впервые упоминается и 1504 году. Уже тогда оно было селом, а значит, в нем находилась церковь. Так же вероятно, что уже в те годы в селе находилась усадьба вотчинника, владевшего Овсянниковым и его окрестностями. В 1504 г. оно принадлежало Волку Григорьевичу Курицыну. В те годы многие представители российской аристократии носили дни имени - мирское, общеупотребительное, и то имя, которым их нарекли при крещении. Церковным именем дьяка Волка Курицына было - Иоанн. Он играл достаточно важную роль во внешней политике Руси в годы правления Великого князя Иоанна III, но связался с новгородскими еретиками. Некоторое время еретики обладали большим политическим весом. Им даже удалось провести на пост митрополита Московского своего кандидата - Зосиму. Но позже позиции еретиков поколебались, а в начале XVI века их противники, возглавляемые Иосифом Волоцким, добились их осуждения. Как один из ярых приверженцев ереси Волк Курицын в 1504 году был сожжен в срубе. Вероятно, его владения вскоре были отписаны на Великого князя. Но позже село вновь перешло в частные руки.
В начале XVII века селом владел Юрий Быков. Как известно, Быковым принадлежали селения в этих местах еще в начале XVI века. В годы катаклизмов начала XVII века они расстались с большинством этих владений. Так и Юрий Быков в 1628 году продал сельцо (церковь, вероятно, была уничтожена в Смутное время) Овчинниково Василию Ларионову. В 1629 году село уже принадлежало его детям Михаилу и Ивану. Писцовая книга 1629 года подробно описывает село того времени. На горке, над скатом холма, ведущим к Клязьме, стояла деревянная клетская церковь во имя Николай Чудотворца, а "в церкви образы, и книги, и ризы, и колокола, и всякое церковное строение вотчинниково". Очевидно, храм построили Ларионовы сразу после покупки сельца. Рядом с церковью находились три двора церковного причта. Здесь же располагались постройки двора самих вотчинников. Неподалеку, к югу от церкви, стояли пять дворов крестьян и бобылей.
В руках Ларионовых Овсянниково находилось не очень долго. Уже в 1670 году село принадлежало стольнику Петру Дубровскому, а после смерти последнего досталось его сыну Федору. Федор Петрович Дубровский принадлежал к числу лиц, приближенных к царевичу Алексею Петровичу. По этой причине во время следствия по делу царевича в 1718 году Дубровский был подвергнут репрессиям, а принадлежавшие ему имения, в том числе и Овсянниково, были отписаны на государя. Однако император мало заботился о своем владении. Священник церкви перестал получать ругу (жалование от вотчинника), а после того, как Никольский храм в 1719 году сгорел, вообще ушел из села.
В государственной собственности село пробыло недолго. В 1719 году Петр I пожаловал его А. И. Ушакову. Этот человек был одним из наиболее примечательных людей своего времени. Родился он в 1672 году. Отец его принадлежал к числу небогатых дворян, и Андрею Ивановичу пришлось пробиваться самостоятельно. Петр I вскоре отметил даровитого дворянина. В 1714 году майор Ушаков был назначен "тайным фискалом" по надзору за строительством кораблей. Он с поразительным рвением занялся поиском казнокрадов. Его успешное продвижение по служебной лестнице было обеспечено. В 1722 году он уже был генерал-майором. В 1729 году политический вес Ушакова настолько возрос, что он был привлечен к переговорам о наследнике Екатерины I. Высказавшись против брака Петра II и дочери всесильного Александра Даниловича Меньшикова, Ушаков, казалось, совершил ошибку - Меньшиков сумел расправиться с противниками. Но в том же году по наущению Долгоруких малолетний император Петр II лишил Меньшикова всех чинов и сослал его в Сибирь. В следующем, 1730 году, после смерти Петра II Ушаков подписался под прошением дворянства, адресованным Анне Иоанновне, в котором дворяне выступали просив попытки ряда представителей российской аристократии -"верховников" - ограничить императорскую власть. Заслуги в борьбе с "верховниками" были отмечены званием сенатора, которое в том же 1730 году получил Ушаков. В 1731 году он был назначен начальником Канцелярии тайных розыскных дел. Это учреждение являлось историческим предшественником широко известных ВЧК, НКВД и подобных им ведомств. Стоя во главе канцелярии Андрей Иванович Ушаков ревностно занимался поисками изменников. Например, он принял очень активное участие в розыске по делу Волынского. После смерти императрицы Ушаков поддерживал Бирона, но и после его свержения сохранил свое влияние, оказавшись в милости у императрицы Анны Леопольдовны. Государственный переворот 1741 года, приведший к власти новую императрицу - Елизавету Петровну - так же не затронул Ушакова. Он знал о деятельности заговорщиков, но ни помогал, ни препятствовал им. В результате в состав нового Сената, созданного Елизаветой после переворота, вошел только один человек, носивший звание сенатора до 1741 года - Андрей Иванович Ушаков. А его Канцелярия тайных дел занялась розысками по делам Остермана и других недавно влиятельных персон. В 1744 году Ушаков был возведен в графское достоинство. Умер он в 1747 году.
Овсянниково недолго принадлежало Ушакову - его борьба с Меньшиковым в 1729 году стоила Андрею Ивановичу имения. Оно было реквизировано. На возвращении села после свержения Меньшикова Ушаков не настаивал. Между тем отобранное у Ушакова село было в 1729 году пожаловано доктору Антону Филипповичу Севасто. Севасто же в 1731 году продал Овсянниково.
Село досталось баронам Строгановым. Купивший его Григорий Дмитриевич Строганов был одним из богатейших людей Российской империи. Он владел огромными земельными угодьями на Урале и по берегам Камы, в бассейне Северной Двины и в других частях страны, финансировал многие из проектов Петра I. В 1731 году ему уже принадлежало соседнее Поворово. Возможно здесь, по дороге в новую столицу, Григорий Дмитриевич рассчитывал соорудить большую усадьбу. В 1740 году, после смерти отца и матери, их дети разделили свои владения. Овсянниково досталось старшему из братьев - Александру Григорьевичу. В своем подмосковном имении он бывал редко. По-европейски образованный человек он владел несколькими иностранными языками, много путешествовал по Европе.
В Овсянникове он соорудил новый деревянный Никольский храм, освященный в 1745 году. Сложно сказать, почему именно, но Александр Григорьевич отдавал предпочтение именно деревянным постройкам. В своей другой подмосковной усадьбе - Влахернском (ныне Кузьминки) - он так же построил деревянную церковь. От строгановской церкви в Овсянникове осталось только устное описание, сделанное в конце 1920-х годов. Это была кубическая одноглавая постройка с четверогранной шатровой колокольней. В декоре северного и южного фасадов - по два прямоугольных окна внизу, а выше одно небольшое восьмигранное окно - прослеживалось влияние барокко. Кроме того, в 1920-х годах, в храме сохранились богослужебные книги XVIII века со вкладными, среди которых, очевидно, были и дары Строгановых. С середины XIX века Никольская церковь была приписана к храму соседнего Стребуковского погоста. Богослужения в ней стали проводиться редко, осуществлял их причт Ильинской церкви.
В 1754 году Александр Григорьевич Строганов умер. Село досталось его вдове Марии Артемьевне, урожденной Загряжской. Она же владела Овсянниковым и в 1782 году. Дальнейшая история села изучена слабо. В 1798 году оно принадлежало И. Г. Чернышеву, в 1803 году - Н. И. Протасовой. К 1840-м годам Овсянниково приобрел статский советник Густав Осипович Левенталь - главный врач Императорской Павловской больницы в Москве (ныне 4-я городская клиническая больница) р старейшего лечебного учреждения столицы для гражданских лиц. В те годы в селе в 24 дворах жило 136 крепостных Левенталя. В середине XIX века усадьбу перестроили. Были возведены новые деревянные постройки. Позже Овсянниково продолжало переходить из рук в руки. Перед 1917 годом усадьба принадлежала Н. П. Штер.
В 1918 году усадьба Овсянниково была национализирована. Достойного хозяина для нее не нашлось, а потому вскоре усадебные постройки разрушились. В конце 1920-х годов еще существовали деревянные служебные постройки середины XIX века, а также запущенный парк со следами куртин. По статистическим данным 1926 года, в селе в 58 дворах жило 284 человека. В селе действовала начальная школа, был образован Овсянниковский сельсовет. В ходе коллективизации был создан колхоз "Овсянниково".
В 1941 году отступавшие оккупанты дотла выжгли село. Вскоре после этого была раскатана и сельская церковь. После ряда укрупнений колхозов замерла сельскохозяйственная деятельность непосредственно в селе. Была закрыта школа, прекратил свое существование Овсянниковский сельсовет. Постепенно стало сокращаться число сельских жителей.
В настоящее время Овсянниково - типичное дачное место. Постоянно живущих жителей в нем нет, большая часть сельских домов куплена дачниками. Кроме того, немало коттеджей построено на окраинах села. Роль композиционного центра селения сейчас выполняет большой, в три этажа каменный дом, построенный на церковном участке. Частично сохранился усадебный парк, в настоящее время постепенно застраиваемый.http://news.k1812.ru/index.php/peshkovskoe/166-ovsiannikov
|
Метки: дворянские владения штер |
село Овсянниково |
|
|||||
село Овсянниково |
|||||
|
|
|||||
|
В Санниковской округе много деревень. Каждая имеет свою историю. Название села Овсянниково имеет две гипотезы: село, вокруг которого сеяли в старые времена овсы - зерновая культура, что дает большие урожаи в округе. Иначе, зачем сеять? Исследования последних 20 лет (уже наша современность) говорят о том, что в округе Овсянниково овсы почти не сеяли из-за иИзкой урожайности. Сеяли рожь в небольшом количестве, а ячмень занимал все площади. второе объяснение названия более приемлемо: овес —> овсяк —> овсюг —> ячмень в глазу (из греческого языка). Село находится в трех километрах от центральной дороги, которая соединяет основные населенные пункты бывшего стародубского княжества (Клязьминский городок, Репники, Пантелеево) и ведет к Нижнему Новгороду через Вязники и Мстеру. Село небольшое, хотя в прежние времена (18-19 века) жителей было 700 человек, из них 400-мужского пола. А в настоящИй момент осталась одна жительица села -Малинина Вера Ивановна , а остальные-дачники. Первое упоминание о селе в документах относится к 1572 году, когда в духовной царя Ивана Грозного(завещании) при перечислении принадлежащих государю вотчин «в стародубе-ряполовском» говорится о « селе Овсянникове, что было князь Андрея Кривозерского с братию». Этот факт говорит о многом. Конечно же, Овсянниково находилось в границах прежнего стародубского княжества, которое в конце 15-го века окончательно распалось на отдельные вотчины. Князья Кривоборские-Кривозерские являлИсь старшей ветвью стародубской княжеской династии. Князь Андрей Иванович Кривоборский служил воеводой прИ Иване Грозном. После начала опричнины князь Андрей И его братья ВасилИй, Федор и Василий Меньшой были сосланы царем в казанский край, откуда позже возвратились обратно. При царе Михаиле Федоровиче село Овсянниково получил в поместье дворянин Захарий Фомич Толмачев. В поместье упоминается церковь «Николы Чудотворца», с которой дани платилось 20 алтын. Церковь эта была деревянной и, видимо, далеко не первой по времени. В начале 1660-х годов Овсянниково перешло к сыну Захара Фомича-Захару Захарьевичу Толмачеву. Он служил стряпчим при московском дворе до 1676 года. В грамоте 1667 года «упоминается поместья Захара Захарьевича сына Толмачева села ОвсяннИкова староста Емельян Григорьев». Помещики Толмачевы сохраняли Овсянниково за собой до 18-го века. В погосте Нерёдичи, что находился в 10 верстах от Овсянниково, еще в 1870-е годы рассказывали легенду о том, как Овсянниковский помещик Толмачев пытался перенести к себе в сельскую церковь чудотворную икону Святителя и Чудотворца Николая из часовни, принадлежащей нередическому погосту. Согласно легенде, совершить задуманное не удалось Толмачеву. Сколько бы ни переносили икону в Овсянниково, на следующий день она вновь возвращалась на прежнее место в часовню. В 1672 году Никольская церковь в Овсянниково перешла под руку суздальского архиепископа Стефана. После постройки нового храма выполнить требование Владимирской консистории и вернуть обратно соборную книгу с записями всех пожертвованИй овсянниковцы не смогли. В январе 1829 года эта книга сгорела во время пожара в доме церковного старосты, крестьянина деревни Прудищ Михаила Макарова. «Обживал» новый храм священник Григорий ИльинскИй. Далее в Казанской церкви села Овсянниково много лет священствовал Федор Филиппович ДмитриевскИй. Он так и скончался в Овсянникове и был погребен около восточной стены храма в июле 1885 года. Ф.Ф.Дмитриевский получал немалое количество благодарностей от святейшего синода и епархиального начальства, награждался набедренником и скуфьею, был депутатом первого благочинного округа ковровской округи. Отца Федора в Овсянникове сменил священник Василий Александрович Левицкий, служивший в Казанской церкви до 1892 года. Затем, вплоть до 1917 года, в том храме священствовал Владимир Васильевич Троицкий, тоже имевший награды, в том числе набедренник и скуфью. Поощрения от епархиального начальства неоднократно получали и овсянниковские церковные старосты и просто крестьяне, украшающие свой храм. К примеру, в 1914 году благословения от архиепископа Владмирского и Суздальского удостоились крестьяне приходской деревни Обращихи, Федор И Иван Игнатьевичи Сорокины, пожертвовавшие в храм церковную утварь и деньги на ремонт церкви. Владение Танеевых. В 1850-х годах село Овсянниково принадлежало помещице Наталье Гавриловне Танеевой, супруге коллежского секретаря Алексея Андреевича Танеева, которому, в свой черед, принадлежало в Ковровском уезде село Маринино. В списке населенных мест Ковровского уезда, составленном в 1857 году, в Овсянникове упоминается «господский дом госпожи Танеевой». Наталья Гавриловна Танеева в середине 1820-х годов приобрела у помещиков Хотяинцевых еще одно имение в Ковровском уезде - село Овсянниково с деревнями.В селе Овсянниково Танеевы даже выстроили господский дом. Сохранилось его описание конца 1840-х годов: «господский дом деревянный, новый, крыт тесом, в длину 6 сажен, в ширину 7 сажен, об одном этаже, в нем никаких особых украшенИй нет. К господскому дому принадлежат следующие строения: людская изба новая, в длину 4 сажени 2 аршина, в ширину 3 сажени, деревянная, крыта тесом. Амбар в длину 2 сажени 2 аршина, в ширину 3 с половиной сажени, деревянный, посредственный, крытый драницами». Однако в Овсянникове семейство Танеевых, по-видимому, не жило, бывая там наездами. Под залог именно Овсянниковского имения (всего 291 ревизская душа) Танеевы 21 марта 1849 года взяли ссуду в московской сохранной казне на общую сумму в 23 тысячи 510 рублей серебром.По видимому, на поддержание прежней роскошной жизни в Маринино у них уже не хватало средств. Сумма займа была достаточно велика: ковровский городничий получал жалованья 280 рублей 20 копеек в год. Однако вскоре платить проценты по займу Танеевы не смогли, и в 1852 году за недоимку в 1740 рублей овсянниковское имение было отдано в опеку. Опекуном стал бывший ковровский уездный судья -титулярный советник Павел Степанович Расков. Опека над овсянниковским имением продолжалась до 1857 года-года смерти А.А.танеева. Алексей Андреевич не служил по военной части и не носил офицерский мундир. При жизни отца он числился канцелярским чиновником в Москве в ведомстве экспедиции кремлевского строения. Сразу после кончины родителя он вышел в отставку с невеликим чином коллежского секретаря и зажил в Маринине богатым барином. С 1862 года Овсянниково стало центром новообразованной волости. В 1871 году волостных крестьян насчитывалось 1265 душ мужского пола, которые выплачивали в год 2542 рублей подушной подати, 6243 рубля выкупных платежей и 1087 рублей земских сборов. Доходы крестьянамИ получались не только от плодов хлебопашества и садоводства (в Овсянникове были вишневые и яблоневые сады) но и от традиционных отхожих промыслов, из которых главным был офенскИй -торговый. Продавали чаще иконы местного, мстерского и холуйского письма. Но к началу века, говоря об Овсянниковской волости, статистическИй справочник по Ковровскому уезду сообщал: «Офенство падает. Старики в дорогу не ходят, стары стали, а молодежь устремилась на фабрику Треумова, кроме того, хозяев не стало и плохи вообще заработки у офень». Другим часто встречающимся занятием среди овсянниковцев была работа по найму приказчиками в разных лавках у ковровских, шуйских и вязниковских купцов. Выгодные места зачастую передавались «по наследству» от отца к сыну, или от родного брата к другому. Из села шел постоянный отток населения, цифры статистики достаточно красноречивы: в 1837 году в Овсянникове жителей насчитывалось 193 человека, в 1847 -145, в 1857 - 141, в 1895 - 81, в 1904 - только 55 человек (И на близлежащем хуторе «Иваниха» купца Демидова проживало еще 15 человек). Дворов в селе за тот же срок сократилось с 29-ти до 19-ти. Подобные же изменения происходили и в приходских деревнях. Население самой значительной из них, Обращихи, сократилось с 270 человек в 1837 году до 89 человек в 1904 году. И сегодня из шести бывших приходских деревень существует лишь две: Прудищи и Обращиха. Даже здание школы в Овсянникове построил в 1889 году и содержал таганрогскИй купец Конон Иванович Китаев. Выходец из деревни Яблонцы, К.И.Китаев разбогател на офенской торговле, вышел в купцы и осел в далеком южном городе, но о родном селе не забывал и ежегодно высылал на содержание школы по 100 рублей. Жалование учителю выплачивалось от Ковровского земства, которое выделяло на нужды овсянниковского училища в 1890-е годы по 280 рублей, а с 1900 года по 535 рублей в год. От 48 до 100 рублей доплачивало (по своему же приговору) крестьянское общество. Учительницей в Овсянникове была в начале Александра Ремезова, из гимназисток, затем Александра Одоранская, дочь священника погоста Нередичи. Ее сменила дочь овсянниковского батюшкИ Нина Владимировна Троицкая, выпускница Иваново-Вознесенской гимназии. Курс обучения в овсянниковском училище составлял три года, а количество учеников колебалось от 34 до 43 человек, из них абсолютное большинство составляли мальчики. С 1890 года Овсянниковская волость вошла во 2-ой земской участок Ковровского уезда, который включал в себя еще Алексинскую, Емельяновскую, Осиповскую, Санниковскую волости. Царем и богом в зтом участке 22 года был земский начальник Николай Васильевич Култашев. Большой барин, ведущий счет своим предкам от князей Владимира Святого и Владимира Мономаха, благодушный старичок, он считал себя либералом и судить-рядить подведомственных ему мужичков стремился «по-отечески». Среди крестьян Н.В.Култашев пользовался уважением и любовью. Впрочем, Николая Васильевича почитало и местное «светское» общество. В 1912 году он оставил пост земского начальника в связи с избранием на должность ковровского уездного предводителя дворянства. Н.В.Култашев успел получить генеральский чин (действительного статского советника) и, к своему счастью, не дожил до революции, скончавшись в январе 1915 года. Позже, в 1900 году, Овсянниковская волость была присоединена к Санниковской. Н.Фролов село Овсянниково |
|||||
|
|
|||||
http://www.historykr.edusite.ru/p28aa1.htm |
|||||
|
Метки: дворянские владения |
Овсянниково (Солнечногорский район) |
56°06′49″ с. ш. 37°07′58″ в. д.HGЯO
Овсянниково (Солнечногорский район)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого топонима есть и другие значения, см. Овсянниково.
| Деревня | |
| Овсянниково | |
|---|---|
| 56°06′49″ с. ш. 37°07′58″ в. д.HGЯO | |
| Страна |  Россия Россия |
| Субъект Федерации | Московская область |
| Муниципальный район | Солнечногорский |
| Сельское поселение | Пешковское |
| История и география | |
| Высота центра | 225 м |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население | ↘0[1] человек (2010) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 141533 |
| Код ОКАТО | 46 252 831 016 |
| Код ОКТМО | 46 652 431 196 |

Овсянниково 
Москва Солнечногорск
Овсянниково 
Солнечногорск
Овсянниково |
|
Овсянниково — деревня в Солнечногорском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Пешковское. Население — 0[1] чел. (2010).
География[править | править код]
Деревня Овсянниково расположена на севере Московской области, в восточной части Солнечногорского района, примерно в 12 км к юго-востоку от центра города Солнечногорска, в 32 км к северо-западу от Московской кольцевой автодороги, на берегу реки Клязьмы.
Западнее деревни проходит федеральная автодорога M10 «Россия». К деревне приписано два садоводческих некоммерческих товарищества[2]. Ближайшие населённые пункты — деревни Есипово, Терехово и Шелепаново[3].
Население[править | править код]
| Численность населения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1852[4] | 1859[5] | 1890[6] | 1899[7] | 1926[8] | 2002[9] |
| 136 | ↗149 | ↗219 | ↘184 | ↗284 | ↘1 |
| 2010[1] | |||||
| ↘0 | |||||
История[править | править код]
В 1745 году на средства А. Г. Строганова в Овсянникове была построена деревянная одноглавая церковь Николая Чудотворца с колокольней (закрыта в 1931 г., разрушена в начале 1940-х)[10].
Овсянниково, село 6-го стана, Левенталя, Густафа Осиповича, Статского Советника, крестьян 68 душ мужского пола, 68 женского, 1 церковь, 24 двора, 45 верст от Тверской заставы, проселком.
— Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии, 1852 г.[4]
В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое село 6-го стана Московского уезда Московской губернии по правую сторону Санкт-Петербургского шоссе (из Москвы), в 45 верстах от губернского города, при колодцах и пруде, с 24 дворами, православной церковью и 149 жителями (76 мужчин, 73 женщины)[5].
По данным на 1890 год — село Дурыкинской волости Московского уезда с 219 душами населения[6].
В 1913 году — 47 дворов, мелочная лавка и усадьба Н. П. Штер[11].
По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Овсянниковского сельсовета Бедняковской волости Московского уезда в 2 км от Ленинградского шоссе и 6 км от станции Поворово Октябрьской железной дороги, проживало 284 жителя (131 мужчина, 153 женщины), насчитывалось 58 хозяйств, среди которых 56 крестьянских[8].
С 1929 года — населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как административно-территориальные единицы были ликвидированы.
1929—1954 гг. — село (позже — деревня) Есиповского сельсовета Солнечногорского района.
1954—1957, 1960—1963, 1965—1994 гг. — деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района.
1957—1960 гг. — деревня Пешковского сельсовета Химкинского района.
1963—1965 гг. — деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района.
В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.
1994—2006 гг. — деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района[12].
С 2006 года — деревня сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района Московской области[13][14].
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 Численность сельского населения и его размещение на территории Московской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года). Том III (DOC+RAR). М.: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (2013). Проверено 20 октября 2013. Архивировано 20 октября 2013 года.
- ↑ Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Налоговая справка. ifns.su. Проверено 18 ноября 2014.
- ↑ д. Овсянниково. Публичная кадастровая карта. Росреестр. Проверено 18 ноября 2014.
- ↑ 1 2 Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии. — М., 1852. — 954 с.
- ↑ 1 2 Списки населённых мест Российской империи. Московская губерния. По сведениям 1859 года / Обработано ст. ред. Е. Огородниковым. — Центральный статистический комитет министерства внутренних дел. — СПб., 1862. — Т. XXIV.
- ↑ 1 2 Шрамченко А. П. Справочная книжка Московской губернии (описание уездов). — М., 1890. — 420 с.
- ↑ Памятная книжка Московской губернии на 1899 год / А. В. Аврорин. — М., 1899.
- ↑ 1 2 Справочник по населённым местам Московской губернии. — Московский статистический отдел. — М., 1929. — 2000 экз.
- ↑ Данные Всероссийской переписи населения 2002 года: таблица № 02c. Численность населения и преобладающая национальность по каждому сельскому населенному пункту. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2004
- ↑ Церковь Николая Чудотворца в Овсянникове на сайте «Храмы России».
- ↑ Населённые местности Московской губернии / Б. Н. Пенкин. — Московский столичный и губернский статистический комитет. — М., 1913. — С. 48. — 454 с.
- ↑ Справочник по административно-территориальному делению Московской области 1929—2004 гг. — М.: Кучково поле, 2011. — 896 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-9950-0105-8.
- ↑ Закон Московской области от 21.01.2005 № 27/2005-ОЗ «О статусе и границах Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят постановлением Мособлдумы от 29.12.2004 № 8/123-П, первоначальная редакция). Проверено 29 сентября 2014.
- ↑ Постановление Губернатора Московской области от 29.11.2006 № 156-ПГ «Об исключении сельских округов из учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области». Проверено 17 апреля 2014.
Ссылки[править | править код]
- Овсянниково. История района. По материалам книги «Солнечногорье — страницы истории». Официальный сайт сельского поселения Кутузовское Солнечногорского района Московской области. Проверено 18 ноября 2014.
|
|
|||
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Овсянниково_(Солнечногорский_район)&oldid=94405052
|
Метки: дворянские владения штер |
городские прогулки. |
| Галишникова Татьяна | 02.12.09 15:41:05 |
| городские прогулки. Чуть в сторону от Старого Арбата 1 часть |
Время отдыха: ноябрь 2009
Последнее воскресение ноября выдалось на редкость теплым и солнечным. Я продолжаю свои прогулки по Москве, узнаю много нового и необычного. Впечатлений много, хочу поделиться с форумчанами, не взыщите, если что.
Рассказ, похоже, будет длинным, как ни старалась, короче не получается, поэтому я разделю его еще на 2 части.
В прошлый раз я шла по Новинскому бульвару к Арбату. Естественно, мне нужно было пересечь Новый Арбат. Когда-то я здесь работала, поэтому немного остановлюсь на этом месте.
НОВЫЙ АРБАТ ИЛИ КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
Сегодня Новый Арбат выглядит изрядно помятым жизнью. Безвкусные искрящиеся вывески, облепленные навязчивой рекламой и мигающими гирляндами. Переливаются разноцветными огнями различные игорные заведения, ночные клубы, дорогие бутики и рестораны.
В здании, в котором раньше был большой 2-этажный кондитерский магазин, продавался вкусный хлеб, и всегда стояли большие очереди за тортами (особенно накануне 8 марта), теперь обувной магазин ECCO и ресторан Киш-Миш. В бывшем магазине Сирень, где можно было купить хоть какую-то нормальную косметику - чайхана Шеш-Беш и пивной бар Молли Твиннз. За углом коктейль бар с загадочным названием MarieBrizard и ресторан Бакинские ворота, на его двери написано «В продаже хаш!». Мол, налетай скорей!
В общем, полнейшее смешение стилей!
За таким убойством названий едва разглядела кафе «Метелицу», куда раньше невозможно было попасть просто так, а рядом с ним узнала милую всем женщинам 70-80-х «Весну».
А еще помню, как мы встречали здесь Олимпийский огонь в июле 1980г. Это был полнейший восторг, гордость, счастье - мы свидетели такого исторического момента!
(Сразу вспомнился сок в маленьких пакетиках и финский сервелат в мелкой расфасовке, вот было счастья-то!).
Новая магистраль стала не просто столичной правительственной трассой, а скорее, знаковым символом Москвы. Да, и застраивалась она сообразно вкусам Хрущева, который после своего визита на Кубу был восхищен тамошними небоскребами, возведенными американцами. По возвращении он замыслил соорудить в столице нечто подобное.
Москвичи с энтузиазмом восприняли появление шикарной улицы, считая ее началом новой эпохи. Приезжавшие из провинциальных городов непременно торопились пройтись по советскому «Бродвею».
(В моем детстве, в маленьком окраинном поселке ГЭС тоже была улица, которую называли Бродвеем. И как сердце замирало, когда мы с подружками в первый раз решились по ней пройтись. Думаю, что в каждом городе есть свой «Бродвей»).
Посмотреть на что было: широченная проезжая часть, вдоль которой красуются стеклобетонные дома-книжки. Едва ли не на всю длину у подножия книжек вытянулся многофункциональный комплекс, включающий магазины, кафе, рестораны.
Фешенебельная в прошлом улица, от которой веяло каким-то западным флером, стала для советского человека началом в неведомую ранее маняще-запретную жизнь и, что вполне естественно, местом для встреч и развлечений молодежи.
С легкой руки московского руководства в один миг была решена судьба старинных кварталов. Снос половины Арбата ради прокладки нового проспекта, уничтожение памятников архитектуры 17-19в.в. стали притчей во языцех. Безвозвратно исчезли бывшие Кречетниковский, Дурновский переулки, частично Б.Молчановка и М.Молчановка, и знаменитая Собачья площадка.
А авторы этого «грандиозного» проекта в 1966г. были удостоены Гран-при парижского центра архитектурных исследований.
СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА
Интересно, многим, ну, хотя бы, на этом форуме знакомо это выражение - Собачья площадка? Взрослым москвичам должно быть знакомо, а я никогда не слышала о ней и столкнулась с этим выражением совсем недавно, в музее М.Цветаевой.
Это старое и чисто московское название было совершенно официальное, входившее во все московские адресные справочники. Так и писали: Москва, Арбат, Собачья площадка, дом такой-то, квартира такая-то. Оно уходит корнями в XVIII век. Географически — это место, где сейчас возвышаются коробки Новоарбатской магистрали, а именно в конце Б. Николопесковского переулка до 60-х голов прошлого столетия находилась улица Собачья площадка. Одно из самых заповедных московских местечек, уникальное, неповторимое в Москве, да и во всей России.
Вообще, Площадка – старое московское название второстепенных слободских (посадских) площадей, расположенных в стороне от главных дорог.
В первую очередь в голову приходит, конечно, ассоциация с местом, где выгуливают собак. Но не совсем так.
В уничтоженном ныне Кречетниковском переулке предполагался Кречетный двор, то есть содержались кречеты для царской соколиной охоты. А рядом, по преданию, находился Псаренный, или Собачий двор: своры собак для псовой охоты. Отсюда полагают, и произошло столь необычное название.
А еще при царском дворе была и птичья, и зверовая охота: ее обеспечивала целая «армия» егерей, сокольников - их помощников, псарей. Память об этом в топонимике Москвы сохранилась не в одном, а в нескольких названиях. Есть в современной столице Егерская улица — неподалеку от станции метро «Сокольники». Существует и Охотничья улица — там же, в Сокольниках и 5 Сокольничьих улиц. В московском Измайлове несколько улиц Соколиной горы тоже имеют прямое отношение к охоте: в XVII веке на потешном Соколином дворе содержались охотничьи соколы и кречеты.
Очень многим московским улицам возвращены их исторические названия. Однако Собачьей площадке вернуться не суждено...
Появилась площадка только в начале XIX века, треугольное в плане пространство на сложном перекрестке Кречетниковского, Дурновского, Борисоглебского и Николопесковских переулков.
Была она тихая и старомодная, вымощена булыжником, узенькие тротуары и тумбы на них около ворот. В середине Собачки торчала восьмигранная колонна, украшенная поверху львиными или собачьими мордами, окруженная небольшим сквером. Фонтан этот, внешне непритязательный, скромное украшение скверика посреди Собачьей площадки, многие еще помнят.
А по сторонам – милые сердцу ампирные особняки в полтора этажа с мезонинами и аршинным гербом на фронтоне. Она была как музей прошлого века.
Эти постройки, возможно, не архитектурные шедевры, зато к месту и создавали незабываемое очарование Собачьей площадки. Пожалуй, лишь краснокирпичный фасад больницы им. Снегирева, известного на всю Москву врача и псевдоготический дом Союза композиторов выбивались из общего ансамбля, несколько нарушали идиллию. Она была очень уютна для своих обитателей.
Особняком с островерхими фронтонами, в котором размещался созданный в 1934 Союз советских композиторов, до самой революции владел род Хомяковых. Говорят, в 1910г. именно внучка русского философа А.Хомякова генерал-майорша Хомякова и соорудила на свои средства ту колонну, “памятник собаке”, чтобы красиво было.
Рядом, вплотную прижавшись к нему, стоял невысокий особняк. В 1885г. 5 сестер Гнесиных основали здесь первую в России общедоступную музыкальную школу (сейчас музыкальное училище им. Гнесиных).
Уже в те времена училище славилось на весь Союз не меньше, чем сама Консерватория.
После того, как училище переехало на Поварскую улицу, в доме Хомякова разместился музей дворянского быта. Он был настолько хорош, что под предлогом его сохранности в 60-х безуспешно пытались спасти от сноса и саму Собачью площадку
Напротив стоял невысокий деревянный дом с четырехколонным портиком, увенчанный арками. Говорили, что именно в этом доме в 1897г. мать Ленина снимала квартиру и он жил там некоторое время перед отъездом в ссылку. На нем даже висела полутораметровая мемориальная доска. Даже эта доска не устояла под натиском новых преобразований.
Здесь прожила несколько счастливых и страшных лет М.Цветаева, снявшая дом, который понравился ей тем, что напоминал ее родной дом в Трехпрудном переулке до того, как переехала в Дом на Борисоглебском. Ей нравилось жить на Собачьей площадке, потому, что "здесь жил Пушкин, вот по этим камням ходил».
Да, Собачья площадка навсегда связана с именем Пушкина. В доме № 12 по Собачьей площадке жил один из друзей великого поэта — С. А. Соболевский, в его квартире Пушкин останавливался по приезде в первопрестольный град в 1826 году. В этом же доме из-под пера Александра Сергеевича вышло знаменитое «Послание в Сибирь».
Вот как он описывает это развеселое время в письме Каверину: «Частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бл… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера».
А позже Соболевский воспоминал, как ехал он с N. через Собачью площадку и показал товарищу дом, в котором жил, про Пушкина, конечно же, не преминул сказать, видит на нем вывеску: продажа вина и прочее. Вылезли из возка и пошли туда. Кабатчик принял их с почтением. На вопрос слыхал ли он о Пушкине, ответил невнятно. Ему растолковали, кто был Пушкин, но им показалось, что ничего не понял хозяин кабака.
И мне очень понравилось его дальнейшая фраза:
«Советую газетчикам обратить внимание публики на этот кабак. В другой стране, у бусурманов, и на дверях бы сделали надпись: здесь жил Пушкин! – и в углу бы написали: здесь спал Пушкин!». С него-то и начали крушить Собачью площадку.
Дом № 53 на Арбате - это первая и единственная сохранившаяся музей- квартира поэта.
В 20-х годах в доме действовал Окружной самодеятельный театр Красной Армии. В худсовет т входили Маяковский и Мейерхольд. В этом театре Москва впервые увидела молодого Эраста Гарина, жившего, кстати, в этом же районе. Замечательный актер Эраст Гарин был выдающимся виртуозом русского мата, предельно циничного и добродушного одновременно. Обожаю его в бесподобном фильме «Свадьба».
Позже в доме устроили «коммуналки», а о пушкинской квартире забыли. Лишь в феврале 1937г. по случаю 100-летия Пушкина на здании появилась мемориальная табличка. В 1986г. после реконструкции Арбата в этом доме открылась музей-квартира Пушкина.
А я по молодости сделала, наверное, самую большую глупость в своей жизни. В начале 80-ых, нам с мужем от предприятия предложили комнату на Старом Арбате. Конечно же, мы отказались, ведь другим-то предоставляли жилье в Марьино! – новом микрорайоне, в новых домах! А мы ждали первенца, зачем мы поедем в старый дом, где даже нет горячей воды!
На Новинском бульваре у дома Плевако я разговорилась с женщиной, они жили на Арбате, а 30 лет назад их переселили в этот дом.
Ведь могло же так случиться, что я бы жила в пушкинской квартире? И я бы каждый день ходила по Арбатским переулкам. А теперь я радуюсь своему спальному району, который состоит из одних серых коробок и где совершенно неинтересно жить!
В 1952 году никакого строительства не велось, и Собачья площадка «вошла в состав» Композиторской улицы в официальном постановлении. Кому-то из обладателей высоких кабинетов показалось неблагозвучным название Дурновского переулка (переулок был назван в 18в. по фамилии домовладельца майора А. И. Дурново). Вероятно, новое название родилось без особых мудрствований.
в Дурновском переулке располагалось правление Союза советских композиторов — в честь него-то и назвали в 1952 году переулок «благозвучно» — Композиторской улицей. В Композиторскую улицу «спрятали» еще одно «неблагозвучное» наименование — Собачья площадка.
Решение это никак не повлияло на москвичей, не желавших расставаться с таким милым названием. Собачья площадка остается в мыслях и памяти москвичей как некий светлый образ старой Москвы, той, где цвели древние липы, в окнах играли радиолы, у подъездов сидели бабушки, мальчишки гоняли голубей, девчонки прыгали в классы. Не было никаких олигархов, ночных клубов и автомобильных пробок. Это я поняла, когда разговаривала со служащей Цветаевского музея.
О Новом Арбате говорили еще в тридцатые, потом война, а там, похоже, совсем забыли, и вот – вспомнили. Началось все в шестьдесят втором, когда сонные летние арбатские переулки встряхнул грохот бульдозеров, тяжелых кранов и “МАЗов”. Старинные особняки, перенаселенные “клоповники” расселяли споро. К очередной годовщине революции колонны демонстрантов должны двинуться по новому проспекту! Чугунные шар-бабы на стрелах кранов разносили в щепки ампирные фасады, являя на свет коммунальную срамоту. В считанные дни исчез Кречетниковский переулок, и строители вплотную подступили к Собачке. Через год от Собачьей площадки не осталось и следа.
Проспект этот москвичи, как только не называли: и зубочисткой Москвы, и гребенкой, и Мишкиными книжками (Михаил Посохин главный архитектор Москвы увековечил свое управление не только этим проспектом, но еще и Кремлевским Дворцом съездов, гостиницей Россия, и другими «величественными сооружениями – в самом центре Москвы!).
Собачья площадка погибла совсем. Сорок лет назад столица наша лишилась Собачки – одного из самых, если так можно выразиться, литературных мест старой Москвы.
Там прогуливали своих героев Тургенев и Эренбург, Булгаков и Пастернак. А известный бард Александр Городницкий посвятил ей песню.
Погибла вместе с фонтаном, с домом где жил Пушкин, с домом, где жила Цветаева, со Снегиревской больницей и особняком училища Гнесиных. Ничто не напоминает среди гигантских башен-книжек тот старый, немного патриархальный мир переулков и особняков.
Мне очень понравился отрывок из предисловия Ю. М. Нагибина к интересному путеводителю по литературным местам столицы «Я люблю этот город вязевый...»:
«Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются ленинградцы. Москва необъятна, неохватна и слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько лет прошло, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот неоправданно широкий, архитектурно невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости. Быть может, потому теплеет на сердце, когда вдруг обретаешь вновь и Собачью площадку, и исчезнувшие арбатские переулки, дома вместе с дорогими тенями великих писателей, живших, творивших, гостевавших здесь».
А переводчик И. И. Левин писал:
«Биографии даже такого скромного уголка старого Арбата, как Собачья площадка, хватило бы, чтобы увековечить это исчезнувшее с карты города место в истории Отечества».
А Виктор Некрасов в одной из поздних эмигрантских повестей рубанул прямо: “Весь проспект Калинина не стоит заупокойной по Собачьей площадке”.
Ах, как бы мне хотелось оказаться в прошлом веке и увидеть наяву этот неповторимой уголок старой Москвы – Собачку. Мне жаль, что сейчас нет Собачьей площадки, жаль, что мы потеряли ее.
Я стою на углу Трубниковского переулка, и мысленно представляю, что выхожу на Собачью площадку…
Но вижу напротив здание со знакомым шаром-глобусом на крыше, под ней располагался известный ресторан Арбат - теперь культурно-разлекательный центр, оформленный под огромный белый корабль с мачтой и якорями. А раньше этот глобус медленно вращался, и мне очень нравилось на него смотреть. Сейчас это «чудо-техники» совсем не впечатляет.
За глобусом высится ТЦ Лотте Плаза, подле которого возводят еще одну махину из стекла и бетона, не сразу и найдешь выход к старинному переулку Каменная Слобода. Здесь развернулась огромная стройка. Старые неприглядные домишки висят над котлованом, как над пропастью, и кажется, что в любой момент они уйдут под землю.
Читала где-то, что грядут очередные перестройки и немалые. Московское правительство утвердило специальную программу преобразования Нового Арбата в пешеходную зону. Вполне логично, что его автором выступил 1-ый зам главного архитектора Москвы Михаил Посохин младший.
СПАСОПЕСКОВСКАЯ ПЛОЩАДКА
Неожиданно я оказалась на Спасопесковской площади, совсем небольшой, очень уютной и тихой, как маленький островок среди давящих новоарбатских небоскребов.
Первое, что выхватил мой взгляд - красивый и величественный особняк, похожий на роскошную загородную виллу. Богатый, пышный декор, арочные окна, ухоженный парадный двор с садом.
Я остановилась посреди площади и не могла на него налюбоваться. Пожалуй, это самый красивый особняк в Москве в стиле «неоампир» широко распространенном в 1910-е годы.
Флаг какой-то развевается… И тут до меня доходит, что это и есть Спасо-Ххаус – резиденция посла США. В 1933г., когда были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами, он был выбран 1-ым послом для своей резиденции. На самом большом приеме в июле 1976г. в честь 200-летия образования США особняк принял ровно 3001 гостя.
У ворот, как положено, будка с охранником. Я посмела приблизиться к ограде и чуть ли, не просунув голову между чугунными прутьями, старалась запечатлеть «образец чистого неоклассического ретроспетивизма». Знаменитый бал сатаны в романе «Мастер и Маргарита» проходил именно в этом доме.
Особняк этот построен 1913-15г. по заказу крупнейшего банкира и промышленника Н.А.Второва, он выкупил участок на Собачьей площадке у княгини Лобановой-Ростовской и подарил своей жене.
Естественно, мне стало любопытно, что за человек был Второв. И нашла очень интересные материалы о нем. По версии Форбс Н.В.Второв - обладатель самого большого состояния России начала 20в. (60 миллионов золотых руб.). Прозван «русским Морганом» за деловую хватку. Его отец, костромской мещанин, в 1862г. переехал в Сибирь и открыл оптовую торговлю мануфактурой, занимался ростовщичеством. В 1897г. семья Второвых переехала в Москву, неплохо разбогатев на оптовой и розничной торговле. Сын основателя династии Н.А.Второв вкладывал большие средства в крупную недвижимость, создание промобъединений, строительство военных предприятий. Дела шли так хорошо, что когда началась Первая мировая война, Второв взял подряд на поставку вооружения: в его концерн к тому моменту входили и военные заводы. В 1916г. по заказу двора его императорского величества на второвских фабриках по эскизам мастеров русского модерна Васнецова и Коровина были изготовлены длиннополые шинели суконные шлемы, стилизованные, под старорусские шлемы, известные впоследствии, как «буденовские», а также кожаные куртки, картузы, штаны – для только что созданных автомобильных войск, «самокатчиков». Предполагалось, что в новой форме российские войска впервые пройдут победным маршем по Ундер-ден-Линден в Берлине. История распорядилась по-другому: в «буденовских» шинелях и шлемах в гражданскую провоевала красная кавалерия, а кожаные куртки и кепки носили чекисты.
Чекисты же его и убили. 5 мая в 1918г. миллионе был найден мертвым в своем кабинете в особняке. Убийцы найдены не были
Его похороны на кладбище Скорбященского монастыря с разрешения советской власти, были последним собранием буржуазии. Рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».
В советское время в особняке находилось Центральное статистическое управление, потом дом для приемов ВЦИК, часть помещений использовалась под квартиры.
А самое интересное, что родился Второв в Иркутске. И жил он в том самом доме на Желябова, в котором находился тот самый Дворец пионеров, куда я бегала заниматься в драматический и хоровой кружки.
Думала ли я тогда, почему вдруг почти через полвека так явно всплывет перед глазами яркий бежево-красный дом?
Дом, действительно, яркий на общем фоне старого Иркутска, построенный в 1897г. в псевдорусском барокко. Не знаю, когда мне теперь удастся побывать в Иркутске, но при первой же возможности я обязательно подойду к этому дому.
А Второва-старшего, между прочим, называют «отцом русских супермаркетов». В самом деле, оптовые магазины Второвых (первый из них в Иркутске) продавали не только мануфактуру, но и готовое платье, обувь, галантерейные и парфюмерные товары. Позднее ассортимент увеличивался, магазин оснащался огромными зеркальными витринами, у покупателя появлялась возможность в одном месте, под одной крышей приобрести все, что угодно.
На самом деле роль Николая Александровича Второва в развитии российской легкой и военной промышленности и банковской системы еще не до конца оценена.
Остававшиеся как будто в тени, Второвы сравнимы по значимости с такими знаменитыми в национальной олигархии прошлого века именами, как Рябушинские и Морозовы.
Почти вплотную к особняку Второва стоит главный дом общей усадьбы Щепочкиной-Львова (№ 8) – деревянное здание с торжественным ионическим шестиколонным портиком.
Дом № 6 также принадлежал Щепочкиной ("поручика жены") – памятник архитектуры, но более поздний образец послепожарного московского строительства. Небольшое здание с обязательным колонным портиком. В основе его постройка 18в., домик несколько раз перестраивался и выглядит как каменный, сразу и не поймешь, что он деревянный. В этом доме в свое время жил поэт Вяземский, а в прошлом веке поэт Языков.
Одноэтажный домик отличается от своих ампирных современников необычным для дворянских гнезд арочными воротами. Что интересно, ворота, примыкающие к дому намного старше его, вполне вероятно, они были церковной оградой, ведь ранее при каждой церкви были небольшие кладбища.
На площади разбит маленький сквер, который был устроен в 1871г. владельцем д. 8 Львовым. И назван им Пушкинским, в память поэта, бывавшего в окрестных домах. В нем по инициативе российского пушкинского общества установили памятник поэту, миниатюрный, но выразительный.
Я сидела на скамейке в скверике, рассматривала эти красивые и уютные особнячки, и настроение было довольно грустным.
Перед сквериком расположена церковь Преображения Господня, «что на Песках». Пески в названии отражают характер местных почв.
Храм построен в 1706-1711г.г. Традиционный московский пятиглавый храм, украшенный наличниками, кокошниками с шатровой колокольней, сохранились ворота с псевдоготической обработкой.
Любопытно, что церковь возведена по типовому проекту – в том же году на другом конце Москвы, в солдатской Лефортовской слободе, была построена Петропавловская церковь – близнец Спаса на Песках. Был закрыт в 1930-х годах, долгое время помещение церкви использовалось для мастерских «Союзмультфильма», благодаря чему и сохранилась. Именно здесь «родились» Чебурашка, его верный друг Крокодил Гена и многие другие мультперсонажи.
Но самое главное, именно Спас на Песках изображен на картине Поленова «Московский дворик», написанной в 1877г. Сам Поленов жил в исчезнувшем уже деревянном доме на углу Трубниковского и Композиторской улицы, приехавший из Петербурга. Он искал квартиру, увидел на двери записку, зашел посмотреть и прямо из окна ему представился этот вид. Он тут же сел и написал его, так проникновенно и лирично передающего облик старой Москвы.
Напротив церкви находится школа им. Поленова (бывшая спецшкола с преподаванием на французском языке), именно на этом месте находился обычный московский дворик, запечатленный на картине художника.
Удивительно, в каких-то ста метрах жизнь кипит и бурлит, поток людской толпы фланирует навстречу друг другу, а здесь тишина и покой.
МУЗЕЙ А.Н.СКРЯБИНА
Кроме Спасопесковской площади в Спасопесковском переулке с церковью Спаса на Песках, есть еще целых три Николопесковских переулка, которые назывались по церкви Николы «что на Песках». Она, к сожалению, не сохранилась.
Самый известный житель этих переулков – композитор А.Н.Скрябин. Он поселился в Б.Николопесковском переулке в доме № 11 в 1912г. При найме квартиры он настаивал на том, чтобы заключить контракт на 3 года, а именно до 14 апреля 1915г. и по странному совпадению скончался ровно в этот же день в 43-летнем возрасте, как бы отмерив себе этим контрактом жизненный срок.
Мне нравится заходить в мемориальные музеи, литературные или музыкальные. Интересно же, какая обстановка окружала человека, в какой атмосфере он создавал свои произведения, узнать о его жизни и семье.
Родился композитор в семье дипломата из старинного дворянского рода. Музыкой занимался с детства. С 1885 начал посещать частный пансион, одновременно с С.Рахманиновым. Обучался в Московской консерватории по двум специальностям: фортепьяно и композиция (класс С.И. Танеева). В 1898—1903г.г. профессор в Московской консерватории. Скрябин много гастролировал как пианист по городам России и за границей. В сезоне 1906-07г.г. гастролировал в США.
Скрябин мечтал о создании нового синтетического искусства призванного преобразовать мир. Это был композитор-новатор, музыкант-поэт, музыкант-философ.
Центральный образ музыканта Скрябин - титан Прометей, дерзнувший, как гласит древний миф, похитить небесный огонь богов и дать его смертным. Им созданы симфонии, многочисленные прелюдии, этюды, поэмы, мазурки и вальсы.
Музей находится на 2 этаже красивого особняка.
В рабочем кабинете рояль фирмы Бехштейн, подаренный Скрябину самой фирмой в 1912г. Большой оригинальный формы письменный стол и кресло были привезены Скрябиным, как и многое другое из Брюсселя, в том же 1912г. На столе лампа, фотографии детей Скрябина. Там же стоит световой аппарат, сделанный по заказу и по модели Скрябина физиком Мозером специально для исполнения симфонической поэмы «Прометей» – первого светомузыкального произведения. Он представляет собой деревянный круг с 12 лампами.
Получается, что композитор Скрябин – первый музыкант, который начал применить светомузыку.
Из кабинета дверь ведет в гостиную. Гостиная убрана богаче других комнат т.к. предназначалась для приема именитых гостей.
В столовой много предметов подаренных Скрябину в разное время: вышитая дорожка на обеденном столе, панно-аппликация в египетском стиле. Особенно интересна хрустальная с серебром ваза работы Фаберже, выполненная в виде старинного русского корабля-ладьи с символической фигурой легендарного певца и гусляра Бояна. Эту вазу Скрябину подарили москвичи в день премьеры «Поэмы экстаза» в 1909г.
В спальне стеклянный шкаф, в котором сохранились фрак Скрябина и цилиндр с инициалами А.С., деревянная дорожная шкатулка.
Он умер от нелепой случайности, от небольшого нарыва на губе, возникшего в поездке. Отпевали его в Никопесковской церкви, стоявшей напротив его дома. Танеев сильно переживал по поводу его кончины. «Хотел написать Вселенскую Мистерию и Конец мира, вот вам и конец».
В 1918 решением првительства РФ мемориальная квартира Скрябина была объявлена национальным культурным достоянием и было принято решение превратить ее в музей. Он был открыт в 1922г.Наверное, один из немногих, где удалось полностью сохранить подлинную обстановку квартиры одаренного композитора, удивительно красивого человека.
Ну, а дальше, мой путь лежал на Старый Арбат, вернее в лабиринт между Арбатом и Пречистенкой, густо исчерченный извилистыми переулками.
И там меня ждут не менее удивительные вещи.
| https://whttps://www.otzyv.ru/read.php?id=69325 |
|
Метки: москва |
Надежда Введенская (Пешкова) |
| И |
Сегодня 10 Марта Воскресенье
|
|
Надежда Введенская (Пешкова)Nadejda VvedenskayaДень рождения: .. года Похожее: Nadejda, Vvedenskaya, Надежда, Введенская (Пешкова) |
Биография
Стоило около нее оказаться мужчине, у которого могли быть серьезные намерения, как он исчезал. Чаще всего - навсегда.








Сайт: Знаменитости
Пребывая на смертном одре, известный московский врач Алексей Введенский пожелал увидеть свою семнадцатилетнюю дочь пристроенной в жизни за широкими плечами законного супруга... И вот Надя Введенская стоит под венцом с ординатором отца доктором Синичкиным. Вокруг - девять братьев юной невесты... Первая брачная ночь. Как только жених приблизился к невесте, в тот момент, когда они остались в комнате одни, она ... выпрыгнула в окно и убежала к Максиму Пешкову, своей первой любви...

(Здесь и далее: Максим Горький - великий пролетарский писатель, Максим Пешков - его сын).
Реклама:
СЫН
С сыном Максима Горького Надя познакомилась в последнем классе гимназии, когда однажды с подругами пришла на каток. Максим сразу же поразил ее безграничной добротой и столь же безграничной безответственностью.
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Поженились они не сразу.
После Октября и гражданской войны Максим Пешков засобирался к итальянским берегам, к отцу. И вот тогда Ленин дал Максиму Пешкову важное партийное поручение: объяснить отцу смысл "великой пролетарской революции" -, которую великий пролетарский писатель
Реклама:
принял за безнравственную бойню.
Вместе с сыном Горького а 1922 году отправилась за границу и Надежда Введенская. В Берлине они повенчались. Дочери Пешковых родились уже в Италии: Марфа - в Сорренто, Дарья через два года - в Неаполе. Но семейная жизнь молодых супругов не заладилась. Писатель Владислав Ходасевич вспоминал: «Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати».
В Италии Надежда Алексеевна обнаружила сильное пристрастив мужа к крепким напиткам и к женщинам. Впрочем, здесь он шел по стопам
отца...
ОТЕЦ
Великий писатель не стеснялся там же, в Италии, выказывать всяческие знаки внимания Варваре Шейкевич, жене Андрея Дидерихса. Она была потрясающей женщиной. После разрыва с Горьким Варвара поочередно становилась женой издателя А. Тихонова и художника 3. Гржебина. За В. Шейкевич Горький ухаживал в присутствии своей второй жены - актрисы Марии Андреевой. Конечно же, жена плакала. Впрочем, плакал и Алексей Максимович. Вообще он любил поплакать. Но фактически женой Горького в это время стала известная авантюристка, связанная с чекистами, Мария Бенкендорф, которая после отъезда писателя на родину вышла замуж за другого писателя — Герберта Уэллса.
Мария Андреева отставать от мужа - «изменщика» не собиралась. Своим любовником она сделала Петра Крючкова, помощника Горького, который был моложе ее на 21 год. В 1938 году П. Крючков, который, несомненно, был агентом ОГПУ, был обвинен в «злодейском умерщвлении» Горького и расстрелян.
До Крючкова в любовниках Андреевой состоял некто Яков Львович Израилевич. Узнав о своей неожиданной отставке, он не нашел ничего лучшего, как избить соперника, загнав его под стол. Об обстановке, царившей в семье, свидетельствует и такой факт: мать М. Андреевой покончила с собой, предварительно выколов на портрете глаза своей внучке Кате.
Так что в отношении к женщинам Максиму Пешкову было с кого брать пример. А вот ехать в СССР писатель Горький не спешил, откровенно опасаясь режима большевиков. Известно, что видную большевичку Е. Д. Стасову он называл «собакой, нализавшейся крови». Но сын постоянно уговаривал отца отправиться в Москву. В. Ходасевич вспоминал об этих днях:
«Он был славный парень, веселый и уживчивый. Он сильно любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они его всегда баловали... Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся».
«ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
В 1931 году Горький с семьей навсегда возвратился в СССР. И тут начинается самая трагическая глава жизни всех членов семьи великого писателя, «опекуном» которой стал шеф сталинской охранки Генрих Ягода.
В свое время заурядный нижегородский фармацевт Ягуда (такова его настоящая фамилия) выполнял мелкие «конспиративные» поручения. Фармацевту очень повезло, ибо он служил на побегушках у Якова Свердлова, будущего председателя ВЦИКа. Генрих Ягода женился на его племяннице Иде Авербах, чем и обеспечил себе карьеру. Своего нового родственника Свердлов порекомендовал Дзержинскому. Ягода попал в Особый отдел. Р. Гуль в книге «Дзержинский» называет этот отдел самым страшным. «Люди, схваченные Особым отделом, - писал Гуль, - идут
только на смерть; «черные вороны» Особого отдела увозят людей только на расстрел».
Особенно расцвел Ягода за спиной Менжинского, которого в ЧК считали чудаковатым - слишком отдавался «эстетическим эмоциям». Переводил даже персидскую поэзию. Бывший фармацевт нашел ключик к сердцу старого большевика. Подсаживал Менжинского в автомобиль, кутал ему ноги, а сам бочком-бочком садился у руля...
С момента своего создания ЧК-ОГПУ была богатейшей организацией. Чекистские перебежчики на Запад вспоминали: «В помещениях ЧК шкафы ломились от золота, отобранного во время облав. Золото в нашем хранилище складывалось штабелями, как дрова». Вот такое хозяйство после смерти Менжинского и принял Г. Ягода.
У нового руководителя ОГПУ было одно пристрастие: его тянуло к артистам и писателям. Разве мог он пройти мимо Горького? Он часто появлялся в особняке писателя на нынешней улице Качалова в Москве.
Своим вниманием естественно, он не оставлял и Максима Пешкова, которого в основном возили по колхозам да по заводам, чтобы он рассказал своему отцу увиденное собственными глазами.
Хотели, чтобы знал великий пролетарский писатель, как «хорошо в стране советской жить», конечно, же с бесконечными банкетами. Максима
Алексеевича споили. 11 мая 1934 года сын Горького умер. Официальная версия смерти — воспаление легких. Г. Герлинг-Грудзинский в статье
«Семь смертей Максима Горького» обращает внимание на то, что «нет никаких оснований верить обвинительному акту процесса 1938г., в котором говорилось, что Ягода решил — частично по политическим, частично по личным мотивам (было известно о его влюбленности в Надежду) - отправить на тот свет Максима Пешкова.»
ВДОВА
Ягоды не стало. Но на жизнь Надежды Пешковой чекисты продолжали влиять. Только собралась она накануне войны замуж за своего давнего друга И. К. Лупола - одного из образованнейших людей своего времени, философа, историка, литератора, директора Института мировой литературы им. Горького, - как ее избранник оказался в застенках НКВД и погиб в лагере в 1943 году.
После войны Надежда Алексеевна вышла замуж за архитектора Мирона Мержанова. Через полгода, в 1946 году, мужа арестовали.
Уже после смерти Сталина, в 1953 году, Н. А. Пешкова дала согласив стать женой инженера В. Ф. Попова... Жениха арестовывают...
Надежда Алексеевна до конца дней несла на себе крест «неприкасаемой». Стоило около нее оказаться мужчине, у которого могли быть серьезные намерения, как он исчезал. Чаще всего - навсегда. Все годы в СССР она жила под увеличительным стеклом, которое постоянно держали а руках «органы»... Сноха Максима Горького и в могилу должна была сойти его снохой. Так и случилось. 10 января 1971 года Надежда Алексеевна Пешкова скончалась.
| З |
https://www.peoples.ru/family/wife/vvedenskaya/
Л
|
Метки: пешковы |
ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин |
Вы здесь: Главная / О ЕСЕНИНЕ / Гибель ПОЭТА / ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин
ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин
Рейтинг: 



 / 2
/ 2
ПлохоОтлично
Просмотров: 4620
Феликс Зинько
ЭТО МОГ СДЕЛАТЬ ЯКОВ БЛЮМКИН
Исполнилось сто лет со дня рождения великого русского поэта С. А. Есенина, знаменательная дата…
До сих пор остается загадкой «самоубийство» Сергея Есенина в ленинградской гостинице «Интернационал» — бывшей «Англетер».
Сегодня мы публикуем новые материалы по спорному вопросу: убит ли Сергей Есенин? Кто это сделал?
Несколько статей разных авторов убедительно рассказывают о том, что убийца Есенина был известный террорист Яков Блюмкин, любимец Льва Троцкого, хорошо знавший великого поэта. Впервые это предположение высказал еще в 1926 году поэт Сергей Клычков. И не без оснований…
Группа крестьянских поэтов, в которую входил Есенин, расценивалась в то время даже Максимом Горьким, как течение, «ведущее к фашизму». Члены группы были осуждены и расстреляны. Всенародно любимого Есенина, обвиненного «в оскорблении члена правительства Троцкого», решили устранить иначе. И поручено это было Якову Блюмкину, всю жизнь преклонявшемуся перед Троцким и ненавидевшему Есенина.
Интерес к судьбе этого террориста оживился в наши дни в связи с воспоминаниями генерала КГБ П. Судоплатова, поведавшего читателям о том, что в конце 20-х годов Блюмкин и его жена Лиза Горская «создали нелегальную резидентуру в Турции, используя в качестве прикрытия финансовые средства, получаемые от продажи хасидских древнееврейских рукописей, переданных им из фондов Центральной библиотеки в Москве, для диверсионных операций против англичан в Турции и на Ближнем Востоке. Однако Блюмкин предоставил часть этих средств Троцкому после его высылки из СССР. Лиза была потрясена этим и разоблачила мужа. Он был арестован и позже расстрелян…»
Геростратов комплекс
Фигура Якова Блюмкина — убийцы графа Мирбаха — давно будоражила мое воображение. Интерес этот зародился еще в семидесятые годы, когда под строжайшим секретом мне дали почитать первый том «Красной книги ВЧК», изданный в 1920 году. Перед тем как вернуть книгу, я сделал себе фотокопии листов, относящихся к Блюмкину. И с тех пор собирал о нем материалы по крохе. Но многое оставалось за кадром, трудно было понять взаимосвязь событий, да и с публикацией в то время не стоило даже соваться. Мне никак не удавалось понять психологию этого человека. Чего он, собственно, добивался? Был простым исполнителем, боевиком в руках левоэсеровского ЦК? Непохоже…
Только теперь, когда полностью (и даже с добавлениями!) переиздана «Красная книга ВЧК», когда открылись шлюзы для литературы, многие годы хранившейся в спецхранах, стало возможным попытаться исследовать фигуру Блюмкина.
Первое издание БСЭ, в томе, вышедшем в 1926 году, сообщает, что Яков Григорьевич Блюмкин родился в 1898 году в семье приказчика. После окончания четырехклассной школы он был отдан «мальчиком» в магазин. Сообщается еще несколько сведений о живом тогда еще человеке. Естественно, из последующих изданий БСЭ даже эта двадцатистрочная статья о Блюмкине исчезла.
Удалось выяснить, что у Якова был старший брат Моисей-Лейба. Когда Якову было всего шесть лет, на квартиру к ним пожаловали жандармы с обыском. Они нашли в комнате Моисея целый склад листовок, прокламаций и других нелегальных изданий Одесского комитета РСДРП. Выяснилось, что в тот день, 8 августа 1904 года Моисей был арестован на партийном собрании. Трудно сказать, что произошло дальше. Можно только предполагать, что взятка, предложенная старшим Блюмкиным, решила дело. 18 декабря Моисей был освобожден из тюрьмы и отдан под надзор отца. Мне важно здесь, что для Якова этот ночной обыск был наверняка одним из самых сильных детских впечатлений, что мальчик с тех пор находился в атмосфере революционных дел.
Блюмкин появляется на политической арене в июне 1918 года, когда ЦК левых эсеров рекомендовал его для работы в ЧК. Значит, был он для них фигурой известной. И должность ему определили немаленькую — заведующий секретным отделением отдела по борьбе с контрреволюцией, который возглавлял Мартин Янович Лацис. Это было отделение контрразведки, направленное на борьбу с немецкой агентурой. Единственное дело, которое вел Блюмкин, было дело австрийского лейтенанта Леонгарта Мюллера, которому инкриминировался шпионаж в пользу Германии. В деле был замешан Роберт Мирбах, племянник посла. «Теперь я вспоминаю, — сообщал следствию Лацис, — что Блюмкин дней за десять до покушения хвастался, что у него на руках полный план особняка Мирбаха и что его агенты дают ему все, что ему таким путем удается получить связи со всей немецкой ориентацией». Язык у Блюмкина был подвешен что надо. Не успев как следует показать себя в деле, он уже одолевал руководство ЧК планами по расширению своего отделения в Центр Всероссийской контрразведки. Одновременно он очень любил появляться в окружении поэтов и литераторов, посещал злачные места, где не всегда в меру пил.
Надежда Мандельштам рассказывает, что однажды в «Кафе поэтов» Осип Эмильевич познакомился с Яковом Блюмкиным, молодым, буйного нрава литератором(?), любившим подкреплять свои доводы в спорах обнаженным наганом.
Как-то, основательно нагрузившись, Блюмкин заявил:
— Вот где у меня вся эта интеллигенция!
Он достал из кармана пачку подписанных с печатями ЧК ордеров на арест и стал демонстративно заполнять один из них. Мандельштам пришел в ужас, вырвал из рук Блюмкина ордер и тут же изорвал его в клочья. Затем Мандельштам немедленно побежал к Ларисе Рейснер и через нее и Раскольникова убедил Дзержинского, что Блюмкину надо укоротить руки. «С руководящей должности, — пишет Н. Мандельштам, — Блюмкина тут же сняли, но из органов все же не уволили, так как не хотели портить отношения с эсерами». А вот что показывал по этому поводу Дзержинский: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения я получил от Раскольникова… сведения, что этот тип в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: "Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор", — но если собеседнику нужна эта жизнь, то он ее "оставит" и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать: что, если он кому-нибудь скажет об этом, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тут же передал Александровичу (члену коллегии ЧК от левых эсеров. — Ф. 3.), чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина оставить пока без должности. По получении объяснений от ЦК левых эсеров, я решил данные против Блюмкина комиссии не докладывать. Блюмкина я близко не знал и редко с ним встречался». Таким образом, за неделю до 6 июля Блюмкин уже был оставлен без определенных занятий. Но никто не отобрал у него ни оружие, ни чекистский мандат. Это и предопределило преступление.
Хочу привести еще один эпизод из жизни Блюмкина того времени. Из воспоминаний Ходасевича: «…весной 1918 года Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: "Сами приходите и вообще публику приводите". Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порой вставлял словцо, и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотелось щегольнуть, и простодушно предложил поэтессе:
— А хотите поглядеть, как расстреливают? Я вам это через Блюмкина в одну минуту устрою».
Любопытно, что Блюмкин уже тогда вхож был в ЧК, хотя выдавал себя за начинающего литератора. Ничего же из написанного им не удалось пока обнаружить. Может, другим исследователям повезет больше? Было бы интересно прочесть нечто, написанное его рукой.
4 июля Блюмкин был приглашен к одному из членов ЦК левых эсеров, где его просили сообщить всю информацию о Мирбахе, его особняке и т. п. От Блюмкина не скрыли, что готовится покушение. И тогда, не раздумывая долго, двадцатилетний чекист сам предложил себя в исполнители акта. Он уже понимал, что из ЧК его вот-вот выгонят, и решил обратить на себя внимание. Блюмкин, как и его наставники из ЦК, был уверен, что убийство Мирбаха вызовет такую реакцию во всем мире, что вспыхнет мировой пожар революции. Надо сказать, что в те годы мировой революцией бредили все, включая самого Ленина. Казалось, она может решить все вопросы. На нее делалась ставка.
В напарники себе Блюмкин избрал товарища по партии, земляка Николая Андреева, одного из создателей Одесского батальона Красной гвардии им. В. И. Ленина, которого он сам рекомендовал на работу в ЧК в качестве фотографа. Блюмкин сумел убедить Александровича, что в его отделении необходима фотографическая лаборатория. Андреев легко согласился стать участником покушения.
«У дежурной барышни в общей канцелярии ЧК, — рассказывал Блюмкин, — я попросил бланк комиссии и напечатал на нем следующее: "Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена, Якова Блюмкина, и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти в непосредственные переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу. Председатель комиссии. Секретарь. Подпись секретаря (т. Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК. Когда пришел, ничего не знавши, товарищ председателя ВЧК Вячеслав Александрович, я попросил его поставить на мандате печать комиссии. Кроме того, я взял у него записку в гараж на получение автомобиля. После этого я заявил ему о том, что по постановлению ЦК сегодня убью графа Мирбаха».
На легковом автомобиле Блюмкин и Андреев с портфелями в руках подкатили к зданию германского посольства, что располагалось в доме № 5 по Денежному переулку. Они предъявили свой липовый мандат и потребовали свидания с послом. Естественно, сперва с ними разговаривали двое молодых людей, потом советник Рицлер. И лишь после настойчивых требований Блюмкина к ним вышел сам Мирбах. 25 минут ему «вешали лапшу на уши», рассказывая байки о племяннике. Только после этого Блюмкин набрался храбрости, вытащил из портфеля револьвер и стал стрелять в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Они упали. Но Мирбах был только ранен, он стал подниматься, и тогда Андреев подошел к нему вплотную и бросил ему и себе под ноги бомбу. Она не взорвалась. Блюмкин поднял с пола бомбу и «с сильным разбегом» метнул ее вновь. На этот раз взрыв был таким сильным, что вылетели окна и посыпалась штукатурка. Блюмкин выпрыгнул в одно из окон и сломал себе лодыжку. Вдобавок, когда он перелезал через ограду посольства, его ранили в ногу — уже началась стрельба охраны. Но он все же дополз до автомобиля, и они укатили в штаб левоэсеровского отряда Попова в Трехсвятительском переулке.
Из машины его на руках вынесли матросы. Остригли, выбрили, переодели и отнесли в лазарет. Когда через несколько часов в отряд прибыл Дзержинский и потребовал выдачи Блюмкина, ЦК левых эсеров категорически отказал. «Узнав об этом, — пишет Блюмкин, — я настойчиво просил привести его в лазарет, чтобы предложить ему арестовать меня. Меня не покидала все время незыблемая уверенность в том, что так поступить исторически необходимо, что Советское правительство не может меня казнить за убийство германского империалиста». Похоже, Блюмкин боялся упустить миг своей славы. Что же до его «уверенности», то, к сожалению, он был прав. Приговором ревтрибунала Блюмкину и Андрееву (заочно) было определено наказание «заключить в тюрьму с применением принудительных работ на 3 (три) года».
Вот что писал Блюмкин по этому поводу: «Я знал, что наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценой своей жизни доказать нашу полную искреннюю честность и жертвенную преданность интересам революции». Сколько напыщенности, демагогии, впрочем, столь модной в то время!
Все эти признания Блюмкин делал год спустя, и было это вот при каких обстоятельствах…
Когда отряд Попова в панике драпал из особняка в Трехсвятительском, о Блюмкине забыли. Его увезла вместе с другими ранеными медицинская летучка в Первую градскую больницу. Здесь Блюмкин назвался красноармейцем Беловым, раненным в бою. Через три дня, отдышавшись, он, как Подколесин, сиганул в окно и был таков. Сперва скрывался в Москве, потом перебрался в Рыбинск, в Кимры. Здесь он даже поработал под фамилией Вишневского в уездном Комиссариате земледелия. Потом завязалась связь с резервным подпольным ЦК левых эсеров. Блюмкину велели ехать в Петроград и ждать. Он сидел в Гатчине и «занимался исключительно литературной работой, собиранием материалов о июльских событиях и писанием о них книги». Определенно, литературные лавры не давали покоя нашему герою. Затем, по заданию своего ЦК, Блюмкин отправляется на Украину, для организации борьбы с гетманщиной и немецкими оккупантами. В это время там успешно действовали «боротьбисты» (украинские левые эсеры), так что почва была подготовлена. «Я был членом боевой организации партии, — рассказывал Блюмкин, — и работал по подготовке нескольких террористических предприятий против виднейших главарей контрреволюции». В частности, не без его участия был убит немецкий главнокомандующий генерал Эйхгорн. И только революция в Германии спасла Блюмкина от нового суда. Потом совместно с коммунистами Блюмкин организовывал на Подолии ревкомы и повстанческие отряды, был членом нелегального Совета рабочих депутатов Киева. Когда в апреле 1919 года Киев стал советским, Блюмкин явился в Киевскую ЧК, которую возглавлял его бывший начальник М. Лацис, и стал возмущаться заочным приговором ревтрибунала и, главное, тем, что Ленин назвал его и Андреева «двумя негодяями». А Блюмкин, как мы уже знаем, таковым себя не считал, наоборот, был уверен, что он один из лучших бойцов революции. «Я, отдавши себя социальной революции, — писал он, — лихорадочно служивший ей в пору ее мирового наступательного движения, вынужден оставаться в стороне, в подполье. Такое состояние для меня не могло не явиться глубоко ненормальным, принимая во внимание мое горячее желание реально работать на пользу революции. Я решил явиться в Чрезвычайную комиссию, как в один из органов власти (соответствующий случаю), Советской власти, чтобы подобное состояние прекратить».
И что вы думаете? Любого другого Лацис тут же поставил бы к стенке и не поморщился. Но Блюмкина везут в Москву, где он снова повторяет всю свою историю. Особая следственная комиссия по его делу докладывает в Президиум ВЦИК: «Причиной, побудившей Блюмкина явиться в распоряжение Советской власти, послужило желание рассеять оскорбительное для него мнение, в результате коего он был назван в "Известиях ЦИК" "негодяем", и разъяснить Советской власти, как он понимал это убийство… Таким образом, он должен нести ответственность только за совершение террористического акта по отношению к Мирбаху, каковая ответственность, во всяком случае, не может вызвать необходимость содержания Блюмкина в тюрьме. Комиссия полагала бы: 1) Блюмкина из-под стражи освободить; 2) Заменить ему трехлетнее тюремное заключение отдачей его на этот срок под контроль и наблюдение лиц по указанию Президиума ВЦИК». 16 мая 1919 года секретарь ВЦИК А. Енукидзе подписал постановление: «Ввиду добровольной явки Я. Г. Блюмкина и данного им подробного объяснения обстоятельств убийства германского посла графа Мирбаха Президиум постановляет: Я. Г. Блюмкина амнистировать».
Вскоре после освобождения Блюмкин вышел из партии левых эсеров и в 1921 году был даже принят в РКП (б). Хотя срок условного освобождения его еще не вышел! Просто он понял, что с левыми эсерами покончено и здесь больше нет никаких перспектив. А членство в РКП (б) сулило карьеру. Похоже, что его снова взяли в ЧК. Во всяком случае, он участвовал в знаменитой Энзелийской операции Каспийской флотилии. Тогда ее корабли под командованием Ф. Раскольникова совершили дерзкий рейд в иранский порт Энзели; разгромив его, взяли богатые трофеи. Беру на себя смелость предположить, что Блюмкин остался, по заданию ЧК, в Иране для организации резидентуры. Что дает мне основания для такого заключения.
11 января 1920 года Сергей Есенин эпатировал своими резкими высказываниями публику в кафе «Домино».
•Дело как будто пустяковое, но вмешательство в него группы чекистов насторожило поэта: он уехал сначала в Харьков, потом в родное Константинове, затем на Кавказ.
«…Я из Москвы надолго убежал: с милицией я ладить не в сноровке…» Осенью поэт снова появился в Москве с циклом новых великолепных стихов и 18 октября 1920 года был арестован на квартире поэта Александра Кусикова в Большом Афанасьевском переулке. Привели раба Божьего на Лубянку, посадили в камеру. Через неделю его выручил Блюмкин. Сохранился документ: «Подписка. О поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюционной деятельности по делу гр. Кусиковых. 1920 года октября месяца 25-го дня, я ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по гостиница «Савой» № 136 беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Подпись поручителя Я. Блюмкин 25.Х.20 г. Москва. Парт�http://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/zinko-f-eto-mog-sdelat-iakov-bliumkin
|
Метки: яков блюмкин террор литераторы |
История создания политического Красного Креста |
«На Вас вся надежда...»: письма заключенных СЛОНа Е.П.Пешковой

В Государственном архиве Российской Федерации есть фонд № 8409 «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключенным», включающий около 1800 дел, в каждом из которых находится множество - иногда сотни - документов. Это письма и заявления родственников арестованных, а также самих заключенных и ссыльных с самыми разными просьбами: облегчить участь, помочь материально, узнать о судьбе близкого человека.
История этого фонда такова. В 1918 г. в Москве было создано Московское общество Красного Креста для помощи политическим заключенным во главе с В.Н. Фигнер. В работе общества принимали участие А.А.Кизеветтер, Е.Д.Кускова, С.П.Мельгунов, А.Л.Толстая, Д.И.Шаховской, Н.К.Муравьев и др. Вскоре председателем общества стала Екатерина Павловна Пешкова (первая жена А.М.Горького), остававшаяся в этом качестве до самого его закрытия, а ее заместителем с 1924 г. стал Михаил Львович Винавер. В 1922 г. общество в соответствии с Постановлением ВЦИК от 12 июня 1922 г. было перерегистрировано и получило название «Помощь политическим заключенным». В задачу общества входило оказание помощи лицам, лишенным свободы по политическим мотивам, без различия их партийной принадлежности. Е.П. Пешковой разрешалось посещать все тюрьмы и другие места заключения арестантов и задержанных и в присутствии администрации вести с ними беседу, оказывать помощь одеждой, продуктами и медикаментами, вести переписку с государственными учреждениями с целью облегчения условий содержания. Источником финансирования общества были пожертвования от организаций и частных лиц, в том числе и из-за границы. В штате общества числилось всего несколько человек, но первые годы его работы были очень плодотворными, десятки тысяч несчастных людей получили моральную и материальную поддержку, а в конце 20-х годов общество помогло уехать в Палестину многим евреям, в том числе из ссылок и лагерей. Но с конца этого десятилетия осуществлять свою деятельность обществу становилось все труднее, его ходатайства удовлетворялись редко, возникли сложности с финансированием, и уже к началу 30-х годов вся деятельность свелась к наведению справок об арестованных и оказанию консультаций родственникам. В середине 1937 г. общество было закрыто по распоряжению наркома внутренних дел Н.И.Ежова.
Богатый архив общества и составил вышеуказанную документальную коллекцию ГАРФ. В частности, в фонде Е.П. Пешковой очень много материалов, связанных с Соловками: это и списки политзаключенных за 1924-1926 гг., и материалы обследования условий их содержания, и кассовые книги с перечнем всех посылок и денежных переводов, и прошения в государственные органы, и, конечно, обращения за помощью, в каждом из которых - своя история, своя трагедия. И все их объединяет одно - безвинные страдания арестованных и страстное желание их близких хоть как-то облегчить эти страдания.
Здесь публикуется лишь очень небольшая часть этих документов. Но и они дают ясное представление о той эпохе. Читая представляемые документы, можно понять, какие разные люди оказывались под катком репрессий. Среди авторов обращений - священномученик Сергий Знаменский, мать священномученика Игнатия (Садковского), жена священноисповедника Петра Чельцова, жена священномученика Ильи Бенеманского, поэт Максимилиан Волошин и многие другие...
При издании документов сохраняется орфография подлинников.http://www.solovki.info/?action=archive&id=281
|
Метки: красный крест террор |
80 лет назад телецентр на Шаболовке провел первую трансляцию |
10 марта 201904:30
80 лет назад телецентр на Шаболовке провел первую трансляцию
80 лет назад, 10 марта 1939 года, телевизионный центр на Шаболовке провел первую трансляцию. Советские граждане в прямом эфире могли видеть открытие XVIII съезда ВКП(б). С этого дня вещание стало регулярным.
Весной того года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров ТК-1. В широкий обиход телевизоры вошли лишь в 1950-е после поступления в продажу доступной модели КВН-49, пишет газета "Известия".
В статье рассказывается об ученых и инженерах, благодаря которым телевещание стало возможным. Там, например, говорится о том, что архитектор и инженер Владимир Шухов для создания телебашни предложил несколько вариантов. Выбран был скромный 150-метровый вариант. Поскольку кранов и железа для их производства не было, Шухов предложил телескопическую модель строительства: каждая следующая 25-метровая секция собиралась внутри башни и поднималась внутри нее с помощью лебедок.
В марте 1922 года государственная комиссия приняла башню. На ней был смонтирован передатчик, и 19 марта началась радиотрансляция. Первым в эфир вышел концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова.
Телевещание в СССР, пишет издание, было освоено не в последнюю очередь благодаря инженеру-эмигранту Владимиру Зворыкину (создал электронно-лучевую трубку для использования в телевизионных приемниках, названную им кинескопом, и передающую трубку – иконоскоп) и контрактам с американской компанией RCA.
С тех пор изменилось многое, но Шуховская башня на Шаболовке, где располагалась первая телевизионная студия, навсегда останется одним из символов российского ТВ.
|
Метки: зворыкины |
Политический Красный Крест в СССР, 1920-30-е годы |
Политический Красный Крест в СССР, 1920-30-е годы
15 Май 2010
Поделиться
Владимир Тольц: У микрофона в Праге Владимир Тольц, а в московской студии вместе со мной ведет передачу Александр Меленберг. Какие темы и документы вы собираетесь предложить вниманию слушателей сегодня, Александр?
Александр Меленберг: Сегодня речь пойдет о таком феномене советской истории, как Политический Красный Крест. Невероятно, но факт: в условиях жесткой тоталитарной власти на протяжении почти что 20 лет, сначала в Советской России, а затем в Советском Союзе, существовало официальное учреждение, легально оказывающее помощь арестованным врагам Советской власти. Людям, которых Советская власть, считала своими классовыми врагами, именно классовыми. Оно, это учреждение, изменяло свое название – сначала был Политический Красный Крест, затем организация с названием "Помощь политическим заключенным". И все эти 20 лет генератором идеи "Политпомощи" (а эту структуру так кратко и называли – "Политпомощь") являлась Екатерина Павловна Пешкова. О благородной деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно. Мы же попробуем разобрать сам феномен сосуществования под боком друг у друга двух взаимоисключающих организаций – ВЧК-ОГПУ и "Политпомощи".
Владимир Тольц: Подождите, похоже вы собираетесь пересказать вашу двухлетней давности заметку в "Новой газете", где со ссылками на малоизвестные, вероятно, в Российской Федерации эмигрантские публикации, впрочем, перепечатанные, по-моему, там, ненавязчиво, так сказать, доказывалось историкам, да и эмигрантам давно известное, - что Екатерина Пешкова, сделавшая так много для арестованных советской властью, состояла при этом в непростых и разнообразных, и близких отношениях с ЧК и ОГПУ. Так ведь? Или что-то новенькое и неизвестное еще вы хотите нам сообщить?
Александр Меленберг: Собственно, да, речь пойдет о Екатерине Пешковой. Рядом со мной сегодня в московской студии Радио Свобода – Ирина Осипова, историк, составитель ряда сборников документов о деятельности Политического Красного Креста и "Политпомощи". И по телефону – историк Ярослав Леонтьев, доцент МГУ.
Ирина Ивановна, введите нас в курс дела, поведайте историю "Помощи политическим заключенным".
Ирина Осипова: После Февральской революции временное правительство амнистировало политических заключенных, но к приему их новая власть не была готова. И по инициативе общественных организаций было создано Бюро помощи освобожденных политическим. Освобожденным из тюрем помогали получить жилье, высланным – вернуться домой, устроиться на работу, снабжали их необходимым, направляли на лечение и отдых. И в Петрограде эта работал проводилась под руководством Веры Николаевна Фигнер, а в Москве – Екатерины Павловны Пешковой. А после Октябрьской революции число арестованных по политическим мотивам стало стремительно расти. И среди политзаключенных оказались не только враги большевиков, но и многие не имевшие отношение к политической борьбе.
В декабре 1917 года в оппозиционных газетах было напечатано извещение о начале работы Российского общества Красного Креста для помощи политзаключенным. Председателем был избран Николай Константинович Муравьев, его заместителем – Екатерина Павловна Пешкова, почетным председателем Владимир Галактионович Короленко. Впервые за время своего существования деятельность ПКК была легализована. Такие же организации были созданы в городах Петроград, Харьков, Полтава. Но московским ПКК был самым значительным и вскоре стал играть роль всероссийского, а затем и всесоюзного.
Главной задачей МПКК была материальная и юридическая помощь политзаключенных. Но по мере укрепления советской власти отношение к МПКК становилось все более негативным, особенно с лета 1922 года, во время судебного процесса над ЦК партии эсеров. В результате деятельность МПКК была приостановлена, а 25 августа фактически прекращена. Но впоследствии МПКК был просто реорганизован в другую организацию во главе в Пешковой. 11 ноября ей было передано помещение МПКК со всем имуществом для работы по оказанию помощи политическим заключенным.
Александр Меленберг: Основные документы фонда Политического Красного Креста это письма заключенных и их родственников с просьбами о помощи. Читаем одно из многих тысяч. Оно принадлежит человеку неординарному, достаточно известному в просвещенных кругах общества. Речь идет о поэте Николае Клюеве. Крестьянский поэт, как он себя позиционировал.
Надо сказать, что Николай Клюев был на голову выше всех предыдущих традиционных пасторальных "деревенщиков". Фактически это был человек русского модерна начала ХХ века, по какому-то внутреннему недоразумению влезший в картуз, поддевку и декоративные лапти. Персона, неотделимая от Серебряного века русской культуры. Его поэзия – это элементы символизма, реализуемые, через настоящую, а не поддельную народную лексику.
Владимир Тольц: Вы знаете, при всем почтении к творческому наследию Клюева и сочувствии к его судьбе я не готов разделять ваши рассуждения о месте, занятом Клюевым по недоразумению. Но дело, в общем, не в этом. Скажите, Саша, а почему вы выбрали письмо именно Клюева? Ведь таких писем – тысячи, и мы часть этих писем уже в наших передачах - как раз из Фонда Политического Красного Креста - воспроизводили. Не оттого ли вы выбрали Клюева, что рассчитываете на то, что имя поэта, ну, как бы известно нашим слушателям, и это усилит эффект что ли от передачи? Или оттого, что история эта показательна для тысяч других случаев, герои которых носили картузы и поддевки отнюдь не по недоразумению?
Александр Меленберг: Нет, здесь момент совсем в ином. Понимаете, мне показалось, что именно это дело, то есть переписка с Клюевым, - показатель эффективности работы Пешковой. И особенности занимаемого ею места в структуре советского общества, в структуре советского истеблишмента. Видите, она вытащила Клюева фактически в 1936 году, когда уже… Ну, как, 1936 год – какие могут быть освобождения? 1926-ой – пожалуйста, 1918-ый - пожалуйста. Но не 1936-ой!
Итак, Николай Клюев был арестован 2 февраля 1934 года. А уже спустя месяц, 5 марта, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на 5 лет высылки. Клюев был отправлен в поселок Колпашево Нарымского края. В июне 1934 года с места ссылки он обратился с письмом к Екатерине Пешковой.
"Екатерине Пешковой, от поэта Клюева Николая Алексеевича.
Двадцать пять лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом, из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Мое искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведен на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сакулин назвал меня народным златоцветом, Брюсов писал, что он изумлен и ослеплен моей поэзией. Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату, Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня как художника. За четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошел мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер, два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами в жизни. Теперь мне пятьдесят лет, я тяжело и непоправимо болен, неспособен к труду, и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни.
За свою последнюю поэму под названием "Погорельщина", основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, за прочтение мною этой поэмы немногим избранным художникам, и за три-четыре безумные и мало продуманные строки из моих черновиков, - я сослан Московским ОГПУ по статье 58 пункт десять в Нарым, в поселок Колпашево, на пять лет".
Александр Меленберг: Нарымским краем в Российской империи назвали гиблое место в северной части Томской губернии – место политической ссылки противников монархии. В советское время Нарым по прежнему был грустным местом, где гноили противников режима. По большей части мнимых противников.
Клюев пишет про "три-четыре безумные и мало продуманные строки из черновиков". Считается, что он говорит о строках из незаконченного цикла "Разруха", в которых он прошелся по Беломорканалу – атриуму политрепрессий начала 30-х годов. Вот такие, например, строки:
"То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей…"
Впрочем, существует и другая версия, что причиной ареста Клюева стала его гомосексуальная ориентация. Не просто им не скрываемая, а открыто демонстрируемая.
Владимир Тольц: Ну, на каком общественно-политическом фоне возникла эта последняя версия (ее еще, кстати, Бахтин пересказывал), это, в общем, ясно. В 1933 году и в Германии, становящейся нацисткой, и в Советском Союзе постепенно меняется отношение власти к гомосексуалам. В сентябре в Москве и в Ленинграде прошла первая облава на гомосексуалистов. В декабре Ягода просит Сталина принять законодательные меры против "голубых", и этот вопрос обсуждается на Политбюро. В результате – соответствующее решение ЦИК появляется, в декабре же, и в марте 1934-го в УК введена статья об уголовной ответственности за мужеложство. Клюева, напомню, арестовали в феврале 1934-го. Ну, что можно сказать сегодня? Что через семь с половиной десятилетий после ареста замечательно поэта хотелось бы все-таки слышать ссылки не на старые версии и разговоры о том, зачем и почему, а на материалы дела. Однако продолжим читать письмо Клюева, которое он из ссылки прислала Екатерине Пешковой.
"В этом случайном, но невыносимо тяжком человеческом несчастии, где не приложимы никакие традиции, и пригодна лишь одна простая человечность, я обращаюсь к Красному Кресту со следующим.
1) Посодействовать применение ко мне минуса шесть или даже минуса двенадцать с переводом меня до наступления зимы из Нарымского края, по климату губительного для моего здоровья, в отдаленнейший конец бывшей Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или в Красно-кокшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключает возможность разложития его моей поэзией, но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания – неимение которых в Нарыме грозит мне прямой смертью (не всегда появляющиеся продукты сказочно дороги).
2) Посодействовать охране моего имущества в Москве, по Гранатному переулку, дом № 12, кв. 3.
3) Оставлению за мной моей писательской пенсии, которую я не получаю со дня ареста, 2 февраля 1934 года.
4) Вытребовать по Бюро медицинской экспертизы в Ленинграде пожизненное удостоверение о моей инвалидности (удостоверение упомянутого Бюро у меня имеется, но осталось по аресте в Москве в моей квартире, заложенное в древнюю немецкую Библию. Приметы последней: готический переплет, вес один пуд).
5) Оказать мне посильную денежную помощь, так я совершенно нищий. Справедливость, милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны.
Николай Клюев.
Адрес: поселок Колпашево Северо-Западной Сибири Томского округа.
15 июня 1934 года".
Владимир Тольц: В ноябре 1934 года, благодаря ходатайству Политического Красного Креста, Клюеву было разрешено отбывать ссылку в Томске. Это было, в общем, получше, чем Нарым. Но и здесь, правда, Клюев по-прежнему не имел средств к существованию, нищенствовал, голодал. А в 1936 году был вновь арестован как "участника церковной контрреволюционной группировки". На этот раз за помощью ему к Екатерине Пешковой обратился геолог Ильин, бывший член партии эсеров, сам перед тем неоднократно репрессированный.
"Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чем он обвиняется – неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и другие церковники.
Клюеву в его исключительно тяжелом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького.
С глубоким уважением Ростислав Сергеевич Ильин (известный Вам), старший геолог Западно-Сибирского Геологического треста.
Домашний адрес: Томск, ул. Кирова, 38, кв. 4.
19 июня 1936 года".
Александр Меленберг: Вот здесь, по моему убеждению, и произошло маленькое чудо. 4 июля 1936 года, благодаря второму ходатайству Политического Красного Креста, то есть Пешковой, Клюев вновь был освобожден. Хотя на этот раз он не представлял для Советской власти уже никакой опасности. Это был безнадежно больной человек, фактически не поднимавшийся с постели. Тем не менее, чекисты довели свое дело до конца. Клюев вновь арестован 5 июня 1937 года, как "идейный вдохновитель и участник контрреволюционной организации "Союз Спасения России"". В октябре того же года его расстреляли.
Владимир Тольц: Ну, а Ростислава Сергеевича Ильина арестовали в июне 1937-го и расстреляли в августе. Тогда, в 1937-м, уже при Ежове, с этим делом было быстро и круто. Обвиняли его в том, что он является членом "японо-эсеровской шпионско-диверсионной террористической организации".
Александр Меленберг: И вообще, Ростислав Ильин, как личность и ученый, заслуживает отдельного разговора. Хотя бы такой факт: в начале 30-х годов, будучи административно-высланным, работая в геологической партии, он предсказал, что в Сибири будет найдена нефть.
Владимир Тольц: Я сейчас хочу обратиться к нашей гостье – Ирине Осиповой, составителю ряда сборников документов о деятельности Политического Красного Креста в СССР.
- Ирина Ивановна, я уже спросил своего соведущего Александра Меленберга о его старой газетной заметки по поводу Пешковой и ее правозащитной организации, о связи Политического Красного Креста (под разными названиями он выступал) с союзным НКВД до и после 1934 года. Отвесив в той двухлетней давности заметке несколько реверансов в сторону Пешковой, -то же, по-моему, Саша сделал и сейчас, - дальше он писал об этих неоднозначных отношениях Пешковой с НКВД, с ЧК, с ОГПУ и так далее. Это сообщалось два года назад как большая «научная» новость. Но скажите, во-первых, как вы оцениваете все сочинения и что в этом плане, может быть, нам известно стало нового за эти два года?
Ирина Осипова: Ну, вот по письмам, которые мы в эти годы смотрели, огромное количество писем, особенно связанных в высылкой из Ленинграда в Марте 1935 года огромного количества бывших, уже в середины, уже после 1934 года ходатайства "Помполита" и Пешковой лично, они практически ничего не меняли вообще в судьбах. На них просто не обращали внимания. Какие-то отдельные случаи, если и освобождались, то опять это было связано, предположим, когда были освобождены из Казахстана большое число молодежи, связано это было с тем, что они в основном почти все уже либо кончили, либо были на последних курсах институтов, и с точки зрения просто логики, что столько было вложено в их образование, именно это, может быть, повернуло, что часть этих ребят молодых была освобождена, и они вернулись в Ленинград.
Владимир Тольц: Я хотел бы тот же свой вопрос адресовать и Ярославу, который нас, я надеюсь, слышит.
Ярослав Леонтьев: Я пытался тоже рассуждать на эту тему и вот к каким выводам я пришел. Конечно же, связь личная у Екатерины Павловны с руководителями всех этих ведомств, начиная от ВЧК и кончая ягодовским, подчеркну, не ежовским, конечно, а ягодовским НКВД, естественно, была, и это нельзя сбрасывать со счетов. У нее были достаточно теплые отношения с Феликсом Эдмундовичем, и как известно, она публиковала некролог, посвященный Дзержинскому, за что ее упрекали некоторые представители в эмиграции. Хотя в то же время у нее нашлись и защитники, которые даже требовательно настаивали, что на такой ноте, как это, скажем, делал Ходасевич, не должно обвинять Пешкову, которая сделала очень много для самых различных категорий политзаключенных. И вот Ходасевичу отвечал, помнится, не менее подвергавшийся, даже, точнее, в отличие от Ходасевича, не подвергавшийся прямым репрессиям, человек, побывавший неоднократно в большевистском заключении, а потом оказавшихся среди высланных из России в 1922 году, известный историк Сергей Мельгунов выступил в защиту Пешковой в ответ на эти обвинения. Конечно, взаимоотношения с Ягодой благодаря тому, что семья Горького, невестка Пешковой, Тимоша, супруга Максима Пешкова (Надежда – ее настоящее имя), как мы помним, она имела даже вполне себе романтические отношения с Генрихом Ягодой, и видимо, благодаря этому тоже, конечно, какие-то реверансы в пользу Екатерины Павловны всесильный шеф ОГПУ, потом первый руководитель НКВД, когда ОГПУ было влито в него, и в виде Главного управления государственной безопасности, Генрих Ягода, конечно, благодаря этим тесным связям с семьей Горького мог оказывать некоторые услуги конкретно, значит, Екатерине Павловне.
Александр Меленберг: Сейчас я выскажу, может быть, крамольную вещь, но необходимую. Как я уже говорил в начале передачи, о деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно панегириков. Но есть оборотная сторона медали. А именно – посредничество в торговле заложниками. Схема такая: органы ВЧК-ОГПУ арестовывали так называемых "бывших людей" – дворян, крупных чиновников и так далее, прежних лет, конечно, чиновников, затем списки потенциальных заложников предоставлялись через "Амторг" (Американскую торговую организацию, созданную на паях советским правительством и американским предпринимателем Армандом Хаммером) в руки Хаммера, он сам или через посредников предлагал жившим в эмиграции родственникам этих заложников выкупить их за определенную сумму. Так сказать, на индустриализацию. Разумеется, на условиях полной тайны все это делалось, иначе заложники будут расстреляны. Все переговоры и расчеты проводились почти прозрачно, через Политический Красный Крест ("Политпомощь").
Здесь вот какой момент с Пешковой. Ведь Советы точно знали, что она человек, скажем так, кристальный, поэтому ее и использовали в этой цепочке доставания валюты для нужд индустриализации. И она это, наверное, понимала в какой-то степени понимала. И шла на этой только по одной причине, чтобы ее организация "Политпомощь"… Кстати, она называлась официально (никто об этом почему-то не упоминает) "Екатерина Пешкова. Политпомощь" – вот так она называлась, "скромно", скажем, да.
Ярослав Леонтьев: Что касается названия, нет, здесь это не было каким-то тщеславием со стороны Екатерины Павловны. Просто надо вспомнить ту ситуацию, когда эта организация была официально зарегистрирована. Разрешение давал на регистрацию этой организации Иосиф Ужлев, который являлся в тот момент заместителем председателя ОГПУ, и это было связано действительно с личным авторитетом Пешковой, то есть именно ей позволили чекисты воссоздать организацию, но в несколько ином статусе и под ее личные, действительно, гарантии. Но, с другой стороны, это, кстати, было связано и обусловлено еще одной важной миссией, которой занималась Пешкова, и о которой стоит наверняка напомнить нашим слушателям, а именно: в этот момент шел обмен между военнопленными красноармейцами, которые находились в польском плену, и "пилсудчиками", которые топились в Советской России. И Пешкова по линии Польского Красного Креста, как раз она была членом тоже этой организации, она занималась вот этим обменом красноармейцев на "пилсудчиков", и таким образом она выполняла в каком-то смысле важное государственное задание, поручение. И опять же благодаря уникальности ее фигуры вот именно под нее и была создана новая организация.
Владимир Тольц: Соглашусь с Александром Меленбергом: спасение Красным Крестом и иными организациями и отдельными людьми политзаключенных в условиях тоталитарного государства – чудо. Причем не маленькое, как говорит Саша. И не только в СССР 1930-х годов, но и в фашистской Италии, и в нацистской Германии. В создании таких чудес их творцам приходилось ради спасения людей вступать в самые причудливые и близкие отношения с тюремщиками, палачами и карателями. Достаточно вспомнить Рауля Валленберга и его "задушевные", так сказать, беседы в будапештском гестапо. Хитростью, обманом и деньгами Валенбергу удалось спасти около 20 тысяч человек. Можно, поскольку в России нынче печальная мода постигать историю через кинофильмы, напомнить и спилберговский "Список Шиндлера". Кстати, и про Валленберга, и про Шиндлера post factum было сочинено немало гадостей – обвиняли и в наживе, и в связи со спецслужбами, и в торговле людьми. Ну, почти так, как теперь пытаются писать и говорить порой про Екатерину Павловну Пешкову. Про нее еще не сняли фильма, в котором показали бы всю ничтожность и глупость подобного рода обвинений. Но это просто потому, что пока не нашлось "русского Спилберга". Вот снимут, и тогда нация телезрителей разом поймет, что Пешкова – одна из главных героинь мученической истории дотелевизионной России.
|
Метки: пешковы красный крест террор |