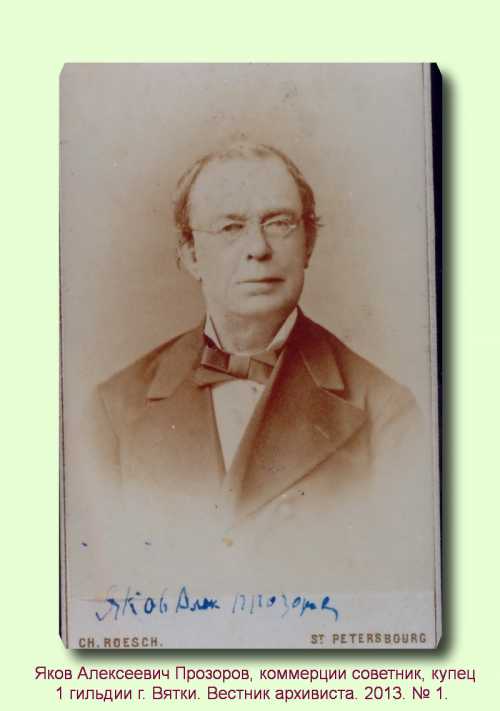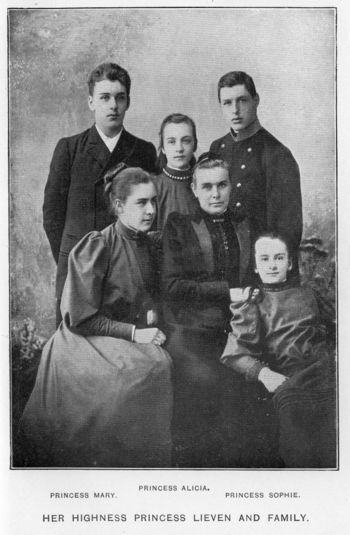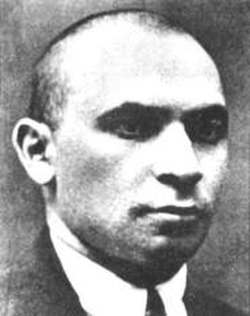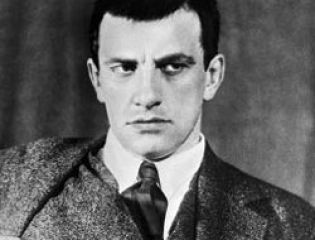Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву |
[]
Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву

"Призрак Блюмкина над Марьиной рощей"
Согласно неофициальной информации Еврейский музей в Марьиной роще будто бы готовится развлечь Москву мощной выставкой, посвященной Якову Блюмкину – начальнику спецотдела ВЧК, руководившему карательными отрядами на Украине, «куратору» экспедиции, искавшей в Тибете и на Алтае волшебную страну Шамбалу, руководителю Республики Красный Иран со столицей в городе Гиляни и адьютанту Льва Троцкого в Наркомате обороны.. Вроде бы припасено более шестисот фотографий и документов, прежде абсолютно секретных.
"Тов. Меркулову
Служебная записка
Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции
В соответствии с личным распоряжением пред. ОГПУ тов. Ф.Дзержинского, в сентябре 1925 г. в Тибет в Лхасу, была организована экспедиция в кол-ве 10 человек под руководством Я. Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Красково (под рук. Е.Гопиуса,). Лаборатория входила в состав спецотдела ОГПУ( Г.Бокия). Целью экспедицию являлось уточнение географических маршрутов, поиск «города богов», с целью: получения технологи ранее неизвестного оружия, а также рев.-агит.пропаганда, что, как следует из докладов Блюмкина не нашло «соответствующей востребованности» среди властей Тибета.
Первоначально Блюмкин выступал под легендой монгольского ламы, а по прибытии в Леху (столица кн. Ладакх) был разоблачен. От ареста и депортации его спас мандат, выданной ему за подписью тов. Дзержинского с обращением к Далай ламе, встречи с которым он ожидал в течение трех месяцев.
Из доклада Блюмкина следует, что в январе 1926 года во дворце в Лхасе его принял Далай лама 13-й, который воспринял послание тов. Дзержинского как добрый знак, а далее, по приглашению правительства Тибета он, Блюмкин становится важным гостем. Тибетские монахи рассказали ему некоторые тайны, хранящиеся в глубоком подземелье под дворцом Потала.
Блюмкин описывает, что после того, как он прошел своеобразную процедуру «посвящения», пообещав Далай-ламе организовать крупные поставки оружия и военной техники из СССР (в кредит), а также помочь в предоставлении золотого кредита правительству Тибета, по личному указанию Далай ламы, 13-ть монахов сопроводили его в подземелье, где существует сложная система лабиринтов и открытия «тайных» дверей. Для того, чтобы это сделать, монахи заняли соответствующее место и поочередно, в результате переклички, в определенной последовательности стали оттягивать вниз от свода потолка кольца с цепями, с помощью которых, большие механизмы, скрытые внутри горы открывают ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. Блюмкину были показаны два зала. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов – ваджару – гигантские щипцы, с помощью которых в 8-10 тысячелетии до н.э. вожди древних цивилизаций осуществляли широкомасштабное выпаривание золота при температуре, равной температуре поверхности солнца, примерно 6-7 тыс. градусов С. Со слов монахов, при процедуре «выпаривания» золота в течение нескольких секунд происходит такая реакция: золото вспыхивает ярким светом и превращается в порошок. С помощью этого порошка Воджара древние правители продлевали себе жизнь, употребляя его с пищей и вином на сотни лет. Этот же порошок использовался в строительстве. С его помощью древние строители, по утверждению монахов, действительно, передвигали в воздухе гигантские каменные монотонные плиты и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных и скальных пород, возводя каменные монументы и исторические постройки, сохранившиеся до наших дней.
Под землей монахи хранят секреты минувших цивилизаций, которые когда-либо существовали на Земле. По утверждению Блюмкина их было 5-ть, вместе с той цивилизацией, которая существует сейчас. Согласно тайному учению Ва-джу, неизбежной причиной гибели цивилизаций на Земле является вращение вокруг солнца еще одной планеты, в 3 раза больше чем Земля, с большим внутренним запасом тепла и воды, по эллипсообразной орбите, с циклом вращения вокруг солнца равным 3.600 годам. Эта планета вращается по часовой стрелке, в отличие от земли и других планет, поэтому, когда она входит в плотность вращения планет солнечной системы, в результате мощного электромагнитного вихревого потока, создающегося от вхождения
планеты пришельца в солнечную систему, каждые 3600 лет на Земле случаются гигантские природные катаклизмы, в результате которых неоднократно происходила гибель человечества и животных. При этом, каждый четвертый цикл вхождения этой планеты в солнечную систему грозит неизбежным мировым потопом на Земле и гибелью цивилизации, из-за характерной динамики вращения планет, которые естественно выстраиваются своими орбитами в определенной последовательности. Так, Земля, в этом случае, будет обращена к планете - пришельцу не с материковой стороны, а со стороны Тихого океана. Вода находящаяся на Земле с противоположенной стороны от материковой части, в результате прохождения планеты-пришельца в непосредственной близости от Земли в поясе астероидов, из-за ее размеров и противоположенного вращения, будет вытеснена на материки и континенты. При этом, высота волны составит от 6 до 7 км со скоростью движения 700-1000 км/час. Третий цикл вращения планеты-пришельца вокруг солнца, и прохождения ее в непосредственной близости от Земли был в 1586 году до н.э. Вхождение планеты в солнечную систему ожидается в 2009 году сл. столетия, и соответствующе в 2014 г. (с учетом разницы по юлианскому календарю), по утверждению тибетских монахов, произойдет 5-й Армагеддон, гибель цивилизации и человечества.
По утверждению Блюмкина, по этой же причине, все известные доисторические календари – шумерский, вавилонский, майский оканчиваются одной и той же датой – 27 декабря 2014 года.
По утверждению монахов, спастись будет возможно лишь небольшой части избранных людей в подземных городах Антарктиды и в Тибете, которые каким-то шлейфом под землей соединены между собой. В результате гибели каждой из цивилизаций, ось Земли смещалась против часовой стрелки от острова Пасхи (первый северный полюс доисторической так назывемой «протогирейской» цивилизации) на 6666 км. В результате предстоящего Армагеддона следующим северным полюсом Земли станет Северная Америка.
Для совершения экспедиции Блюмкину были выделены 100 тысяч золотых рублей царской монетой. Однако, его маршрут был не продуман, использована легенда прикрытия, не соответствующая целям экспедиции, ставшая угрозой ее срыва из-за ареста и возможной депортации.
Как стоит полагать, основным аргументом при ведении переговоров с правительством Тибета является оружие и золото. Далай лама 13-й умер в 1933 году. Далай лама 14-й (Данцзин Джамцо) родился в 1935 году. До 18-ти летнего возраста руководство Тибетом осуществляет регентский совет во главе с регентом – Главой государства Ретингом Римпоче.
Указанная информация о Тибете, известная нам, стала достоянием германских и японских военных властей в результате нескольких зарубежных поездок Блюмкина за кордон весной и летом 1929 года, после которых Блюмкин пытался осуществить бегство из СССР со своей сожительницей.
Информация, которую сообщил в своем рапорте тов. Савельев, возвратившийся из Германии, целиком и полностью совпадает с той, что сообщал Блюмкин по возвращении из Тибета.
При планировании новой экспедиции считаю целесообразным предложить предать ей официальный статус, а тов. Савельева снабдить соответствующими верительными грамотами и делегировать ему достаточные полномочия, чтобы он мог от лица советского правительства обсуждать любые вопросы с властями Тибета, в том числе и вопросы военно-экономического характера.
В качестве маршрута предлагал бы избрать путь: самолетом от Москвы-Ташкент-Сталинабад. От Сталинабада машинами до государственной границы СССР в р-не пер. Каши (Китай), что составляет протяженность трассы примерно 760 км., а далее автомобильными и проселочными дорогами, которыми соединены населенные пункты вдоль Гималаев до Лхаса, с информированием властей Великобритании, Китая о продвижении государственно-исследовательской партии в Тибет.
При этом необходимо Ваше указание о выделении следующего транспорта: 3-х грзовых а/м ГАЗ-АА, 3-х а/м Пикап ГАЗ-4 и 3-х сан.автобусов.
По численности экспедиции полагал бы остановиться на следующем составе:
Руководитель экспедиции -1
Врач-1
Зоолог-1
Веет.врач-1
Фотограф-1
Кинооператор-1
Носильщики(разнорабочие)-3
Переводчик-проводник-2
Водители-сотрудники-18 чел из расчет 9 чел. по 2 смены.
Они же должны быть специалистами по лошадям, владеющие
кит.видами единоборств и т.п.
Т.о. кол-во членов экспедиции « ____» чел.
Финансовая часть: в качестве устойчивой валюты для разных расчетов, с учетом специфики местности, предлагаю изыскать золотые царские рубли. Всего для финансирования экспедиции, с учетом того, что на каком-то участке пути возможна утрата транспорта и необходимая покупка лошадей, и прочие непредвиденные расходы, с учетом питания, проживания и ночлега, всего необходимо выделить 1000 золотых монет царской чеканки.
В качестве подарка от правительства СССР регенту Тибета Рентингу Римпоче предлагаю вручить 5-ти килограммовую статую молящегося Будды из чистого золота, реквизированную в Бурятии в 1928 году. Указанная статуя хранится на рек.складе НКВД (инв.№______).
Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД
________________
Листы служебной записки Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции:



Яков Блюмкин, 1898 года рождения, «на лицо ужасный, но добрый внутри» покуролесил в своей тридцатилетней жизни так, как его сегодняшним последователям и не снилось, и был поставлен к стенке коллегами по ОГПУ.
Теперь получается, что Яша - хороший! Ну, убил он посла Германии в Москве, после чего большевиков лишь чудом спасла латышская дивизия. Так ведь совершил это с благородными целями – чтобы пробудить русских к борьбе за свободу! А если мокруху, вывести за скобки – остается героическая деятельность по укреплению государства и попытки поставить интеллект тибетских монахов на службу отечественному ВПК. Не зря Лаврентий Палыч Берия изучал дело давно расстрелянного Яши, оставив на документах впечатляющий автограф.
С чего бы вдруг столь бурный интерес к кипучему провокатору и авантюристу, любителю пострелять по живым мишеням?!
Да и что эта экспозиция может добавить к океану книг и фильмов про «ленинскую гвардию» , «монетизировавшую» власть и запустившую репрессивный механизм, который её в результате и уничтожил?!
В январском номере за 1986 год журнала «Дружба народов» был опубликован недописанный роман Юрия Трифонова «Исчезновение», где автор нашумевшего «Дома на набережной» снова вернулся к персонажам из родного дома, своему отцу и дяде, и показал ужас, с которым «старые бойцы» осознавали, что «Этот год мы с тобой, пожалуй, не дотянем!»
А год был между прочим 1937-й!
Да мало ли и сегодня в Москве «проповедников», объявляющих миллионы потерянных за годы «реформ» жизней – «неизбежными издержками демократии»?!Совершенно не думающих, что ведь и сами могут попасть в «издержки»!
Что добавит нам образ супермена Яши Блюмкина после Березовского и Гусинского, на глазах у всего мира шумно выяснявших, кто из них больший бандит и потому имеет большее право командовать Россией?!
Михаил КАЗАКОВ
Листы протокола допроса Блюмкина Я.Г.




Оригинал материала: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=31047
Tags: авантюристы, большевизм, историяtps://vatslav-rus.livejournal.com/67426.html
|
Метки: яков блюмкин террор наука вчк-кгб |
Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин |
Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин
 olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.
olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.
Итак, все женские «штатные единицы» при Императорском дворе соответствующим образом оплачивались.
По придворному штату, утвержденному Павлом I в декабре 1796 г., обер-гофмейстрина получала жалованье в 4000 руб. в год. Такое же жалованье получали и 12 статс-дам (по 4000 руб.), 12 фрейлин получали жалованье по 1000 руб. в год.
Для многих бедных аристократок оказаться на должности фрейлины «за жалованье» было просто подарком судьбы. При этом фрейлины не только получали довольно высокое жалованье, но и имели оплачиваемые «больничные» и отпуска «с дорогой». Если какая-либо из фрейлин заболевала, то императрица из своих средств оплачивала не только лечение, но и реабилитационный отдых со всеми издержками. Как вспоминала бывшая фрейлина А.О. Смирнова-Россет: «Арендт мне советовал ехать в Ревель купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она велела мне дать четверо-местную дорожную карету, подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель».

Н. М. Алексеев. Портрет А. О. Смирновой-Россет. Акварель.
Кроме этого важным преимуществом фрейлин была возможность, выходя замуж, составить блестящую партию. Согласно правил, фрейлина подавала прошение на высочайшее имя, испрашивая разрешение на замужество. После разрешения фрейлина получала от казны соответствующее приданое. Размеры «приданной суммы» менялись. В конце XVIII в. приданое фрейлины составляло 12 тыс. руб. ассигнациями. В мемуарной литературе описаны эпизоды, когда для свадебной церемонии фрейлин-невест украшали бриллиантами. Конечно, этой чести удостаивались только «любимые» фрейлины.


Фрейлины (Елизавета Сергеевна Толстая и Елена(Элла) Константиновна Кочубей
Поскольку фрейлины находились в «ближнем кругу» императорской семьи, то они не обделялись высочайшим вниманием. В случае необходимости им помогали. В 1859 г. Александр II приказал обеспечить деньгами фрейлину Дарью Тютчеву «2-ю» для поездки заграницу на лечение. Поскольку она служила при Дворе, то это было соответствующим образом обставлено. В поездке до Берлина ее сопровождал лейб-хирург Ф.Ф. Жуковский-Волынский со своим сыном, камер-юнгфера фрейлины, аптекарский помощник и лакей при фрейлине. Всего сопровождающих набралось 5 человек и на эту поездку Тютчевой выделили «заимообразно» 3776 руб. Поскольку фрейлине деньги давались в долг, то принималось во внимание, что Тютчева расплатится со своего жалованья.


Фрейлины (m-lle Оболенская и Е. Н. Голицына)
Это жалованье складывалось из: штатного жалованья в 187 руб. 25 коп.; «столовых» – 409 руб. 9 коп. и денежных выплат «на стол с припасами» – 2354 руб. Следовательно, годовое жалованье фрейлины в 1859 г. составляло 2950 руб. 34 коп. Для сравнения – в 1850-х гг. профессорам ведущего медицинского факультета Московского университета выплачивалось казенного жалованья по 1429 руб. 60 коп. серебром в год. Кроме этого им выплачивались «квартирные» деньги в размере 142 руб. 95 коп. серебром, то есть всего 1572 руб. 55 коп. серебром.
В начале XX в. фрейлинское жалованье уже составляло – 4000 руб. в год. Для сравнения – жалованье ординарного профессора Императорского университета составляло 3000 руб. в год, жалованье заместителя начальника Дворцовой полиции – 6800 руб., жалованье начальника аналитического отдела Дворцовой полиции в чине полковника – 5000 руб.

Княгиня Оболенская-Нелединская-Мелецкая (1834 год), фрейлина императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) (Неизв.художник).
Жалованье фрейлин не менялось с конца XIX в. и до 1917 г. составляло 4000 руб. в год. Надо заметить, что, несмотря на инфляцию, жалованье оставалось весьма значительным, с учетом того, что фрейлины жили «на всем готовом». Вместе с тем у фрейлин были немалые расходы. Основная часть расходов приходилась на туалеты: «Их надо было менять три раза в день. Даже дома фрейлина не могла одеваться, как хотела. Ее туалет всегда должен был соответствовать ее рангу, и к обеду декольтированное платье было обязательным. То же самое платье не надевалось, конечно, много раз. Должны были быть в гардеробе и дорогие платья не для балов, а, скажем, для посещения церковных служб, свадеб, похорон, дней рождения, именин и т. п.». И да, ещё форменное платье фрейлины, если она на дежурстве.

Платье фрейлины императрицы (красный бархатный верх, золотые нити шитья). Платья фрейлин Великих княгинь были аналогичны, но нити шитья были серебряными. У фрейлин Великих княжон - серебро и голубой бархат верха.
В последние годы существования империи, когда царская семья перебралась на жительство в Александровский дворец Царского Села, штатным фрейлинам Александры Федоровны обеспечивалась квартира во дворце, которая состояла из гостиной, спальни, ванной и комнаты для горничной. Каждой из фрейлин полагался лакей, который прислуживал за столом, коляска с парой лошадей и кучер. Ни повар, ни кухня были не нужны, так как еду приносили с царской кухни. В свободное время фрейлина могла принимать гостей, все угощение предоставлялось за счет Двора.
По свидетельству А.А. Вырубовой, некоторое время занимавшей положение штатной фрейлины: «Ежедневная пища была превосходна. Утром приходил лакей с бланком заказа; туда вписывались вина – обычно три сорта, – фрукты и сладости. Я никогда не выпивала больше бокала вина за столом, но каждый раз открывалась новая бутылка».
Несмотря на множество обязанностей, в положении фрейлин были и неоспоримые преимущества. Кроме таких «мелочей», как полное обеспечение при Дворе – квартира, прислуга, питание, это была самая престижная работа для девушек-аристократок, за которую платили жалованье.


Фрейлины (Е.А. Голицына и Е.Н. Оболенская)
| https://yablor.ru/blogs/jalovane-i-prochee-dovolstvie-freyl/6214701 | |||||
|
Метки: фрейлины |
Шелашников Александр Николаевич |
Шелашников Александр Николаевич
Биография
10 апреля 1870 года — 21 июня 1919 года
Потомственный дворянин, сенатор, действительный статский советник (1916), Самарский предводитель дворянства (1916), член Государственного Совета от земства Самарской губернии (1916), председатель Самарского Областного общества Красного Креста (1917).
Великий классик XIX века А. С. Пушкин писал: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству. Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить - или задушить. Нужны ли они в народе так же, как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они охрана трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».
Александр Николаевич Шелашников родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы Самарской губернии. Отец - помещик села Исаклы, действительный статский советник, православного вероисповедания, женатый третьим браком, 53 года, мать - дочь отставного штабс-капитана Фёдора Порфирьевича Стрельникова, Вера Фёдоровна Стрельникова, православного вероисповедания, 20 лет. Вера Фёдоровна имела 1743 десятины земли в Бугурусланском уезде. В Самарской Духовной Консестории свидетельствует метрическая запись: «У Николая Петровича и жены его Веры Фёдоровны родился сын Александр 10 апреля 1870 года».
Александр Николаевич Шелашников окончил лицей цесаревича Николая. С аттестатом зрелости был принят в студенты Московского университета на юридический факультет, но в 1894 году он не выдержал экзамены и с 18 сентября 1895 года начал службу канцеляристом в Московском Дворянском собрании.
В 1896 году, получив чин коллежского регистратора, поселился в своём имении в Бугурусланском уезде и занялся хозяйством. В 1896 году ему принадлежало 11 854 десятины земли. В этом же году А. Н. Шелашников был избран церковным старостой и находился в этой должности до 1917 года.
В июне 1896 года Александр Николаевич Шелашников был избран депутатом от дворян Бугурусланского уезда в Самарское губернское дворянское собрание. В этом же году он был избран почётным мировым судьёй и оставался на этом посту вплоть до 1918 года. В 1902 году его избрали на должность уездного предводителя дворянства, на которой он оставался бессменно до 1917 года. В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма». В 1913 году Александр Николаевич был пожалован в звание камер-юнкера, а в 1916 году - в звание камергера Двора Его Императорского Величества. 6 декабря 1916 года он получил чин действительного статского советника. В январе 1916 года А.Н. Шелашников был избран Самарским губернским предводителем дворянства. 12 января 1917 года он вновь избран на эту должность сроком на три года. 8 февраля 1917 года его избрали в члены Государственного Совета от земства Самарской губернии.
Александр Николаевич Шелашников имеет много наград: 5 орденов, 7 медалей, 5 знаков отличия.
В 1886 году в селе Исаклы отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, которая функционирует до сих пор. С 1892 года для земской школы из-за неудобства помещения под колокольней на средства помещика А.Н. Шелашникова была арендована наёмная квартира, а в 1896 году на его же средства построено собственное здание. Попечительницей школы стала его жена - Александра Дионисьевна Шелашникова.
Александр Николаевич постоянно занимался общественной и благотворительной деятельностью. Он был попечителем Бугурусланского уездного попечительства детских приютов. За многолетнюю плодотворную деятельность имел много наград и благодарностей: от Российского общества Красного Креста, от Самарской Епархии за заботу о нуждах церковных школ Бугульминского уезда. Имел награды за труды по землеустройству, а также от Российского общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям.
Александр Николаевич Шелашников был женат на дочери слепорожденного князя Дионисия Михайовича Оболенского, который первым в России освоил систему Брайля и предпринял попытку перевести её на русскую почву, благодаря чему русские слепые уже в 1902 году получили доступ к образованию, тогда как в Америке - лишь в 1932 году. Князь Дионисий Михайлович Оболенский был заместителем министра внутренних дел, владел тремя иностранными языками, был прекрасным отцом, имел четыре дочери.
После смерти Николая Петровича Шелашникова жил в Исаклах, 8 января 1895 года потомственный дворянин, землевладелец Александр Николаевич Шелашников вступил в законный брак с княжной Александрой Дионисьевной Оболенской. Он имел четверо детей: Веру, родившуюся 22 октября 1902 года, сына Николая, родившегося 31 марта 1905 года, Марию, родившуюся 23 декабря 1909 года, Дионисия, родившегося между 1915-1917 годом (документы в Госархиве Самары удалены самими Шелашниковыми, все документы они хранили при себе, так как уходили от преследования большевиками и изменили даты и место рождения).
Александра Дионисьевна Шелашникова окончила Смольный институт благородных девиц, знала 12 языков, 6-ю владела в совершенстве. Александра Дионисьевна активно участвовала в жизни самарского общества, занимаясь благотворительностью. В 1904 году она состояла действительным членом Самарского местного комитета Российского общества Красного Креста. С 1905 по 1908 годы занимала должность председателя Правления общества Ольгинского женского приюта трудолюбия в селе Исаклы. С 1907 по 1909 годы входила в состав членов Торгового комитета общества с. Исаклы.
В силу того, что А. Н. Шелашников с 1917 года был председателем Самарского Областного общества Красного Креста, а с 1918 года - председателем ВГУ, затем председателем РОКК, и обязан был выполнять свой долг, он и его семья не смогли эмигрировать за границу. Освободившись из-под ареста и заключения, осуществлённого большевиками, Александр Николаевич уехал с другими представителями Российского общества Красного Креста вместе с армией А. В. Колчака в Омск.
В архивном деле Омской духовной консистории в метрической книге Богородице-Знаменской церкви города Омска имеется актовая запись № 48 о смерти 21 и погребении 23 июня 1919 года дворянина Самарской губернии, сенатора Александра Николаевича Шалашникова, 49 лет, от воспаления слепой кишки. Похоронен на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви города Омска. Погребение совершали архиепископ Сильвестр, протоиерей Василий Пляскин, священник Сафоний Галкин с дьяконами Виктором Керчесаром, Иваном Тихомировым.
Материалы предостоставлены правнучкой А. Н. Шелашникова Татьяной Вячеславовной Фроловой из семейного архива специально для сайта BankGorodov.RU (с использованием материалов Самарского Госархива, интернет-ресурса «Антибольшевистская Россия», исторической справки, составленной для Российского Дворянского Собрания Куликовой (Фроловой) Ольгой Геннадьевной).
Имеет отношение к населенным пунктам:
Самарская область, Шенталинский район, станция Шелашниково
В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма».
Самарская область, Исаклинский район, село Исаклы
Родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы. В 1886 году в Исаклах отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, действующая до сих пор. После смерти отца жил в Исаклах. В селе находилось его родовое поместье, разгромленное большевиками.
Освободившись из заключения, Александр Николаевич с представителями Российского общества Красного Креста уехал вместе с армией А. В. Колчака в Омск. Скончался в Омске 21 июня, похоронен 23 июня 1919 года на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви.
http://www.bankgorodov.com/famous-person/shelashnikov-aleksandr-nikolaevich
|
Метки: шелашниковы оболенские самара |
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не... |
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не...
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II
Как это не удивительно для многих нынешних адептов «белого движения», но армия, одна из главных опор императора Николая II, сыграла ведущую роль в его свержении, дав старт всем остальным событиям 1917 года в России.
Шла первая мировая война. Росло недовольство народа. Императорская Ставка была по сути вторым правительством. Но и в Ставке, по свидетельству профессора Ю.В. Ломоносова, бывшего во время войны высоким железнодорожным чиновником, зрело недовольство:
«Удивительно то, что, насколько я слышал, это недовольство было направлено почти исключительно против царя и особенно царицы. В штабах и в Ставке царицу ругали нещадно, поговаривали не только о ее заточении, но даже о низложении Николая. Говорили об этом даже за генеральскими столами. Но всегда, при всех разговорах этого рода, наиболее вероятным исходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства Павла»
Убийства Павла.
Временному правительству Ставка присягнула уже 9 марта, но расскажем о событиях, этому предшествовавших.
Как писал в дневнике генерал Д.Н. Дубенский, состоявший во время февральских событий в свите Императора, о начальнике штаба Верховного главнокомандующего ген. М.В. Алексееве, за несколько дней до переворота:
«Могилев. Пятница, 24 го февраля.<…>
Генерал адъютант Алексеев был так близок к царю и его величество так верил Михаилу Васильевичу, они так сроднились в совместной напряженной работе за полтора года, что, казалось, при этих условиях какие могут быть осложнения в царской Ставке. Генерал Алексеев был: деятелен, по целым часам сидел у себя в кабинете, всем распоряжался самостоятельно, встречая всегда полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего.»
Через два дня, 1 марта, по приезде царского и свитского поездов в Псков, «свитские» встретились с командующим Северным фронтом ген. Рузским, и тот же Дубенский пишет:
Прошло менее двух суток, т. – е. 28 февраля и день 1 марта, как государь выехал из Ставки и там остался его генерал адъютант начальник штаба Алексеев и он знал, зачем едет царь в столицу, и оказывается, что все уже сейчас предрешено и другой генерал адъютант Рузский признает «победителей» и советует сдаваться на их милость.»
Всего два дня назад Царь выехал из Ставки, о цели отъезда и адресе знал нач.ГенШтаба Алексеев. «Более быстрой, более сознательной предательской измены своему государю представить себе трудно.»
Генерал Рузский после переговоров со Ставкой и Петроградом в настойчивой, резкой форме доказывал, что Николай II должен передать престол наследнику.
Генерал Алексеев к этому времени уже получил согласие всех остальных главнокомандующих фронтами с этим мнением, и Рузский, главком Северным фронтом, огласил это царю.
Николай II практически не перебивал, но, сообщив о том, перед отъездом обо всём договаривался с Алексеевым, спросил «Когда же мог произойти весь этот переворот?». Рузский ответил, что это готовилось давно, но осуществилось после 27 февраля т. – е. после отъезда государя из Ставки.»
У Николая II пропала всякая уверенность в помощи от армии. Поскольку все начальники фронтов высказались за его смещение. Куда ему было деваться, на кого надеяться? Это и предрешило отречение.
Начальники фронтов на тот момент:
Главнокомандующие:
Северным фронтом – генерал адъютант Николай Владимирович Рузский.
Западным – генерал адъютант Алексей Ермолаевич Эвер
Юго Западным – генерал адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.
Румынским – генерал Владимир Викторович Сахаров.
Кавказским фронтом - великий князь Николай Николаевич.
В ночь на 2 марта генералы Рузский и нач.генштаба Алексеев с председателем ГосДумы Родзянко уже составляли манифест отречения. Автором его являлся церемониймейстер высочайшего двора директор политической канцелярии при верховном главнокомандующем Базили и генерал квартирмейстером Ставки Лукомский, а редактировал этот акт генерал адъютант Алексеев. Базили утром сообщил, что делал это по поручению Алексеева.
Всего двое суток после последней встречи Николая II с генерал-адьютантом Алексеевым, которому очень доверял...
Вечером 2 марта за отречением, с манифестом в руках прибыли член исполнительного комитета Думы монархист В. В. Шульгин и военный и морской министр временного правительства А. И. Гучков.
Генерал Дубенский пишет, что ему было удивительно видеть Шульгина, слывшего крайне правым членом ГосДумы, друга В. М. Пуришкевича.
(Шульгин - член монархической организации Союз русского народа, почётный председатель отделения Острожского уезда, потом вступил и в Русский народный союз имени Михаила Архангела, так как посчитал его лидера В. М. Пуришкевича более энергичным, чем лидера СРН А. И. Дубровина)
Встреча была недолгой, Николай подписал отречение, сделали второй экземпляр на всякий случай.
Верховным главнокомандующим сразу был назначен вел.князь Николай Николаевич. (11 марта, удовлетворяя требованию Временного правительства, переданным ему за подписью князя Львова, он сложил с себя эти полномочия в пользу ген. Алексеева. О чём Временное правительство объявило только 27 мая)
Вот как видел эту ситуацию, бусловно, трагическую для него, сам Николай II:
- вечером 2 марта 1917 г. в своём дневнике он записал:
«Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно моё отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил, и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!»
Позже, в Екатеринбурге, Николай II сказал следующие слова: «Бог не оставляет меня, он даст мне силы простить всех моих врагов, но я не могу победить себя еще в одном: генерала Рузского я простить не могу».
Неизвестно, простил ли он Алексеева. Перед отъездом Николая II из Ставки, генерал-адъютант Алексеев объявил государю о его аресте: «ваше величество должны себя считать как бы арестованным».
О Корнилове
Пишет ген. Мордвинов, тоже бывший в императорской свите
«В это же время (2 марта) принесли телеграмму от Алексеева из Ставки, испрашивавшего у государя разрешение на назначение, по просьбе Родзянко, генерала Корнилова командующим петроградским военным округом, и его величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую государь подписал, как император и как верховный главнокомандующий уже после своего отречения.» (Манифест по просьбе Родзянки - так склонялась тогда эта фамилия - пока решили не публиковать.)
Николай II на этой телеграмме положил резолюцию: «Исполнить».
Арест царицы и всей царской семьи был произведен свеженазначенным Корниловым в один день с арестом Николая II.
Вот что гласит об этом аресте запись в камер-фурьерском журнале:
«8 марта 1917 г. По решению Временного Правительства Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа в 8 часов 45 минут отбыл в Царское Село для приведения в исполнение указа об аресте бывшей императрицы Александры Феодоровны.
В 11 часов утра Главнокомандующий генерал-лейтенант Корнилов, в сопровождении начальника Царскосельского гарнизона полковника Кобылинского, Царскосельского коменданта подполковника Мацнева и некоторых чинов штаба прибыл в Александровский Царско-Сельский дворец и прочел бывшей государыне Александре Феодоровне, которая приняла его в присутствии графа Бенкендорфа и графа Апраксина, постановление Временного Правительства об ее аресте».
Арест был произведён в присутствии полковника Кобылинского, нового начальника царскосельского караула.
Генерал Л.Г. Корнилов собственноручно наградил Георгиевским крестом унтер-офицера Волынского полка Кирпичникова за то, что тот 27 февраля 1917 выстрелом в спину убил начальника учебной команды Волынского полка штабс-капитана Лашкевича. А ведь этот инцидент стал началом солдатского бунта в Волынском полку.
Л. Г. Корнилов в августе 1917-го о своих политических взглядах и об отношению к Николаю II сказал вполне откровенно:
«Я заявлял, что всегда буду стоять за то, что судьбу России должно решать Учредительное собрание, которое лишь одно может выразить державную волю русского народа. Я заявлял, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых, считал, что эта династия в лице её последних представителей сыграла роковую роль в жизни страны.»
Как писал Деникин в «Очерках русской смуты», когда в июне 1917 г. ввиду катастрофического развала Армии к Корнилову обратились с предложением осуществить переворот и восстановить Монархию, он категорически заявил, что «ни на какую авантюру с Романовыми он не пойдет».
***
Снова к М.В. Алексееву. Решение об измене Алексеев принял не после отъезда Царя из Ставки в Псков, а много раньше.
П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал "план ареста царицы в ставке и заточения".
Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I, - великий князь Александр Михайлович (1866-1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли "отцом русской военной авиации", писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: "Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя".
В конце 1916 года князь А.В. Оболенский спросил Гучкова о справедливости слухов о предстоящем перевороте. «Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников... Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы Родзянко, Гучков и Алексеев были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, как генерал Рузский, и даже знал о нем А.А. Столыпин (брат Петра Аркадьевича). Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него».
Напомним, что Алексеев и Корнилов – основатели Добровольческого движения, Белой Армии, которые сражались против большевиков. Кто-то может сделать из этого вывод, что большевики были монархистами.
Доверенное лицо Алексеева, генерал Крымов, в январе 1917 года выступал перед думцами, подталкивая их к перевороту, как бы давая гарантии от армии. Он закончил свою речь словами:
«Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен и на фронте это чувствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. Очевидно, иных средств нет. Все было испробовано как вами, так и многими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, сказанных Царю. Времени терять нельзя».
военный цензор в ставке верховного главнокомандующего М.К. Лемке так же говорил об участии в заговоре генерала Крымова.
***
Отметим, что прозвучало на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 2000 г. в докладе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых:
«… В качестве внешних факторов, которые имели место в политической жизни России и привели к подписанию Акта об отречении, следует выделить прежде всего … настоятельное требование Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко отречения Императора Николая II от власти во имя предотвращения внутриполитического хаоса в условиях ведения Россией широкомасштабной войны, почти единодушную поддержку, оказанную высшими представителями российского генералитета, требованию Председателя Государственной Думы.»
То есть, Церковь знает виновников свержения Царя.
О связях Гучкова с офицерами писал Милюков:
Говорилось в частном порядке, что судьба Императора и императрицы остается при этом нерешенной — вплоть до вмешательства «лейб-гвардейцев», как это было в 18 в.; что у Гучкова есть связи с офицерами гвардейских полков, расквартированных в столице и т.д. Мы ушли, в полной уверенности, что переворот состоится».
Генерал М.К. Дитерикс, будущий начальник штаба чехословацкого корпуса, в своей книге «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» подтверждает роль высшего офицерства Русской императорской Армии в перевороте:
«Участие высшего генералитета армии, руководителей и авторитетов офицерства почти в первых рядах Февральской революции, в отречении Царя от престола, в политическом развале армии и страны керенщиной сильно расшатало единство мыслей, чувств и мировоззрений этой сильной и относительно единодушной в былое время организованной корпорации.»
Дитерихс, дойдя с чехословаками до Владивостока, поддержал Колчака, «Верховного правителя России», офицера британской короны.
Послушаем и Колчака.
Писатель-монархист П.Мультатули пишет о том, что, по воспоминаниям генерала Спиридовича, известного убийством Григория Распутина графа Юсупова и других, Колчак поддерживал заговор против Царя Николая II, обещая лояльность Черноморского Флота в случае переворота.
Первый визит по прибытии в Петроград сразу после Февральской революции он нанёс Плеханову, которому слово:
«Сегодня... был у меня Колчак. Он мне очень понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике он, видимо, совсем неповинен. Прямо в смущение привел меня своей развязной беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит: – Счел долгом представиться Вам, как старейшему представителю партии социалистов-революционеров.»
Он ошибся, Плеханов был социал-демократ, но и эсеры не были монархистами.
Его высказывание, по которому очевидно его отношению к Самодержавию:
«Я принял присягу первому нашему Временному Правительству. Присягу я принял по совести, считая это Правительство как единственное Правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то Правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти». А до этого присягал Царю.
Последний военный министр Временного правительства генерал А. И. Верховский писал в своих мемуарах:
"Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе."И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, "это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинута нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору... Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских) кругов". А в Феврале и"партия эсеров мобилизовала сотни своих членов - матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака... Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции".
И, наконец, еще один родственник Николая II.
Великий князь Кирилл Владимирович (потомки которого недавно с визитом были в Крыму-с) с красным бантом на груди привёл Гвардейский экипаж в распоряжение Государственной Думы еще
Источник
|
Метки: февраль российская императорская армия оболенские |
Улица Богдановича в Ярославле |

Кировский район
Улица Богдановича
«Белорусский поэт Максим Богданович и Ярославль»
Путешествие с Библиогидом
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на улице Богдановича.
Улица Богдановича названа в августе 1984 года в честь Максима Адамовича Богдановича (1891-1917) – белорусского поэта. Он окончил в Ярославле мужскую гимназию (1908-1911) и Демидовский юридический лицей (1911-1916). Бывшая Большая Даниловская (в честь города Данилов Ярославской области). Максим Богданович жил на этой улице. К сожалению, дом не сохранился.
Дом на улице Чайковского (бывшая Любимская улица) был построен в 1908 году титулярным советником В. Н. Ржевским. Дом одноэтажный, деревянный, с наличниками в стиле модерн – типологическая городская постройка. Дом был частью небольшой городской усадьбы.
Я вспоминаю дом старинный,
На тихой улице фасад,
И небольшой уютный сад,
И двор просторный и пустынный
Необычна его история. В 70-80-е годы 20 века по старинным улицам Ярославля с деревянными постройками прокатилась волна сносов. Преобразованиям подверглась и улица Чайковского. Неожиданно для властей, местная общественность при активной поддержке белорусских музейщиков, резко выступила против этого планового разрушения. Историки и поклонники поэта требовали сохранить в неприкосновенности и домик, в котором некогда жил поэт, и соседние строения, чтобы сохранить мемориальную среду.
С 1912 по 1914 гг. в доме жил Максим Богданович и его отец - известный ученый Адам Егорович Богданович. В этом доме поэт подготовил к изданию единственный прижизненный сборник стихов «Вянок», который принес Максиму Богдановичу славу поэта. Это единственный сохранившийся до наших дней дом, который снимала семья Богдановичей в Ярославле. Город стал для поэта второй Родиной, здесь он прожил 8 лет своей жизни.Экспозиция мемориального дома-музея М. Богдановича состоит из 3 залов.В 1995 г. Музей получил статус Центра Белорусской культуры.
Прапрадед Максима по отцовской линии крепостной Степан был первым в роду, кто стал носить фамилию Богданович, по его отчиму Никифору Богдановичу, как вошедший в состав его «двора» податной единицей. Мать Максима Мария Афанасьевна, по отцу Мякота, по матери, Татьяне Осиповне, — Малевич. Татьяна Осиповна была поповной.Ада́мЕго́ровичБогдано́вич (20марта (1апреля), подругимданным25марта (6апреля), 1862года,— белорусскийэтнограф, фольклорист, мемуарист, историккультуры.На момент свадьбы Адаму Богдановичу было 26, а Марии — 19 лет. Он вспоминал о супружестве как об одном из счастливейших периодов своей жизни.
Родословная
Родился Максим Богданович в 1891 году, 9 декабря в Минске, в семье педагогов. Жили они тогда на Александровской улице (теперь улица Максима Богдановича). Раннее детство поэта прошло в Гродно, куда через восемь месяцев после рождения Максима переехали его родители. Наряду со службой, научной и общественно-политической деятельностью, глава семейства Адам Егорович много внимания уделял своим детям, а их было трое: Вадим, Максим и Лёва.
Изучая родословную можно обнаружить родственные связи с Максимом Горьким. Жена Максима Горького Екатерина Пешкова приходилась своячницей Адаму Богдановичу.
Частично восстановлены фрагменты комнаты Максима-Книжника с мемориальными настенными часами, книжным шкафом, а также почитаемыми в семье реликвиями – иконой Казанской Божьей матери и гелиогравюрой «Сикстинская мадонна» (подарок Максима Горького). Второй зал посвящен владельцам дома – семье Ржевских. Третий зал повествует о Ярославском периоде жизни поэта. В холле музея представлен материал об исторических связях Ярославской области и регионов Белоруссии. В настоящее время на базе музея собрана одна из наиболее полных в Российских регионах библиотек публикаций поэта и библиографической литературы о нем, а также библиотека белорусской литературы. Сотрудниками музея разработан большой методический материал по популяризации творчества М.Богдановича среди россиян, не владеющих белорусским языком.
Максим Богданович печатался в газете «Голос» под разными псевдонимами – Rion, М.Б., М. Б-вич, Максим Книжник, Максим Криница, Эхо и др.
«Голос» — либеральнаягазета, выходившая в Ярославле с 19 февраля (4 марта) 1909 года до ноября 1917 года. Издателями газеты до 1912 года были активные члены Конституционно-демократической партии книгоиздатель депутат Государственной думы К. Ф. Некрасов и Н. П. Дружинин, впоследствии её редактор; затем «товарищество сотрудников».
Константин Федорович Некрасов (1873-1940) – известный политический деятель и издатель начала ХХ века, племянник поэта Н.А. Некрасова.Дружинин Николай Петрович (6.12.1858 г., деревня Маклаково Никольская волость Угличского уезда – 1941 г., г. Ленинград), журналист, издатель и общественный деятель.Отец его был мещанином города Углича, мать происходила из крепостных графа Шереметьева.
В феврале 1917 года друзья поэта собрали деньги, чтобы он мог ехать в Крым лечиться от туберкулёза. Но лечение не помогло. Умер Максим Богданович на рассвете 13 (25) мая 1917 года в возрасте 25 лет (горлом пошла кровь). Заупокойная служба прошла в ялтинском соборе Александра Невского. Похоронили на новом городском кладбище Ялты.
"Ярославская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –«Инвалиды войны»" зарегистрирована 25 ноября 2002 года по адресу 150054, г Ярославль, ул Богдановича, д 22. Компанию возглавляет Фролов Игорь Николаевич. Сфера деятельности –«Благотворительные организации».
Общеизвестно, что радио - патриарх связи, живительный источник, несущий людям волны информации, музыки, знаний, практических советов и так далее. Днем рождения радио по праву считается 7-е мая 1895-го года, когда в Петербургском университете выдающийся физик, электротехник Александр Степанович Попов публично продемонстрировал изобретенный им радиоприемник.
История Ярославского областного радио, конечно, менее продолжительная, но все же самая большая по сравнению со всеми работающими в регионе электронными средствами массовой информации. Так как же все начиналось 1919 год. В Ярославле оборудована первая приемо-передающая радиостанция для служебного пользования почтово-телеграфной конторы. Спустя некоторое время энтузиасты Ярославской телефонной станции смонтировали радиоузел, который начал транслировать регулярные передачи, где звучали тексты декретов революционного правительства, программ Ленина, сообщения о важнейших событиях в жизни республики. В 1928-м году началась реконструкция радиоузла и к осени 1929-го, как говорится в отчете о работе Ярославского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, «аппаратная трансляционного узла укомплектована дополнительным оборудованием, в смежной с ней комнате организована радиостудия для проведения местных передач». Таким образом, именно осенью 1929 года началась биография Ярославского радио. Долгие годы редакция располагалась в помещении Главпочтамта на площади Подбельского (ныне Богоявленской), а в 1969-м — переехала в выстроенный Дом радио на Богдановича, 20, где находится и сейчас.В этом году Ярославское областное радио отмечает своё 86-летие.
Полное название организации: «Институт развития образования ИРО» вид услуг: Повышение квалификации, переподготовка.
Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования» (ИРО) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения функции предоставления государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов информационного и научно-методического обеспечения системы образования Ярославской области.
Миссия ИРО — быть ведущей организацией системы повышения квалификации работников образования в Ярославской области.
На здании Института развития образования висит мемориальная доска Селевко Герману Константиновичу. Торжественное открытие — 2 апреля 2013. Академик МАНПО, профессор, кандидат педагогических наук. МАНПО — Международная академия наук педагогического образования.
Герман Константинович Селевко — заслуженный работник высшей школы, академик Международной академии педагогических наук, профессор, автор технологии саморазвивающего обучения. Главным делом жизни Г. К. Селевко является «Энциклопедия образовательных технологий», вышедшая в двух томах в 2006 году в издательстве «Народное образование».
Это уникальное учебное и справочное пособие для учителей, студентов педагогических вузов, институтов системы дополнительного профессионального образования, руководителей, методистов и других работников образования содержит достаточно полное описание около 500 образовательных технологий и будет незаменимым по различным курсам «Педагогических технологий».
26 июля 1989 года был образован Ярославский таможенный пост, который принадлежал Московской Центральной таможне. Первым ярославским таможенником считался Павел Васильевич Киселев, который его и возглавил. 9 октября 1990 года была создана таможня в Ярославле. К ней были прикреплены Костромской и Ивановский посты. Целями таможни на данный момент считается совершенствование таможенного администрирования, обеспечение экономической безопасности, защита рынка и производителей товаров, повышение конкуренции производителей на уровень мирового рынка, развитие внешнеэкономической деятельности.
Василий Васильевич Никандров был заслуженным строителем. Сначала возглавлял трест «Спецстроймеханизация», а потом долгие годы руководил «Облмежколхозстроем» и построил половину Ярославской области.
Никандров Василий Васильевич — председатель совета Ярославского областного объединения межколхозных строительных организаций В. В. Никандров получил почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» 16.03.1983 62. Мемориальная доска Никандрову Василию Васильевичу установлена на стене дома № 8 по улице Богдановича.
Наша экскурсия по одной из центральных улиц Ярославля подошла к концу. Имя улице дал талантливый белорусский поэт Максим Богданович, судьба которого была тесно связана с нашим городом, прославили эту улицу лучшие люди Ярославля, внесшие свой огромный вклад в его историю, а учреждения, расположенные здесь являются важнейшими социальными и культурными объектами города.
Спасибо за внимание!
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля». Все права защищены © 2015
http://cdb-yaroslavl.ru/external/litmap/kirovsky_bogdanovicha.html
|
Метки: пешковы богданович |
Трубецкая, Надежда Борисовна |
Трубецкая, Надежда Борисовна
Святополк-Четвертинская Дата рождения:
20 октября 18121812-10-20
Дата смерти:
23 февраля 19091909-02-23 96 лет
Место смерти:
- Москва, Российская империя
Страна:
- Российская империя
Отец:
Борис Антонович Четвертинский
Мать:
Надежда Фёдоровна Гагарина
Супруг:
Алексей Иванович Трубецкой
Дети:
сын и две дочери
Награды и премии:
Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая урождённая княжна Святополк-Четвертинская; 20 октября 1812—23 февраля 1909 — фрейлина, статс-дама, благотворительница Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины
Содержание
- 1 Биография
- 2 Благотворительная деятельность
- 3 Брак и дети
- 4 Примечания
- 41 Комментарии
- 5 Ссылки
Биография
Княжна Надежда Борисовна родилась в многочисленной семье участника Наполеоновских войн князя Бориса Антоновича Четвертинского и Надежды Фёдоровны Гагариной Её родственники были близки к императорской семье: её тётка, Мария Антоновна, долгое время была фавориткой императора Александра I, а другая, Жанетта Антоновна, едва не стала морганатической супругой великого князя Константина Павловича
Много времени семья Четвертинских проводили в имении Филимонки, где собирались их многочисленные родственники Часто в имении гостили сёстры Надежды Фёдоровны, Вера Вяземская и Софья Ладомирская, вместе с детьми П А Вяземский писал 1 июня 1824 года: «Сегодня ездил я из Остафьева с Машенькою и Пашенькою обедать к Четвертинским и от них отправился в Москву, а дети ещё остались там» Благодаря родителям и родственникам, Надежда Борисовна с детства вращалась в самом изысканном обществе 4 января 1831 года Четвертинские посетили Остафьево, о чём известно из письма П А Вяземского к А Я Булгакову: «У нас был уголок Москвы; был Денис Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муханов, Четвертинские; к вечеру съехались соседки, запиликала скрипка и пошёл бал балом»
Надежда Борисовна получила блестящее домашнее образование, а позднее прослушала университетский курс Была принята к двору фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны В 1834 году Надежда Борисовна стала женой князя Алексея Ивановича Трубецкого 1806—1855, впоследствии виленского вице-губернатора, камергера, действительного статского советника Фрейлина А С Шереметева писала в апреле 1834 года:
| Видела княгиню Трубецкую, урожденную Четвертинскую, и её мужа Я нахожу, что он очень неуклюж; мне было очень жалко их видеть вместе; он так не подходит к дому! Она представлялась императрице, которая нашла, что она особенно мила |
Дом Трубецких в Знаменском переулке стал одним из культурный центров Москвы, блестящим литературным салоном Княгиня Трубецкая «вела знакомство с лучшими людьми своего времени У поэта князя П А Вяземского, который был ей родня, она познакомилась с Пушкиным, Жуковским и Гоголем» Позднее Трубецкая рассказывала правнуку о танцах с Пушкиным и его визитах в дом Четвертинских
Последние годы Надежды Трубецкой были омрачены трагедией Её сын Алексей растратил казённые деньги, спасая его от самоубийства, княгиня была вынуждена продать всю свою недвижимость, в том числе и дом в Знаменском переулке Расстроенные благотворительностью денежные дела Трубецких привели к тому, что Надежда Борисовна осталась без средств к существованию За заслуги ей назначили пенсию из средств организованного ею Братолюбивого общества и предоставили арендованную квартиру в бывшем её собственном доме, купленном С И Щукиным
Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая скончалась 23 февраля 1909 года
Благотворительная деятельность
По словам Б Чичерина, княгиня Трубецкая была «женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности, стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением»
С 1842 года Надежда Борисовна входила в Совет детских приютов, а в 1844 году с помощью С Д Нечаева она организовала Ольгинский приют После смерти в 1855 году супруга княгиня Трубецкая посвящала благотворительности всё своё время
Зимой 1859/1860 годов жильё части бедняков оказалось под угрозой затопления Княгиня Трубецкая с сестрой, матерью и ещё несколькими аристократками наняли дом у Калужских ворот, куда переселили этих жильцов В следующем году при активном участии Надежды Борисовны было организовано Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами, где можно было получить квартиру или пособие на аренду жилья Под председательством княгини к началу XX века общество обладало 3 миллионным капиталом и 40 благотворительными учреждениями Патроном общества стала императрица Мария Фёдоровна, а почётным председателем — великая княгиня Елизавета Фёдоровна
В 1865 году Трубецкая становится попечительницей Арбатского отделения Дамского попечительства о бедных В августе того же года при участии инженера Христиана Христиановича Мейена и предпринимателя Петра Ионовича Губонина комитетом была открыта небольшая ремесленная школа для мальчиков, в которой детей обучали портняжному, сапожному и переплетному делу 17 апреля 1866 года школа стала именоваться Комиссаровской ремесленной школой в честь шапочного мастера О И Комисарова, спасшего императора Александра II при покушении на него Д В Каракозова
В 1869 году по предложению Надежды Трубецкой был создан Дамский комитет Московского отделения Российского общества попечения о раненых и больных воинах, позднее общество было переименовано в Российское общество Красного Креста
В 1877 году с началом русско-турецкой войны Трубецкая организовала санитарный поезд и сама в качестве сестры милосердия в возрасте 65 лет отправилась на фронт
В 1879 году Надежда Борисовна организовала материальную помощь городу Оренбургу, пострадавшему от страшного пожара, лично отвозила в город предметы первой необходимости
В последние годы княгиня Трубецкая была членом Попечительного совета созданного ею в Хамовниках Ксеньинского детского приюта, получившего имя в честь великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II
За свою деятельность Надежда Борисовна была удостоена ордена Святой Екатерины малого креста
Брак и дети
18 февраля 1834 года Надежда Борисовна вышла замуж за князя Алексея Ивановича Трубецкого, представителя второй ветви рода Трубецких, сына князя Ивана Николаевича 1760—1843 и его жены Натальи Сергеевны 1775—1852, урождённой княжны Мещерской В браке родились:
- Наталья Алексеевна 1834 — 1918 — супруга князя Николая Ивановича Шаховского 1823—1890; их внучка писательница Зинаида Шаховская
- Алексей Алексеевич 1847—741914 — с 1681876 года женат на Наталье Дмитриевне Всеволожской 1856—1913;
- Надежда Алексеевна
Примечания
- ↑ 1 2 3 Черейский ЛА Святополк-Четвертинская Надежда Борисовна//Пушкин и его окружение Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- ↑ 1 2 3 4 5 Молева НМ Надежда Трубецкая // Москва - столица — М: Олма-Пресс, 2003 — С 402-403 — 670 с — ISBN 5-224-0-1274-7
- ↑ Архив села Михайловского Т2 Вып 1—СПб, 1902—С 42
- ↑ Старк ВП Дон-Жуанский список Пушкина // Наталья Гончарова
- ↑ Б Н Чичерин Воспоминания Т 1—4 — М: М и С Сабашниковы, 1929—1934 — Т 2 — С104
- ↑ Дом на Маяковке Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- ↑ Трубецкие князья Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
Комментарии
- ↑ Это позволило ВП Старку в своей книге «Наталья Гончарова» отнести имя Надежда в донжуанском списке Пушкина насчёт княжны Четвертинской
Ссылки
- Елена Лебедева С верою, любовью и состраданием Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- Трубецкая, Надежда Борисовна на «Родоводе» Дерево предков и потомков
Трубецкая, Надежда Борисовна Информацию О

https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%A2%D1%80%D1...D0%B2%D0%BD%D0%B0-1140808.html
|
Метки: трубецкие |
Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности |
Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности
Я была очень удивлена (это еще мягко сказано), узнав, кого изображает этот портрет романтически выглядящего красивого молодого человека на полотне Ореста Кипренского. Мы видим здесь одетого по моде начала XIX века чернокудрявого, темноглазого светского мужчину, небрежно облокотившегося о стол, покрытый красивой скатертью, куда брошены его цилиндр и перчатки. Сам он с легкой улыбкой смотрит вдаль, весьма внимательно и вдумчиво притом.
Если бы мне сказали, что это образ Евгения Онегина, я бы подумала, что он очень точно совпадает с моими представлениями о внешности этого персонажа.
О.Кипренский. Портрет С.С. Уварова
Но это никакой не Онегин, конечно, а совершенно реальный человек, сыгравший очень существенную роль в истории России - граф Сергей Семенович Уваров (1786-1855).
Свой жизненный путь он начинал действительно в романтическом ключе, и именно этот период его жизни и схватил Кипренский.
Уваров, воспитанный известным царедворцем и дипломатом князем Куракиным, был сразу же определен в коллегию иностранных дел и начал свою карьеру в Вене и потом в Париже. Там он увлекся античной культурой и даже опубликовал ряд работ на эту тему. Его эстетические изыскания привлекли внимание тогдашних европейских властителем дум, включая Гёте.
Прибыв в Россию, он стал вращаться в литературном кругу и вошел в известный кружок "Арзамас", членом которого был и А.С. Пушкин. Там всем участникам давали прозвища, и Уварова прозвали Старушкой. Почему? Не знаю. Пушкин там был, кстати, Сверчком.
В.А. Голике Портрет С.С. Уварова
Карьера Уварова меж тем шла в гору. Он вошел в состав Академии наук, и в 1818 году возглавил ее. Ему тогда было всего 32 года. Ходил слух, что должность ему досталась благодаря любовной связи с Дондуковым-Корсаковым, имевшим нетрадиционные наклонности.
На портрете Голике (выше) перед нами уже чиновник, а не романтический юноша. Деловой сюртук, ордена, тщательно причесанная голова... Примерно также выглядит Уваров и на портрете ниже. И ракурс тот же, никакой оригинальности! И шуба с плеч падает. Правда, фон более определенный - елка.
Художника не знаю. Но это точно Уваров.
Звездный час Уварова наступил в 30-е годы. Он был назначен министром просвещения. Россия в то время была в шоке от недавнего восстания декабристов, и властям требовалась четко и ясно выраженная идеология, которая бы скрепила государство.
Граф Уваров прямо с ходу выдал требуемое, буквально в трех словах сформулировав эту скрепу: Православие, Самодержавие, Народность. Ни дать, ни взять - пришел, увидел, победил. Победительный министр изображен на портрете Каневского фронтально. Никаких полуоборотов, никакого романтизма. Перед нами государственный чиновник.
Я.К Каневский Портрет Уварова
На рабочем посту Уваров каждый день неустанно думал о народе и его просвещении (без этого ему бутерброд не лез в рот). Исходя из своей же доктрины, он был уверен, что народ обожает царя и неистово религиозен. Самобытность русских такова, что никакого внешнего влияния не терпит. Сам будучи европейски воспитанным человеком, Уваров для народа меж тем предполагал исключительно опору на собственные традиции. Он считал, что его первейший долг - делать все, чтобы зловредные западные веяния типа идей свободы, равенства, получения равного и доступного каждому образования и прочий либерализм ни в коей мере не коснулись безмятежно спящего народного сознания.
При этом именно Уваров создал четкую структуру образовательных учреждений в России, развивал гимназии и университеты. Но туда принимали не всех, а по сословному критерию. Однако, поступив, человек получал хорошее образование. Никакой самостоятельности учебным заведениям не давалось, все было подконтрольно государству.
Уваровская тенденция в просвещении сохранилась в России до сих пор.
Как о личности, об С.С. Уварове остались противоречивые воспоминания. Многие его поступки с точки зрения морали носили мутный характер. Он внаглую использовал государственное имущество как личное, например, спекулировал казенными дровами. В надежде получить наследство, приказал опечатать имущество своего родственника Шереметева, когда тот был еще жив, но болен. Шереметев, кстати, тогда выздоровел, что вызвало злорадство Пушкина, не преминувшего написать по этому поводу эпиграмму. И т.д. и т.п.
Вот таким был человек, определивший государственную идеологию Российской империи.https://zen.yandex.ru/media/lichop/kak-vygliadel-c...nosti-5c83669a027d8900b470fdb6
|
Метки: уваровы |
Молодой любовник революции |
|
|
9 мартаСуббота
Молодой любовник революции
8 ноября 1929 года (по некоторым данным, именно в этот день) был расстрелян Яков Блюмкин, один из самых ярких персонажей русской революции

Кадр из телефильма "Личный враг Сталина. Яков Блюмкин" // Телеканал "Россия"



Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения...» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша?
При всём многообразии политических взглядов в нашем обществе, в нём сегодня немного сторонников революционных потрясений. Возможно, именно в этом — единственное достижение нашего общественного сознания, которое в остальном вообще-то не сильно продвинулось вперёд за все советские и постсоветские годы. Революция, конечно, отвратительна и, если можно рассматривать её как одну из форм власти, вполне заслуживает известного мандельштамовского сравнения. Пресловутая романтика, которую она будто бы с собой несёт, увы, уже не «катит» в нынешнее прагматичное время гипермаркетов и бизнес-центров.

Махно — страстный романтик революции в её чистом виде, буквально воспринявший лозунг «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим», взявшийся воплотить — и воплотивший — его в жизнь.

И всё же нельзя хотя бы отчасти не согласиться с вождём мирового пролетариата, назвавшим революцию «делом весёлым». Во всяком случае, именно в это время с максимальной интенсивностью являются на свет самые незаурядные, яркие личности, оживляющие потом академические учебники истории. В иное время такие люди, скорее всего, похоронили бы свои таланты где-нибудь в пыльной тиши канцелярий и бухгалтерий.
Человек богемы
Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения…» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша? Человек, родившийся то ли в Одессе, то ли во Львове, то ли в каком-то местечке Черниговской области, не имеющий точных дат рождения и смерти, отчества (в разных документах — Григорьевич, Семёнович, Моисеевич, Наумович) и даже внешности (описания её у всех, знавших Блюмкина, охватывают чуть ли не все физические типы человека. Например: «мордатый… ражий и рыжий» — Ирина Одоевцева, «низкорослый, но ладно скроенный» — Надежда Мандельштам, «довольно высокий и рано оплывший» — Лиля Брик, «его... высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина» — Виктор Серж), — такой человек сегодня казался бы подозрительным и опасным. Однако для весёлого революционного времени это было в самый раз! К тому же такая внешность — просто профессиональная необходимость для того рода деятельности, которому он себя посвятил.
А вот любовь к изящным искусствам и к миру богемы, сопровождавшая Блюмкина всю его недолгую, но бурную жизнь, не говоря уже о его тщеславии, вроде бы несвойственна «рыцарям плаща и кинжала». Он писал стихи — увы, не дошедшие до нас, но, наверное, не совсем бездарные, раз их печатали даже солидные «Одесский листок» и «Гудок», дружил с Есениным, Маяковским, Мариенгофом, Мандельштамом... Впрочем, разносторонность интересов — тоже признак незаурядной личности.
Подлец несомненный! Но талантливый!
Многочисленные Яшины таланты начали проявляться рано, и некоторые из них были бы очень востребованы и сегодня. Например, ещё в 1914-м, работая конторщиком, он наладил производство фальшивых освобождений от армейского призыва и успешно ими приторговывал. Попавшись, он заявил, что занимался этим по распоряжению хозяина, а когда тот, возмутившись, подал на него в суд, Блюмкин дело неожиданно выиграл. Впоследствии оказалось, что Яша послал судье, славившемуся своей неподкупностью, презент с вложенной визиткой хозяина. Опозоренный таким образом хозяин конторы вынужден был признать: «Подлец несомненный! Но талантливый!»
Многодетная Яшина семья представляла почти весь политический спектр левых течений: брат был анархистом, сестра — социал-демократкой, он сам — эсером. Блюмкинские таланты были замечены и оценены его однопартийцами — в 20 лет он уже начальник германского отдела ВЧК (левые эсеры тогда ещё входили в большевистское правительство). Стоит ли удивляться, что убийство германского посла Мирбаха — едва ли не самый загадочный из эсеровских терактов, мотивация и цели которого выглядят очень противоречивыми, а всё, что за ним стояло, и сегодня ещё по большей части неизвестно — одновременно является и едва ли не единственным бесспорным фактом биографии Блюмкина. Однако по странному стечению обстоятельств именно этот теракт, совершённый левым эсером Блюмкиным, позволил большевикам избавиться от его однопартийцев в правительстве и единолично захватить власть...
Сбежав после покушения от «праведного гнева» (распоряжение Ленина по поводу скрывающегося Блюмкина: «Тщательно искать, но не найти») то ли в Рыбинск, то ли в Киев, то ли в Петроград, под фамилией то ли Вишневский, то ли Владимиров, Яша то ли готовит покушение на гетмана Скоропадского, то ли допрашивает учёного Барченко по поводу его опытов в области парапсихологии. Впрочем, одно не исключает другого и оба они — третьего, тем более для такой незаурядной личности.
Блюмкин и Рерих
Его биография почти вся состоит из таких вот «то ли» — артистическая натура, что вы хотите! Он сбегал из английского плена в Индии, от петлюровцев и от своих бывших однопартийцев, приговоривших его к смерти за переход к большевикам и организовавших на Блюмкина девять покушений, что само по себе в совокупности кажется невероятным. Вроде бы закончил Академию Генерального штаба и стал, как сейчас говорят, арабистом, хотя, изучая его биографию, непонятно, когда успел, — в тот же период он появляется на деникинском фронте в должности начальника штаба, затем комбрига и тогда же устанавливает советскую власть в Персии...
Пару лет назад среди историков разгорелся нешуточный спор по поводу участия Блюмкина с секретной миссией в гималайской экспедиции Николая Рериха под видом буддийского монаха. Искрой, из которой разгорелось пламя, послужила книга писателя Олега Шишкина «Битва за Гималаи», в которой автор приводит многочисленные ссылки на архивные документы. За ожесточением оппонентов Шишкина (главным из которых выступал музей Рериха в Москве) на самом деле скрывался рояль в кустах: сам Блюмкин и его участие или неучастие в экспедиции, естественно, никого не интересовали, но признание данного факта косвенно подтверждало бы версию о тайном сотрудничестве Н. Рериха с ГПУ, стремившимся к распространению своего влияния на Востоке. Эхо этой битвы слышится порой ещё и сейчас, а тогда дело дошло до суда...
Блюмкин и Троцкий
Было бы нелогично, если бы две самые яркие личности русской революции не встретились. Блюмкина, слава которого тогда уже прошла по всей Руси великой, в конце концов заметил и оценил Троцкий. Восхищение было взаимным. «Революция предпочитает молодых любовников», — напишет нарвоенком чуть позже о своём новом сотруднике и друге. Функции, выполнявшиеся Яшей при Троцком, были, как и всё в его жизни, столь же разнообразны, сколь и туманны и простирались от личной охраны до редактирования фундаментального труда шефа «Как вооружалась революция».

«Чтобы выиграть гражданскую войну, мы ограбили Россию», — откровенно писал Троцкий. Ограбленная Россия не называла его иначе как «великим и любимым вождём» наряду с Лениным. Феномен ли это, и, если феномен, присущ ли он только русскому народу или является общим психологическим законом вроде «бьёт — значит любит»? Это вопрос к психологам...

Афганистан, Индия, Палестина, Монголия, Китай, Египет, Турция... Буддийский монах, монгольский лама, иранский торговец антиквариатом, владелец прачечной в Палестине... Блюмкин многолик, как Шива, и вездесущ, как Фигаро. С последним, впрочем, его роднят и многие черты характера, хотя его «проделки» не столь безобидны, как у героя Бомарше. Яша вербует резидентов, плетёт шпионские сети, свергает правителей и вместо них приводит к власти «кого надо», инструктирует коммунистических лидеров, подавляет контрреволюционные мятежи...
Такая жизнь по определению не могла быть длинной. И, как часто бывает с подобными людьми, пройдя огонь и воду, английский и петлюровский плены, многочисленные аресты и девять покушений на свою жизнь, он сгорел, в общем-то, на пустяке. Блюмкин, мотаясь по заграницам и отлично ориентируясь в политической обстановке всех ближневосточных стран, в то же время плохо представлял себе расстановку сил в руководстве собственной партии. Конец 1920-х в СССР — время борьбы за власть между Сталиным и Троцким. На чьей стороне были Яшины симпатии в этой борьбе, объяснять, конечно, не надо. Свержение и высылка Троцкого были для него полной неожиданностью.
Где и когда они встречались — точно неизвестно, как и большинство фактов в биографии Блюмкина. Возможно, в начале 1929-го в Константинополе, куда его бывший шеф прибыл сразу после высылки. Кто знает, о чём они говорили и какие планы строили. Не исключено, что большой Яшин опыт по свержению и установлению режимов сыграл с ним злую шутку и он уверовал в своё всесилие на этой ниве. И дальше — впервые в его жизни — всё пошло, увы, по стандарту: донос любовницы, арест, расстрел.
«Эх, испортил песню, дурак!..»
http://www.chaskor.ru/article/molodoj_lyubovnik_revolyutsii_20812
|
Метки: яков блюмкин |
Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко |
Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко
После Октябрьской революции главным проводником идей Сент-Ива де Альвейдра в России выступил ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко. Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в городе Елец (Орловская губерния) в семье нотариуса окружного суда. Предметом его увлечений с ранней юности стали оккультизм, астрология, хиромантия.
В те далекие времена граница между оккультизмом и естественно-научными дисциплинами была еще в достаточной степени размыта, поэтому для углубления своих знаний Александр решил заняться медициной, отдавая предпочтение изучению паранормальных человеческих способностей - феноменам телепатии и гипноза.
В 1904 году Барченко поступает на медицинский факультет Казанского университета, а в 1905 году - переводится в Юрьевский университет.
Особую роль в дальнейшей судьбе Барченко сыграло знакомство с профессором римского права Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета. Профессор Кривцов рассказал новому другу о своих встречах в Париже с известным мистиком Сент-Ивом де Альвейдром. Сам Барченко впоследствии поведает об этом следователю НКВД в таких словах:
… «Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и постепенно ушел в мистику. Увлечение мистикой доходило до того, что в 1909-1911 годах, начитавшись пособий, я занимался хиромантией - гадал по рукам».
Под воздействием откровений Кривцова и им же «благословленный» Барченко приступает к изучению паранормальных способностей человека.

Очерк Александра Барченко «Передача мыслей на расстояние»
Но перед тем ему довелось немало постранствовать по свету. В качестве «туриста, рабочего и матроса» Барченко объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей». Одной из таких стран была Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых европейцев.
С 1911 года Александр начинает публиковать результаты своих изысканий, время от времени (а тогда в среде ученых это было принято) перемежая чисто теоретические статьи художественными произведениями на сходную тему.

Его рассказы появляются на страницах таких уважаемых журналов, как «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». Интересно, что именно беллетристика была для Барченко основным средством существования в те годы.
Александр Барченко (1922 год)
Круг интересов Барченко был необычайно широк и охватывал все стороны естествознания как совокупности наук о природе. Есть, однако, одна тема, которой молодой естествоиспытатель уделял особое внимание, - это разнообразные виды «лучистой энергии», оказывающие влияние на жизнь человека.
Свое понимание «энергетической проблемы» Барченко изложил в очерке «Душа Природы», опубликованном в 1911 году. Начинался он с рассказа о роли солнечного светила - источника жизни на Земле, а возможно, также и на других планетах, например, на Марсе. Далее Барченко сообщал своим читателям о присутствии растительности на Красной планете, о выпадении и таянии там снегов и, конечно же, о загадочных марсианских каналах. Всё это позволяло ему высказать предположение, что на Марсе обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие».
Столь же уверенно говорил он и о существовании эфира - «тончайшей, наполняющей вселенную среде». В то же время процессы, идущие в недрах Солнца - «этой ослепительной Душе природы, - чудовищные взрывы и вихри, тотчас отражаются на электромагнитном состоянии земли. Стрелки магнитных приборов мечутся, как безумные, вспыхивают северные сияния Доходит до того, что телеграфы отказываются работать и трамваи двигаться Кто знает, - восклицает далее Барченко, - не установит ли когда-нибудь наука связи между такими колебаниями (напряжения солнечной деятельности) и крупными событиями общественной жизни?» Фактически молодой энтузиаст предугадал скорое пришествие гелиобиологии.
В статье Барченко рассматривались и другие виды «лучистой энергии»: свет, звук, теплота, электричество. Немалое место в статье отводилось и рассказу об открытых французом Блондло «N-лучах» как особой разновидности психофизической энергии, излучаемой человеческим мозгом. Исследования французских ученых Шарпантье и Андрэ показали, что практически любая мозговая деятельность человека сопровождается обильным излучением.
Загадочные «мозговые лучи» интересовали науку прежде всего потому, что они, как считалось, имеют непосредственное отношение к проблеме передачи мысли на расстояние. Хорошо знакомый с работами на эту тему, Барченко поставил собственные эксперименты, несколько усовершенствовав «способ исследования».
Методика экспериментов была следующая: два наголо обритых добровольца надевали на голову алюминиевые шлемы оригинальной конструкции, разработанной самим Барченко. Шлемы участников опыта соединялись медной проволокой.
Перед испытуемыми устанавливались два овальных матовых экрана, на которых им предлагалось сосредоточиться. Один из участников был «передающим», другой - «принимающим». В качестве теста предлагались слова или изображения. По сообщению Барченко, в случае с изображениями положительный результат угадывания был близок к 100 процентам, а в случае со словами фиксировалось много ошибок. Частота ошибок увеличивалась, если использовались слова с шипящими или глухими буквами.
Доложив о результатах, Барченко, однако, дал читателю понять, что было бы неверным считать N-лучи «исключительным двигателем мысли» - «смотреть на "N", как на самые мысли, нельзя, но нельзя также отрицать их тесной связи с последними».
В конце статьи, размышляя над важностью открытий в области «лучистой энергии», Барченко неожиданно возвращается к вдохновлявшей его идее о том, что древнему миру, возможно, были известны многие тайны природы, еще не познанные современным человеком.
«Существует предание, - пишет он, - что человечество уже переживало сотни тысяч лет назад степень культуры не ниже нашей. Остатки этой культуры передаются из поколения в поколение тайными обществами. Алхимия - химия угасшей культуры».
Позже появляются и другие очерки Александра Барченко, озаглавленные еще более красноречиво: «Загадки жизни», «Передача мысли на расстоянии», «Опыты с мозговыми лучами», «Гипноз животных» и так далее. Параллельно Барченко публикует и два мистических романа, связанных общей сюжетной канвой: «Доктор Черный» и «Из мрака». Оба эти произведения изобиловали автобиографическими реминисценциями и по сути отражали теософско-буддийское мировоззрение.
Изыскания молодого естествоиспытателя были прерваны Первой мировой войной. Однако после ранения и демобилизации в 1915 году он продолжил работу. Теперь Барченко собирал материалы, штудировал первоисточники, по которым впоследствии составил законченный курс «История древнейшего естествознания», послуживший основой для его многочисленных лекций на частных курсах преподавателей в Физическом институте Соляного городка в Санкт-Петербурге. Революционная буря вырвала Барченко из привычного круга забот, перевернула всю его жизнь.
Первый шок от октябрьских событий, испытанный Александром Васильевичем, однако, вскоре прошел, и он начал рассматривать революцию в более позитивном свете - как «некоторую возможность для осуществления христианских идеалов» в противоположность «идеалам классовой борьбы и диктатуры пролетариата». Эту свою позицию Барченко определил как «христианский пацифизм», заключающий в себе идеи «невмешательства в политическую борьбу и разрешения социальных вопросов индивидуальной нравственной переделкой себя».
В конце 1917 и в начале 1918 годов Барченко часто посещал различные эзотерические кружки, продолжавшие регулярно собираться в Петрограде, несмотря на хаос революционного времени. Позднее он называл три таких кружка: известной теософки и мартинистки Данзас, доктора Бобровского и общество «Сфинкс». Их посетители, собравшись за плотно закрытыми дверьми, горячо обсуждали как религиозно-философские вопросы, так и актуальные политические темы. В целом в кружках царила резко антибольшевистская атмосфера. Однажды в «Сфинксе» Барченко пришлось вступить в полемику с критиками революции, однако его «христианско-пацифистское выступление» не встретило понимания у присутствующих.
В поисках заработка Барченко был вынужден читать лекции на судах Балтфлота. Оказалось, что конспирологическая концепция французского эзотерика вполне позволяет заработать на хлеб насущный.
«Золотой век, то есть Великая Всемирная Федерация народов, построенная на основе чистого идейного коммунизма, господствовала некогда на всей Земле, - поучал моряков Барченко. - И господство ее насчитывало около 144 000 лет. Около 9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в Азии, в границах современного Афганистана, Тибета и Индии, была попытка восстановить эту федерацию в прежнем объеме. Это та эпоха, которая известна в легендах под именем похода Рамы…»
Лекции пользовались популярностью, и вскоре на Александра Васильевича обратили внимание чекисты. В секретных оперативных сводках, составляемых сотрудниками ВЧК, фамилия Барченко появляется уже в 1918-1919 годах:
… «Барченко А. В. - профессор, занимается изысканиями в области древней науки, поддерживает связь с членами масонской ложи, со специалистами по развитию науки в Тибете, на провокационные вопросы с целью выяснения мнения Барченко о Советском государстве Барченко вел себя лояльно».
Больше того, в октябре 1918 года Барченко вызвали в Петроградскую ЧК. Дело происходило во время одного из пиков красного террора и поэтому такой вызов не сулил, мягко говоря, ничего хорошего. В кабинете, куда пригласили Барченко, присутствовали несколько чекистов: Александр Рикс, Эдуард Отто, Федор Лейсмер-Шварц и Константин Владимиров. С последним Барченко был уже знаком. Его Александру Васильевичу в свое время представил профессор Петербургского университета Лев Красавин, охарактеризовав, как неофита, страстно жаждущего приобщиться к таинствам древнего Востока.
Четверо чекистов сообщили Александру Барченко, чhttp://www.itishistory.ru/1i/15_stalin_23.phpто на него поступил донос. В этой «бумаге» осведомитель сообщал об «антисоветских разговорах» Барченко. К удивлению Александра Васильевича, чекисты вместо того, чтобы взять его «в оборот», заявили о своем недоверии доносу. Больше того, они просили разрешения Барченко посещать его лекции по мистицизму и древним наукам. Разумеется, тот легко дал согласие и после этого неоднократно видел сотрудников ВЧК на своих выступлениях…
В 1919 году Александр Васильевич завершил высшее образование, окончив Высшие одногодичные курсы по естественно-географическому отделению при 2-м Педагогическом институте. По геологии и основам кристаллографии он держал в свое время экзамен в Военно-медицинской академии и получил оценку «отлично».
|
Метки: барченко наука |
Яков Блюмкин: судьба террориста |
Яков Блюмкин: судьба террориста
⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 23Следующая ⇒
Яков Григорьевич БЛЮМКИН родился в марте 1900-го года в бедной еврейской семье. Его отец, работавший сначала в одной из лесозаготовительных фирм в Полесье, ко времени его рождения устроился мелким коммерческим служащим. В 1906-ом году Блюмкин-старший умер, и семья из шести человек впала в нищету.
Мать, заботясь о будущем сына, решила всё-таки дать ему возможность получить образование. В 1908-ом году, когда Якову исполнилось восемь лет, она устроила его на учёбу в начальное духовное училище — в Первую одесскую Талмуд-тору. В неё принимали мальчиков в возрасте от шести до двенадцати лет — сирот и детей из бедных семей. Обучение было бесплатным: все расходы брала на себя религиозная община. В Талмуд-торе дети изучали Библию, Талмуд, иврит и историю. Кроме того, здесь велось преподавание русского языка, современного еврейского языка, арифметики, географии, естествознания, рисования, пения и чистописания. Благодаря этой школе Якову удалось получить не только духовную, но и неплохую общеобразовательную подготовку.
Первой одесской Талмуд-торой свыше четверти века руководил писатель Шолом Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-Сфорим. Его считают основоположником современной еврейской литературы. В 1908-ом году, когда Яков поступил в школу, Менделе исполнилось 73 года. К этому времени он написал несколько романов, повестей, пьес, принесших ему мировую славу. Началось издание собрания его сочинений. Как писал Блюмкин в одной из своих автобиографий, "дедушка еврейской литературы" оказал значительное влияние на его духовное развитие. Руководитель Талмуд-торы был горячим поборником идеалов просвещения. Он считал, что и еврейские дети должны получать не только духовное, но и светское образование, включая изучение русского языка. Писатель непримиримо относился к иудейскому аскетизму, выступал за освобождение личности от контроля религиозной общины.
Материальное положение семьи Блюмкиных было очень трудным. Денег постоянно не хватало. Не раз вставал вопрос о прекращении Яковом учёбы. Кое-как выручали летние каникулы, когда мальчику удавалось получить место посыльного в какой-либо конторе или магазине.
В 1913-ом году Блюмкин всё-таки закончил Талмуд-тору. Теперь он имел возможность поступить в иешибот, в гимназию или в реальное училище. Однако тут за учёбу нужно было платить, поэтому Яков предпочёл пойти работать учеником в электротехническую контору Карла Фрака. Здесь он получал от двадцати до тридцати копеек в день, монтировал электропроводку в частных домах и учреждениях.
В 1914-ом году Блюмкин познакомился с "товарищем Гамбургом". Под этим псевдонимом вёл нелегальную революционную работу студент-эсер Горожанин (литературный псевдоним Валерия Михайловича Кудельского; впоследствии он стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины). Блюмкин и Горожанин участвовали в организации нелегального студенческого кружка для изучения программы и тактики эсеровской партии. Яков Блюмкин жадно впитывал в себя идеи революционного народничества, наряду с учебой в кружке усиленно занимался самообразованием. Одновременно делал первые шаги на литературном поприще. Написанные им стихи печатали журнал «Колосья», детская газета «Гудок», один раз опубликовал даже «Одесский листок», наиболее солидное издание города [16].
Февральская революция застала Блюмкина в Одессе. Он принял в ней участие как агитатор первого Совета рабочих депутатов, выступая на различных предприятиях с агитацией за присоединение к революции и посылку депутатов в Совет. Потом в силу ряда обстоятельств он был вынужден переехать в Харьков. Но и там Блюмкин быстро установил контакты с организацией эсеров, которые сразу привлекли его к агитационной работе.
Новость об Октябрьском перевороте меняет все планы Блюмкина, и он спешно возвращается в Одессу. Там он записывается добровольцем в матросский «Железный отряд» при штабе 6-й армии Румынского фронта, участвует в боях с войсками Центральной рады, с гайдамаками. В марте 1918-го года его отряд влился в состав 3-й советской Украинской армии.
Через два месяца, после расформирования 3-й армии, Блюмкин приезжает в Москву, где поступает в распоряжение ЦК партии левых эсеров. Он неплохо зарекомендовал себя в боях с германскими интервентами и войсками Центральной рады, чем и привлек к себе внимание левоэсеровских лидеров. Его направляют во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. По предложению заместителя председателя ВЧК левого эсера Александровича Блюмкину было поручено организовать отделение по борьбе с международным шпионажем.
Во время службы в ВЧК наглядно высветились основные черты противоречивого характера Блюмкина. С одной стороны — абсолютная вера в идеалы мировой социальной революции и готовность идти ради неё на самопожертвование; с другой — хвастовство, зазнайство, склонность к авантюрным поступкам без оглядки на последствия своих действий.
Самолюбию Блюмкина льстило, что его как сотрудника ВЧК все боятся. В беседах со знакомыми он изображал из себя человека, наделённого правом решать вопросы жизни и смерти арестованных. Своим приятелям — поэтам Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму — он даже как-то предлагал прогуляться до ЧК и посмотреть, как в подвалах Лубянки расстреливают "контру".
Приведу только один случай из жизни Блюмкина-чекиста, наглядно характеризующий этого человека. В один из последних дней июня 1918-го года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как ему удалось арестовать австрийского офицера графа Роберта Мирбаха (брат германского посла, действительно арестованный ЧК) по обвинению в шпионской деятельности в пользу Австро-Венгрии.
— Не сознается, — цинично говорил Блюмкин, — поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Подпишу бумажку — через два часа нет человека. Вон, видите, вошел поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу — тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, — обратился Блюмкин к Мандельштаму, — я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против. Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
— Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
— Не вмешивайся в мои дела! — грубо оборвал его Блюмкин. — Посмеешь сунуться — сам получишь пулю в лоб.
С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору [16].
Всемирную известность Якову Блюмкину принесло совершённое им 6 июля 1918-го года убийство германского посла — графа Мирбаха — едва не спровоцировавшее войну с Германией. Произошло это так.
Известно, что основные расхождения в программах двух революционных партий: большевиков и левых эсеров — касались вопросов внешнеэкономической политики. Так, эсеры считали факт подписания ленинским правительством Брестского договора предательством дела революции. Заседавший в Москве в первых числах июля 1918-го года Третий Всероссийский съезд партии левых социалистов-революционеров по вопросу о внешней политике Советской власти постановил "разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор". Исполнение этого постановления съезд поручил ЦК партии.
Выполнить волю съезда Центральный Комитет решил путём совершения акта индивидуального террора над "одним из наиболее активных и хищных представителей германских империалистических вожделений в России", графом Мирбахом.
Организация акции осуществлялась в спешке и заняла всего два дня.Непосредственными исполнителями должны были стать Яков Блюмкин и фотограф подведомственного ему в ЧК отдела по борьбе с международным шпионажем Николай Андреев.
Утром 6-го июля Блюмкин пришёл в ЧК. У дежурной секретарши в общей канцелярии он попросил стандартный бланк Чрезвычайной комиссии и отпечатал на нём следующее:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает её члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу.
Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии
Секретарь»
Блюмкин расписался за секретаря ВЧК Ксенофонтова, а один из членов партии левых эсеров — подделал подпись Дзержинского. Заверив документ печатью ВЧК и получив машину (Блюмкину выдали тёмного цвета «паккард» с открытым верхом), Яков отправился в гостиницу «Националь», где его уже ждал Николай Андреев. Там террористы получили последние инструкции. Им были вручены две бомбы и два револьвера, которые они спрятали в портфели. Вышли к машине.
Яков вручил шоферу револьвер и сказал повелительным тоном:
— Вот вам кольт и патроны. Езжайте тихо. У дома, где остановимся, не выключайте мотора. Если услышите выстрелы, шум — не волнуйтесь. Ждите нас!
В три часа дня они подъехали к особняку германского посольства в Денежном переулке (потом — улица Веснина). На звонок в дверь открыл швейцар. Блюмкин на ломаном немецком языке сказал, что он и его товарищ хотят беседовать с господином послом. Швейцар начал что-то объяснять. Из сказанного им удалось понять лишь, что их сиятельство и другие господа изволят обедать и что надо немного подождать.
Минут через десять к посетителям вышел советник посольства Бассевитц. Блюмкин предъявил ему мандат и заявил, что он является представителем советского правительства и просит графа Мирбаха принять его. Бассевитц взял мандат и ушел доложить о визите. Вскоре в приемную прибыли первый советник посольства Карл Рицлер и военный атташе лейтенант Леонгарт Мюллер.
— Вы от господина Дзержинского? — обратился к посетителям Рицлер.
— Да, я — Яков Блюмкин, член ВЧК, а мой товарищ — Николай Андреев, представитель революционного трибунала.
— Пожалуйста, проходите.
Блюмкина и Андреева провели через вестибюль и зал в гостиную, предложили сесть.
— Я имею строгое предписание от товарища Дзержинского говорить с господином послом лично, — заявил Блюмкин.
Рицлер ответил, что граф не принимает и что он, как первый советник посольства, уполномочен вести вместо него все переговоры, в том числе и личного характера. Однако Блюмкин настаивал на своём: ему поручено беседовать только с графом.
Граф Мирбах, опасаясь покушений, избегал приёма посетителей. Однако, узнав, что прибыли официальные представители советской власти, он всё-таки решился побеседовать с ними. Посол в сопровождении Рицлера появился в гостиной.
Сели за круглый массивный мраморный стол: с одной стороны — Блюмкин, напротив него — Мирбах, Рицлер и Мюллер. Андреев расположился поодаль, у дверей. Яков разложил на столе бумаги и стал объяснять послу, что ВЧК арестовала его родственника, офицера австро-венгерской армии, по обвинению в шпионаже. Блюмкин действительно "работал" с братом посла и знал все подробности этого дела. К тому же он привёз подлинные протоколы допроса, которые и продемонстрировал господину послу.
— Меня, господин Блюмкин, всё это мало интересует, — заметил тот. — Я и моя семья не имеют ничего общего с арестованным вами офицером.
— Ваше сиятельство, — обратился к графу Рицлер. — Я полагаю, что следует прекратить этот разговор, а Чрезвычайной комиссии дать письменный ответ через Народный комиссариат иностранных дел.
В этот момент в разговор вмешался Андреев, в течение всей беседы молча сидевший в стороне. Он спросил:
— Видимо, господину графу интересно знать, какие меры будут приняты с нашей стороны?
— Да, господин посол, вы желаете это знать? — повторил вопрос Блюмкин.
Граф ответил утвердительно. Вопрос Андреева, видимо, был паролем. Блюмкин, не дожидаясь ответа посла, выхватил револьвер и произвел несколько выстрелов по Мирбаху, Рицлеру и Мюллеру. Рицлер и Мюллер упали на пол, однако сам граф побежал в соседний зал. Андреев догнал посла и кинул ему под ноги бомбу, но и тут случилась заминка, потому что бомба не взорвалась. Тогда Андреев сильным ударом свалил графа. Блюмкин в ту же секунду наклонился, подхватил неразорвавшуюся бомбу и бросил её в Мирбаха. Наконец детонатор сработал, и раздался оглушительный взрыв. Посыпалась штукатурка, взлетели в воздух плитки паркета, воздушной волной вышибло стекла.
Оставив на столе шляпы, револьвер, документы и портфель с запасной бомбой, террористы кинулись к окну. Андреев благополучно выпрыгнул на улицу и через несколько секунд уже был в автомобиле. Блюмкин же, соскакивая с подоконника, повредил ногу. С трудом он стал карабкаться через железную ограду. Из здания посольства открыли стрельбу. Одна из пуль попала в Блюмкина, но он всё-таки сумел перелезть и, хромая, побежал к автомобилю. Кубарем он ввалился в салон. Машина рванула в сторону Пречистенки и скрылась из виду.
Через несколько минут автомобиль с террористами уже въезжал во двор особняка Морозова в Трехсвятительском переулке. Здесь размещался штаб наиболее многочисленного отряда ВЧК, которым командовал левый эсер Попов. Блюмкина поместили в лазарет. Чтобы затруднить розыск, Якова остригли, сбрили ему бороду.
Согласно этике эсеров исполнители террористического акта должны были остаться на месте его совершения и позволить себя арестовать. Однако Андреев и Блюмкин бежали. Впоследствии по этому поводу Яков напишет:
«Думали ли мы о побеге? По крайней мере, я — нет... нисколько. Я знал, что наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценою своей жизни доказать нашу полную искренность, честность и жертвенную преданность интересам революции. Перед нами стояли также вопрошающие массы рабочих и крестьян — мы должны были дать им ответ. Кроме того, наше понимание того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам думать о бегстве. Мы даже условились, что если один из нас будет ранен и останется, то другой должен найти в себе волю застрелить его» [16].
Как бы там ни было, но Блюмкин бежал. И бегал до апреля 1919-го года, пока не надумал сдаться властям. Несмотря на то, что убийство графа Мирбаха привело к обострению отношений между Советской Россией и Германией и послужило толчком к мятежу левых эсеров со всеми вытекающими, Блюмкин отделался очень лёгким наказанием. 16 мая 1919-го года Президиум ВЦИК, "учитывая добровольную явку Блюмкина и данное им подробное объяснение обстоятельств убийства германского посла", амнистировал его.
Сегодня нам это кажется диким, но современники Блюмкина считали его героем и более того — гордились знакомством с ним. Вот, например, что говорил Николай Гумилёв о том, как он познакомился с Блюмкиным:
«Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошёл пожать мне руку, сказать, что любит мои стихи».
Насчёт "толпы народа" поэт, конечно, погорячился, но само это высказывание весьма характерно для того времени.
После освобождения Яков Блюмкин возвращается к своей привычной жизни: сотрудничает с ВЧК, готовит террористические акты против генералитета Белой армии, развлекается в компании поэтов-имажинистов.
В сентябре 1920-го года Яков Блюмкин по направлению Наркоминдела был зачислен на Восточное отделение Академии Генерального Штаба РККА. Отделение готовило кадры для армейской службы на восточных окраинах Советской Республики и для военно-дипломатической работы. Слушатели изучали основы стратегии, тактику родов войск, службу Генштаба, военную географию, строительство Красной Армии, военную психологию и шесть социально-экономических дисциплин — философские и социологические основы марксизма, основы внешней политики, социальную психологию, Конституцию РСФСР, теорию социализма, железнодорожное хозяйство. На Восточном факультете изучались дополнительно: персидский, арабский, турецкий, китайский, японский и другие языки. Блюмкин специализировался по Персии.
Условия учёбы были очень тяжелыми. Занятия продолжались с 9 утра до 22 часов, с часовыми перерывами на обед и ужин. Питание было скудное. В учебных помещениях царил необычайный холод. Свирепствовал сыпной тиф. Несмотря на эти трудности, Блюмкину за время пребывания в академии удалось получить хорошую военную подготовку и основательно проштудировать общественно-политическую литературу.
Весной 1921-го года из академии начали откомандировывать слушателей для участия в боевых действиях в районах, охваченных "бандитизмом", фактически — в карательные отряды. Не избежал сей участи и Блюмкин. Его направили в 27-ю Омскую дивизию, усмирявшую крестьянские восстания в Нижнем Поволжье. Там он был назначен на должность начальника штаба 79-й бригады, а затем стал временно исполняющим обязанности комбрига. В составе 27-й дивизии Блюмкин принял участие в борьбе с "антоновщиной" в Тамбовской губернии, а также в ликвидации Еланьского восстания.
Осенью 1921-го года его откомандировали в Сибирь, где назначили командиром 61-й бригады 21-й Пермской дивизии. Бригада успешно участвовала в боях против войск барона Унгерна фон Штернберга, вторгшихся во Внешнюю Монголию [16].
После победы Блюмкин возвращается в Москву для продолжения учёбы в Военной академии. Однако окончить академию ему так и не удалось: в 1922-ом его снова отзывают и направляют в секретариат наркома по военным делам. В течении года и четырёх месяцев он состоит при Льве Давыдовиче Троцком для выполнения особых поручений.
Осенью 1923-го года Дзержинский предложил Блюмкину перейти на службу в иностранный отдел ОГПУ. Подумав, тот согласился. Началась новая страница в его биографии. А нам самое время вернуться к «Единому Трудовому Братству» и нейроэнергетической лаборатории.
|
Метки: яков блюмкин |
Кто вы, доктор Барченко? |
Кто вы, доктор Барченко?
07 июль 2016, Четверг
 Эти исследования до сих пор не стали достоянием современной науки. А ведь чуть меньше ста лет назад им придавалось государственное значение. Профессор Александр Барченко изучал психическую энергию мозга в секретной лаборатории, созданной при ОГПУ СССР. Причем уровень научных экспериментов был очень высоким: в 1960-х годах американские журналисты признали, что тогдашние советские разработки в области ясновидения и телепатии опережали западные не менее чем на 20 лет.
Эти исследования до сих пор не стали достоянием современной науки. А ведь чуть меньше ста лет назад им придавалось государственное значение. Профессор Александр Барченко изучал психическую энергию мозга в секретной лаборатории, созданной при ОГПУ СССР. Причем уровень научных экспериментов был очень высоким: в 1960-х годах американские журналисты признали, что тогдашние советские разработки в области ясновидения и телепатии опережали западные не менее чем на 20 лет.
Шлемы для передачи мыслей
Александр Васильевич Барченко с 1911 года занимался исследованиями психических феноменов и писал о них статьи для научных и научно-популярных журналов.
Особое место в его работе занимала психофизическая энергия человеческого мозга. В статье «Передача мысли на расстояние. Часть II», опубликованной в №32 журнала «Природа и люди» за 1911 год, Барченко описывает результаты своего опыта, когда двое добровольцев надевали на головы специальные шлемы, соединенные медной проволокой. Один из участников пытался передавать, а другой - принимать слова или изображения. В случае с передачей изображения результат угадывания приближался к 100%, а определение передаваемых слов давалось с большим трудом - особенно если в словах присутствовали шипящие звуки.
В 1913 и 1914 годах Александр Барченко опубликовал посвященные подобным исследованиям фантастические романы «Доктор Черный» и «Из мрака» (последний был переиздан в 1991 году).
Шамбала и революционные матросы
После революции Александру Барченко, чтобы выжить в голодающем Петрограде, пришлось за хлебный паек читать лекции революционным матросам. Он рассказывал им о Шамбале - волшебной стране в Тибете, которая упоминается в древних текстах. Лекции были настолько убедительными, что матросы на общем собрании постановили: послать командованию письмо о готовности пробиться с боями в Шамбалу, чтобы там установить связь с ее мудрецами и передать вечные знания товарищу Ленину.
Именно тогда деятельностью Александра Васильевича заинтересовались чекисты. В их архивах первые записи об ученом датируются 1918 годом: Барченко занимается изысканиями в области психологической науки, на вопросы о Советском государстве отвечает лояльно.
В октябре 1918 года Барченко вызвали в ЧК и попросили прочитать там лекции о психической энергии и древних науках.
Кинжал в сердце
Кроме ЧК, Барченко активно сотрудничал с Институтом мозга и высшей нервной деятельности, которым руководил Владимир Бехтерев. И весной 1921 года этот институт командировал Александра Васильевича в российскую Лапландию (западная часть нынешней Мурманской области) для изучения загадочного явления под названием мерячение - психического, часто коллективного заболевания, напоминающего припадки истерии. По свидетельствам очевидцев, во время таких припадков люди говорили на неизвестном языке или кололи себя ножом - и от раны не оставалось следа. В подобный транс могли по собственной воле впадать шаманы живущих на севере лопарей (саамов).
Есть сведения, что во время одного из переходов у Барченко был сильный сердечный приступ - и его излечила шаманка Анна Васильевна. Но как! Согласно записям коллег ученого, она уложила исследователя на землю и после магических слов всадила в его сердце кинжал. Барченко не умер, а заснул. И проснулся совершенно здоровым человеком - настолько, что сердечные приступы у него больше не повторялись ни разу в жизни.
Во время дальнейшего перехода по направлению к Ловозеру участники экспедиции обнаружили в тайге огромный гранитный камень правильной прямоугольной формы. Причем компас показывал, что он ориентирован строго на стороны света. А переправившись на лодке через Ло-в озеро, группа вышла к расположенному рядом Сейдозеру и обнаружила там такой же прямоугольный камень.
Позже, опираясь на ряд собранных фактов, Барченко в нескольких работах доказывал, что лопари являются прародителями расы белых людей - и при этом сами происходят от представителен еще более ранней цивилизации. А издание «Красная газета» в феврале 1923 года сообщило читателям, что профессор Барченко открыл в Лапландии остатки культуры древнее египетской.
Братство науки и ЧК
После возвращения с Севера Александр Барченко создал объединение ученых под названием «Единое трудовое братство» (ЕТБ). В 1937 году НКВД назовет эту организацию масонской, антисоветской и террористической. Но для Барченко ЕТБ представлялось кружком единомышленников, изучающих психическую энергию мышления и верящих в существование великой Шамбалы. Его участниками были многие деятели науки и культуры (согласно протоколам следствия - художница Элеонора Кондиайн, ученый Петр Шандаровский и другие). Со стороны властей организацию курировал Глеб Бокий, возглавляющий специальный отдел ОГПУ.
Кроме того, начиная с 1925 года Барченко утвердился в мысли, что все накопленные знания следует передать советской власти в лице ее славных представителей-чекистов. Для этого при активном участии Глеба Бокия в ОГПУ создается кружок по изучению древней науки, который посещают многие сотрудники, в том числе сам нарком Генрих Ягода.
Мыльная вода вместо оленьего жира
Во время северной экспедиции Барченко и его сотрудники познакомились с лопарем-шаманом Иваном Даниловым, который обладал даром ясновидения - к примеру, безошибочно предсказывал, где именно следует искать пропавших оленей.
Шамана уговорили приехать в Москву, ему дали ставку сотрудника ЧК и зачислили в штат секретной лаборатории ОГПУ, где отныне работал и Барченко. Лаборатория размещалась в здании Московского энергетического института, и Александр Васильевич числился научным сотрудником ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) и официально занимался лекарственными растениями.
Данилов жил здесь в отдельной комнате - без права выходить из нее даже на прогулку. Каждый день ученый показывал шаману фотографии людей и просил рассказать, где они и что делают в данный момент.
В суматохе переезда для Данилова не взяли его бубен и олений жир, по которому шаман привык гадать. Он пользовался железной миской, куда наливал мыльную воду - и видел в ней людей с фотографий.
Опыты проходили настолько успешно, что ими заинтересовался непосредственный начальник Барченко Глеб Бокий. Он принес фотографию своего шефа Генриха Ягоды - и пожелал узнать, где тот сейчас. Данилов в своей миске увидел, что Ягода лежит в кровати с двумя женщинами. Проверка, проведенная Бокием, полностью подтвердила правоту шамана. Начальник спецотдела получил возможность следить за высшими руководителями страны.
К сожалению, шаман, лишенный привычного образа жизни, заболел чахоткой и через три месяца умер. Но идея собирать компрометирующие материалы с помощью ясновидящих уже была взята на вооружение.
Режиссер, впадающий в транс
Для этого в лабораторию привозили людей с паранормальными способностями. Известно, что одним из таких ясновидящих был режиссер Московского художественного театра Валентин Смышляев, умевший впадать в транс и предсказывать будущее.
В досье секретной лаборатории находилась компрометирующая информация даже на Сталина: у него в Баку была гражданская жена Стефания Петровская, которая бесследно исчезла в 1929 году. Там же хранились сведения о том, что председателю ЦИК Михаилу Калинину по ночам привозят балерин из Большого театра, а нарком внутренних дел Николай Ежов является гомосексуалистом.
Иногда Глеб Бокий давал документам ход. Известно, что весной 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривала дело уже бывшего наркома Генриха Ягоды, и среди предъявленных обвинений была «постыдная для революционера моральная распущенность». Правда, сам Бокий, передавший эти материалы «наверх», был расстрелян на полгода раньше - по обвинению в шпионаже.
Пропавшие результаты исследований
Александр Барченко ненадолго пережил своего шефа. По мнению некоторых историков, сведения о новом направлении деятельности сверхсекретной лаборатории дошли до самого Сталина - после чего участь людей, собирающих компромат на руководителей государства, была решена.
Обвинение строилось в том числе на признаниях Глеба Бокия. На первых же допросах тот рассказал, что вместе с Барченко состоял в тайной организации, целью которой было убийство Сталина.
По решению Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 апреля 1938 года Александр Барченко был приговорен к высшей мере наказания за создание контрреволюционной террористической организации и шпионаж в пользу Англии. Для этого руководство НКВД разработало соответствующую легенду о том, что на территории одного из восточных протекторатов Англии (точное место не указывалось из-за боязни явной ошибки) существует политический центр «Шамбала», задачей которого является подчинить себе руководство ведущих стран, в том числе и СССР.
Приговор привели в исполнение 25 апреля 1938 года. За несколько дней до казни Александру Васильевичу дали карандаши и стопку писчей бумаги, чтобы смертник мог оставить для потомков информацию о своих исследованиях. После казни рукопись была помещена в один из секретных архивов, и отыскать ее пока не удалось. По существующей легенде, она была сожжена в 1941 году, когда немцы подошли к Москве и руководство НКВД распорядилось уничтожить многие документы. Но так ли это, или бесценные знания еще ждут своего нового открытия - покажет время.
Платон Викторов http://parallelnyj-mir.com/1/30/8229-kto-vy-doktor-barchenko.html
|
Метки: барченко |
Барченко Александр Васильевич (1881–1938) |
Барченко Александр Васильевич (1881–1938)
Персоналии Уроженцы Липецкого края г. Елец
Ученый, историк, писатель-фантаст, исследователь паранормальных способностей человека А. В. Барченко родился 25 марта 1881 года в г. Ельце. Его отец Василий Ксенофонтович, был присяжным поверенным Елецкого окружного суда, действительным статским советником, владельцем нотариальной конторы, знал И. А. Бунина, а мать происходила из семьи духовенства.
А. В. Барченко, окончив классическую Санкт-Петербургскую гимназию, в 1904 году поступил на медицинский факультет Казанского университета, в 1905 году перевелся в Юрьевский университет. Проучившись два с половиной года, он был вынужден прекратить ученье «за неимением средств».
Предметом его увлечений с ранней юности были оккультизм, астрология, хиромантия и паранормальные человеческие способности – феномены телепатии и гипноза. С 1911 года он начинает публиковать результаты своих исследований, часто облекая их в литературно-художественную форму. В декабре 1911 года в журнале «Жизнь для всех» появилась его статья «Душа природы», в которой он задолго до А. Чижевского высказал гипотезу о влиянии солнечной активности на биологические и социальные процессы на Земле.
Писательским дебютом А. В. Барченко был рассказ «Конец компании «Радий» (1911). Его рассказы под псевдонимами А. Нарвский и А. Елецкий печатались на страницах журналов «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». Он автор сборника рассказов «Волны жизни» (1914), романов: «Доктор Черный» (1913), «Из мрака» (1914, 1991); повестей: «Золото», «За Уралом», «Океан кормилец», рассказов.
Александр Васильевич участвовал в Первой мировой войне. После ранения, вернувшись с фронта, он некоторое время служил в Министерстве финансов. После 1918 года его жизнь была связана исключительно с научной работой. В 1923 году А. В. Барченко организовал в Петербурге эзотерический кружок «Единое Трудовое Братство».
В 1920-1930 годах А. В. Барченко был ученым консультантом Главнауки, заведующим секретной нейроэнергетической лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины при ОГПУ. Совместно со знаменитым психиатром, профессором В. М. Бехтеревым он занимался изучением загадочных явлений человеческой психики.
А. В. Барченко организовал научные экспедиции в поисках следов древнейшей цивилизации Гипербореи: в 1921-1923 годах в глухие районы Кольского полуострова, в 1926 году в пещеры Крыма, в 1929-1930 годах на Алтай. Был знаком с Н. Рерихом. А. В. Барченко читал и понимал древнейшие тексты, обладал экстрасенсорными способностями.
21 мая 1937 года он был арестован. 25 апреля 1938 года приговорен к расстрелу по обвинению в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии. В тот же день приговор был приведен в исполнение. В 1939 году весь архив, все рукописи А. В. Барченко, в том числе и его научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» были уничтожены на Лубянке. В 1956 году он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Произведения автора
- Волны жизни : сб. рассказов. – С.-Петербург : В. И. Губинский, 1914. – 84 с., 8 л. ил.
- Из мрака : романы, повесть, рассказы. – М. : Современник, 1991. – 541 с. – Содерж.: Романы: Доктор Черный; Из мрака; Золото: повесть; Рассказы: Хозяева воздуха; На берегу; На льдине; Ненастоящее; Спаситель; Сват; Частное дело.
Литература о жизни и творчестве
- Демин В. Н. [Исследования А. В. Барченко] // Тайны русского народа / В. Н. Демин. – М.: Вече, 1997. – С. 6-21.
- Вуколов А. Александр Барченко – человек-загадка // Медицинская газета. – 2000. – 7 апр. – С. 15.
- Брачев В. «»Единое Трудовое Братство» А. В. Барченко // Чекисты против оккультистов: оккультно-мистическое подполье в СССР / В. Брачев. – М. : Яуза : Эксмо, 2004. – С. 271-305.
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советов // Нева. – 2006. – № 12. – С. 279-282.
- Заусайлов В. Елецкий нотариус : [о елец. нотариусе, купце, потомств. почет. гражданине В. К. Барченко и судьбе его семьи] // Липецкая газета. – 2007. – 13 янв. – С. 4.
- Федюкина Т. Корни и ветви : [о встрече потомков елец. купеческих родов, прошедшей в г. Ельце, орг. В. Заусайловым, на которой присутствовали потомки купцов в т.ч. Барченко] // Липецкая газета. – 2008. – 13 авг.
- Карма елецкого фантаста: к 130-летию со дня рождения Александра Барченко / подгот. И. Чемякина // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 52 (19-25 дек.). – С. 46-47.: фото.
- Ляпин Д. А. Наука и мистика // История Елецкого уезда в XVIII – начале XX веках / Д. А. Ляпин. – Саратов: Новый ветер, 2012. – С. 167-169.
- Ляпин Д. Религиозное воспитание и интерес к мистике // Талисман. – 2012. – 12 мая (№ 10). – С. 6.
Справочные материалы
- Славные имена земли Липецкой : биогр. справочник об известных писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства. – Липецк, 2007. – С. 229-231.: ил.
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhe...etskogo-kraya/92-barchenko-a-v
|
Метки: барченко |
АЛЕКСАНДР БАРЧЕНКО |
 |
Имя Александра Васильевича Барченко с 30-х годов XX века пребывало в секретном забвении, но в последние десятилетия в связи с деяниями Глеба Ивановича Бокия всплыло, вызвав к его обладателю немалый интерес со стороны исследователей и историков спецслужб. Видать, не случайно даже генерал ФСБ РФ Георгий Рогозин, возглавлявший до 1996 года аналитический отдел службы безопасности Президента России и являвшийся тогда своего рода придворным астрологом, упоминал в публичных выступлениях Барченко.
Родившийся в 1881 году в городе Ельце Орловской губернии, Александр с молодых лет увлекся феноменами телепатии и гипноза. Его отец, действительный статский советник, владелец нотариальной конторы Василий Ксенофонтович был женат на женщине из семьи священнослужителей. По окончании гимназии в Санкт-Петербурге юноша поступил на медицинский факультет Юрьевского университета, но полного курса не окончил. Затем, по окончании специальной школы финансистов, работал в Министерстве финансов и подрабатывал, печатаясь в журналах. Но сухие цифры не вдохновляли будущего ученого-мистика, и Александр Васильевич бросил все, поселившись в городке Боровичи Новгородской губернии, где занялся хиромантией. Но вскоре вновь вернулся в столицу, стал писать статьи и печататься. В те же годы молодой человек пошел учиться на отделение географии в Педагогический институт.
В 20-е годы XX века, сойдясь с новой властью, Барченко стал сотрудничать с чекистами, читал лекции и доклады. В 1920 году ему довелось выступать на конференции Петроградского Института изучения мозга и психической деятельности с докладом «Дух древних учений в поле зрения современного естествознания». Как полагает передовой современный исследователь Олег Шишкин в книге «Битва за Гималаи», «В ту пору Барченко работал над созданием универсального учения о ритме (гамме), применимого в космологии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллографии, к явлениям общественной жизни и к биопсихическим проявлениям индивида. Позднее он назовет свое открытие «Синтетический метод, основанный на древней науке». В сжатом виде это учение будет изложено в трактате «Дюнхор»». Тогда же произошло знакомство Барченко с выдающимся русским ученым, академиком Владимиром Михайловичем Бехтеревым; их тесное товарищество продолжится в различных совместных проектах.
В 1921 г. биолог, писатель, мистик и оккультист Александр Васильевич Барченко, получив удостоверение члена ученой конференции Института мозга от Мурмана и командировочные удостоверения, отправляется на Кольский полуостров, чтобы отыскать протоцивилизацию человечества — сказочную Гиперборею, которая может оказаться сродни другому мифическому центру концентрации древних знаний — Шамбале. К тому же, согласно различным сведениям, таинственная Шамбала может находиться в разных местах планеты: в Гималаях, на Алтае, в Персии, в Крыму… Кстати, Дюнхор (или же Калачакра) — это буддийское эзотерическое учение, происходящее из легендарной Шамбалы.
|
Метки: барченко |
Барченко, Александр Васильевич |
Барченко, Александр Васильевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 сентября 2018; проверки требуют 5 правок.
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Барченко.
| Александр Васильевич Барченко | |
|---|---|
 |
|
| Дата рождения | 1881 |
| Место рождения | Елец |
| Дата смерти | 25 апреля 1938 |
| Место смерти | Москва |
| Страна | |
| Род деятельности | оккультист, писатель, исследователь телепатии |
 Александр Васильевич Барченко на Викискладе Александр Васильевич Барченко на Викискладе |
|
Александр Васильевич Ба́рченко (1881, Елец — 25 апреля 1938, Москва) — советский оккультист, писатель, исследователь телепатии, гипнотизер[1]. Проводил исследовательские работы в рамках особого спецотдела ОГПУ.
Содержание
Биография
Отец Барченко был нотариусом окружного суда, мать происходила из духовного сословия. По словам Барченко, он уже с юношеского возраста отличался «склонностью к мистике и ко всему таинственному»[2].
В 1898 году окончил петербургскую гимназию, затем пытался получить высшее образование, слушал лекции на медицинском факультете в Казанском, затем в Юрьевском (Дерптском) университетах. Из-за недостатка денежных средств учёба не была завершена.
В 1905—1909 годах А. В. Барченко в поисках своего призвания и с целью заработка объехал «в качестве туриста, рабочего и матроса», по его словам, «большую часть России и некоторые места за границей», в том числе побывал в Индии. В этот же период происходит увлечение Барченко эзотеризмом. В 1909—1911 годах занимался «рукогаданием», давал частные консультации в Боровичах Новгородской губернии (с разрешения местной полиции).
С 1911 года под псевдонимами А. Нарвский, А. Елецкий писал научно-популярные статьи и репортажи для журналов «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». В 1913 году опубликовал роман «Доктор Чёрный», год спустя — роман «Из мрака» (переиздан в 1991) и сборник рассказов «Волны жизни» (с собственными иллюстрациями).
После октябрьской революции Барченко приглашают работать в Институт Бехтерева. Исследованиями Барченко заинтересовались чекисты, после чего началась активная работа в особом спецотделе ОГПУ под руководством Г. И. Бокия.
В начале 1920-х годов возглавлял экспедицию в центр Кольского полуострова, в район Ловозера и Сейдозера, где якобы нашел рукотворные памятники[3]. Целью экспедиции было изучение явления «мереченья», подобного массовому гипнозу. После отчётного выступления Барченко в Институте мозга о его исследованиях, он был принят Главнаукой (27.10.1923 г.) на работу в качестве учёного-консультанта[4].
В 1923 году Барченко организовал эзотерическое общество «Единое трудовое братство», в который входили А. А. Захаров, жена П. Д. Успенского Софья Григорьевна, Г. И. Бокий и другие. Эта страница его биографии нашла отражение в романе Д. Быкова «Остромов, или Ученик чародея» (2011)[5].
Со времён учёбы в Юрьевском университете и знакомства с работами Сент-Ив Д’Альвейдра Барченко интересовался Шамбалой как неким очагом древней культуры и науки, существующим в горах Тибета[6]. В рамках спецотдела готовился к экспедиции на поиски Шамбалы для овладения наследством «тайной науки», однако экспедиция не состоялась. Согласно одной из версий, Г. В. Чичерин вместо Барченко поддержал Тибетскую экспедицию предположительно связанного с ОГПУ художника Николая Рериха[7] (по мнению авторов, состоящих в рериховском движении, Рерих не был связан с ОГПУ[8][9]).
Статья А. В. Барченко «Передача мыслей на расстояние» («Природа и люди», 1911 г.)
Арестован 21 мая 1937 года, осуждён 25 апреля 1938 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания по обвинению в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии (пункты 6, 8 и 11 статьи 58 УК РСФСР). В этот же день расстрелян. Реабилитирован Военной Коллегией Верховного Суда СССР 3 ноября 1956 года.
Библиография
Прижизненные издания (избранные)
- статья «Передача мыслей на разстоянiе» // «Природа и люди», 1911, № 31
- роман «Доктор Чёрный» // «Природа и люди», 1913, № 1-5
- роман «Из мрака» (1914)
- сборник рассказов «Волны жизни» с собственными иллюстрациями (1914)
- повесть «Океан-кормилец» (1918, второе издание)
- «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» (конфисковано НКВД[10])
Посмертные издания
- Барченко А.В. Из мрака (романы, повесть, рассказы). — М: Современник, 1991.
Примечания
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советов // «Нева» , №12. — 2006.
Литература
Исследования
на русском языке
- Андреев А. Оккультист страны Советов. — М., 2004.
- Брачёв В. С. Тайные общества в СССР. — СПб.: Стомма, 2006. — С. 161—184. — 390 с.
- Гарнага С. Потерянный рай // Совершенно секретно. — 2001. — Т. 40, № 1.
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советовh // «Нева». — 2006. — № 12.
- Лукашин А. П. Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. Барченко А.
- Тантра для комиссара Бокий, Барченко и дачная коммуна
на других языках
- Shishkin O. A. (1923–1938). The Occultist Aleksandr Barchenko and the Soviet Secret Police // The new age of Russia: Occult and esoteric dimensions / B. Menzel, M. Hagemeister, B. G. Rosenthal, eds.. — München—Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. — P. 81—100. — 448 p. (Доклад Начало оккультного и паранормального проекта ОГПУ: декабрь 1924-го — август 1925 года и его отголосок представленный в 2007 на научной конференции «The Occult in 20th Century Russia: Metaphysical Roots of Soviet Civilization / Оккультизм в России XX века: метафизические корни советской цивилизации» в Harriman Institute)
- Znamenski A. Red Shambhala: Magic, Prophecy, and Geopolitics in the Heart of Asia (англ.)русск.
Первоисточники
- Барченко А.В. Памятка для членов ЕТБ // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 307—314.
- Письма А.В.Барченко профессору Г.Цибикову // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 316—352.
- Протокол допроса А.В.Барченко от 10 июня 1937 года // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 352—375.
|
Метки: наука вчк-кгб |
Субботина Е. А. Зворыкины муромские. Из семейного архива |
Субботина Е. А. Зворыкины муромские. Из семейного архива
История одного из древнейших муромских купеческих родов рода Зворыкиных невероятно многогранна. В ней переплетаются судьбы и события, радости и трагедии. Эти переплетения прослеживаются и в материалах архива, о котором пойдет речь. Он собирается не одно поколение, содержит несколько десятков фотографий разного формата, от визиток на паспарту, находящихся в красивом фотоальбоме с верхней крышкой, украшенной чеканкой по металлу, до ксероксных копий с фотографий из других архивов; несколько родословных Зворыкиных, присланных в Муром и из Москвы, и из Санкт-Петербурга; автобиографии представителей этого рода; воспоминания о предках; сборники стихов родственников дореволюционного периода и советского времени; письма, одно из них, кстати, от Елизаветы Аркадьевны Куликовой-Соколовой1.
Не один десяток лет хранит архив Лидия Павловна Зворыкина, одна из представительниц этого рода (Ил. 1). Она приняла эту эстафету от своей матери, Евдокии Федоровны Зворыкиной (1904-1991), урожденной Филипповой (Ил. 2). Лидия Павловна любезно предоставила мне возможность познакомиться с семейными документами. В этом архиве – судьбы представителей не только рода Зворыкиных, но и Соколовых, Вощининых, Филипповых.
Филипповы
По рассказам Лидии Павловны, отец Евдокии – Федор Платонович Филиппов – был управляющим двух ткацких фабрик в местечке Филипповка под Шуей Владимирской губернии в 1905-1915 годах. Хозяином был некий Кормилицын, которого рабочие очень не любили и однажды сожгли одну из фабрик. Федору, который радел за рабочих и не раз подступался к владельцу: «Прибавь хоть копеечку рабочим», – посоветовали ехать с семьей от греха подальше в «вишневый» Муром. Так он и сделал. Семья обосновалась в Муроме. Отец работал управляющим у Суздальцевых на бумаготкацкой фабрике (будущий комбинат «Красный луч»). Они поселились в двухэтажном доме при входе на фабрику. В семье были еще дочери Анна, в замужестве Селезнева, Агриппина, в замужестве Антонова, и сын Николай.
Интересна судьба Николая. По окончании семилетки в 1927 году он работал в клубе фабрики «Красный луч», где руководил кружком «синеблузников» (Ил. 3). По словам Лидии Павловны, здесь в нем впервые проявилось «артистическое дарование». После службы в армии Николай организовал в Муроме театр рабочей молодежи, а в 1935 году по направлению райкома комсомола стал заместителем директора муромского драматического театра. С сентября 1936 в течение года он играл на сцене театра в Йошкар-Оле. В 1937 году Филиппова пригласили в труппу вновь созданного Заполярного драматического театра в Игарке. В послевоенное время он выступал на сценах театров Красноярска, Ачинска, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Томска. Многие годы Филиппов жил в Кургане, играя на сцене областного драматического театра. Яркие выразительные образы, созданные Николаем Филипповым, в том числе образы Ермака в одноименной пьесе М. Бударина и Арбенина, в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова привлекали многочисленных почитателей его творчества (Ил. 4). Газеты восторгались его игрой. Он был приглашен в Москву, но, по словам Лидии Павловны, ответил: «И в Сибири народ хороший». В 1965 году Филлипов был удостоен почетного звания Заслуженный артист РСФСР. А в 1970 году в театре прошел вечер, посвященный тридцатипятилетней сценической и общественной деятельности и шестидесятилетию со дня рождения артиста. В фойе театра ему был установлен бюст. Умер Николай Федорович в 1973 году 63 лет от роду в больнице Обнинска под Москвой. Он был кремирован. Урна с прахом захоронена в Кургане.
Ну, а что Евдокия? Совсем юной она окончила фельдшерско-акушерскую школу и всю жизнь проработала медицинской сестрой. В 1924 году ее выдали замуж за Павла Николаевича Зворыкина (1891-1942).
Зворыкины
Как вспоминает Лидия Павловна, Павел Зворыкин, сын купца первой гильдии, окончил в Муроме реальное училище (Ил. 5). В этот период вместе с мужем своей старшей сестры Прасковьи (1882-1940) Валентином Александровичем Вощининым (1878-1943) он совершил поездку в Европу. По торговым делам Вощинина они посетили Англию, Германию и Францию. Дело в том, что своих сыновей у Вощининых не было, и в Павле они видели потенциального преемника, поэтому приобщали к торговому делу. Вощинин, сам владея в совершенстве тремя европейскими языками, приучал к языкам и Павла.
Судьба Павла Николаевича сложилась трагично. Он прошел две войны – империалистическую, как принято до сих пор говорить в их семье, и гражданскую, уже на стороне Красной Армии, что, однако, не спасло его от репрессий. После войны Павел преподавал немецкий язык в школе № 15, был у детей любимым учителем. А в январе 1938 года здесь, в Муроме, по доносу одного из его псевдо-друзей по фамилии Грузинский, Зворыкин и еще пять бывших офицеров русской армии были арестованы и осуждены как враги народа. Вместе с другими репрессированными Павел Николаевич участвовал в строительстве Куйбышевской ГРЭС, потом работал на лесоповале в Архангельске, а в КОМИ республике принимал участие в строительстве железной дороги, где и умер в 1942 году от непосильных физических нагрузок. Реабилитирован отец Лидии Павловны Зворыкиной был лишь в 1956 году.
Его жена, Евдокия Федоровна, трепетно, втайне от окружающих, сохраняла и собирала все возможное о своей семье и семье репрессированного мужа, нередко говоря своей дочери Лидии, учительнице английского языка: «Что ты все бегаешь? Сядь и послушай. Ведь ты из Зворыкиных», – и рассказывала, рассказывала...
Зворыкины-Подгорные
Кто они – Зворыкины, Зворыкины-Подгорные? Почему Подгорные? Здесь уместно вспомнить о многочисленных семействах рода Зворыкиных. Каждая ветвь определялась или родом занятий главы семьи, или ее местожительством. Про эту ветвь Зворыкиных известно, что жили они в обширном доме под Богатыревой горой на спуске к Оке, отсюда и прозвание Подгорные. Увы, их дом не сохранился до наших дней, в 1996 году он был разобран. В архиве самой Лидии Павловны его фото не оказалось. Сохранились фотографии, размещающиеся в интернете и в местных СМИ.
Зато в архиве Лидии Зворыкиной хранится несколько фотографий главы этого дома Дмитрия Ивановича Зворыкина (1795-1867) – Сулемы2, как его прозывали в семье за невероятную прижимистость, даже жадность (Ил. 6). Дмитрий Иванович числился купцом третьей гильдии. Семья была очень большая, старинного уклада. Изначально все жили вместе. В доме проживало семьдесят два человека, отец никого из семьи не отпускал, был очень рачительным хозяином. Чтобы прокормить такое больше семейство, каждый день резали теленка. Жена Сулемы, Ирина Ивановна (1796 г. р.), родила десятерых детей, из которых выжило восемь. Это четыре дочери: Анна (1924-1887), бабка отца телевидения Владимира Козьмича Зворыкина, Александра (1825-1913), Мария (1832 г. р.) и Елена (1840-1920), прабабка Константина Михайловича Первова3, и четыре сына: Иван (1822-1885), дед будущего изобретателя льнопрядильной машины Ивана Дмитриевича Зворыкина, именем которого в Костроме назван льнокомбинат (Лидия Павловна рассказала, что старший Иван Дмитриевич, занимаясь текстильным делом, что-то модернизировал в челноке, за что в семье его прозывали Ткач), Федор (1827 г. р.), Николай (1830-1835) и Василий (1834-1896). Прошло время, и поразъехались, поразлетелись из дома «подгорного» дети. Дочери были выданы замуж, сыновья – каждый – купил себе дом. Родовой же дом достался Федору Дмитриевичу Зворыкину (Ил. 7). Он был известный в Муроме человек, состоял гласным Владимирского земского собрания и гласным городской думы. Среди его инициатив оказалось заявление в Думу от 27 апреля 1872 года о настоятельной необходимости учредить в городе прогимназию с дополнительным ремесленным классом. Так было дано начало открытию в Муроме реального училища, а Федор Дмитриевич стал членом попечительства этого учебного заведения4. В одной из родословных, хранящихся у Л. П. Зворыкиной, Федора назвали Археологом за участие в археологических изысканиях под началом графини Прасковьи Сергеевны Уваровой. По ее рекомендации Зворыкин включен в члены Московского археологического общества. Его единственный сын Иван (1830-1863) был поэтом. Лидия Павловна бережно хранит репринтную копию сборника стихов, написанных Иваном в последние три года жизни. Сборник был напечатан в типографии5, принадлежавшей двоюродному брату поэта Николаю Васильевичу Зворыкину (1855-1925), деду Лидии Павловны. Стихи предваряются вступительной статьей, где сказано, что любимым поэтом Ивана был А. С. Пушкин. Сам он, инвалид по рождению, со слабым сердцем и слабой нервной системой, имел тонкую, легкоранимую душу и обладал очень богатым внутренним миром. Это отразилось в его стихах. Среди них много духовных, стихов-размышлений. В одном Иван дает описание родного дома, достаточно мрачное, как и его болезнь:
...Картины прошлого проходят предо мной
Я вижу, под горой стоит уединенный,
Как мрачная тюрьма, большой отцовский дом.
Я вижу в нем себя больным и изнуренным,
Но с сильною душой и пытливым умом...
В другом стихотворении поэт пишет о детском приюте на Никольской (ныне ДОСААФ на Первомайской улице), тоже ассоциируя его с тюрьмой. Может, это было связано с соседством родительского дома с реальным тюремным замком (ныне кафе «Крюк», площадь Революции, д. 1).
Зворыкины с Успенской (Красноармейской)
Брат Федора Дмитриевича Зворыкина, прадед Лидии Павловны, Василий Зворыкин (Ил. 8), женился на Прасковье Алексеевне Суздальцевой (1932-12.01.1881). Для семьи он выкупил дом на улице Успенской (ныне ул. Красноармейская, 7) у Марии Ефимовны Ермаковой, вдовы головы города Алексея Васильевича Ермакова. Дом ему достался «очень дешево, с мебелью, зеркалами и коврами. Вход в усадьбу был украшен фигурами лежащих львов, к сожалению не сохранившихся до наших дней», – так писала Евдокии Федоровне Зворыкиной Елизавета Аркадьевна Соколова-Куликова, выросшая в этом доме. При доме был замечательный сад. Вход в сад со двора начинался фонтаном. Над оврагом была беседка в китайском стиле, с балкончиком. К ней вела широкая дорожка. Сад, полный фруктовых и ягодных деревьев и кустарников, располагался на трех ярусах южного склона оврага. На нижний третий ярус вела лестница, густо обсаженная акацией. Внизу был пруд, склон оврага поддерживался мощной каменной стеной.
У Василия Дмитриевича и его жены Прасковьи Алексеевны было трое детей – Мария, Николай (1855-1925) и Владимир (01.03.1867-1943?). Мария вышла замуж за коллежского асессора, вдовца Аркадия Петровича Соколова, жившего в соседнем доме (ныне ул. Красноармейская, д. 9), и стала его двухлетней дочке Лизе, Лизоньке, как ее называли в семье, матерью. Позже, в письме Евдокии Федоровне Елизавета Аркадьевна напишет, что сад при доме был миром их детства, ее и детей Николая Васильевича «Пани, Мити, Маруси и Тони» (Ил. 9). Прошло время, и подросшие братья Зворыкины Павел и Дмитрий подсмеивались над своей сводной сестрой Лизонькой, когда та собралась выйти замуж за художника Ивана Куликова, донимая ее песенкой:
А кто же он такой,
Он – художник молодой,
Он – художник молодой?
Ему уж год двадцать восьмой.
Николай Зворыкин (Ил. 10) был совладельцем выксунских металлургических заводов. Он женился на представительнице другого рода Соколовых, выходцев из откупившихся крепостных крестьян графа Уварова из Карачарова, Лидии Павловне Соколовой (1860-1923). Надо отметить, что в архиве Зворыкиных оказалось много фотографий представителей второго рода Соколовых. Две семьи-однофамилицы, из одной – будущая жена академика живописи И. С. Куликова Елизавета Аркадьевна, выросшая в бывшем доме Ермакова, из другой – бабка нынешней хранительницы архива, полная ее тезка в замужестве, Лидия Павловна Зворыкина, пришедшая в этот дом хозяйкой. Для меня это удивительная новость, требующая дальнейших исследований. Ведь мои корни тоже из Карачарова, и в нашей родне тоже есть Соколовы. Из разговоров с Лидией Павловной Зворыкиной я выяснила, что одна из сестер Соколовых – Вера, монахиня Выксунского Иверского женского монастыря, бывая в Муроме, часто из города «уходила в Карачарово, в тишину, помолиться»: не в дом ли моего родственника Николая Павловича Соколова, стоявший под святым родником Ильи Муромца? Но это уже другая история...
Сам же Николай Васильевич Зворыкин, как в семье о нем говорили, был очень добрый и справедливый человек, числился среди благотворителей Саровского монастыря. В семье известно, что однажды, в знак благодарности за честную службу, он купил одному из своих приказчиков дом.
«Зубр» из рода Зворыкиных
Второго сына Владимира Васильевича в семье прозывали Зубром6. Почему? Лидия Павловна не смогла объяснить. Может, это прозвище подтверждает его судьба? Какова же она? Родился Володя 1 марта 1867 года. После учебы в реальном училище, как и многие другие его однокашники, он продолжил образование. В 1891 году закончил Императорское московское техническое училище (ИМТУ), ныне МВТУ им. Н. Баумана. По окончании училища Зворыкин получил специальность инженера, физика, преподавателя и начал преподавать в своей альма-матер. В научных кругах В. В. Зворыкин признан крупным ученым в области общего машиностроения и металлических строительных конструкций. Будучи профессором ИМТУ, он преподавал такие дисциплины, как сопротивление материалов и машиностроение. На основе курса лекций по графостатике, который Зворыкин читал механическом отделении ИМТУ, в 1910 году был издан учебник, переизданный дополнительно в 1911 году7. Как один из профессионалов своего дела, вместе с инженером-механиком Владимиром Григорьевичем Шуховым, «первым инженером Российской империи»8, сотрудничал с конторой известного русского предпринимателя конца XIX – начала XX века Александра Бари, создателя первой российской инжиниринговой компании9. Вместе с Шуховым Владимир Зворыкин принимал участие в проведении инженерных расчетов и проектировании металлических конструкций зданий Московского Главпочтамта, построенного на Мясницкой улице в 1912 году, для операционного зала которого было создано стеклянное покрытие с естественным светом10, и здания Московского ЦУМа – бывшего магазина «Мюр и Мерилиз»11. Эти конструкции были впервые применены в области стальных сетчатых перекрытий-оболочек и металлических конструктивных элементов. По воспоминаниям Павла Николаевича Зворыкина, отца хранительницы архива, часто гостившего у дяди в Москве, маленький макет ЦУМа всегда стоял на письменном столе в рабочем кабинете Зворыкина. В течение некоторого времени Зворыкин был владельцем собственной технической конторы.
Ученый занимался и общественной деятельностью. Был председателем инженерно-механического отделения Российского политехнического общества, состоял действительным членом созданного в 1909 году в Москве «Общества содействия успехам опытных наук и их практическому применению». Среди почетных членов этого общества были И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский В. В. Зворыкин был учеником, а позже сослуживцем и другом отца русской аэрогидродинамики Николая Егоровича Жуковского, также преподававшего в ИМТУ. Обосновавшись в Москве, Владимир Васильевич с семьей жил на улице Немецкой в собственном доме. До наших дней дом не сохранился, он располагался рядом с современной улицей Радио.
Рассказы Лидии Павловны Зворыкиной невероятно любопытны. От своей матери Евдокии Федоровны она слышала удивительные истории о поездках отца в гости к московскому дяде-ученому, радушно принимавшему в своем доме всех племянников, не только Павла. Владимир Васильевич очень тепло относился к своей родне, муромской в том числе. Павел вспоминал, что, бывая у дяди в гостях, иногда сопровождал его и гостившего у Зворыкиных на Немецкой улице по выходным дням Николая Егоровича Жуковского (для Жуковского у Зворыкина была отведена специально комната, к нему был приставлен один из слуг Зворыкиных) на службу в Елоховский собор. Молодой человек наблюдал не однажды картинку, как Жуковский во время службы вдруг отвлекался на то, чтобы записать на полу тростью какие-то формулы. Тогда Владимир Васильевич брал его под локоток и напоминал, что они в храме. Жуковский приходил в себя, отвечая: «Да, да...», – и начинал молиться. «Мысли его были в небе, но не с Богом», – говорит Лидия Павловна.
Владимир Васильевич был женат на чешке, Франце Павловне. В семье росло трое сыновей: Михаил, Николай и Сергей (Ил. 11). Трагична судьба младшего сына Сергея. Он был воспитанником Алексеевского юнкерского училища. Юнкера до событий 1917 года приняли присягу царю и во время двоевластия в Москве в ноябре 1917 года оказались среди участников юнкерского мятежа, захвативших Кремль. Сопротивление было мирным до момента, пока одна из пуль не попала в икону Успенского собора. По словам Лидии Павловны, Сергей первым выстрелил в противника. Именно об этих мальчиках-юнкерах напишет позже свою песню Александр Вертинский:
...И никто не додумался
Просто встать на колени
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране
Даже светлые подвиги –
Это ступени
В бесконечные пропасти –
К недоступной весне...
Сергея, как и его товарищей, арестовали, отвезли в Арзамас, где он был расстрелян.
Сам Владимир Васильевич не был вне политики ни до, ни после революционных событий. Он состоял старостой домовой церкви ИМТУ, был гласным Московской городской думы, с 1905 года являлся членом Басманного комитета партии кадетов. За свои политические взгляды арестован в 1918 году Московской ЧК, но через три недели освобожден, возможно, как крупный ученый. Вновь Владимира Васильевича арестовали 16 августа 1922 года по обвинению в том, что, являясь преподавателем МВТУ, он «стремился к независимости высшей школы с целью использования ее как контрреволюционного орудия в противовес интересам пролетарских масс. Свою контрреволюционную деятельность усиливал участием в забастовке профессоров МВТУ». В списке активной антисоветской интеллигенции Зворыкин значился среди своих коллег профессоров Московского высшего технического училища под номером шесть. Кроме известных нам обвинений, за занимаемые им в дореволюционный период должности в вину еще было вменено, что он «определенный противник советской власти», ведущий монархическую агитацию среди студенчества. Приговор звучал так: «Произвести обыск, арест и выслать за границу». Обозначено и согласование вынесенного приговора: «Комиссия с участием т. Богданова и др. за высылку. Главпрофобр за высылку»12.
Это была акция под собирательным названием «философский пароход», инициированная В. И. Лениным, когда в 1922 году из страны выслали цвет российской интеллигенции. Ученых, философов, деятелей культуры, университетских профессоров объявили врагами, но не уничтожили, а посадили на пароходы и отправили в Европу. По решению Коллегии ГПУ от 23 августа 1922 года Зворыкин с семьей также был выслан из пределов РСФСР заграницу. Он вместе с женой и двумя сыновьями был среди пассажиров первого судна, зафрахтованного у немцев парохода «Обербургомистр Хакен». Всего на этом борту выехало из России более тридцати человек, с семьями – около семидесяти. В их числе, кроме В. В. Зворыкина, были Н. А. Бердяев, С. Е. Трубецкой, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, М. А. Ильин (Осоргин), М. М. Новиков, А. И. Угримов, Н. А. Цветков и др. 29 сентября 1922 года пароход отплыл из Петрограда, а 30 сентября прибыл в немецкий Штеттин13.
Информация о жизни В. В. Зворыкина после высылки из страны очень скудна. Заграницей семья Зворыкина некоторое время жила в Чехословакии, может быть, потому, что жена Франца Павловна была чешкой. В Праге Владимир Васильевич состоял членом академической группы. В 1933 году семья переехала во Францию. Жили в Париже, где Владимир Васильевич в 1933-1935 годах читал в Русском высшем техническом институте курс «Паровые котлы». Известно, что в 1937-1939 годах он состоял членом Русской колонии Бордо и юго-запада Франции, там же в Бордо в 1938-1939 был избран в Русскую эмигрантскую думу. Умер Владимир Васильевич Зворыкин в Бордо не позднее 1943 года. Какова судьба его семьи, неизвестно. Правда, Лидия Павловна рассказала, что в их семье есть предание: однажды к отцу телевидения В. К. Зворыкину, когда тот был в Греции, подошли двое мужчин и представились ему как родственники. Не сыновья ли это Владимира Васильевича Зворыкина? Сам Владимир Васильевич Зворыкин был реабилитирован лишь в 2000 году, когда стали открываться секретные архивы по «философскому пароходу»14.
Сама Лидия Павловна интересуется темой преемственности ученых рода Зворыкиных. Поэтому она попросила меня: «Лена о Васе напиши». Вася, Василий Васильевич Зворыкин, родился в Муроме в 1989 году. Он внучатый племянник Лидии Павловны, также интересуется историей своего рода. Василий живет в Муроме. Он закончил среднюю школу № 13, а потом экономический факультет МиВЛГУ. Сейчас, сохраняя традиции многих представителей рода Зворыкиных, занимается наукой, является аспирантом кафедры «Менеджмент и маркетинг» Владимирского института бизнеса, готовится к защите кандидатской диссертации «Модель экономической готовности как механизм анализа предпринимательской структуры». Он принимает участие в работе международных конференций по вопросам становления цифровой экономики, последняя из которых состоялась в Дубне 17 ноября 2017 года. В 2015 году его научная работа «Экономическая готовность РФ к импортозамещению, методика расчета» как победившая в XVIII Всероссийском конкурсе научных работ «Экономический рост молодежи», была напечатана в Трудах вольного экономического общества России.
Ну, а архив Лидии Павловны Зворыкиной настолько обширен, что изучение его продолжается.
1 Е. А. Куликова (1886-1978) – жена академика живописи, ученика И. Е. Репина И. С. Куликова (1875-1941), организатор и первый директор дома-музея И. С. Куликова в Муроме. См.: Казанкова М. А., Насонова Н. В., Сазонова Е. И. Из истории рода муромских купцов Гундобиных // Сообщения Муромского музея 2012. – Владимир, 2014. – С. 59-60. В этой статье явно присутствует описка в указании даты венчания молодых. Сам Куликов рожден 1 апреля 1875 года, Елизавета Аркадьевна – в 1886 году, а в песенке-дразнилке братьев Зворыкиных в адрес Лизоньки сказано, что женились они, когда молодому было 27 лет. Так что дата этого события приходится не на 1885, а на 1902 г.
2 Сулема, синонимы: ртуть, сублимат, яд // Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. – С. 768.
3 Первов Константин Михайлович (1936-2005) – происходит из Муромского рода купцов Первовых, приходится внуком известному муромскому фотографу Н. Н. Сажину. Один из фондообразователей муромского музея. О нем см.: О. А. Сухова «Купеческий портрет»: муромский вариант // Сообщения Муромского музея 2014. – Владимир. 2015 – С. 29, 56, 58.
4 Чернышев В. Я. Муромские купцы Зворыкины. – Владимир, 2013. – С. 59.
5 Зворыкин И. Ф. Стихи. – Муром, 1891.
6 Зубр – Так шутливо говорят об опытном и ценном специалисте.// См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. – С. 229.
7 Зворыкин В. В. Элементы графостатики. – М., 1910; он же. Элементы графостатики: курс, читанный на механ. отделении. – М., 1911. – С. 229.
8 Владимир Григорьевич Шухов [16(28) августа 1853 – 2 февраля1939] – русский советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый; член-корреспондент и почетный член Академии наук СССР, лауреат премии имени В. И. Ленина, Герой Труда. Является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти. Внес выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. В. Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки, ввел в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D...0%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D%B8%D1%87.
9 Александр Вениаминович Бари (1847-1913) – американский инженер, предприниматель и общественный деятель российского происхождения, создатель первой в России инжиниринговой компании. Близкий друг В. Шухова, Л. Толстого, Д. Менделеева, Н. Жуковского, П. Худякова, Ф. Шехтеля и И. Рерберга. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D...%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
10 Почтамт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Московский почтамт.
11 ЦУМ (Магазин Мюр и Мерилиз) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: academic.ru/dic.nsf/ruwiki/329947.
12 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-1923. – М., 2005. – С. 442.
13 На каждого интеллигента должно быть дело // Новая газета. – 2003. – № 52.
14 Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь. – М., 2008. – Т. I. – С. 798.
Другие публикации сборника:
– Предписания о перестройке городов по регулярным планам. Публикация Т. Б. Купряшиной
– Сухова О. А., Смирнов Ю. М. Муромский художник Михаил Константинович Лёвин. К 100-летнему юбилею (1918-1985)
– Антонова Н. Д. Василий Афанасьевич Москвин – секретарь военного времени
– Тюрина Е. К. Гардероб актрисы М. Н. Тереховой в собрании музея
http://www.museum-murom.ru/scientific-work/materia...muromskie.-iz-semejnogo-arhiva
|
Метки: зворыкины наука |
Оболенский, Алексей Васильевич |
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
☆ 📧
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Оболенский.
| князь Алексей Васильевич Оболенский | |
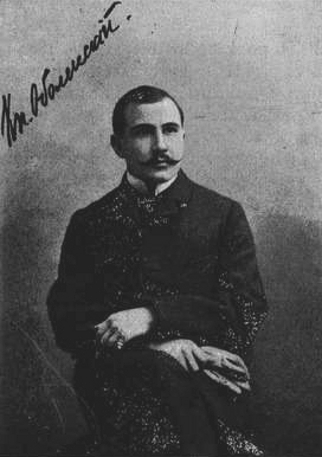 |
|
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Образование: | |
| Партия: | |
Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (24 января 1877, Москва — 21 ноября 1969, Стокгольм, Швеция) — русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
Биография[править]
Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского (1846—1890) и княжны Марии В. Долгоруковой (1851—1930).
Окончил лицей цесаревича Николая (1895) и юридический факультет Московского университета (1898).
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 — назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
Занимался общественной деятельностью: с возникновением Союза 17 октября вступил в число его членов, состоял секретарем городского совета и членом ЦК партии, в 1906 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы, входя в состав прогрессивной партии. Участвовал в реставрации Ферапонтова монастыря.
После революции эмигрировал в Финляндию, в 1939 году переехал в Швецию. Состоял председателем общества помощи русским беженцам, вместе с супругой стал одним из основателей Общества ревнителей русской старины. Написал книгу «Мои воспоминания и размышления».
Скончался в 1969 году в Стокгольме. Был женат на Ольге Алексеевне Прозоровой, дочери предпринимателя А. Я. Прозорова.
Сочинения[править]
- Мои воспоминания и размышления. Стокгольм—Брюссель: издание журнала «Родные перезвоны», 1961.
Источники[править]
- Памятная книжка Виленской губернии на 1901 год. — Вильна, 1900. — С. 6.
- Золотая книга Российской империи. Санкт-Петербург, 1908. С. 93.
- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 5. Н — Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 184.
Источник — «http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Оболенский,_Алексей_Васильевич_(1877)&oldid=2272078»
|
Метки: оболенские союз 17 октября |
Прозоров, Алексей Яковлевич |
Прозоров, Алексей Яковлевич
☆ 📧
Материал из Википедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Прозоров.
| Алексей Яковлевич Прозоров | |
 |
|
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Партия: | |
| Род деятельности: |
предприниматель, финансист |
Алексе́й Я́ковлевич Про́зоров (1842—1914) — русский предприниматель и финансист, председатель Санкт-Петербургского биржевого комитета, член III Государственной думы от города Санкт-Петербурга.
Содержание
Биография[править]
Православный. Потомственный дворянин, сын купца 1-й гильдии Якова Алексеевича Прозорова. Землевладелец Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. В Санкт-Петербурге владел домом по Галерной улице, 49.
По окончании курса в Московском коммерческом училище с золотой медалью, вступил в дело отца, имевшего оптовую торговлю хлебными и льняными товарами, отправлявшимися за границу через Архангельск. В 1879 году был учрежден торговый дом «Яков Прозоров с сыном», в котором отец и единственный сын Алексей Яковлевич были полными товарищами. В 1881 году, после смерти отца, остался единственным владельцем торгового дома. В 1882 году стал одним из учредителей Северного телеграфного агентства. В 1886 году был удостоен звания коммерции-советника. В 1897—1914 годах состоял председателем Санкт-Петербургского биржевого комитета. Был полным товарищем Русского товарищества котиковых промыслов, председателем правления Камчатского торгово-промышленного общества, страхового общества «Россия» и общества стеклянного производства «И. Ритинг», председателем акционерного общества Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры в Ревеле, а также акционером и пайщиком других коммерческих предприятий. Входил в Совет Волжско-Камского коммерческого банка. В 1906 году был избран председателем Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства.
Участвовал в различных совещательных органах при министерствах торговли и финансов. Состоял чиновником особых поручений при министре торговли и промышленности, членом Совета торговли и мануфактур, а также представителем торговли и мануфактур в советах по тарифным и железнодорожным делам. Имел чин тайного советника (1913).
Кроме того, занимался общественной деятельностью и благотворительностью. Избирался почетным мировым судьей Вятского и Лужского уездов. Состоял почетным попечителем дома призрения детей бедных граждан города Вятки, членом попечительного больничного совета биржевой барачной больницы, почетным членом совета Санкт-Петербургского коммерческого училища, а также пожизненным почетным членом Вятского губернского попечительства детских приютов. В 1891 году был избран почетным гражданином Вятки.
После провозглашения Октябрьского манифеста стал членом петербургского Клуба общественных деятелей и «Союза 17 октября». 7 сентября 1911 года был избран в члены III Государственной думы от Санкт-Петербурга 1-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию октябристов. Состоял членом финансовой и о торговле и промышленности комиссий.
Скончался в 1914 году. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры.
Семья[править]
Был женат на дочери дворянина Антонине Николаевне Мосоловой (р. 1849). Их дети:
- Яков (р. 1872), воспитанник Николаевского кавалерийского училища (1895), поручик лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, штабс-ротмистр в отставке. Наследник семейного торгового дела.
- Алексей (1873—1902), окончил Санкт-Петербургский университет. Заведовал котиковым промыслом в Охотском море, составил «Экономический обзор Охотско-Камчатского края» (СПб., 1902). Трагически погиб в устье реки Камчатки. Был похоронен в Федоровской церкви Александро-Невской лавры.
- Борис, воспитанник Александровского лицея (1906), секретарь при начальнике Главного управления почт и телеграфов.
- Ольга (1870—1959), в первом браке Асташева, во втором браке — за князем А. В. Оболенским.
Награды[править]
- Высочайшая благодарность (1883);
- Высочайшая благодарность (1888);
- Орден Святой Анны 2-й ст. (1897);
- Орден Святого Владимира 3-й ст. (1901);
- Орден Святого Станислава 1-й ст. (1905).
Иностранные:
- бельгийский Орден Леопольда I, кавалерский крест (1886);
- ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига 4-й ст. (1888)
Источники[править]
- Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 300.
- Деятели России: 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — Санкт-Петербург, 1906.
- Энциклопедия земли Вятской. Том шестой. — Киров, 1996. — С. 358.
- М. Н. Барышников Деловой мир Петербурга: исторический справочник. — СПб.: Logos, 2000. — С. 366.
- Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
- Прозоровы в Петербурге
 Депутаты Государственной думы Российской империи от Санкт-Петербургской губернии Депутаты Государственной думы Российской империи от Санкт-Петербургской губернии |
||
|---|---|---|
| I созыв | Винавер • Кареев • Кедрин • Набоков • Петражицкий • Петрункевич • Быстров • Колпаков • Ломшаков |  |
| II созыв | Алексинский • И. В. Гессен • Кутлер • Г. С. Петров • Струве • Фёдоров • В. М. Гессен • Леппянен • И.А. Петров | |
| III созыв | фон-Анреп • Беляев • Колюбакин* • Кутлер • Лерхе • Милюков • Прозоров • Родичев • фон-Крузе • Полетаев • Смирнов • Трифонов | |
| IV созыв | Барышников • Велихов • Калугин • Милюков • Родичев • Шингарёв • Бадаев • Евсеев • Зиновьев • Посников | |
| Курсивом выделены депутаты непосредственно от города Санкт-Петербурга; * - исключен из состава думы | ||
Источник — «http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Прозоров...ей_Яковлевич&oldid=3185303»
|
Метки: прозоровы союз 17 октября |
Так за что же Сталин расстрелял Якова Блюмкина? |
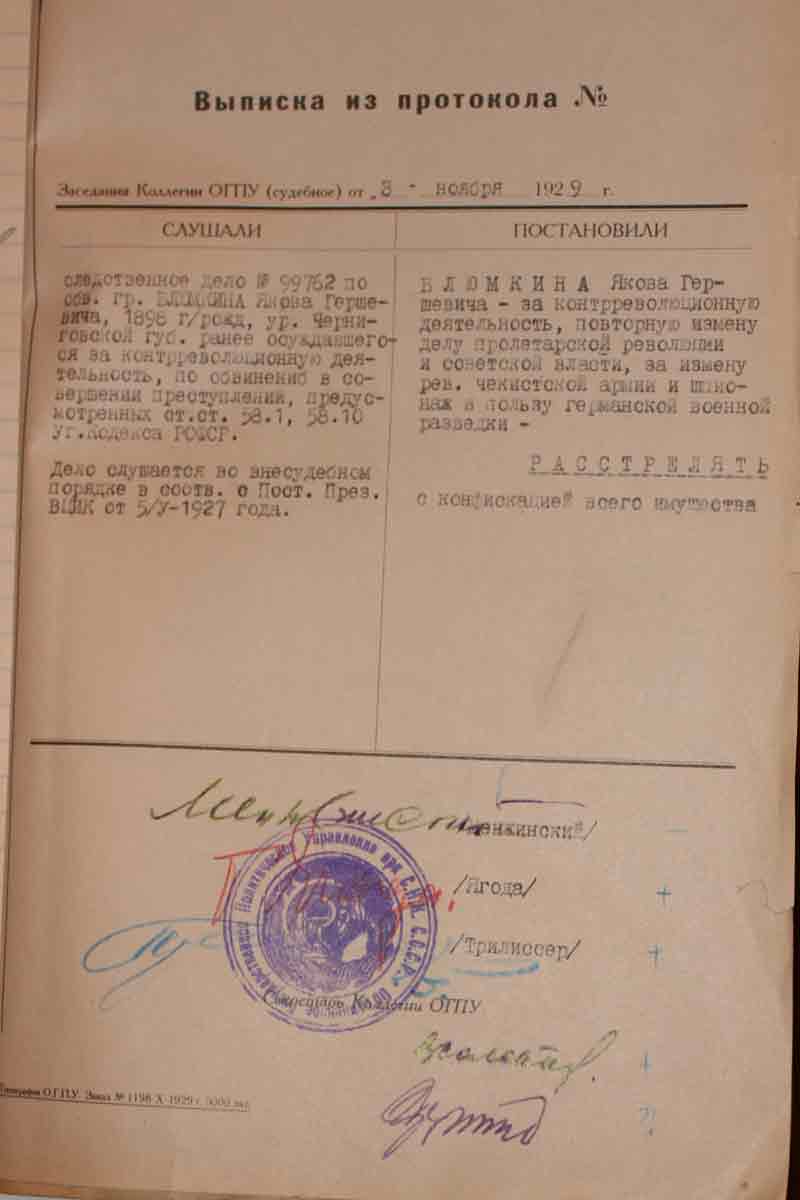
Так за что же Сталин расстрелял Якова Блюмкина?
Для тех кто учился в советской школе и не прогуливал уроки истории, имя Якова Блюмкина связано с убийством немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха . Это он вместе с Николаем Андреевым 6 июля 1918 года по заданию руководства партии левых эсеров убил германского посла в Советской России фон Мирбаха, чтобы сорвать подписанный правительством Ленина Брестский мир с Германией и разжечь "революционную войну".Для нормального советского школьника, также было совершенно понятно ,что после этого Яков Блюмин, должен был быть расстрелян, как враг советской власти, хотя в школьных учебниках, про это не говорилось.
Теперь, те кто хочет знать истинную историю а не мифологию знают,что в учебнике не говорилось о дальнейшей судьбе Блюмкина, по банальной причине, все что было связано с ним ,было большой государственной тайной.
Вот что пишет о нем все знающая Викопедия.
Яков Григорьевич Блюмкин (Симха-Янкев Гершевич Блюмкин псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров; дата рождения 27 февраля 1900 год, расстрелян по постановлению Коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 год) — российский революционер и террорист, советский чекист, разведчик и государственный деятель, авантюрист. Один из создателей советских разведывательных служб.
Родился 27 февраля 1900 года в Одессе. Отец, Гирша Самойлович Блюмкин, был приказчиком в бакалейной лавке, мать, Хая-Ливши Блюмкина, была домохозяйкой.
В 1914 году после окончания одесского еврейского духовного училища (Талмудтора), Блюмкин работал электромонтёром, в трамвайном депо, в театре, на консервной фабрике братьев Аврич и Израильсона. Брат Лев был анархистом, а сестра Роза социал-демократкой. Старшие братья Якова — Исай и Лев были журналистами одесских газет, а брат Натан получил признание как драматург (псевдоним «Базилевский»). Участвовал в отрядах еврейской самообороны против погромов в Одессе. Вступил в партию социалистов-революционеров.
В ноябре 1917 года Блюмкин примкнул к отряду матросов, участвовал в боях с частями украинской Центральной Рады. Во время революционных событий в Одессе в 1918 году участвовал в экспроприации ценностей Государственного банка. Были слухи, что часть экспроприированного он присвоил себе. В январе 1918 года, Блюмкин, совместно с Моисеем Винницким (Мишкой «Япончиком») принимает активное участие в формировании в Одессе 1-го Добровольческого железного отряда. Входит в доверие к диктатору революционной Одессы Михаилу Муравьеву.
В те же годы в Одессе Блюмкин знакомится с поэтом А. Эрдманом. Уже в апреле 1918 года Эрдман под видом лидера литовских анархистов Бирзе ставит под свой контроль часть вооружённых анархистских отрядов Москвы и одновременно работает для ЧК, собирая информацию о немецком влиянии в России для стран Антанты. Вероятно Эрдман помог Блюмкину устроить свою дальнейшую карьеру в ЧК.
В мае 1918 года Блюмкин приезжает в Москву. Руководство Партии левых эсеров направило Блюмкина в ВЧК заведующим отдела по борьбе с международным шпионажем. С июня 1918 года он заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью. Вы можете предствить заведующий отделом ЧК в 18 лет ?
Находясь в должности начальника «германского» отдела ВЧК, Блюмкин 6 июля 1918 года явился в посольство Германии якобы для обсуждения судьбы дальнего родственника посла графа фон Мирбаха, которого арестовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК, эсер Николай Андреев. Около 14:40 Блюмкин несколько раз выстрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две бомбы. Посол погиб на месте. Преступники скрылись. Борис Бажанов бежавший на Запад бывший секретать Сталина в своих воспоминаниях описывает эти события следующим образом:
«Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в чека, и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания».
Убийство Мирбаха послужило сигналом для вооружённого выступления левых эсеров против Советского правительства во главе с большевиками. В советской историографии эти события было принято называть мятежом. После провала мятежа Блюмкин под фамилией Белов скрывался в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр, затем под именем Григория Вишневского работал в Кимринском комиссариате земледелия.
С сентября 1918 года Блюмкин на Украине. Без ведома руководства левых эсеров он пробирается в Москву, а оттуда в Белгород — на границу с Украиной. В ноябре того же года, в момент всеобщего восстания против украинского гетмана Павла Скоропадского и австро-немецких оккупантов, Блюмкин находит своих партийных товарищей в Киеве и включается в эсеровскую подпольную работу. Он участвует в подготовке террористического акта против гетмана Скоропадского и покушении на фельдмаршала немецких оккупационных войск на Украине Эйхгорна.
По некоторым данным, в декабре 1918 — марте 1919 годов Блюмкин был секретарем Киевского подпольного горкома ПЛСР.
По заданию ВЦИК (вместе с украинскими анархистами-махновцами) был задействован в подготовке покушения на Верховного правителя России, лидера белогвардейского движения адмирала Колчака. Необходимость в этом отпала из-за ареста Колчака левыми эсерами в Иркутске.
В марте 1919 года близ Кременчуга попал в плен к петлюровцам, которые жестоко избили Блюмкина, в частности, выбили ему передние зубы. После месячного лечения в апреле 1919 года Блюмкин явился с повинной в ВЧК в Киеве. За убийство Мирбаха Блюмкин был приговорен военным трибуналом к расстрелу. Но, во многом благодаря наркомвоенмору Льву Троцкому Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК и с одобрения председателя ВЧК Феликса Дзержинского, приняла решение об амнистии Блюмкина, заменив смертную казнь на «искупление вины в боях по защите революции». Способствовало принятию этого решения и то, что он выдал многих своих прежних товарищей, за что был приговорён левыми эсерами к смерти. На Блюмкина совершили 3 покушения, он был тяжело ранен, но сумел скрыться из Киева.
С 1919 на Южном фронте (начальник штаба и и.о. командира 79-й бригады) и в составе Каспийской флотилии.
В 1920 году Блюмкин предстал перед межпартийным судом по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда входили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. Товарищеский суд возглавил Карелин — бывший член ВЦИКа РСФСР, мистик, лидер российских анархистов-коммунистов. Суд над Блюмкиным затянулся на две недели, но так и не вынес окончательного решения. С 1920 — член РКП(б).
В секретариате Л.Троцкого занимал должность начальника личной охраны создателя Красной армии.
В 1920-1921 — на специальных курсах Военной академии РККА, после которых вновь переведен в органы ГПУ.
В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе направляется в Энзели (Персия), с целью возвращения российских кораблей, которые увели туда эвакуировавшиеся из российских портов белогвардейцы. В результате последовавших боевых действий белогвардейцы и занимавшие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись этой ситуацией, в начале июня вооружённые отряды революционного движения дженгалийцев под командованием Мирзы Кучек-хана захватывают город Решт — центр остана Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская Советская Республика.
Блюмкина направляют в Персию, где он участвует в свержении Кучек-хана и способствует приходу к власти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» и коммунисты. В боях шесть раз был ранен. После переворота Блюмкин участвовал в создании на базе социал-демократической партии «Адалят» Иранской коммунистической партии, стал членом её Центрального комитета и военным комиссаром штаба Гилянской Красной Армии.. Он представлял Персию на Первом съезде угнетённых народов Востока, созванном большевиками в Баку.
В Персии Блюмкин, в частности, знакомится с Яковом Серебрянским, содействует устройству его сотрудником Особого отдела Иранской Красной Армии
Вернувшись в Москву, Блюмкин издал книжку о Дзержинском и по личной рекомендации главного чекиста в 1920 году вступил в РКП(б). Направлен Троцким на учёбу в Академию Генерального штаба РККА на восточное отделение, где готовили работников посольств и агентуру разведки. В Академии Блюмкин к знанию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайского и монгольского языков, обширные военные, экономические и политические знания.
В 1920—1921 годах Блюмкин был начальником штаба 79-й бригады, а позже — комбригом, планировал и осуществлял карательные акции против восставших крестьян Нижнего Поволжья при подавлении Еланского восстания. Осенью 1920 года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной на борьбу против войск барона Унгерна.
Осенью 1921 года Блюмкин занимается расследованием хищений в Гохране. В октябре 1921 года он под псевдонимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Таллин) под видом ювелира и, выступая в качестве провокатора, выявляет заграничные связи работников Гохрана. Есть версия, что именно этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата.
В 1922 году после окончания Академии Блюмкин становится официальным адъютантом наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого. Выполнял особо важные поручения и тесно сошёлся с наркомом. Блюмкин редактировал первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась революция» (издание 1923 года). Осенью 1923 года по предложению Дзержинского Блюмкин становится сотрудником Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ. В ноябре того же года решением руководства ИНО Блюмкин назначается резидентом нелегальной разведки в Палестине. Он предлагает Якову Серебрянскому поехать вместе с ним в качестве заместителя. В декабре 1923 года они выезжают в Яффо, получив задание В. Менжинского собирать информацию о планах Англии и Франции на Ближнем Востоке. В июне 1924 года Блюмкин был отозван в Москву, и резидентом остался Серебрянский.
Одновременно Блюмкина вводят для конспиративной работы в Коминтерн.
В 1924 году работал в Закавказье политическим представителем ОГПУ и членом коллегии Закавказского ЧК. Одновременно он являлся помощником командующего войсками ОГПУ в Закавказье и уполномоченным Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Блюмкин участвовал в подавлении антисоветского восстания в Грузии, а также командовал штурмом города Баграм-Тепе, захваченного персидскими войсками. Участвовал в пограничных комиссиях по урегулированию спорных вопросов между СССР, Турцией и Персией.
Блюмкин, знавший восточные языки, тайно выехал в Афганистан, где пытался найти связь на Памире с сектой исмаилитов, почитавших в качестве живого бога своего лидера Ага-хана, который жил в ту пору в Пуне (Индия). С исмаилитским караваном Блюмкин, изображавший дервиша, проник в Индию. Однако там он был арестован английской полицией. Из тюрьмы Блюмкин благополучно бежал.
Сушествует версия, что Блюмкин под видом ламы участвовал в Гималайской экспедиции Рериха.В протоколах допроса Блюмкина после ареста, присутствуют материалы об этой экспедиции в Тибет.
В 1926 году Блюмкин направлен представителем ОГПУ и Главным инструктором по государственной безопасности Монгольской республики. Ему, в частности, приписывают убийство П. Е. Щетинкина — инструктора Государственной военной охраны МНР, секретаря партячейки. Выполнял спецзадания в Китае (в частности,
в 1926—1927 годах был военным советником генерала Фэн Юйсяна), Тибете и Индии. В 1927 году отозван в Москву в связи с трениями с монгольским руководством.
В 1928 году Блюмкин становится резидентом ОГПУ в Константинополе, откуда курирует весь Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) занимался организацией в Палестине резидентской сети. Работает то под видом набожного владельца прачечной в Яффо Гурфинкеля, то под видом азербайджанского еврея-купца Якуба Султанова. Блюмкин завербовал венского антиквара Якоба Эрлиха, и с его помощью обустроил резидентуру, законспирированную под букинистический магазин.
Помимо этого, Блюмкин наладил через каналы ЧК вывоз еврейских манускриптов и антиквариата из СССР. ОГПУ проделало огромную работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старинных свитков Торы, а также 330 сочинений средневековой еврейской литературы. Чтобы подготовить Блюмкину материал для успешной торговли, в еврейские местечки Проскуров, Бердичев, Меджибож, Брацлав, Тульчин направлялись экспедиции ОГПУ с целью изъятия старинных еврейских книг. Блюмкин сам выезжал в Одессу, Ростов-на-Дону и украинские местечки, где обследовал библиотеки синагог и еврейских молитвенных домов. Книги изымались даже из государственных библиотек и музеев.
В Палестине Блюмкин познакомился с Леопольдом Треппером, будущим руководителем антифашистской организации и советской разведывательной сети в нацистской Германии, известной, как «Красная капелла». Был депортирован английскими мандатными властями.
В воспоминаниях моего коллеги Ю.А .Лабаса, семья которого, хорошо знала Блюмкина так описан провал Блюмкина в Палестине.
- В Хайфу Блюмкин ехал затевать революцию среди местных арабов - под видом еврея-эмигранта с накладным брюхом и приклеенными пейсами. Девчонка-англичанка свалилась за борт и Блюмкин, забыв о гриме, кинулся ее спасать.Спас. Хотели представить к медали за спасение утопающих, но пейсы отклеились, подушка на брюхе намокла и сползла. Странным пассажиром заинтересовалась британская разведка. Операция была провалена, и Блюмкин чудом избежал расстрела. Его простили и отправили резидентом в Стамбул.
В 1929 году по заданию Сталина безуспешно пытался совершить покушение на бывшего сталинского секретаря Б. Г. Бажанова, бежавшего за границу. Летом 1929 года Блюмкин приезжает в Москву, чтобы отчитаться о ближневосточной работе. Его доклад членам ЦК партии о положении на Ближнем Востоке одобрен членами ЦК и руководителем ОГПУ В. Менжинским, который в знак расположения даже приглашает Блюмкина на домашний обед. Блюмкин с успехом проходит очередную партийную чистку, благодаря отличной характеристике начальника иностранного отдела ОГПУ М. Трилиссера. Партийный комитет ОГПУ характеризовал Блюмкина как «проверенного товарища».
Блюмкиным была тайно налажена связь с высланным из СССР Троцким. В 1929 году состоялась их беседа. В беседе с Троцким Блюмкин высказал свои сомнения в правильности сталинской политики и спросил совета: оставаться ли в ОГПУ, или уйти в подполье. Троцкий убеждал Блюмкина, что, работая в ОГПУ, он больше пригодится оппозиции. В то же время, Троцкий высказал сомнение, как мог троцкист, о взглядах которого было известно, удержаться в органах ОГПУ. Блюмкин ответил, что начальство считает его незаменимым специалистом в области диверсий. Вполне вероятно, что Блюмкин налаживал связи с Троцким по заданию ОГПУ.
Итак мы видим что биография у Якова Блюмкина совершенно исключительная и к 29 годам,этот человек прошел то, что хватит на сотню других биографий.
Так за что же был расстрелян Блюмкин в 1929 году ? Официально за связь с Троцким.
Та же Викопедия сообщает ,что Блюмкин был арестован после того, как следившая за ним в Стамбуле Елизавета Зарубина,( будуший полковник и участник добычи атомных секретов США) сообщила ОГПУ о его связях с Троцким. Блюмкин попытался скрыться, но был арестован после автомобильной погони со стрельбой на улицах Москвы. Блюмкина пытали, били на допросах. 3 ноября 1929 года дело Блюмкина было рассмотрено на судебном заседании ОГПУ (судила «тройка» в составе Менжинского, Ягоды и Трилиссера). Блюмкин обвинялся по статьям 58-10 и 58-4 УК РСФСР. Менжинский и Ягода выступили за смертную казнь, Трилиссер был против, но остался в меньшинстве.
По одной из версий Блюмкин во время казни воскликнул «Да здравствует товарищ Троцкий!». По другой запел: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!». Георгий Агабеков в книге «ЧК за работой» пишет со ссылкой на неназванного сослуживца-чекиста, что «[Блюмкин] ушел из жизни спокойно, как мужчина. Отбросив повязку с глаз, он сам скомандовал красноармейцам: „По революции, пли!“» В качестве точной даты расстрела Блюмкина приводятся 3 и 8 ноября, а также 12 декабря 1929 года
В этом расстреле много странностей. Что касается членов других партий и бывших правящих классов, большевики начали их уничтожение сразу после прихода к власти. В отношении же оппозиционеров в собственной партии в 1929 их еще не расстреливали, а отправляли в ссылки тюрьмы. Причем среди ссыльных оппозиционеров были люди гораздо боле высокого положения, чем Блюмкин. Уничтожение старых большевиков и любой оппозиции начнется позже в 30-е годы.
В 20-е годы только за два с половиной месяца — со второй половины ноября 1927 года до конца января 1928 года — за принадлежность к «левой оппозиции» из партии были исключены 2288 человек (ещё 970 оппозиционеров исключили до 15 ноября 1927 года). Очищение партии от оппозиции продолжалось на протяжении всего 1928 года. Большая часть исключённых была направлена в административную ссылку в дальние районы страны. В середине января 1928 года лидер оппозиции Л. Д. Троцкий был сослан в Алма-Ату, а в 1929 г. он был выслан за рубеж. Другой лидер, Г. Е. Зиновьев, также был отправлен в ссылку в 1928 г., но в том же году он покаялся и «разоружился», был восстановлен в партии и назначен ректором Казанского университета, а затем возвращён на работу в Москву.
Вот что писал БЮЛЛЕТЕНЬ ОППОЗИЦИИ (БОЛЬШЕВИКОВ-ЛЕНИНЦЕВ) издаваемый Троцким после высылки из СССР.
- Блюмкина не расстреляли в 1918 г. за руководящее участие в вооруженном восстании против советской власти, но его расстреляли в 1929 году за то, что он, самоотверженно служа делу Октябрьской революции, расходился, однако, в важнейших вопросах с фракцией Сталина и считал своим долгом распространять взгляды большевиков-ленинцев (оппозиции).
Не правда ли странно. Других, гораздо более высокопоставленных деятелей оппозиции лишь убирают высоких постов и ссылают, а Блюмкина расстреливают.
В том же бюллютене указывалось, что ,до последнего часа Блюмкин оставался на ответственной советской работе. Как он мог удержаться на ней, будучи оппозиционером? Обьясняется это характером его работы: она имела совершенно индивидуальный характер. Блюмкину не приходилось или почти не приходилось иметь дело с партийными ячейками, участвовать в обсуждении партийных вопросов, и пр. Это не значит, что он скрывал свои взгляды. Наоборот, и Меньжинскому, и Триллисеру, бывшему начальнику иностранного отдела ГПУ, Блюмкин говорил, что симпатии его на стороне оппозиции, но, что, разумеется, он готов, как и всякий оппозиционер, выполнять свою ответственную работу на службе Октябрьской революции. Меньжинский и Триллисер считали Блюмкина незаменимым, и это не было ошибкой. Они оставили его на работе, которую он выполнял до конца.
Блюмкин действительно разыскал т. Троцкого в Константинополе. Как мы уже упоминали выше, Блюмкин был лично тесно связан с т. Троцким работой его в секретариате. Он подготовлял, в частности, один из военных томов т. Троцкого (о чем говорится в предисловии к этому тому). Блюмкин явился к т. Троцкому в Константинополе, чтоб узнать, как им оценивается обстановка и проверить, правильно ли он поступает, оставаясь на службе правительства, которое высылает, ссылает и заключает в тюрьмы его ближайших единомышленников. Л. Д. Троцкий ответил ему, что он поступает, разумеется, совершенно правильно, выполняя свой революционный долг -- не по отношению к сталинскому правительству, узурпировавшему права партии, а по отношению к Октябрьской революции.
В одной из статей Ярославского была ссылка на то, что летом т. Троцкий беседовал с одним посетителем и предрекал ему, будто бы, скорую и неизбежную гибель советской власти. Разумеется, презренный сикофант лжет. Но из сопоставления фактов и дат, для нас ясно, что речь идет о беседе т. Троцкого с Блюмкиным. На его вопрос о совместимости его работы с его принадлежностью к оппозиции, т. Троцкий, в числе прочего, сказал ему, что высылка его заграницу, как и тюремные заключения других товарищей, не меняют нашей основной линии; что в минуту опасности оппозиционеры будут на передовых позициях; что в трудные часы Сталину придется призывать их, как Церетели призывал большевиков против Корнилова. В связи с этим он сказал: "как-бы только не оказалось слишком поздно". Очевидно Блюмкин, после ареста, изложил эту беседу, как доказательство подлинных настроений и намерений оппозиции: не нужно ведь забывать, что т. Троцкий выслан по обвинению в подготовке вооруженной борьбы против советской власти! Через Блюмкина было передано в Москву информационное письмо к единомышленникам, в основе которого лежали те же взгляды, которые излагались в ряде напечатанных статей т. Троцкого: репрессии сталинцев против нас не означают еще изменения классовой природы государства, а только подготовляют и облегчают такое изменение; наш путь попрежнему остается путем реформы, а не революции; непримиримая борьба за свои взгляды должна быть рассчитана на долгий срок.
Позже было получено сообщение, что Блюмкин арестован и что пересланное через него письмо попало в руки Сталина.
Расстрел Блюмкина был на столько неординарным событием, что «Бюллетень» посвятил ему материалы в нескольких номерах .Например в одном из них было опубликовано письмо следующего содержания.
Москва, 25 декабря.
Вы, конечно, знаете о расстреле Блюмкина, как и о том, что это было сделано по личным домогательствам Сталина. Этот подлый акт мести уже сейчас волнует довольно широкие партийные круги. Но волнуются втихомолку. Питаются слухами. Одним из источников слухов является Радек. Его нервная болтливость хорошо известна. Сейчас он совершенно деморализован, как и большинство капитулянтов. Но в то время, как у И. Н. Смирнова, например, это выражается в подавленности, Радек, наоборот, ищет выхода в распространении слухов и сплетен, долженствующих доказать глубокую искренность его покаяния. Несомненно, что Ярославский пользуется этим качеством Радека, чтоб пускать через него в обращение надлежащие слухи. Все это необходимо отметить, чтоб понятно было дальнейшее.
Со ссылкой на Радека распространяется такая версия: явившись в Москву, Блюмкин первым делом розыскал Радека, с которым он за последние годы встречался чаще, чем с другими, и в котором привык видеть одного из руководителей оппозиции. Блюмкин хотел информироваться и разобраться, в частности понять причины капитуляции Радека. Ему, конечно, и в голову не могло притти, что в лице Радека, оппозиция имеет уже ожесточенного врага, который, потеряв последние остатки нравственного равновесия, не останавливается ни перед какой гнусностью. Тут надо еще принять во внимание, как характерную для Блюмкина склонность к нравственной идеализации людей, так и его близкие отношения с Радеком в прошлом. Блюмкин передал Радеку о мыслях и планах Л. Д. в смысле необходимости дальнейшей борьбы за свои взгляды. Радек в ответ потребовал, по его собственным словам, от Блюмкина немедленно отправиться в ГПУ и обо всем рассказать. Некоторые товарищи говорят, что Радек пригрозил Блюмкину в противном случае немедленно донести на него. Это очень вероятно при нынешних настроениях этого опустошенного истерика. Мы не сомневаемся, что дело было именно так. После этого, гласит официальная версия, Блюмкин "покаялся", явился в ГПУ и сдал привезенное письмо т. Троцкого. Мало того: он сам будто бы требовал, чтоб его расстреляли (буквально!). После этого Сталин решился "уважить" его просьбу и приказал Меньжинскому и Ягоде расстрелять Блюмкина. Разумеется, Сталин предварительно провел это решение через Политбюро, чтоб связать раскаявшихся правых. Незачем говорить, что те полностью пошли ему навстречу.
Как надо понимать эту официальную версию? Лживость ее бьет в глаза. Достоверных сведений у нас нет, так как Блюмкин, насколько нам до сих пор известно, ничего передать на волю не успел. Но действительный ход событий достаточно ясно вытекает, по крайней мере, в основных чертах, из всей обстановки. После беседы с Радеком, Блюмкин увидел себя преданным. Ему ничего не оставалось, как явиться в ГПУ, тем более, что письмо Л. Д., по содержанию своему, не могло, разумеется, не быть опровержением всех тех гнусностей, которые здесь распространялись для оправдания высылки. Были ли в письме какие-либо адреса и пр.? Мы думаем, что, нет, так как никто решительно не пострадал из тех товарищей, которые могли бы служить Блюмкину для связи.
"Покаялся" ли т. Блюмкин? Если бы он действительно "покаялся", т. е. присоединился бы к позиции Радека, то он не мог бы не назвать тех товарищей, для которых предназначалось письмо т. Троцкого. Но тогда не мог бы уцелеть и автор этих строк. Между тем повторяю: никто не был арестован. Наконец, если бы т. Блюмкин "покаялся", то ГПУ, конечно, не торопилось бы удовлетворить "просьбу" Блюмкина о расстреле его, а использовало бы его самого для совсем других целей: ведь случай был совсем исключительный. Нет никакого сомнения, что такая попытка была действительно сделана со стороны ГПУ и натолкнулась на сопротивление Блюмкина. Тогда Сталин приказал расстрелять его. А когда по партии пошел тревожный шопот, Ярославский пустил через Радека приведенную выше версию. В таком виде представляется нам здесь это дело.
Сталин не мог не понимать, что расстрел Блюмкина не пройдет в партии бесследно, и в конце концов причинит "грубому и нелойяльному" узурпатору жестокий вред. Но жажда мести сильнее его. По партии давно ходит рассказ о том, как Сталин еще в 1923 году, летним вечером в Зубалове (под Москвой), разоткровенничавшись с Дзержинским и Каменевым, сказал: "выбрать жертву, подготовить тщательно удар, беспощадно отомстить, -- а потом пойти спать... Слаже этого нет ничего в жизни". На эту беседу намекал и Бухарин ("сталинская философия сладкой мести") в своем прошлогоднем рассказе о борьбе со сталинцами. За границей появляются книги Л. Д., его статьи, его автобиография. Отомстить необходимо. Сталин арестовал без малейшего основания дочь Л. Д. Но так как она с пневматораксом, тяжело больна, то Политбюро не решилось (говорят, несмотря на настояния Сталина) держать ее в тюрьме, тем более, что вторая дочь т. Троцкого в аналогичных условиях умерла полтора года тому назад от туберкулеза. Ограничились тем, что мужа дочери Л. Д., Платона Волкова, отправили месяца два тому назад в ссылку. Муж умершей дочери, М. Невельсон, давно уже сидит в тюрьме. Но это месть слишком обычная и потому недостаточная.
Итак официальная версия Яков Блюмкин расстрелян за связь с Троцким и за то, что привез в СССР письмо с инструкциями для троцкистов.
Но как мы видим люди, которые знали о содержании письма ,не подтверждают этого, так как во первых в письме не было никаких инструкций ,а во вторых человек которому было адресовано письмо не пострадал. Исходя из этого напрашивается мысль, что месть Сталина и приговор к расстрелу были связаны отнюдь не с письмом и связями с Троцким.
О аресте Блюмкина есть несколько версий и одна из них описана в воспоминаниях моего коллеги известного биолога Ю.А .Лабаса с ,которым мы работали в одной лаборатории.
Вот что он рассказывал,а потом опубликовал в свой книге воспоминаний о своей семье « Когда я был большой» вышедшей в 2008 в издательстве: Новый хронограф в серии: От первого лица. История России в воспоминаниях, дневниках, письмах.
Эти факты он узнал от своей матери Раисы Идельсон ,в квартире, которой Блюмкин побывал перед арестом.
"В конце октября 1929г. глубокой ночью в квартире его матери на Мясницкой раздался звонок. Мать подбежала к двери: «Кто там?»-«Откройте! Это я- Яша Блюмкин. За мной гонятся!» Его впустили с растерянностью и испугом. Кто гонится? Почему? Ведь Блюмкина все побаивались, зная, что он-важный чекист.
Войдя, Блюмкин сбивчиво рассказал о том, что привез какие-то троцкистские инструкции: обращение к оппозиции и что некий майор Штейн, подчиненный командарма Тухачевского, роясь в архивах царской охранки, наткнулся на очень странную бумагу. Некто из членов ЦК большевистской партии настрочил в полицию донос на другого члена ЦК, депутата Думы и в то же время провокатора Малиновского. Что-де тот фактически занимается антигосударственной деятельностью и плохо справляется со своими прямыми (провокаторскими!?) обязанностями.
Автором доноса в охранку по всем признакам, был никто иной как сам Коба, он же Иосиф Виссарионович Джугашвили!
Блюмкин все сгоряча выболтал дружку - Карлу Радеку (поляки его звали Карл Крадек, по-польски «Карл-вор») и собрался было по своим бумагам разведчика тотчас улететь на аэроплане обратно в Турцию, чтобы там передать фотокопию находки Льву Давидовичу Троцкому, пребывавшему тогда то ли в Стамбуле, то ли на Принцевых островах. «Если доверенные мне документы попадут к Троцкому, здесь власть перевернется!» Радек, однако, немедленно заложил Блюмкина, и теперь все пропало. Блюмкин метался по громадной квартире: «Никому не открывайте дверь.Буду стрелять!» Потом он позвонил врачу Григорию Лазаревичу Иссерсону: «Гриня, достань мне яд!»-«Зачем тебе?»-«Я завалил операцию, за мной гонятся, мне грозит расстрел!»-«Так у тебя пистолет на боку»-«Из пистолета не могу»-«Других мог многократно. Что же себя не можешь?» - «Себя не могу» -«А я не травлю людей, я лечу их»,-ответил в перепуге и спросонья Иссерсон и бросил трубку. Блюмкин как пойманный зверь заметался по квартире: «Жить! Жить хочу! Хоть кошкой, но жить!» Потом обратился к студенткам: «Девочки, не хотите посмотреть, что у меня в чемодане?» Кто-то из студенток потянулся, к чемоданчику, но мама наотрез запретила: «Мы, девчонки, дуры, начнут пытать, все выболтаем, а если ничего не знаем, то и спрос с нас невелик». -«Рая, у тебя не осталось документов Фалька?»-«Ты что, конечно, нет, да и непохож он на тебя на фотокарточке»-«Жить! Жить! Хоть кошкой, но жить!» Под утро после бессонной ночи Блюмкин позвонил некой Лизе (Лиза Горская, любовница Блюмкина и приставленный к нему соглядатай ОГПУ, в будущем полковник ГРУ Зарубина): «Лиза, приходи на Мясницкую и принеси мою шинель с Арбата-на улице холодно (на Арбате была квартира Блюмкина. Вот наивность!) Надеюсь, придешь ОДНА?» Собеседница, видно, запротестовала, мол, конечно же, приду одна. Вскоре Блюмкин ушел, предупредив: «Никому, кроме меня, не открывайте, скоро вернусь». Он не заметил, как до этого в квартиру тихо приходил муж Евы Розенгольц, журналист Левин, погибший потом на Финской войне. Узнав, что в квартире Блюмкин, он, пару раз сбегав в туалет («медвежья болезнь»), в ужасе сбежал. Его дальнейшие действия мне не известны, кроме факта, что в ежовщину он уцелел!
Блюмкин же больше никогда не вернулся.В дверь громко постучали сапогами: «Откройте: ОГПУ!» Вошли: «Где здесь вещи Блюмкина?» Студентки молча показали. Кто-то промямлил : «Он- больной.С головой непорядки».-«А мы и пришли лечить! Показать, что у него в чемодане?» Студентки хором запротестовали.Тем не менее, чекисты открыли чемодан и показали…пачку долларов. Назавтра всех студенток вызвали в ОГПУ к Мееру Абрамовичу Трилиссеру. Взяли подписку о невыезде. Между прочим, уходя «за шинелью», Блюмкин оставил в фальковской мастерской свое шикарное кожаное пальто «чекистского» покроя.. Через много-много лет мама с тётей подарили его бывшему директору ГОСЕТа Арону Яковлевичу Пломперу, вернувшемуся из лагерной отсидки. А через неделю в квартиру вошел Цацулин (он заходил как-то к маме при мне после войны в серой МИД-овской форме): «Девочки, будете жить. Блюмкин перед расстрелом (он был убит 3-го ноября 1929 г. Перед смертью крикнул: “Да здравствует Троцкий!” - и запел «Интернационал»). Рассказал, что ворвался к вам в квартиру, угрожая оружием, и ни с кем из вас не общался. Кстати, он еще вдруг спросил своих палачей: «Как вы думаете, сообщение о моем расстреле напечатают в «Известиях»?»
Диво, но никто из видевших столь близко яйцо с иглой Кащея Бессмертного, в дальнейшем не был убит. Все ждали ареста и расстрела до последнего дня жизни, даже после ХХ сьезда. Трилиссера вскоре выгнали из ОГПУ, а гораздо позже, 2-го февраля 1940г., расстреляли. Были так же смещены со своих постов и затем расстреляны все три начальника Иностранного отдела ОГПУ-НКВД, занимавших этот пост после Трилиссера. Так же расстреляны майор Штейн, его военное начальство и почти весь высший комсостав РККА, в первую очередь, участники гражданской войны.
А какова же судьба содержимого пресловутого чемоданчика Блюмкина?- Любого, открывшего его и просмотревшего лежавшие в нем взрывоопасные документы, несомненно, ждала смерть. Не исключаю, что чемоданчик (папку майора Штейна?) чекисты поспешили засунуть в какой-то сейф и просто боялись вскрыть или уничтожить при свидетелях. Риск любого рода действий с «чемоданчиком», учитывая тогдашнюю бюрократическую отчётность и взаимное соглядатайство в ОГПУ, был равновелик. А во время гражданской войны в Испании туда выехал крупный резидент иностранного отдела НКВД Александр Михайлович Орлов (Лев Лазаревич Фельдбин). Он в 1938г. бежал оттуда в США и увез с собой кой-какие документы, которые там положил в банк и завещал опубликовать через 40 лет после его смерти, последовавшей в 1973г. Условием была безопасность стариков-родителей, оставшихся в СССР. Известно,что родителей Орлова, в отличие от тысяч других членов семей «врагов народа», не тронули. А наш шпион Михаил Александрович Феоктистов уже при Хрущеве встретился с Орловым в США и получил заверение, что документы не будут обнародованы раньше вышеозначенного срока.
Летом 1948 г. мою мать вызвали в КГБ, допрашивали о ее друге Сергее Лукиче Колегаеве, незадолго перед тем арестованном .Хамско-садистический тон допроса не оставил у мамы ни малейших сомнений в том, что ее ждут концлагерь или расстрел. Но следователь вдруг спросил: «Бывали ли Вы когда-нибудь раньше в нашей организации?» Мама ответила, что была в 1929г. у Трилиссера по делу Блюмкина. Следователь вдруг изменился в лице, выбежал из комнаты, и через час маму отпустили, даже довезли до дома на машине. Мы с тётушкой уже не чаяли её когда-либо увидеть. После ареста прошло 48 часов! Мамину подругу Еву Розенгольц тоже арестовали в 1948 г. и дали 10 лет лагерей за родство с братом, «агентом многих иностранных разведок, Казимиром Розенгольцем». Допрашивали о брате, о Фальке, о подругах, включая, якобы, «давно расстрелянную шпионку», мою мать Раису Идельсон, о покойном муже, но ни гу-гу о страшной ночи в нашей квартире с Я.Г.Блюмкиным. В 1957 г., как водилось в те годы Еву Павловну полностью реабилитировали.
Как видно, слух о блюмкинском чемоданчике тогда, как страшная тайна, шепотком на ушко, распространялся очень широко в рядах ОГПУ-НКВД-КГБ. Знали практически все и все пытались внушить себе и окружающим, будто ничего не знают, не слыхали, не верят и вообще такое у нас в стране совершенно невозможно. Это называют «табу».Табуировано было все, что так или иначе связано с майором Штейном, Блюмкиным, судьбой и содержимым зловещего чемоданчика, навязчивым страхом ежесекундно ожидающего покушений на свою драгоценную жизнь экс-провокатора царской охранки , параноика-вождя.Кто знает, может быть, и вся сталинская паранойя развилась на этой почве безумного страха разоблачения бывшего провокатора-платного агента царской охранки?
Таких в рядах революционеров было тогда до удивления много. Начальник боевой организации эсеров Эвно Азеф, умудрившийся умереть «за бугром» в своей постели; расстрелянный большевиками в 1918г. Малиновский (он перед смертью предупреждал, что в ЦК есть и другие, кроме него, бывшие агенты охранки!); повешенный эсером Рутенбургом в шкапу, в Озерках под Питером, поп Гапон. Эти трое-только самые знаменитые. Автор «Гариков»-поэт Игорь Губерман мне рассказывал, что его дядя-упомянутый выше Рутенберг, в дни, когда Ленин с Зиновьевым после июльского мятежа сбежали из Питера на станцию Разлив, прятались там в шалаше , предлагал Керенскому отыскать и повесить этих обоих. Керенский пришел в ужас: «Не для подобных дел свершилась наша революция». Рутенберг после того разговора махнул рукой на все российские дела и почел за благо навсегда смотаться в Палестину.
Именно от Юлия Александровича еще в начале 80-х я впервые услышал, что Сталин был информатором царской охранки. В те годы прочитать такое или услышать было неслыханно да и просто опасно. С тех пор вышло огромное количество литературы на эту тему .Только в моей библиотеке стоят прочитанные десятки биографий Сталина написанные разными авторами.Читая эти биографии и другую литературу посвященную тем временам мне хотелось понять чем же можно объяснить столько кровавую политику по отношению к собственному народу.
Разные авторы высказывают различные объяснения причин которые, по их мнению, привели к столь ужасным последствиям. Среди наиболее распространенных фигурируют психическая болезнь «паранойя»,обстоятельства развития страны , борьба с врагами страны, свойство характера ,боязнь разоблачения как бывшего агента охранки, стремление удержаться у власти.
Сейчас через десятилетия, мы знаем, что подозрения об этой стороне деятельности Сталина до революции возникали у многих, но практически все эти люди быстро бесследно исчезали.Так же исчезали и архивы охранки,ведь первое что сделали революционеры после переворота это стали уничтожать полицейские архивы да и самих полицейских.
Вот что пишет в своей статье "Сталин И ОХРАНКА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ?"
доктор исторических наук Серебрякова З.Л.
- В дни моего детства в доме отца Леонида Серебрякова и отчима Григория Сокольникова, вспоминая прошлое, старались реже упоминать все более прославляемого Иосифа Сталина.
Видный меньшевик Борис Николаевский отмечал, что в 20-е годы старые большевики, говоря о Сталине, вспоминали не только об экспроприациях (за которые он был исключен из объединенной тогда социал-демократической партии), но и о шантаже и вымогательстве у бакинских нефтепромышленников, об убийствах партийных работников, которые этой деятельностью возмущались, о доносах царской полиции на своих противников
В 1988 году, во времена Михаила Сергеевича Горбачева, после реабилитации моего погибшего в 1937 году отца – Леонида Петровича Серебрякова (члена Оргбюро ЦК, секретаря ЦК в 1919–1921 гг., члена Реввоенсовета Республики), я как историк получила возможность работать в Центральном партийном архиве (ныне РГАСПИ). Рассматривая материалы со случайно сохранившимися подлинными сведениями об отце, я открыла папку с документами за 1912 год фонда Серго Орджоникидзе и увидела то, что с самого начала потрясло меня. На бланке царского министерства внутренних дел с соответствующим оформлением на машинке было напечатано донесение начальника московского охранного отделения А. Мартынова от 1 ноября 1912 года на имя директора Департамента полиции С. П. Белецкого за № 306442. В нем говорилось: «В последних числах минувшего октября месяца сего года через гор. Москву проезжал и вошел в связь с секретным сотрудником вверенного мне отделения «Портным» [кличка вписана от руки красными чернилами]… Иосиф Виссарионов Джугашвили, носящий партийный псевдоним «Коба»…». «Так как поименованный «Коба» оставался в Москве лишь одни сутки, обменялся с секретной агентурой сведениями о последних событиях партийной жизни и вслед за сим уехал в г. С Петербург…
В конфиденциальном разговоре с поименованным выше секретным сотрудником, «Коба» сообщил нижеследующие сведения о настоящем положении и деятельности Российской социал-демократической рабочей партии».
Дальше следуют несомненно секретные данные о положении в партии и об отдельных ее членах. Явно агентурный характер носит перечисление внешних примет большевиков, которые старательно запомнил и передал охранке Иосиф Джугашвили. Он сообщал: «В С.-Петербурге удалось сформировать Северное областное бюро, в состав коего вошли три человека: А) Некий Калинин, участвовавший в стокгольмском партийном съезде (с фамилией Калинин в работах означенного съезда принимали участие двое а) Калинин, работавший на Семянниковском и Обуховском заводах за Невской заставой, около 25–27 лет от роду, низкого роста, среднего телосложения, светлый блондин, продолговатое лицо, женатый и б) административно высланный в 1910 году из г. Москвы кр[естьянин] Яковлевской волости Ковчевского уезда Тверской губернии М. И. Калинин, монтер городского трамвая. Б) Столяр Правдин, работавший с 1907 по 1908 год на Балтийском судостроительном заводе. Его приметы – около 30–32 лет от роду, среднего роста, полный, сутуловатый, блондин, без бороды, большие усы, сильно обвисшие с мешками щеки и В) Совершенно невыясненное лицо».
Кстати, большевик Правдин вскоре был арестован, да и кому еще, кроме охранки для целей сыска, для заполнения жандармского досье нужны были подобные сведения?
Там, где Сталин сообщал о деятельности ЦК, говорилось: «в) общее наблюдение за делом поручить одному из представителей социал-демократической думской фракции, предоставив последнему право голоса, участия и вмешательства во все без исключения стороны дела; на означенную роль намечен член Государственной Думы от Московской губернии Малиновский».
В конце своего донесения А. Мартынов писал: «Представленный при сем агентурный материал никому мною не сообщался во избежание возможности заминки или провала агентурного источника».
Ранее Мартынов сообщал, что Коба бежал из ссылки, но арестован в последовавшие месяцы он не был.
25 января 1913 г. Сталин писал уже из-за границы в письме Роману Малиновскому, носившему полицейскую кличку «Портной»: «От Василия – здравствуй дружище, я пока сижу в Вене и пишу всякую ерунду. Увидимся». Далее следует текст письма, сам по себе весьма интересный и заканчивающийся подписью – «твой Вас…».
Особое отношение Сталина к Малиновскому раскрывает эпизод, рассказанный Л. О. Дан. К тому времени стали распространяться слухи о провокаторстве Малиновского. В газете «Луч» появилось письмо, подписанное буквой «Ц». Предполагалось, что автором этого письма была Л. О. Дан (Цедербаум). Вот как описывает Г. Я. Аронсон со слов Л. О. Дан то, что последовало: «К ней на квартиру пришел, добиваясь от нее прекращения порочащих Малиновского слухов, большевик Васильев (среди меньшевиков его называли Иоська Корявый), это был не кто иной, как Сталин-Джугашвили».
Вскоре меньшевик Ционглинский опубликовал письмо, подписанное «Гражданин Ц». Там говорилось о необходимости расследования «темных слухов». И вновь в защиту Малиновского выступил Сталин. Л. О. Дан рассказывала: «тов. Василий… предложил встретиться со мною… в разговоре довольно отрывочном требовал прекращения травли и грозил, уж не помню чем, если «это» не прекратится».
Свою бурную защиту Малиновского Сталин в дальнейшем тщательно скрывал и ни на одном расследовании дела Малиновского о ней не упоминал.
На несомненную близость Сталина и Малиновского указывают и воспоминания Т. А. Словатинской, написанные незадолго до смерти в 1957 г.: Сталин «…зашел по делу к Малиновскому домой, тот очень настойчиво звал его с собой на концерт. И. В. совсем не хотел идти, отговаривался тем, что у него нет настроения и вообще он совсем не подходяще одет, но Малиновский пристал, даже нацепил какой-то свой галстук».
В тот же день, весной 1913 года, Джугашвили был арестован. По свидетельству видного советского разведчика Александра Орлова, на этот раз причина была в недовольстве Сталиным царской полиции, связанном с его неудачной интригой – попыткой дискредитировать Малиновского, чтобы занять его ведущее положение в охранке. Так ли это было, нам пока не известно, но судя по тому, что Мартынов в своем донесении в департамент полиции использовал не полицейскую, а партийную кличку – «Коба», и по некоторым другим данным какой-то конфликт у Сталина с охранным отделением тогда произошел.
Джугашвили участвовал в экспроприациях (по существу в грабежах), был замешан в убийствах, но материалов о прямых или косвенных дознаниях об этом не сохранилось. По мнению писателя Юлиана Семенова, несомненным аргументом в пользу возможности сотрудничества Сталина с царской охранкой является то, что ни он сам, ни его коллеги-историки ни разу не встречали в архивных фондах протоколов допросов Джугашвили-Сталина по явно уголовным преступлениям. Нет ни одного объявления о нем во всеимперский розыск.
Обычно аресты Кобы были удивительно «своевременными», помогали ему уйти от подозрения товарищей по социал-демократической партии, от неизбежных партийных взысканий.
Однако если в 1911 году Сталин был выслан в избранное им местожительство, в Вологодскую губернию, где он был на таком положении, что мог вместо пристава сам заполнить досье на себя самого, а когда подписался, получилось – полицмейстер Джугашвили, на сей раз после ареста он был отправлен в действительно суровый Туруханский край.
Отношения со ссыльными революционерами, отсутствие в них идейной направленности, человечности и теплоты еще ярче высвечивает подобострастный тон в письмах Сталина Малиновскому. В сопроводительной записке к письму от 14 января 1914 г., обнаруженной писателем Юрием Трифоновым в фонде ГАРФ, указывалось, что «представляются при сем агентурные сведения за № 578, автором которых является гласноподнадзорный Туруханского края Иосиф Виссарионов Джугашвили». Начинается это письмо обращением к Малиновскому: «Здравствуй друг», и далее в самой доверительной форме подробно говорится о слабости здоровья, «подозрительном кашле» и прочих невзгодах. Навязчиво повторяется жалоба на дороговизну – стоимость разных продуктов указывается вплоть до копеек. Бедный Коба подчеркивает, что ему «нужно молоко, нужны дрова, но денег нет, друг».
Обращение к Малиновскому – «друг» повторяется, чередуясь с маловразумительным восклицанием «черт меня дери». Заканчивается письмо соответствующими словами «крепко жму руку, целую», приветом жене
|
Метки: яков блюмкин |
Дома П. К. Ферзена (А. Я. Прозорова) |
Дома П. К. Ферзена (А. Я. Прозорова) (Санкт-Петербург)
Russia / Sankt Petersburg / Saint Petersburg / Санкт-Петербург
памятник архитектуры (истории)
На Английской набережной этот дом № 48 в четыре окна – самый маленький. Его ширина всего 13,5 метра. Но история дома вовсе не маленькая, а довольно насыщенная. Документально она начинается в 1713 году, когда бывший поп Гаврила Петров продал свой двор «Адмиралтейской канцелярии подьячему (т. е. писарю. – В. А.) Федору Слащову».
В 1719 году подьячий заявил, что ему «строиться нечем», в связи с чем двор сперва был передан некоему «секретарю Шаховскому», а затем отставному гардемарину Сергею Николаевичу Иванову, который в 1730-е гг. выстроил на участке двухэтажное каменное здание в шесть окон. Фасад был оформлен скромно – рустованными лопатками и оконными наличниками, чем и выделялся, соседствуя с богатыми хоромами. В 1748 году из «дома по набережной линии» отъезжал часовой мастер Осип Шмид.
В начале екатерининской эпохи, а именно в 1763 году, Марфа Васильевна Измайлова продала унаследованный дом, где было 16 покоев, английскому купцу Корнелию Кремпу, который успешно занимался экспортными операциями и владел канатной фабрикой. В это время англичане контролировали 80% внешней торговли Петербурга. Во владении семьи Кремпа и его наследников (включая купца и компаньона Джона Гея) особняк оставался почти до конца XVIII века и изменений, вероятно, не претерпел. В нем постоянно что-то предлагали на продажу – в 1787 году, например, «новомодный ковер умеренной цены» и «самый лучшей чай в фунтовых банках».
Следующим хозяином купеческой резиденции был русский князь генерал-лейтенант Михаил Михайлович Голицын (1735–1805), прозванный Чепурa. Его жена Варвара Петровна Шереметева умерла в 17 лет при родах, и оставшиеся годы князь прожил холостяком. После его кончины дом снова попал в английские руки, его купил лейб-медик Александр Крейтон (1763–1856), выпускник Эдинбургского университета, который в 1804–1819 годах лечил императорскую семью, после чего вернулся в родную Англию. До 1815-го известный врач жил в особняке на набережной.
В последующем домовладельцы снова стали быстро меняться. Сперва въехала Татьяна Ивановна Маркелова, жена коллежского советника, но в 1833 году она за 90 000 руб. продала владение богатой купчихе Екатерине Бергин, только что покинувшей свой дворец на Исаакиевской площади. Минуло два года, и купчиха со зданием рассталась – оно по купчей перешло к Надежде Алексеевне Яковлевой (1815–1897), правнучке знаменитого богача Саввы Яковлева и владелице Верхне-Исетских заводов на Урале. Выйдя за гвардейского поручика А. Н. Стенбок-Фермора, она уже в следующем 1836 году продала особняк полковнице Софье Петровне Крюковской и переселилась с семьей в соседний дом № 50.
Наконец, в 1838 году дом надолго обрел своего хозяина – графа Павла Карловича Ферзена (1800–1884). При нем в том же году двухэтажный лицевой дом был перестроен в стиле безордерного ампира: повышен на два аршина, заново оформлены окна, сделаны выносной карниз, лепные медальоны и маскароны. Автором перестройки был архитектор П. С. Садовников.
Крестник Павла I, происходивший из древнего рода остзейских шведов, Ферзен стал широко известен, после того как летом 1829 года тайно обвенчался близ Тайцев с юной баронессой Ольгой Павловной Строгановой (1808–1837), акварельный портрет которой незадолго до ее ранней смерти исполнил К. П. Брюллов. Побег девушки и брак без родительского благословения вызвали скандал. Высказывается предположение, что эта история повлияла на замысел повести «Метель» Пушкина.
Молодой офицер Кавалергардского полка был предан военному суду и отправлен служить в гарнизон крепости Свеаборг, однако вскоре вернулся в родной полк и отличился с ним в 1831 году при взятии Варшавы. Выйдя в 1833 году в отставку, граф вскоре начал службу в Министерстве императорского двора, дослужившись до высокого чина обер-егермейстера.
Однако в 1870 году заведующий придворной охотой, который «пользовался далеко не безупречною в нравственном отношении репутациею» (А. А. Половцов), попал в весьма неприятную историю. Во время царской охоты на медведя в окрестностях Петербурга он нечаянно застрелил егермейстера В. Я. Скарятина. Пошли слухи о преднамеренном убийстве... Пожилому царедворцу пришлось подать в отставку и удалиться с женой в Германию, где провести оставшиеся годы жизни.
Летом 1875 года Ферзен продал столичный особняк, и за 100 000 руб. его хозяйкой на год сделалась балерина Екатерина Гавриловна Числова, капризная и властная любовница великого князя Николая Николаевича, чей дворец стоял на Благовещенской площади. От великого князя, человека «не злого нрава, но весьма ограниченного ума и вульгарных вкусов» (А. А. Половцов), она имела нескольких детей, получивших фамилию Николаевы.
На площадь, ближе к дворцу, Числова переселилась очень скоро, продав дом в 1876 году церемониймейстеру князю Александру Илларионовичу Васильчикову (1818–1881), видному общественному деятелю и публицисту. Сын крупного сановника, «рыцаря чести и честности», выпускник столичного университета, князь в молодости уехал служить чиновником на Кавказ. Будучи знаком с М. Ю. Лермонтовым, он стал секундантом на его дуэли, за что был предан военному суду, но прощен императором.
Прослужив некоторое время в Петербурге, Васильчиков, замеченный в «свободомыслии», перебрался в Новгородскую губернию и занялся общественной работой. Он неплохо изучил сельскую жизнь и ратовал за реформы в ней на основе общинного земледелия и местного самоуправления. На эту тему даже написал несколько брошюр и сочинений, которые нашли живой отклик и у либералов, и у славянофилов. Многие из этих сочинений были написаны в доме на Английской набережной, который имел «хорошую внутреннюю отделку».
По воспоминаниям М. И. Семевского, редактора журнала «Русская старина», «Кабинет его составляет громадную комнату, обставленную дорогими шкафами, наполненными отличною библиотекою. Вся обстановка свидетельствует о том, что князь посвящает значительную часть своего времени занятиям научным...». Васильчиков дал отличное образование своему сыну Борису Александровичу, окончившему Училище правоведения. Правда, этот сын, «барин с головы до пят», стал столь быстро проматывать полученное большое наследство, что его взяли под опеку. Продав дом, он уехал в Старую Руссу, будучи избран уездным предводителем дворянства. Позже шталмейстер Васильчиков стал министром, членом Госсовета и одним из лидеров русских националистов.
Следующий домохозяин – Алексей Яковлевич Прозоров (1842–1914) происходил из семьи именитых вятских купцов, которые разбогатели на промысле котиков на Дальнем Востоке. В 1879 году отец Алексея Яковлевича переехал из Вятки в Петербург. После его смерти сын, ставший со временем богатым банкиром, приобрел в 1885 году особняк Васильчикова и обосновался в нем со своей семьей – женой Антониной Николаевной и четырьмя детьми.
Семья заняла все три этажа лицевого дома, в подвале размещался винный погреб, во дворе находилась торговая контора фирмы Прозорова. Тогда же столичный архитектор В. М. Карпович повысил главный дом на этаж, перепланировал (стало четыре окна) и наряднее оформил фасад. В бельэтаже было два больших зала. Корпус по Галерной, перестроенный в 1848 году Г. Боссе, был еще в 1880 году надстроен третьим этажом В. А. Кенелем.
Семейная жизнь богача не сложилась. С женой он развелся, а его даму сердца интересовали только деньги. Старший сын, окончивший столичный университет, погиб в Охотском море во время бури; Яков стал офицером-кавалеристом, но вел расточительный образ жизни. Дочь Ольга вышла замуж за князя Оболенского и проживала в основном за границей.
В 1897 году тайный советник Прозоров был избран председателем петербургского Биржевого комитета. В этой должности он оставался до самой смерти, случившейся от заражения крови. Наследники, задолжав, в конце 1916 года продали дом банкиру Леону (Леониду) Моисеевичу Вургафту, у которого здание было очень скоро национализировано рабоче-крестьянской властью и превращено в одну большую коммуналку. Осталась лишь на бумаге задуманная архитектором М. М. Синявером перестройка в стиле модерн большей части комплекса. Сам Вургафт эмигрировал и умер за границей членом масонской ложи.
Сегодня в главный дом можно попасть только с Галерной, миновав два двора. В первом растут три огромных тополя, по брандмауэру на большую высоту вьется дикий виноград. В боковых флигелях еще живут жильцы, однако их все сильнее теснят разные конторы. От прежней отделки местами еще сохранились мраморные подоконники, деревянные панели и фрагменты лепки. Сто лет назад все выглядело иначе...
archi.ru/events/news/news_current_press.html?nid=7802&f...https://wikimapia.org/19822421/ru/%D0%94%D0%BE%D0%...%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
|
Метки: прозоровы купеческие особняки васильчиковы |
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в. |
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в.
Автор: М.С. СУДОВИКОВ | 06 Февраля 2014
М.С. СУДОВИКОВ
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в.
Sudovikov M.S. Merchant clan Prozorovs in memoirs of contemporaries
Аннотация / Аnnotation
В статье рассматриваются воспоминания современников, повествующие о купеческой династии Прозоровых, оставившей заметный след в истории северо-востока Европейской России. Представители этого рода вели торговлю с европейскими государствами, активно занимались благотворительностью, заседали в Петербургском биржевом комитете, в органах местного самоуправления.
In article the memoirs of contemporaries narrating about merchant clan Prozorovs, left an appreciable trace in a history of northeast of the European Russia are considered. Representatives of this clan did business the European states, actively were engaged in charity, sat in the Petersburg exchange committee, in institutions of local government.
Ключевые слова / Keywords
Источники, Прозоровы, купечество, Вятка, торговля, династия, общественная деятельность, благотворительность. Sources. Prozorovs, merchant class, Vyatka, trade, dynasty, public activity, charity.
СУДОВИКОВ Михаил Сергеевич – заведующий кафедрой отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент, г. Киров, 8-912-820-22-07; sudovikov70@mail.ru
Среди российских купеческих династий особое место занимала семья Прозоровых, представители которой стали выразителями передовых для своего времени экономических и общественных инициатив, способствовавших развитию таких явлений как рыночная экономика, местное самоуправление, благотворительность, меценатство. Истоки этого рода связаны с Вятской губернией – обширной территорией, располагавшейся на пограничье Центральной России, Русского Севера, Урала и Поволжья и вобравшей в себя весь колорит русской провинции дореволюционной эпохи.
Одним из ярких представителей династии Прозоровых был Яков Алексеевич (1816–1881) – купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, коммерции советник. Успешно приумножая свой капитал, он торговал хлебом, льном, куделью, конским волосом, щетиной, которые через Архангельский и Петербургский порты большими партиями шли за границу, в основном в Англию, Бельгию, Германию, Голландию. Благодаря качеству вывозимые из России товары под клеймом Якова Прозорова, в особенности льняные, быстро получили известность в Европе и продавались там «по самой высокой цене» .
Торгово-предпринимательскую деятельность Я.А. Прозоров успешно сочетал со служебной и общественной деятельностью. В 1859–1862 гг. он был городским головой в Вятке, и особенно преуспел в занятиях благотворительностью. На свои средства Яков Алексеевич устроил богадельню, открыл дом призрения для детей бедных граждан, известность получила и его благотворительная инициатива, связанная с приездом в 1878 г. в Вятку министра народного просвещения Д.А. Толстого. В память о визите высокого гостя Я.А. Прозоров пожертвовал для Вятского городского училища каменный с флигелями дом. Способствовал он развитию и провинциального театрального искусства, открыв в середине XIX в. в губернском центре театр.
В конце 1870-х гг. Яков Алексеевич с семьей переезжает на жительство в Петербург. Перед отъездом он остался верен себе – пожертвовал Вятскому благотворительному обществу и городу почти целый квартал домов, ряд других построек, а некоторым бедным дал пожизненный пенсион. В Петербурге Прозоров прожил недолго. После переезда он вскоре скончался и был похоронен в Александро-Невской лавре, которая стала усыпальницей и его семьи – супруги, сына Алексея и других родственников.
Я.А. Прозоров стал человеком-легендой, деятельностью которого восхищались современники, что и отразилось в первых воспоминаниях о нем, написанных в конце XIX – начале XX в. «Выдающимся благотворителем г. Вятки», «доблестным гражданином» – называл его Всеволод Александрович Ратьков-Рожнов (1832–1898), бывший в 1879–1895 гг. вятским вице-губернатором.
Знакомство Ратькова-Рожнова с Прозоровым произошло в Петербурге перед самым отъездом нового вице-губернатора к месту службы. «При первом же нашем свидании, – вспоминал он, – Яков Алексеевич обязательно предложил мне остановиться в Вятке в лучшем его доме, где он сам жил последние свои годы…» и, таким образом, заручившись поддержкой со стороны знатного купца, Всеволод Александрович стал «первым квартирантом» роскошного дома семьи Прозоровых, перешедшего позже, по завещанию Якова Алексеевича, в собственность епархиального женского училища .
Помимо детального описания этого купеческого особняка, который «здешнее интеллигентное общество прозвало… по выдающейся его архитектуре “красным замком”», автор обратил внимание на родословие Прозоровых, отметив, что истоки их династии связаны с крестьянством и «когда именно и кто из предков Якова Алексеевича переселился в Вятку – неизвестно» и что отец купца занимался «торговлей и жил в достатке, хотя и небогато» . Задавался Ратьков-Рожнов вопросом и о причинах успеха своего героя на деловом поприще: «Кроме счастья, или большой удачи в своих собственных делах… Прозоров принадлежал к тем русским самородкам, которые своим здравым умом и практичностью умели и нажить деньги, и главное сохранить их, зная детально хорошо дело, которому себя отдавали» . Яков Алексеевич сравнивался автором с Федулом Громовым – крупнейшим петербургским купцом-старообрядцем, происходившим из крестьян, благотворителем и меценатом.
Особая тема повествования В.А. Ратькова-Рожнова – благотворительность, часто не знавшая у Прозорова границ. Автор подробно останавливается на характеристике, как он сам указывает, «выдающихся пожертвований» купца, среди них – помощь бедным, причем она осуществлялась не на показ: «Яков Алексеевич, – по словам Ратькова-Рожнова, – немало наделял бедных людей деньгами непосредственно из своих рук, суммами, ему одному известными…» Важным было то, что Прозоров занимался благотворительностью постоянно, создав эффективную систему отчислений средств на нее: он выделял десятую часть прибыли от своих профессиональных занятий.
Много внимания автор уделяет повествованию о церковной благотворительности Якова Алексеевича, что в целом было характерно для российского купечества, подчеркивая их глубокую религиозность. Перестроив Владимирскую церковь г. Вятки, Прозоров позаботился соорудить в ней два новых престола – в честь небесных покровителей самого купца и его супруги. Не забыл он и об устройстве помещений для хранения ризницы, библиотеки и церковного архива .
Тема благотворительности была продолжена в воспоминаниях вятского купца Константина Игнатьевича Клепикова (1821–1907), для которого Прозоров прежде всего «щедрый жертвователь», человек, чье имя в память о его благодеяниях должна носить улица губернского центра . Автор вспоминает о Якове Алексеевиче и как о городском голове, называя его в числе нескольких руководителей городского самоуправления - купцов XIX столетия выдающимся «по своей деятельности и распорядительности» . В мемуарах упоминается и о сыне Я.А. Прозорова – Алексее Яковлевиче, окончившем «курс в Московском коммерческом училище» и впоследствии ставшем председателем Петербургского биржевого комитета .
Повествования В.А. Ратькова-Рожнова и К.И. Клепикова весьма схожи в оценках деятельности Якова Алексеевича, дают общее представление о нем как личности. Несмотря, быть может, на фрагментарность в изложении (особенно в воспоминаниях Клепикова), их значимость несомненна как отражение общественного мнения о представителе крупного бизнеса в российской провинции дореволюционной эпохи, причем мнения, порой далекого от классического, звучавшего, например, в произведениях А.Н. Островского, Максима Горького, других писателей и тоже широко бытовавшего в стране.
Немало ценных деталей о Якове Алексеевиче и его семье находим в воспоминаниях Александра Александровича Прозорова (1854–1927), племянника купца, известного в регионе общественного деятеля. После окончания Казанского университета А.А. Прозоров поступил на службу в Вятский окружной суд, был присяжным поверенным при Казанской судебной палате, избирался гласным Вятской городской думы и уездного земского собрания, в начале XX в. состоял членом Вятского губернского по земским и городским делам присутствия, занимался благотворительностью, являлся инициатором и активным участником многих культурных мероприятий – театральных постановок, концертов, балов. Он собрал уникальные юридическую и театральную библиотеки. На закате жизни, в 1920-е гг., А.А. Прозоров написал интересные мемуары, содержащиеся в трех тетрадях с названиями – «Род Прозоровых», «Город Вятка и его обыватели», «Мемуары о вятском театре» и ныне хранящиеся в Государственном архиве Кировской области .
Ранние страницы истории своей династии автор рассматривает по записной книжке купца г. Хлынова Семена Антоновича Прозорова, происходившего из крестьян. «В 1769 г. Семен Антонов женился на девице 19-ти лет Фекле Андреевне», – говорится в мемуарах, – и «в течение брачной жизни у них родилось 17 детей» , из которых в совершеннолетний возраст вступили только трое, в их числе сын Алексей, стоявший у истоков нескольких купеческих ветвей рода Прозоровых: одну из них представлял Яков Алексеевич, а другую – Александр Алексеевич, отец мемуариста.
Автор описывает дом своей семьи, воспроизводит портреты отца и матери, дяди и его семейства, характеризует занятия своих родственников. «Каждый год в начале марта месяца отец уезжал в Ношуль, а оттуда на баржах плыл в Архангельск, возвращаясь домой в конце сентября. Мы же с матушкой все это время проводили, живя в Слободском», – вспоминал он .
Отец Александра Александровича – купец, получивший звание потомственного почетного гражданина, был «характера… живого, экспансивного, вспыхивающий, но быстро отходящий», «отличался значительной силой» . Мать – Августа Ильинична, родившаяся в многодетной купеческой семье Шмелевых, – воплощала в себе добрейшей души, кроткую, немного застенчивую, уравновешенную женщину. Семья жила в большом, двухэтажном каменном доме. «Отличительный наружный признак его, – отмечал мемуарист, – каменные львы на каменных воротах… Дом крайне благоустроенный, каких домов немного в Вятской губернии» . В доме имелись: зал, гостиная, диванная, спальня, кабинет, две детские, столовая, бассейн. В его нижнем этаже располагалась контора «в четырех комнатах», «а в надворной стороне подвалы». Дом отличался роскошным интерьером – паркетные пол, «двери в вершок толщины, оклеены темным орехом», «в зале и гостиной с потолка спускались бронзовые люстры», массивная, резная мебель, чугунная лестница и т.д.
Семьи Прозоровых и их ближайших родственников Шмелевых, живших на одной улице, спешили «к молебну, всенощной, обедне», «делая из этого отчасти места общественного собрания» . По воскресеньям и большим праздникам все родственники «после обедни» собирались у бабушки - Екатерины Дмитриевны Шмелевой – «чтобы ее поздравить». Своих детей Августа Ильинична воспитывала так, как было принято в ее родительском доме. Детям она говорила, чтобы «у них никаких ссор не было, а если возникали ссоры, то родители прутом наказывали как обидчика, так и жалобщика, говоря: “Вы родные, и ссор между вами быть не должно”» .
Из развлечений семьи Александр Александрович назвал устройство «елки»; «вечера… в именины отца, в октябре месяце», на которых «приглашенных бывало много, лакеи во фраках, посуды заготовлялось масса, чаи разносили на громадных подносах, однажды даже играл оркестр музыки и танцевали»; игру в карты – «матушка моя любила поиграть в преферанс и в ненастную погоду сама ехала или приглашала к себе партнеров»; ловлю рыбы – «раз в неделю, а иногда и чаще ездили на свою мельницу за полторы версты от города, где был хорошенький домик, пруд и тенистый бор», «в пруде мы ловили удочками рыбу…»; иногда организовывались пикники с родственниками с выездом за город . «В обычные дни жизнь шла тихо», – вспоминал Прозоров .
В этой купеческой семье прослеживалось явно неравнодушное отношение к образованию. Старшая сестра мемуариста, Екатерина, училась в Вятке в женской гимназии, а Александр Александрович – сначала «дома, у матери», затем – у бывшего смотрителя уездного училища, который готовил его к поступлению во второй класс гимназии . В 11 лет А.А. Прозоров стал гимназистом, жил в Вятке, потом – в Казани, где сдал экзамены экстерном за гимназию и учился на юридическом факультете университета. Его младший брат Алексей также поступил в гимназию, младшая сестра Раиса училась в пансионе Дубровиной в Казани.
Отдельная тема мемуаров – рассказ о дяде: «Когда мне пришлось познакомиться с Яковом Алексеевичем, ему было уже лет 60. Росту он был немного выше среднего, волосы имел темно-русые, твердые, носил их всегда гладко остриженными с косым рядом… Оставаясь один или играя в карты, он почти никогда не выпускал изо рта трубку табаку с длинным мундштуком. Черты лица его были правильные, но маловыразительные, а взгляд строго сосредоточенный» .
Помимо сведений о широкой торгово-предпринимательской и благотворительной деятельности Я.А. Прозорова, в воспоминаниях содержатся интересные зарисовки его повседневной жизни. Дом Прозоровых считали за честь посещать «все лица выдающиеся в городе или приезжие и принадлежащие к высшему служебному миру», в нем устраивались парадные завтраки, обеды и ужины . Этими банкетами руководила семья купца. Сам же Яков Алексеевич выходил только к началу застолья, находясь до этого в своем кабинете.
Будучи гимназистом, Саша, впоследствии автор мемуаров, как-то зашел в кабинет дяди, где застал Якова Алексеевича сидящим в широком кресле перед письменным столом с трубкою в руках. «Вот, ты видел, – сказал Прозоров, – от меня сейчас вышли рабочие и мой служащий – торговый приказчик. Вот этих людей я ценю, они труженики, и результат их работы – реальная польза. А те, в тех комнатах, что гудят и веселятся – это одна вывеска. Вот посмотри: у меня лакей Михайло – франт, в течение дня раз пять переменяет одежду, видный собой, прекрасный выездной с каретой и докладом, а цена ему грош. Так научись, глядя на них, следовать примеру первых, а не гнаться за вторым» . Эти слова явились хорошим поучением для молодого родственника, и о них он не забывал всю жизнь.
Запомнился мемуаристу и другой урок: «Отец как-то меня, в возрасте лет 12-ти, когда я был на зимнем вакате, – пишет он, – послал в Вятку к дяде за деньгами. Я должен был получить несколько тысяч. Получив от Алексея Яковлевича пачки денег, я их сложил в саквояж и продолжал разговор. Минут 10 спустя он просит меня деньги ему возвратить, я вынул и отдал. Считает деньги – недостача, явление для меня непонятное. Доведя меня до слез, говорит, что, получая деньги, надо считать, что он с целью дать мне же урок нарочно вынул несколько кредиток, которые тотчас и вложил. Это был мой первый урок коммерческой грамоты. Позднее мой отец то же проделывал, посылая со мной деньги в контору из верхнего этажа в нижний, но я был уже осмотрительнее и не попадался впросак» .
Супруга Якова Алексеевича – Пелагея Семеновна, уроженка г. Лальска Вологодской губернии (из рода Угрюмовых), красивая в молодости женщина, в почтенном возрасте – седая, с редкими волосами до плеч – была выдержанной, всегда корректной, обходительной и располагающей к себе. «…Она внушала к себе общее уважение», – вспоминал Прозоров . Являясь любителем театрального искусства, Пелагея Семеновна помогала местным артистам. В театре у нее была своя ложа.
Рассказывая о детях Я.А. и П.С. Прозоровых, Александр Александрович особо выделял Алексея, который был женат на потомственной дворянке А.Н. Мосоловой, «красивой брюнетке», которая, «выйдя замуж за коммерсанта, брак свой считала несколько низким для себя. Дом свой старалась поставить на возможную высоту, привлекая к себе все высшее, выдающееся, что имело влияние на всю ее дальнейшую жизнь… Супруг же ее старался возможно возвыситься» .
У Антонины Николаевны была еще одна черта – она «обладала, кажется, всем, что требуется для светской жизни: играла хорошо на рояле, при слабом, но приятном голосе пела и отличалась особенной, ей свойственной манерой оказывать внимание окружающим и располагать к себе» .
В конце 1870-х гг. «вся семья дяди переехала на житье в Петербург к великому удовольствию Антонины Николаевны» . В столице контора их фирмы располагалась сначала на Михайловской площади, а спустя некоторое время в собственном доме на Английской набережной. «…Уехав из Вятки, имея звание коммерции советника, затем, последовательно получая ордена Анны и Владимира, он в конце жизни был возведен в потомственное дворянское сословие…», – писал о своем дяде мемуарист .
Жизнь этой семьи изменилась после смерти Якова Алексеевича. По завещанию общий капитал был разделен, и торговый оборот фирмы Прозоровых сократился. «Спустя несколько лет после смерти дяди, – вспоминал Александр Александрович, – мне с женой пришлось быть в Петербурге… Алексей Яковлевич тогда был уже председателем Биржевого комитета и имел чин действительного статского советника. Обширный кабинет его, весь отделанный узорчатыми темно-ореховыми фанерками, производил внушительное впечатление. Антонина Николаевна приобрела более важный, церемонный и официальный вид и добивалась представительства во дворец, чего, кажется, и добилась при посредстве министра Волконского, очарованного ею» .
Богатые по краскам и фрагментам повседневной жизни эти воспоминания рисуют в целом яркие портреты представителей одного из крупных купеческих родов России второй половины XIX – начала XX в. Как человек наблюдательный и неравнодушный к происходившему, Александр Прозоров сохранил для потомков обилие деталей и эпизодов будней и праздников региональной деловой элиты, уникальность которых в силу полного или частичного отсутствия подобных сведений в официальных документах очевидна. Весьма ценным является и тот факт, что жизнь и деятельность представителей семьи Прозоровых нашла отражение в воспоминаниях авторов, являвшихся выходцами из разных слоев общества. Все это, несмотря на субъективность мемуаров, позволяет воссоздать, на наш взгляд, достоверный облик известной купеческой династии.
Список литературы
Клепиков К.И. Сборник статей вятского старожила. Вятка: Тип. и хромолитография Маишеева, 1899.
Клепиков К.И. Заметки и впечатления старожила. Вятка: Тип. и хромолитография Маишеева, 1900.
Прозоров А.А. Город Вятка и его обыватели: мемуары / Под ред. М.С. Судовикова и Е.И. Пакиной. Киров: Изд-во «Экспресс», 2010. 152 с.
http://www.vestarchive.ru/2013-1/2580-kypecheskii-...mennikov-xix--nachalo-xx-v.pdf
|
Метки: прозоровы |
«Красный замок» Якова Прозорова |
«Красный замок» Якова Прозорова
ул. Красноармейская, 14 / Ленина, 104

«Красный замок» Якова Прозорова. 2000-е
Яков Прозоров – один из наиболее ярких персонажей дореволюционной Вятки, оставивший глубокий след в истории города. Помимо большого количества благотворительных инициатив и активной предпринимательской деятельности, Яков Алексеевич также был известен как человек, который приобретал лучшие здания города, отдавая их внаем. Сдаваемая в аренду, используемая в торговой деятельности недвижимость, приносила большие доходы. В домах Прозорова размещались квартира и канцелярия вятского губернатора, Вятское благородное собрание, торговые, питейные и благотворительные учреждения. Однако длительный период времени у самого Прозорова не было дома, который бы соответствовал его высокому статусу одного из самых крупных предпринимателей и благотворителей Вятско-Камского региона.
Долгое время Прозоров с семьей жил в полукаменном доме на углу Николаевской и Никольской (сейчас – Пролетарской и Ленина) улиц. Когда в начале XIX в. началось интенсивное развитие Семеновской площади Прозоров обратил на нее внимание, тем более, что в 1864 г. в центре площади был построен Александро-Невский собор. Прозоров был человеком набожным, стремившимся всячески поддержать строительство этого храма, как и многих других вятских церквей. В 1859 – 1862 гг. Яков Алекссевич занимал пост городского головы в Вятке, в этот период времени он возглавлял комитет по постройке Александро-Невского собора. Значительную часть затрат по строительству Яков Алексеевич взял на себя. Во многом благодаря его стараниям собор, на тот момент считавшийся «долгостроем», освятили в 1864 г.

Яков Прозоров
В начале 70-х гг. XIX в. Прозоров приобретает на углу площади с Вознесенской улицей небольшой деревянный дом. Его он подарил на вывоз причту Ахтырской кладбищенской церкви, а на освободившемся месте по проекту известного уже в Вятке архитектора А. С. Андреева начал строить собственный особняк. Двухэтажный каменный дом с глубоким подвальным и антресольным этажами, с парадным подъездом и балконом был построен меньше чем за два года и к ноябрю 1872 г. «приведён в жилое состояние».
В центре площади на тот момент уже несколько лет возвышался великолепный витберговский собор во имя Святого Александра Невского. Положение дома Прозорова в визуальной связи с собором и навеяло архитектору характер декоративно-художественного оформления фасада. Белым стенам собора он противопоставил насыщенный красно-кирпичный цвет стен особняка, спокойному белокаменному декору собора – почти скульптурную резьбу на фасаде «Красного замка», как называли особняк Прозорова в народе. Привычный на Вятке ещё с XVIII в. и потому мало обращавший на себя внимания белый камень (опока) здесь выступил в своём новом качестве.

Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). Начало XX в.
Композиция фасада центрична, но ни четырёхпилястровый портик в центре, ни пышный парадный подъезд под ним не приковывают внимания, и не только потому, что портик увенчан не традиционным фронтоном или более поздним аттиком, а только крохотным мезонином с единственным окном, выходом на такой же игрушечный балкончик. Внимание отвлекается от центра рассредоточенной по всему фасаду пышной белокаменной резьбой, но и каждая деталь её тоже не обращает на себя внимания и не значит ровно ничего. Сблизились, перемешались понятия богатства украшений и «красивости» архитектуры. Пришла эклектика на вятскую землю. Ещё почти три десятилетия отделяли от пика рационального и демократического «кирпичного» стиля, но в этом богатом особняке уже проявились его зачатки. Цвет становится средством художественной выразительности. Нельзя не восхищаться и резьбой вятских мастеров по камню. Ведущим среди них был житель города, в 1855 г. выполнивший «столярную и резьбеную работу» по главному иконостасу Александро-Невского собора, Иван Петрович Шубин.
Дом Прозорова стал украшением не только окрестностей Семеновской площади, но и всего города, долгое время являясь и центром светской жизни. Краевед В. Кощеева писала: «Дом Прозоровых слыл на Вятке гостеприимным и хлебосольным. Все уважаемые люди города, приезжие гости из высшего общества принимались здесь. Радушная хозяйка вместе с невесткой руководила проведением парадных обедов. Хозяин же, как правило, выходил к гостям на минуту, так как очень дорожил своим временем и большую часть его проводил в кабинете за бумагами или в беседах с подчиненными». Действительно, Прозоров ненавидел праздность и светские рауты, ценил человека труда и время, которое во все времена составляло главное богатство.

Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). Начало XX в.
В 1879 г. Яков Алексеевич с семьей уезжает на жительство в Петербург. Его дом долгое время пустовал, лишь только в конце 1879 г. верхний этаж занял вице-губернатор В. А. Ратьков-Рожнов. Знакомство Ратькова-Рожнова с Прозоровым произошло еще в Петербурге перед самым отъездом нового вице-губернатора к месту службы. «При первом же нашем свидании, – вспоминал он, – Яков Алексеевич обязательно предложил мне остановиться в Вятке в лучшем его доме, где он сам жил последние свои годы…». Таким образом, заручившись поддержкой со стороны знатного купца, Всеволод Александрович стал «первым квартирантом» роскошного дома семьи Прозоровых. С середины и до конца 1881 г. в нижнем этаже снимал квартиру со своим семейством управляющий Вятской казенной палатой А. П. Матафтин.
21 мая 1878 г. в Вятку на пароходе «Ламех» прибыл министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. Яков Прозоров имел очную встречу с министром, после которой сделал заявление о пожертвовании своего «Красного замка» Епархиальному женскому училищу. За семь месяцев до смерти, 7 июля 1880 г., Я. А. Прозоров составляет в Санкт-Петербурге духовное завещание, в котором было зафиксировано следующее: «Принадлежащий мне каменный дом с надворными постройками, садом и землей, состоящий во второй части города Вятки на углу Александровской торговой площади и Вознесенской улицы, завещаю пожертвовать Вятскому епархиальному женскому училищу и просить Епархиальное начальство, если возможно, в том доме в двух моих кабинетных комнатах устроить церковь, и по смерти нашей творить при богослужениях поминовение об упокоении усопших Якова, Пелагеи, Алексея и Елизаветы, и выдать на этот дом дарственную».

Южная часть города. Снимок сделан с крыши особняка Булычева. Слева на фото - Александро-Невский собор, справа - улица Николаевская (Ленина). В центре снимка вдали – Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). 1911 – 1917 гг.
Завещание Прозорова было исполнено. 19 декабря 1881 г. подаренный дом был принят советом Епархиального училища. В двух смежных кабинетах на втором этаже по рисункам и чертежам архитектора В. М. Дружинина была устроена домовая церковь, наименованная Алексеевской. В бывших Прозоровских службах, выходивших окнами на Александровскую площадь, епархиальное начальство устроило училищную больницу. Во дворе имелся великолепный сад с беседкой. Разместились также в особняке классы и спальни младших воспитанниц училища.
В 1914 г. в здании разместился госпиталь №1 Всероссийского земского союза, который находился в доме до конца Первой мировой войны. В 1918 г. особняк муниципализирован, флигели отданы жильцам, а в главном доме должна была открыться школа, но этого не произошло. В 1919 г. дом Прозорова отдали 10-й пехотной школе, позднее – фабрике музыкальных инструментов. Сейчас здание принадлежит кировскому филиалу Московского финансово-юридического университета. В 2005 г. у «Красного замка» восстановлена утраченная с годами галерея с парадным балконом, отчего памятник архитектуры приобрел первозданный вид.
Фото: archidesignfrom.ru, ГАКО, pastvu.com
http://vyatkawalks.ru/wiki/krasnyy-zamok-yakova-prozorova/
|
Метки: прозоровы купечество |
Яков Прозоров — главный вятский меценат |
Яков Прозоров — главный вятский меценат
Среди всех вятских предпринимателей дореволюционной поры имя Якова Алексеевича Прозорова стоит особняком. Представитель старейшей купеческой династии, личность яркая и богатая, он жил не столько для себя, сколько для общества. За большое количество благотворительных инициатив Прозорова прозвали в Вятке «кормильцем» и даже хотели назвать в его честь улицу. В советское время о нем практически не говорили, многие страницы истории рода Прозоровых оказались утрачены. Сегодня очевидно, что Прозоров — одна из наиболее ярких и важных персон в истории Вятки XIX в.

Яков Прозоров
Прозоровы — одна из самых известных купеческих династий. По семейному преданию, происходили из крестьян Якимовагинской волости Вятского уезда. По документальным источникам, прародитель династии Фирс Кириллов Прозоров (родился примерно в 1666 г.) в 1710 г. значился хлыновским посадским и жил в своем дворе в переулке от Московской башни к Ильинской улице. Расцвет купеческой династии Прозоровых связан с деятельностью Якова Алексеевича, родившегося в Вятке 27 сентября 1816 г. В юности он не получил систематического образования, поэтому всю жизнь оставался талантливым самоучкой. Его успеху на предпринимательском поприще способствовали в первую очередь личные качества. До всего он доходил своими опытом, большой работоспособностью, ответственностью и честностью. От природы Прозоров имел организаторский талант и хорошую память, точно знал, сколько товаров закупается и продается от его имени, чем заняты приказчики. Сам изучал иностранную бухгалтерию, банковское дело, постигал премудрости перевода рубля в иностранную валюту и наоборот.
Свои капиталы Прозоров накопил, торгуя хлебом, льном, куделью, конским волосом, щетиной, которые через Архангельский и Петербургский порты шли за границу. Главное достижение Прозорова заключалось в том, что именно ему удалось ликвидировать зависимость вятских купцов, не имевших собственных кораблей, от иностранных торговых фирм. В отличие от других купцов, Прозоров отправлял товар за границу самостоятельно, без посредников. Он контактировал с иностранными торговыми домами напрямую, пользовался кредитами зарубежных банков. Постепенно его хорошо узнали в Англии, Бельгии, Германии, Голландии. Деловая репутация Прозорова была высока: когда через 20 лет в Англию с частным визитом приехал племянник Якова Алексеевича, его там приняли с большими почестями в память о дяде.
Яков Алексеевич тонко чувствовал экономическую конъюнктуру. «Зорко наблюдая за ходом дела и умело ведя торговлю, он из года в год увеличивал капитал, а во время турецкой (Крымской) войны, продав товар за границу по расчету на золото, потребовал уплаты в момент падения рубля в России, через что при расчете получил прибыли на одной курсовой разнице около миллиона», — писал современник.

«Красный замок» Якова Прозорова
Большую часть своих доходов Прозоров стремился вложить в недвижимость, покупая дома в Вятке, пристани, складские помещения и амбары на реках, большие участки земли, лесные дачи, мельницы в уездах Вятской и других губерний. Сдаваемая в аренду, используемая в торговой деятельности недвижимость приносила большие доходы. Предприниматель приобретал лучшие здания города, сдавал их внаем. В его домах размещались квартира и канцелярия вятского губернатора, Вятское благородное собрание, торговые, питейные и благотворительные учреждения. Сам Яков Алексеевич жил сначала в двухэтажном полукаменном доме на углу Никольской и Вознесенской (сейчас — Пролетарской и Ленина). А в дальнейшем Прозоров строит в 1871 г. большой каменный особняк, который получил название «Красного замка». Дом был действительно примечательный: снаружи имел невыбеленные стены, парадный подъезд, балкон с видом на красивейший Александро-Невский собор. Внутри — большой зал и гостиная с паркетными полами, кабинет. В подвальном этаже располагались различные службы. Рядом с домом устроили сад с беседкой. Впоследствии, по завещанию Якова Алексеевича, «Красный замок» был пожертвован Вятскому епархиальному женскому училищу, а в его кабинете устроена домовая церковь.
Многие приобретения Прозоров, живя в Вятке, а особенно после отъезда, передал или оставил по духовному завещанию Вятскому благотворительному обществу, приютам, богадельням, учреждениям просвещения. Общая стоимость домов, пожертвованных городу, по ценам 1884 г. составляла более 500 000 рублей.

Один из доходных домов Прозорова на улице Владимирской. В нем размещалась квартира губернатора. Конец 1890-х или начало 1900-х гг.
О большом авторитете Прозорова среди людей, связанных с ним по торговым делам в России и за рубежом, говорят следующие факты. Среди служащих, приказчиков и других работников, нанимаемых купцом в Вятке, на перевалочных пунктах и пристанях, через которые закупались и направлялись в портовые города товары, авторитет хозяина был так высок, что не было замечено ни одного случая мошенничества, воровства, нарушения учётной дисциплины. Это объяснялось и тем, что Прозоров щедро оплачивал труд своих работников и те боялись потерять место, зная, что к нарушителям дисциплины он был беспощаден. Людей труда Яков Алексеевич уважал. Как-то в разговоре с племянником он сказал: «Вот, ты видел, от меня сейчас вышли рабочие и мой служащий — торговый приказчик. Вот этих людей я ценю — они труженики, результат их работы — реальная польза. А те, кто в тех комнатах гудят и веселятся — это одна вывеска... Так научись, глядя на них, следовать примеру первых и не гнаться за вторыми». Выехав в Петербург, многих молодых своих сотрудников Прозоров взял для работы с ним, а тем, кто не смог покинуть Вятку по возрасту или по состоянию здоровья, назначил солидную пожизненную пенсию.
Как и многие другие вятские купцы, Прозоров был глубоко верующим и набожным человеком. Владимирская церковь была для Прозоровых семейным приходом. Дети, родившиеся в Вятке, крестились в этой церкви, а Яков Алексеевич много раз жертвовал на благоустройство и содержание храма. Здесь он содержал особый хор певчих, выделяя ежегодно 300 рублей. Более 20 лет доставлял он для этой церкви просфоры и красное вино. В 1876 г. им заново выстроены тёплый храм при Владимирской церкви и колокольня (каменные), перекрыта железом крыша. Расходы, принятые на себя Яковом Алексеевичем, составили более 39 000 рублей. В 1937 г. Владимирская церковь, как и многие другие храмы, была разрушена, на её месте встал кинотеатр «Октябрь».

Владимирская церковь. Начало XX в.
На исходе 1879 г. Яков Алексеевич одновременно преподнес монастырям и церквям г. Вятки щедрые дары, общая сумма которых составила 26 500 рублей. Об этой стороне благотворительной деятельности Прозорова говорят многие документы. Его благодеяния остались в истории монастырей: Соловецкого, Вятского Трифонова, Вятского Преображенского, Устюжского женского, Слободского Христорождественского. За него молились прихожане церквей в Вятской, Архангельской, Вологодской и Таврической епархиях.
Будучи богатым купцом, Прозоров подает на имя императора Александра II прошение о возведении его с семьей в потомственные почетные граждане. Ходатайство купца было удовлетворено Правительствующим Сенатом в феврале 1860 г. Прозоров, с каждым годом умножая свои капиталы, достиг немалых высот. В 1870 г. о нем сообщалось: «Я. А. Прозоров, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, имеет золотую медаль на Станиславской ленте, пожалованную в 1860 г., купец 1-й гильдии, торгует хлебным и льняным товарами, которые отправляет к Архангельскому и Петербургскому портам за границу». Многочисленные награды давали Прозорову привилегию потомственного дворянина, это было очень почетно, титул передавался по наследству.

Сын Якова Прозорова Алексей в молодости
До 1917 г. обычным делом было, когда крупный купец возглавлял органы местного самоуправления. Считалось, что успешный деловой человек сможет по уму руководить и хозяйственной жизнью. В 1859 – 1862 гг. Я. А. Прозоров был городским головой в Вятке. В этот период времени он возглавлял комитет по постройке Александро-Невского собора. Значительную часть затрат по строительству Яков Алексеевич взял на себя. Во многом благодаря его стараниям собор, на тот момент считавшийся «долгостроем», освятили в 1864 г. Произошло это через 40 лет после посещения Вятки Александром I, в память о визите которого вятчане и решили возвести храм.
Торгово-предпринимательскую деятельность Я. А. Прозоров успешно сочетал с благотворительностью, которая, казалось, не знала предела. В деловых книгах Прозорова была специальная статья — «счет благотворительности». На эти дела он ежегодно отчислял 10% с каждого рубля прибыли. На праздники из его конторы беднякам выдавалась мука. Невесты из бедных семей при выходе замуж получали денежное пособие. Прозоров устроил в Вятке богадельню, открыл дом призрения для детей бедных граждан. На деньги купца содержался и приют для девочек, где они учились шить, вышивать, вести домашнее хозяйство. По достижении 16-летия выпускницы получали приданое (одежду и постель) и устраивались в богатые семьи на работу. Кроме того, каждую пятницу в конторе Прозорова выдавали муку и деньги бедным жителям Вятки. Этой традиции Яков Алексеевич не изменил и в Петербурге.

Особняк купца Репина. Здесь на деньги Я. А. Прозорова содержался дом призрения детей бедных граждан Вятки. Фото конца XIX в.
Известность получила и его благотворительная инициатива, связанная с приездом в 1878 г. в Вятку министра народного просвещения Д. А. Толстого. Прозоров в память о его визите пожертвовал для городского училища каменный дом с флигелями «общей стоимостью 34 тыс. 300 руб.». Ежегодно Прозоров жертвовал значительные суммы пострадавшим от засухи, погорельцам и на содержание тюрем. Свой собственный дом в Вятке (Ленина, 104) Яков Прозоров завещал Вятскому женскому епархиальному училищу. В 1881 г. «Вятские губернские ведомости» отмечали: «Владея огромным состоянием, он резко отделялся от того круга людей, которые имеют одну цель — наживу… Редкий бедняк не рассчитывал на его добрую помощь».
Прозоров был энергичным и деловым человеком, не любил бездельников и трату времени впустую. По своему социальному статусу он должен был присутствовать на светских раутах и приемах, но не любил подобные мероприятия, пытался их избегать. Он даже редко появлялся на приемах, которые устраивались в его же собственном доме. Краевед В. И. Кощеева писала: «Дом Прозоровых слыл на Вятке гостеприимным и хлебосольным. Все уважаемые люди города, приезжие гости из высшего общества принимались здесь. Радушная хозяйка вместе с невесткой руководила проведением парадных обедов. Хозяин же, как правило, выходил к гостям на минуту, так как очень дорожил своим временем и большую часть его проводил в кабинете за бумагами или в беседах с подчиненными». Интересный случай описывает в своих мемуарах племянник Якова Алексеевича А. А. Прозоров. Как-то раз он пришел в гости к дядюшке, когда у того были гости — накрыты столы, играет музыка, а Яков Прозоров в это время работает в кабинете. Племянник зашел к дяде и спросил, почему он не с гостями, на что тот ответил: «Они бездельники. Они тратят столько времени впустую, а я так не могу: мне надо работать. Береги время. Время — на дело».

Пелагея Семеновна — супруга Якова Прозорова
В 1841 г. Яков Алексеевич женится на дочери лальских мещан Угрюмовых. Пелагее Семёновне было в то время 16 лет. Известна их романтическая история любви. Валентина Кощеева так описывала ее: «Однажды Яков Прозоров остановился в Лальске на ночлег, когда возвращался из Архангельска. Приехал домой и сказал отцу: «Женюсь!». Отец ответил: «Подожди — ты ее совсем не знаешь, был проездом». Но Прозоров младший был непреклонен. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Он с первого взгляда полюбил эту 16-летнюю девушку. И Пелагея была ему верным другом, помощником, супругой во все времена. Правда, пережила мужа на 11 лет». Пелагея Семеновна страстно любила театр и оказывала артистам материальную поддержку. Судьба двух сыновей Прозорова сложилась совершенно по-разному. Владимир Прозоров слыл хулиганом и забиякой, в Вятской мужской гимназии он однажды подрался и получил такие травмы при падении с лестницы, что вскоре умер. Совсем другим был Алексей Прозоров. По настоянию отца он окончил Московское коммерческое училище с малой золотой медалью. Прозоров помог сыну в овладении английским и немецким языками. В 1865 г. Алексей побывал в Англии и Германии, что укрепило там влияние Прозоровых. На рубеже XIX – XX вв. Алексей Яковлевич был председателем Петербургского биржевого комитета и стал известной в российских деловых кругах фигурой, депутатом Государственной думы III созыва.
В 1879 г. Яков Алексеевич с семьей уезжает на жительство в Петербург. Перед отъездом он остался верен себе — пожертвовал Вятскому благотворительному обществу и городу почти целый квартал домов, ряд других построек, а некоторым дал пожизненный пенсион. В столице купец и дворянин Прозоров с семьей жил в собственном особняке в престижной части города — на Английской набережной. Торговые дела велись под фирмой «Яков Прозоров с сыном», но в Петербурге Прозоров прожил недолго. Он умер в феврале 1881 г. Похоронили Якова Алексеевича в Александро-Невской лавре, которая стала усыпальницей и его семьи — супруги, сына Алексея и других родственников.

Пелагея Семеновна Прозорова с внуком
Яков Алексеевич Прозоров своей деятельностью охватил практически все направления общественной жизни — экономику, городское управление, образование, культуру, церковь — и смог воплотить лучшие черты российского предпринимателя, связанные, прежде всего, со служением на благо как своей малой родины, так и страны в целом.
|
Метки: прозоровы |
Прозоровы в Вятке, Петербурге, Стокгольме |
Краеведение
Прозоровы в Вятке, Петербурге, Стокгольме
Создано 01.07.2009 14:54
Просмотров: 2447

В июне 2009 года в Швеции, в Стокгольме, была найдена могила княгини Ольги Алексеевны Оболенской, внучки знаменитого вятского купца Якова Прозорова – так благодаря стараниям вятского краеведа Валентины Ивановны Кощеевой раскрылась еще одна славная страница жизни этого рода.
Более 10 лет Валентина Ивановна занимается изучением истории рода Прозоровых.
Всё началось с поисков материалов о хозяине особняка, в котором сейчас располагается Музей народного образования. Этот особняк – дом № 33 по ул. Московской – в 1878 году Яков Прозоров по просьбе министра просвещения графа Дмитрия Толстого безвозмездно передал под четырехклассное высшее начальное училище. С тех самых пор и по настоящее время дом Прозорова служит просвещению.
Прозоровы в Вятке
Яков Алексеевич Прозоров – вятский 1-й гильдии купец, потомственный Почетный гражданин, коммерции советник, получивший по императорскому указу звание потомственного дворянина, был на Вятке зачинателем торговли с зарубежьем, отправлял суда со своим товаром в Англию и Германию, позднее во Францию, Бельгию, Голландию. Корабли везли зерно, лен, семя, конский волос особой выделки, щетину и холст. Прозоров впервые организовал торговлю напрямую, в обход посредников-перекупщиков. Сам изучал иностранную бухгалтерию, банковское дело, постигал премудрости перевода рубля в иностранную валюту и наоборот. Его деловая репутация была высока: когда через 20 лет в Англию с частным визитом приехал племянник Якова Алексеевича, его там приняли с большими почестями в память о дяде.
Яков Алексеевич ежегодно участвовал в торгах на поставку провианта для Архангельской и Вятской губерний, в неурожайные годы участвовал в заготовках зерна для обеспечения посевными материалами, мукой и продовольствием.
Тысячи рублей Яков Алексеевич тратил на благотворительность: принимал деятельное участие в строительстве Александро-Невского собора, в устройстве пароходства на реке Вятке, в проведении Вятско-Двинской железной дороги, в строительстве концертного зала. 15 000 рублей пожертвовал он на устройство дома призрения детей бедных граждан Вятки, в котором содержалось 40 мальчиков, обучавшихся не только грамоте, но и столярному, слесарному, сапожному, портновскому ремеслу. На деньги Прозорова содержался и приют для девочек, где они учились шить, вышивать, вести домашнее хозяйство. По достижении 16-летия выпускницы получали приданое (одежду и постель) и устраивались в богатые семьи на работу. Кроме того, каждую пятницу в конторе Прозорова выдавали муку и деньги бедным жителям Вятки. Этой традиции Яков Алексеевич не изменил и в Петербурге.
Примечательно, что в конторских книгах Прозорова была даже особая статья – «счет благотворительности», на которую ежегодно перечислялось 10% с каждого рубля прибыли.
Расширение торговых связей, увеличение оборота капитала, необходимость упрочения отношений с компаньонами, желание принять участие в работе биржевого комитета и в биржевых операциях, привели Якова Алексеевича к решению о переезде в Санкт-Петербург. Перед отъездом Прозоров пожертвовал Вятскому благотворительному обществу целый квартал домов и лавок на нижней торговой площади. Некоторых молодых приказчиков Яков Алексеевич взял с собой в Петербург, а старикам дал пожизненный пансион.
Прозоровы в Петербурге
В январе 1879 года в Петербурге начала свою работу фирма «Торговый дом «Яков Прозоров с сыном». Компаньоном по торговым делам стал старший сын Алексей.
Для этого, в одном из престижнейших районов города, на Английской набережной, был приобретен особняк – дом № 48.
Все дома, расположенные здесь, принадлежали столичной знати, представителям известных графских и княжеских фамилий, среди которых были Трубецкие, Асташевы, Лавали, Оболенские и другие. Позднее Прозоровым был куплен еще один особняк на Английской набережной – дом № 50, в котором располагалась торговая контора.
После смерти Якова Прозорова в 1881 году торговая фирма перешла в наследство Алексею. На октябрь 1883 года он имел полученные в наследство от отца в Вятке каменный и три деревянных дома, пристани с конторами и складами, приобретенное им самим имение, мукомольную мельницу в Санкт-Петербургской губернии и 388 десятин земли в Уржумском уезде Вятской губернии. Алексей был также участником компании «Русское товарищество котиковых промыслов» на Дальнем Востоке, вице-председателем Совета Волжско-Камского коммерческого банка, председателем комитета Санкт-Петербургской Биржи, чиновником по особым поручениям в чине тайного советника.
У Алексея Яковлевича было четверо детей. Сын Алексей родился в июле 1873 года, окончил Петербургский университет и принял на себя заведование котиковым промыслом в Охотском море. Он трагически погиб во время шторма, пытаясь помочь терпевшим бедствие рыбакам. Другой сын, Борис, в 1914 году имел звание титулярного советника. Сын Яков родился в 1872 году, воспитывался в Николаевском кавалерийском училище, служил в Московском 1-м лейб-драгунском Императора Александра III полку. В 1903 году произведен в штабс-ротмистры, а в феврале 1907 году уволен в отставку, в 1911 году уже на гражданской службе, коллежский асессор, по документам 1914 года, был причислен к отделу торговли министерства торговли и промышленности. Дочь Ольга родилась в 1870-м, в первом браке – графиня Асташева, во втором – княгиня Оболенская. В 1914 году, в год смерти своего отца жила за границей, предположительно, в Германии. Ее судьба после революции 1917 года остается загадкой для исследователей.
Неизвестна также и дальнейшая судьба остальных потомков Якова Алексеевича Прозорова. В ежегоднике «Весь Петроград. 1923 год» фамилии представителей этой семьи уже нет.
Прозоровы в Стокгольме
Только в 2009 году в Стокгольме мне вновь удалось найти следы внучки Якова Прозорова княгини Ольги Оболенской. Неизвестно, как она с мужем князем Алексеем Оболенским оказалась в Швеции, неизвестно, где они жили и чем занимались. Доподлинно известно только место их захоронения. Это стокгольмское Лесное кладбище. Княгиня Ольга умерла в 1959 году, а князь Алексей – в 1969-м.
В какой-то степени эти люди – мои современники, и очень жаль, что мне не удалось с ними познакомиться и пообщаться при жизни.
Автор: Валентина Кощеева, краевед, сотрудник Музея народного образования
Фото предоставлены автором
http://ks-gazeta.ru/index.php/sobytiya-7/203-prozorovy-v-vyatke-peterburge-stokgolme
|
Метки: прозоровы оболенские вятка |
Адмиралы и Транссиб.Флот и Китай.Князья Мещерские - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова |
Адмиралы и Транссиб.Флот и Китай.Князья Мещерские - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова
April 6th, 2015
Медведя) . Воспитателя, на английский манер, Натальи и её сына Петра I….На Оби и рядом с Оболенскими
© Наталья Ярославова – Оболенская
4-5 апреля 2015 года - Вербное Воскресенье
Полный текст с иллюстрациями http://yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=15&PubID=1102
Английское влияние Артамона Матвеева (Ярославова-Медведя) - Адмиральские и Фельдмаршальские звания времен Петра I. Первый кавалер Мальтийского Ордена Б.П. Шереметев, перезахороненный около усыпальницы Великой княжны Натальи
Адмиральские звания были введены Петром I, когда император, увлеченный Англией его воспитателем боярином Артамоном Матвеевым (Ярославовым Медведем), в доме которого жили опальные выходцы Альбиона, стал создавать морскую столицу Петербург по плану Ньютона и астрологии Якова Брюса.
Он перевез в город своего имени останки фельдмаршала графа Б.П.Шереметева - первого кавалера Мальтийского ордена и перезахоронил их около часовни Воскресения Лазаря - усыпальницы его сестры Великой княжны Натальи Алексеевны, которую сделал покровительницей Российского Флота.
После перезахоронения в 1724 году рядом с усыпальницей Натальи и Лазаря - Великого князя Александра Невского будущая лавра стала называться Александро-Невской.
Воинское звание фельдмаршала было привнесено в Россию из истории Священной Римской империи и Тевтонских орденов. Ввел его Петр I в 1699 году. И при императоре в русской армии было два генерал-фельдмаршала: Ф.А. Головин и К.Е. де Круа, затем Ф. А. Головин и Б.П.Шереметев, затем Б.П.Шереметев и А.Меншиков /3/.
Кавалером Мальтийского ордена граф Б.П.Шереметев стал при исполнении в 1697—1699 годах дипломатического поручения Петра I во время путешествия по Европе и на Мальту.
Фельдмаршал Б.П.Шереметев завершил свой жизненный путь в 1719 году, его останки, как сказано, были перевезены из Москвы и перезахоронены около усыпальницы Великой княжны Натальи Алексеевны, дочери Натальи Нарышкиной, воспитанной в доме боярина Артамона Матвеева(Ярославова Медведя) и сосватанной им вдовому царю Алексею Михайловичу Романову.
Вероятно, поэтому уже в 21 веке граф П.П. Шереметев стал Председателем Президиума Международного совета соотечественников ( 01.02.2015. Обращение к графу П.П. Шереметеву - Председателю Президиума Международного совета соотечественников МСРС от 09.11.09.).
К нему я и обращалась в 2009 году, в т.ч. по вопросам культуры, энергосбережения и, так получилось,М.Прохорова в связи с годом культуры во Франции.
Интерес к ахматовскому Дому у Фонтанов тех, кто теперь «разрабатывает» это мое Обращение, возник, очевидно, по той причине, что это - Шереметевский дворец предка Председателя МСРС, родившегося в Марокко ( Франция до середины 20 века) .
И как-то много после этого Обращения появилось новых Кавалеров Ордена Почетного легиона Франции («Российские Кавалеры Ордена Почетного легиона Франции, учрежденного Наполеоном).
В происходящем есть субъективность. А меня интересует настоящая история Флота
Кронштадтский контр-адмирал И.Г.Черевин – предок детей М.М.Ярославовой. Комендант Кронштадта Н.Бусыгин. И Иоанн Кронштадтский, крестивший княжну Е.А.Мещерскую
Здание Адмиралтейства, понадобившееся по причине введения званий Адмирала на флоте, изначально было в Кронштадте (The Sovetskaya street in Kronstadt).
В ряду первых, получивших адмиралтейские звания в начале XVIII века, контр-адмирал И.Г.Черевин, член Адмиралтейств-коллегии, отец мужа М.М.Ярославой-Черевиной. А посещавший её троюродную племянницуАсенефу в Горицком монастыре Иоанн Кронштадский, через несколько лет после смерти Асенефы (дочери Александры Ярославовой), в 1901 году крестил княжну Екатерину Александровну Мещерскую, написавшую книгу «Воспоминания княжны Мещерской».
Моя бабушка Клавдия Никтополеоновна Маркова, в рассказах о своих сестрах Мещерских в Москве упоминала вот эту княжну Е.А.Мещерскую, называя её двоюродной сестрой или двоюродной тетей, по отношению к разным её родственникам.
А в браке моего отца Б.Р.Ярославова и моей мамы Т.А.Давиденко (Ярославовой) фамилия Ярославовых породнилась с родословием: Марковых, Мещерских, Давиденко и Бусыгиных, один из которых был капитаном I ранга и комендантом в Кронштадте во время Великой Отечественной войны, по рассказам Г.А.Давиденко-Кошелевой.
Кронштадт соединил фамилии Ярославовых, Мещерских, Черевиных и Кошелевых в XVIII веке. И Кронштадт с Порт-Артуром объединили эти же фамилии в XX и XXI веке.
Также как и река Объ, через которую прошел Транссиб, в районе Новониколаевска (Новосибирска), от Петербурга до Дальнего Востока. Не только путь водный , но и - «железный», современные РЖД.
Поэтому и в Александро-Невской Лавре я подходила к могилам князя Мещерского и Кошелевых, также как и Кушелевых, поскольку это важные фамилии в истории моих родов по линии отца и матери.
И Флот России я стала изучать потому, что мой прадед Никтополеон Марков был капитаном корабля на Амуре, и рейсы совершал не только речные, но и морские , в т.ч. и к запомнившейся, путешествовавшим с ним членам семьи, - скале Три брата в сахалинском Татарском проливе, недалеко от мыса Жонкиер:
«Французский мореплаватель Жан Франсуа Лаперуз, побывавший здесь с экспедицией в 1787 году, назвал мыс в честь своего друга и покровителя в морском министерстве, адмирала маркиза Клемента Таффанела де ля Жонкиера» /6/.
Это символ Адмирала в Тихом океане - генерал губернатора Новой Франции, французских владений в Северной Америке: Канада, Луизиана, Акадия, о.Ньюфаундленд.
Сын падчерицы Анюты Сусловой (Бусыгиной в браке) вот этого дальневосточного капитана Никтополеона Маркова от первого брака его жены Ксении, как раз, и спасал остров Кронштадт в годы Великой Отечественной Войны. Два его других брата Бусыгина стали музыкантом и юристом. Мореплаватель, музыкант и юрист Бусыгины - внуки прабабушки Ксении Марковой (Сусловой в первом браке).
Петербург, Кишинев и Львов.
Море, закон и музыка.
Ребенком Ксении Марковой - супруги Н.Маркова, также как Анюта Суслова (Бусыгина), была и моя бабушка Клавдия Никтополеоновна Маркова (Давиденко), родственница Мещерских, оставшихся, по стечению обстоятельств, после революции в России, как и княжна Е.А.Мещерская.
А поскольку одна из веток Мещерских, и именно та, к которой относилась Екатерина Александровна Мещерская - потомки Артамона Ярославова Медведя (Матвеева), то связям, главным образом, вот этой лотошинско-волоколамской ветки Мещерских с Кронштадтом и Порт-Артуром, в контексте истории Флота и ордена Андрея Первозванного, я уделяю главное внимание.
Княжна Е.А.Мещерская - дочь Кавалера Ордена Андрея Первозванного князя А.В.Мещерского - потомка боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя), как и графы Румянцевы
Рождена известная княжна Е.А.Мещерская была княгиней Е.Мещерской –Подборской (Гедеминовичи) уже после смерти её отца, Шталмейстера Двора Его Императорского Величества, князя А.В.Мещерского, Кавалера Ордена Андрея Первозванного, похороненного в имении Лотошино, перешедшем князьям Мещерским, как приданное княгини Натальи Матвеевой-Мещерской, от рода боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя) - воспитателя Петра I.
Князь Василий Иванович Мещерский был женат на Наталье Андреевне Матвеевой (Мещерской), родная сестра которой - Мария Андреевна носила фамилию Румянцева (Наталья Андреевна Матвеева).
Главное богатство рода Мещерских, на что обращают внимание историки, произросло вот от этого брака князя Василия Ивановича Мещерского и Натальи Андреевны Матвеевой - внучки боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя ) и его английской жены леди Гамильтон.
«Этот брак принёс Мещерским значительную часть состояния Матвеевых – угасшего боярского рода, могущественного в 17 веке. Как пишет Е. П. Карнович: “до того времени князья Мещерские, происходящие от завоевателя Мещеры, не были известны своим богатством”.
Родной сестрой хозяйки Лотошино была М. А. Румянцева, урождённая Матвеева, мать прославленного полководца фельдмаршала П. А. Румянцева - Задунайского».
Граф П.А. Румянцев-Задунайский, сын графини Марии Андреевны Румянцевой, урожденной Матвеевой, тоже был потомком боярина Артамона Сергеевича Матвеева (Ярославова Медведя), также как и его наследники Румянцевы.
Румянцевой была и жена Якова Брюса, по плану которого строился Петербург, изначально предполагавший сделать центром города именно остров Кронштадт. Супруга Брюса - Прасковья Румянцева – это дочь Марии Андреевны Матвеевой (Румянцевой) , внучки боярина Артамона и его леди Гамильтон.
Вот таким образом имение Лотошино благодаря браку Натальи Андреевны Матвеевой и князя Василия Ивановича Мещерского, отошло роду князей Мещерских.
А Кавалер ордена Андрея Первозванного князь А.В.Мещерский - отец княжны Е.А.Мещерской, родившейся в 1901 году, был прямым потомком от этого брака начала XVIII века, объединившего род боярина Матвеева (Ярославова Медведя) и род Мещерских, также как и сама княжна Е.А.Мещерская, которую называют родственницей предков моей мамы Тамары Анатольевны, вышедшей замуж за Бориса Романовича Ярославова ( «Горный геолог Борис Романович Ярославов и староверы - собственники российских приисков: какая «горная тайна» их роднит?»).
Санкт-Петербургское английское общество – наследие английский вигов боярина Артамона: князь А.И.Мещерский и Р.А.Кошелев. Опекун княжны Мещерской – князь С.Б.Мещерский и опекающий - Иркутский губернатор А.П.Игнатьев
Боярин Артамон Матвеев (Ярославов Медведь), дед княгини Натальи Матвеевой-Мещерской был главным источником английского влияния, поскольку, как сказано, супругой его была урожденная Гамильтон и в его доме собирались английские мореходы и коммерсанты. Наталья Нарышкина была его воспитанницей, и он сосватал её овдовевшему царю Алексею Михайловичу, от брака которых и родились царь Петр Алексеевич и Великая княжна Наталья Алексеевна.
Орден Андрея Первозванного Петр I учредил уже после его поездки в Лондон.
Членом Санкт-Петербургского английского общества, образовавшегося как расширенный состав общества, собиравшегося в доме у боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя), был также князь Александр Иванович Мещерский, похороненный на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.
Член английского общества Петербурга почему-то не указан в росписи князей Мещерских, хотя рядом с усыпальницей Великой княжны Натальи Алексеевны хоронили самых родовитых и влиятельных представителей императорского двора. Ведь император Петр I видел усыпальницу, как «Пантеон Героев» в городе его имени.
При этом, рядом с могилой князя А.И.Мещерского находится погребение Р.А.Кошелева - члена Государственного Совета, супругой которого была В.И.Плещеева, сестра мистика и масона С.И.Плещеева.
Это я выделила для себя потому, что Плещеевы ещё одна фамилия в истории моих предков, имеющая важное значение.
А фамилию Кошелева носила не только супруга контр-адмирала И.Г.Черевина, члена Адмиралтейской коллегии в Петербурге, но её носила и моя родная тетя Г.А.Давиденко-Кошелева.
В книге Воспоминаний княжны Мещерской, не успевшей выехать из России, в отличие от брата Вячеслава (Париж) , рассказывается о том, что её опекуном был назначен князь Сергей Борисович Мещерский, камергер и член Совета Монархических Съездов. Членом этого Совета монархических съездов был и председатель Главного Совета СРН Н. Е. Марков ( Совет монархических съездов)
Участвовала в судьбе княжны Екатерины, оставшейся без отца ещё до её рождения и княгиня Мещерская-Игнатьева, супруга Алексея Павловича Игнатьева и дочь Апраксиной («Ярославовы из Ярославовой: «горсть Богатырского племени», 460 лет в предгорьях Урала. Архивы Уфимского головы Д.С.Волкова и Руфа Игнатьева»).
Генерал от кавалерии Алексей Павлович Игнатьев был губернатором не только Киевским, но и Иркутским, где позже и появились Мещерские - родственники моей бабушки К.Н.Марковой и, отданной в детстве под опеку, княжны Е.А.Мещерской.
Князю Сергею Борисовичу Мещерскому - опекуну новорожденной Екатерины перешел контроль над родовым имением Лотошино князей Мещерских – потомков боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя). Его сестра - княгиня Е.Б.Мещерская-Гончарова.
Саратовское имение Мещерских - Мещерское (Архангельское) – возможное имение отца оставившего мало следов вице-адмирала С.М.Мещерского, соседнее с имением помещика Ярославова. Аксаковы-Ярославовы-Мещерские
Одним из братьев князя и опекуна Сергея Борисовича Мещерского был Алексей Борисович Мещерский - инженер путей сообщения, строитель портов в Петербурге и Николаеве, женатый на кн. М.А.Оболенской. А второй его брат - князь Борис Борисович Мещерский, Шталмейстер Двора Его Императорского Величества, занимавший должность Саратовского губернатора.
В Саратовской губернии, где вице-губернатором некогда был и сын вологодского А.Т.Ярославова - бригадир Т.А.Ярославов, знаменито имение князей Мещерских - Мещерское – Архангельское («Масонская табакерка Ярославовой - Брянчаниновой, Академия Наук Петра I, Дубровицы и Архангельское»).
Это один из «узлов», где встречались Ярославовы и Мещерские, их потомки и боковые линии, продвигавшиеся на восток.
В статье 2011 года я упоминала это имение Мещерское ( Архангельское) в такой редакции:
«Ярославов помещик купил с торгов у Неелова 510 десятин (с. Стар.-Бурас), ранее принадлежавших татарскому князю Агишеву. СОСЕДИ 18 век: В Стар.- Бурасовской вол. находится д. Борисовка, принадлежавшая графу Воронцову-Дашкову… С. Старо-Мещерское (Архангельское) - кн. И. В. Мещерскому. От этого князя село перешло к племяннику его И. В. Головину…» (Саратов 1798 год. «Катакомбная Русь»: вотчины, имения).
Село Мещерское (Архангельское) «основано в 1700–03 годах князем М.В. Мещерским на землях, пожалованных ему в 1696. Крестьяне завезены из Саранского и Пронского уездов. От него село перешло к племяннику Мещерского И.В.Головину. В 1756 построена церковь в честь Михаила Архангела. Другое светское название, употреблявшееся до конца 19 века, – Старомещерское».
В настоящее время село относится к Пензенской области (Мещерское (Архангельское).
Князь Михаил Васильевич Мещерский, основавший саратовское имение Мещерское (Архангельское) - возможно (по инициалам и датам) отец вице-адмирала князя Степана Михайловича Мещерского (1700-1775), о котором мало сведений в 18-20 веках.
Второй женой князя Михаила Васильевича Мещерского называют вдову Румянцеву, состоявшую в вероятном родстве с Марией Андреевной Матвеевой (Румянцевой) - матерью Румянцева – Задунайского.
У князя М.В.Мещерского было пять братьев и одна сестра (Терентий, Степан, Дмитрий, Ефим Григорий и Ирина - дети кн.Василия Мещерского).
Карьеру сделал лишь один сын - вице-адмирал князь Степан Михайлович Мещерский, также имевший много сестер и братьев. Князья Мещерские были плодовиты. О других братьях и сестрах адмирала информации нет.
И отчего-то не написали, как сказано, в XVIII-XX веках отдельной статьи , посвященной адмиралу С.М.Мещерскому. Причина такая же, как в случае с князем А.И.Мещерским, похороненным на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры? Или - противоположная. Детей в росписи (генеалогических таблицах) князей Мещерских у адмирала князя С.М.Мещерского тоже не показано.
По другим источникам был также князь Платон Степанович Мещерский (1713-1799) - Казанский губернатор, управлявший Сибирским наместничеством и Малороссией. Но сыном, с учетом дат, он быть не мог. Маловероятно, что вице-адмирал 1700 года рождения и Казанский губернатор 1713 года рождения находились с отцовско-сыновьих отношениях.
А вот в судьбе Казанского губернатора и Сибирского наместника князя Платона Степановича Мещерского принимали участие Румянцевы - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова-Медведя ).
Поэтому, скорее, он сын князя Степана Васильевича Мещерского – брата собственника Саратовского имения Мещерское (Архангельское).
Его сын князь Петр Платонович Мещерский был в браке с Александров Николаевной Аксаковой – родной сестрой Анны Николаевны Аксаковой-Ярославовой. Это дочери и сестры Ярославских губернаторов.
Опекун княжны Е.А.Мещерской - князь Сергей Борисович Мещерский и его родственники, Оболенские, Ливен, Лазаревы
Опекун княжны Екатерины Князь Сергей Борисович Мещерский был рожден от брака князя Бориса Васильевича Мещерского - Тверского губернского предводителя дворянств и княгини Софьи Васильевны Оболенской - внучки А.И.Мусина - Пушкина, близкого к кругу вологодского А.Т.Ярославова (Кн. Б.В.Мещерский похоронен в Царском селе).
Сам князь Борис Васильевич Мещерский – важная фигура в этой истории, родился от брака князя Василия Ивановича Мещерского и баронессы Натальи Борисовны Мещерской. Княгиня Наталья Борисовна Мещерская - урожденная Шарлотта Вильгельмина фон Фитингоф. Наталья Борисовна - её имя в крещении. Она дочь княгини (баронессы) Ливен, воспитательницы детей императора Павла I.
Сестра князя Василия Ивановича Мещерского - княгиня Мария Ивановна Мещерская была супругой Ивана Николаевича Гончарова, родного брата Натальи Гончаровой-Пушкиной (во втором браке Ланской).
Имение Гончаровых находилось рядом с Лотошино около Волока Ламского.
Это родство приблизило их к ещё одному «узлу» - Царскому селу ( ныне Пушкино), с которым плотно связана судьба потомка контр-адмирала И.Г.Черевина - генерала П.А.Черевина, правнука М.М.Ярославовой-Черевиной, основателя Охраны императора.
Матерью опекуна князя Сергея Борисовича, о чем сказано выше, была урожденная Оболенская Софья Васильевна.
И, вероятно, поэтому женихом княжны Екатерины Александровны Мещерской прочили Михаила Оболенского, как это описывается в её воспоминаниях. Но революция сломала эти планы. Перед революцией браки Мещерских и Оболенских были не редкими.
Супружество опекуна князя Сергея Борисовича Мещерского, как видится, не мало повлияло на судьбу доверенной ему подопечной - княжны Екатерины Мещерской.
Двухэтажные церкви: боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя) в Артамоновом (Армянском) переулке и в Лавре Александра Ярославича Невского
Женой князя С.М.Мещерского была княгиня Екатерина Семеновна Абамелек-Лазарева (1856-1927), дочь кн. Семена Давыдовича Абамелек-Лазарева и Елизаветы Христофоровны Лазаревой.
В статье о боярине Артамоне Матвееве (Ярославове Медведе) и истории основания Петербурга, начиная с его плана, я писала о том,как переулок имени боярина Артамонова был переименован в Армянский переулок, где в настоящее время находится посольство Армении в России.
И это не выглядит благодарностью за то, что некогда коммерсант Л.Н.Лазарян, появившийся в России после дипломатических успехов министра иностранных дел боярина Артамона Сергеевича Матвеева (Ярославова Медведя) в переговорах с персидским шахом Аббасом II, обосновался рядом с построенной Артамоном Матвеевым церковью и очень быстро разбогател.
Продолжение http://yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=15&PubID=1102
|
Метки: мещерские |
Ливен, Наталья Фёдоровна |
Ливен, Наталья Фёдоровна

Статья из Википедии.
Вы можете улучшить статью, исправив и дописав ее.
| Наталья Фёдоровна Ливен | |
 |
|
| Дата рождения: | 10.09.1842 |
| Дата смерти: | 14.01.1920 |
| Род деятельности: | религиозный деятель, меценат |
| Супруг(-а): | Павел Иванович Ливен |
Светлейшая княгиня Наталья Федоровна Ливен (урожд. графиня Пален; 10 сентября 1842, Гофцумберг — 14 января 1920, село Сергеевское, Тульской губернии) - фрейлина, меценатка, одна из руководителей петербургской общины евангельских—христиан (пашковцев, прохановцев). Внучка графа Г. И. Чернышёва и графа П. А. Палена.
Содержание
Биография
Младшая дочь графа Фёдора Петровича Палена(1780–1863), дипломата, действительного тайного советника, от его брака с графиней Верой Григорьевной Чернышёвой (1808—1880). Будуче фрейлиной, 20 октября 1871 года в Риге вышла замуж за князя Павла Ивановича (Пауля Германа) Ливена (1821—1881), тайного советника, служившего обер-церемониймейстером при императорском дворе.
Религиозная деятельность
Еще до своего замужества Наталья Фёдоровна посетила в Лондоне молитвенное собрание в доме отставного министра Блеквуда, где впервые услышала лорда Редстока[1]. Позже, в 1874 году Редсток приехал в Петербург и начал пропагандировать свои идеи в великосветской среде. Одним из его горячих приверженцев оказался известный богач В. А. Пашков, сплотивший вокруг себя группу единомышленников. Активную помощь Пашкову оказывала княгиня Ливен и ее старшая сестра, Вера Фёдоровна (1835—1923) в замужестве княгиня Гагарина.
Во дворце княгини Ливен (ул. Большая Морская, д. 43) постоянно проходили различные собрания верующих, и гости могли видеть, как за одним столом сидят и аристократы, и простые конюхи. Здесь начинал свою проповедническую деятельность Иван Степанович Проханов. В доме Наталье Фёдоровны часто останавливались известные деятели российского евангельского движения, такие как доктор Фридрих Бедекер, Иван Вениаминович Каргель.
Имея доступ к царской семье и некоторым членам правительства, княгиня Ливен содействовала распространению Евангелия тем, что получала разрешения на проповедь, например, в тюрьмах. Из-за своего близкого знакомства с императорским домом ей единственной дозволили проводить евангельские встречи во время гонений 1884-1887 гг. В своих воспоминаниях ее дочь Софья Павловная писала по этому поводу[2]:
"Приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей его волю, чтобы собрания в ее доме прекратились. Моя мать, всегда заботившаяся о спасении душ ближних, начала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение сказала: "Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться: Бога или государя?" На этот своеобразный и довольно смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и прежде. Моей матери позже передали, будто государь сказал: "Она вдова, оставьте ее в покое"
Н. Ф. Ливен с детьми
Княгиня Ливен использовала свое состояние, чтобы помочь неимущим, открывала швейные мастерские для бедных женщин, занималась обучением детей. В 1905 году в её доме проводились первые Библейские курсы продолжительностью шесть недель. Эти курсы должны были стать основой для систематического богословского образования, необходимого новообразовавшимся общинам. После революции Наталья Федоровна не эмигрировала из России. Она жила с младшей дочерью и сестрой в семейной вотчине князей Гагариных в селе Сергиевском (ныне г. Павловск), где в январе 1920 года скончалась.
Дети
В браке имела пять детей:
- Анатолий Павлович (1873—1937), выпускник юридического факультета, активный участник Белого движения, полковник.
- Павел Павлович (1875—1963), умер в эмиграции в Лондоне.
- Мария Павловна (1877—1907), не замужем, умерла в Лозанне.
- Александра Павловна (1879—1974), в 1924 году в Париже вышла замуж за Kynaston Studd.
- Софья Павловна (1880—1964), активный член Церкви евангельских христиан-баптистов, 1930 году была арестована и приговорена к пяти годам ссылки. Позднее эмигрировала во Францию, автор книги «Духовное пробуждение в России».
Источники
- ↑ Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Том III.— СПб., 2004.
- ↑ Ливен С.П. - Духовное пробуждение в России. Чикаго, 1986
Литература
- Каретникова М. С. - История петербургской церкви евангельских христиан-баптистов // Альманах по истории русского баптизма. Вып. 2. СПб., Библия для всех, 2001.
|
Метки: ливен |
ОБОЛЕНСКИЕ |
ОБОЛЕНСКИЕ


Княжеский род, внесенный в 5-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. Александр Дмитриевич (1847–1917), окончил Моск. ун-т. В 1884, после смерти А. П. Бахметевой, наследовал Николо- Пестровский хрустальный завод и 16468 дес. земли в селах Усовка и Никольская Пестровка Городищ. у. При нем произ-во хрусталя было усовершенствовано и расширено, а изделия з-да отмечены Большой золотой медалью на междунар. выставке в Париже. В 1882–88 избирался пенз. губ. предводителем дворянства. В 1889 назначен обер-прокурором сначала 2-го, а потом 1-го деп. Правительствующего Сената. С 1896 пом. варшавского ген.-губернатора по гражд. части, с 1899 сенатор, с 1902 чл. Гос. совета. Избирался вице-пред. Рус. муз. об-ва (РМО) и был одним из организаторов его отделения в П. В кон. 19 в. организовал при Николо-Пестровском з-де хор и духовой оркестр, а в 1902 (совместно с П. А. Оболенским) – один из первых в России оркестров нар. инструментов (см. Никольский оркестр народных инструментов), для к-рого приобрел комплект балалаек и домбр. Развитию муз. культуры в Пенз. губ. способствовала жена Ал-дра Дм. Анна Александровна (урожденная Половцева) (1861–1917), состоявшая чл. правления Пенз. отд. РМО. Их сыновья: Дмитрий Александрович (1882 – 1964), в 1907 избирался почетным мировым судьей Городищ. у., с 1908 городищ. уездный предводитель дворянства, пред. Городищ. уездного зем. собрания. Поместье находилось в с. Панцыревка Городищ. у. Умер во Франции. Александр Александрович (1885–1940), в 1902–05 учился в Пажеском корпусе, с 1905 корнет Кавалергардского полка, впоследствии адъютант ген. А. А. Брусилова. Умер во Франции. Петр Александрович (2.10.1889, СПб. – 31.12.1969, М.). В 1908 окончил классич. гимназию в СПб., уч-ще правоведения. С 1908 оркестр под его управлением давал гастрольные концерты в городах Поволжья. С 1913 чиновник деп. Правительствующего Сената, с 1914 зав. автомоб. частью управления Сев. р-на Об-ва Кр. Креста. В 1920–22 находился под арестом, в 1924–29 – на преподавательской работе в воен. учеб. заведениях, в 1929–57 жил во Франции, в 1957 вернулся на Родину. По возвращении стал чл. Союза композиторов СССР.
Лит.: Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; История родов русского дворянства / Сост. П. Н. Петров. Т. 1. М., 1991; Оболенский П. А. Самый старейший //Огонек. 1964. № 31; Оболенский П. А. Воспоминания //Наше наследие. 1991. № 5; Оболенский П. А. Из воспоминаний / Подг. и публ. В. И. Мануйлова //Земство. 1994. № 2; Бермандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. Т. 2. М., 1974.
[Тюстин А.В. Оболенские / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 403.]
В воскресенье 19.03.2006 г. в Пензу приехала внучатая племянница последнего владельца Никольского стекольного завода князя Оболенского - княгиня Александра Николаевна Оболенская. О своем княжеском происхождении врач-арт-психиатр Александра Бультман фон Герсдорф, гражданка Швеции, работающая и проживающая в Германии, вспоминает редко. Но она очень хорошо говорит по-русски. И в последнее время ей все чаще удается поговорить на языке своих предков. В новую Россию княгиня Александра Оболенская приезжала не раз. Только визит на историческую родину для нее всегда ограничивался посещением столиц - Санкт-Петербурга и Москвы. В Пензенскую область она приехала впервые. На перроне вокзала Пенза-I княгиня рассказала, что производством хрусталя занималось все их большое семейство. У ее дедушки был стекольный завод на территории сегодняшней Белоруссии, а у его родного брата - в Никольске. С приходом советской власти князья Оболенские покинули Россию. Судьба разбросала их по Европе. Пришлось им нелегко, но из поколения в поколение вместе с родным русским языком они передавали рассказы о заводе. Возможно, именно с этими рассказами передавались любовь к русскому искусству и художественный вкус. С вокзала княгиня Оболенская отправилась в Никольск. В Пензенской области она пробудет до 25 марта. За это время запланировано ее посещение Никольского завода хрусталя и музея-усадьбы «Тарханы». Визит княгини проходит в рамках подготовки к I Всероссийскому симпозиуму по художественному стеклу.
[«Пензенская правда», №21, 21 марта 2006 г.]http://inpenza.ru/nikolsk/obolenskiye.php
|
Метки: оболенские пенза предпринимательство |
А.В. Книпер-Тимирева: след в истории |
А.В. Книпер-Тимирева: след в истории
Краевая акция «Репрессированные деятели Культуры и искусства в истории Красноярского края»
Выполнил:
Власов Игорь
МБОУ СОШ № З г. Енисейска.
Енисейск, 2011
Совсем недавно всей семьей смотрели по телевизору фильм «Адмирал Колчак». На фразу кого-то из родственников о том, что любовница Колчака Анна Васильевна (ее играла Лиза Боярская) была в ссылке в нашем городе, я не обратил внимание. А когда увидел фамилию Книпер-Тимиревой в списке репрессированных деятелей культуры и искусства в истории Красноярского края, заинтересовался личностью этой женщины. Поэтому моя исследовательская работа будет посвящена Анне Васильевне Книпер-Тимиревой. Начну с ее биографии.
Анна Васильевна Книпер-Тимирева вощла в историю как спутница последних, самых драматических лет жизни верховного Правителя России адмирала Колчака. Генерал П.Бержерон, видевший анну Васильевну при ставке Колчака так писал о ней в своем дневнике: «Тимирева. Просто женщина, и этим все сказано… Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства».
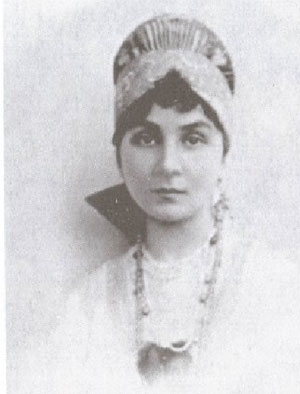
Анна Васильевна Книпер (Сафонова, Тимирева, Книпер-Тимирева) родилась 18 июля 1893 в Кисловодске и была шестым ребенком в семье. Отец ее, В.И.Сафонов, был преподавателем музыки, дирижером и пианистом, много лет возглавлял Московскую консерваторию. То есть был человеком, широко известным в столичном мире. В 1906 семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию княгини Оболенской в 1911году, занималась рисунком и живописью в частной студии. Музыка, можно сказать, вошла в ее душу с самых пеленок. Итак, музыка и живопись - вот ее основные пристрастия. Плюс к этому прекрасное домашнее образование. Свободно владела французским и немецким.

Совсем юной вышла замуж за морского офицера, своего троюродного брата, героя Порт-Артура С.Н. Тимирева, и в 1914 году родила сына Володю. В 1915 году в Гельсингфорсе, где был расквартирован Тимирев, Анна Васильевна познакомилась с Александром Колчаком. Это событие стало поворотным пунктом линии ее жизни. Судьбы этих людей сплелись так, что разделила их только смерть.
С мужем С. Тимиревым Анна рассталась в 1918 году, следы его затерялись в русской эмиграции, хлынувшей с Дальнего Востока в Манчжурию.
После революции 1917 года Россия погрузилась в хаос. В 1918-19гг. Анна Тимирева работала в разных местах: в Омске - переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. А.В.Тимирева не пожелала расстаться со своим возлюбленным А, Колчаком и в самые трагические дни. Она тоже сидела в тюрьме, только в другой камере.
«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я любила его и была с ним близка и не могла оставить его в последние дни его жизни. Вот в сущности всё. Я никогда не была политической фигурой, и ко мне лично никаких обвинений не предъявлялось». Так писала Анна Васильевна Книпер во второй половине 1950-х в своих заявлениях о реабилитации, не достигавших цели. Однако к двум годам лагерей ее на всякий случай приговорили. Пробыла там недолго, выпустили по амнистии.
В мае 1921 вторично была арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922 года из Бутырской тюрьмы. В этом же году, находясь временно на свободе, она познакомилась с инженером-путейцем В.К. Книпером, вышла замуж, взяла его фамилию. Это не спасло Анну от новых арестов. Судьба Анны Васильевны была определена раз и навсегда - беспрерывная череда арестов, допросов, этапов, ссылок, вплоть до 8 октября 1950 года, когда она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске.
В 1925 арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. Когда забирали, спросила следователя, в чем ее обвиняют. Следователь удивился вопросу: «Но советская власть причинила вам столько обид…». Это значило, что уже потенциально она должна быть врагом.
В четвертый раз взята в апреле 1935 года, в мае получила по знаменитой 58-й статье 5 лет лагерей, которые через 3 месяца при пересмотре дела заменены были ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце.
25 марта 1938года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939 осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в Карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом - художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы. 21 декабря 1949 вновь арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950 года была отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения. Она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске. Она давно уже не выбирала профессию или специальность, бралась за любую работу, лишь бы выжить.
Чтобы найти какую-то информацию о жизни Книпер-Тимиревой в Енисейске, я обращался в библиотеку, в музей нашего города. И кое-что мне удалось найти.
Из воспоминаний дочери А.Е. Шварцбурга (талантливого пианиста-исполнителя, тоже отбывавшего ссылку в Енисейске) Натальи Ананьевны:
«Большой удачей родители считали разрешение перебраться в Енисейск из поселка Мотыгино, где не было никакой возможности заработать на жизнь. С первых же дней на новом месте папа стал искать работу, но для начала получил доступ к инструменту. Пианино находилось на сцене Дома культуры. И до сих пор он размещается в том же старинном, добротной красно-кирпичной кладки особняке неподалеку от пристани. (См. фото)

Так однажды, играя в полутьме кулис, он заметил, что немолодая изможденная женщина, на первый взгляд весьма непрезентабельного вида, перестала возиться с декорациями и слушает музыку. Когда звуки стихли, она поблагодарила, сказав, что музыка значит для нее очень много, ведь она из семьи музыканта. Занятый своими мыслями, папа невнимательно слушал собеседницу.
Но при следующей встрече Анна Васильевна, как представилась новая знакомая, вернулась к разговору о музыке и о своей семье. Она принесла старое фото: на фоне Московской консерватории расположилось большое семейство. "В этом доме я провела детство, а это - мой отец, Василий Ильич Сафонов", - пояснила она.
Казалось бы, после всего пережитого трудно было удивиться чему-то. Но тут папа не смог сдержать волнения: перед ним стояла дочь ректора консерватории тех славных для российского искусства лет на рубеже веков. Дочь главы Московской консерватории, учебного заведения, о котором он мечтал еще в Харбине и куда был принят в том страшном 1937-м! В.И.Сафонов - известный пианист и дирижер, основатель русской фортепианной школы. Другими подробностями биографии в те времена обычно не было принято интересоваться.
В Енисейске Анна Васильевна занималась оформительской работой в клубе. Была она довольно замкнутым и одиноким человеком. Приходила к нам не часто, но сидела подолгу, за что получила прозвище "Каменный гость". Наверное, ей просто хотелось посидеть в семье, где что-то варилось на печке и стрекотала зингеровская машинка... Всего этого Анна Васильевна была лишена большую часть жизни. У нас она чаще всего молчала, курила, составляя компанию маме, а уходя, брала простенькую пластмассовую посуду для моих кукол и возвращала ее, украсив золотыми ободочками.
Постепенно ссыльные стали покидать Енисейск. Попрощалась однажды и Анна Васильевна. И тут кто-то поинтересовался у папы, знает ли он, кто она такая.
-Ну, конечно, дочь известного музыканта!
-А кто был ее первый муж, вы знаете? Князь Тимирев, командовавший царской яхтой.
Это сообщение, понятно, не очень обрадовало. Еще не хватало быть обвиненным в дружеских связях с "бывшими"!
- Ну, а имя ее второго мужа - тоже секрет для вас? - продолжал экзекуцию товарищ по несчастью. - Адмирал Колчак!
Папа был добит окончательно».
Однажды руководство мастерской при Доме культуры, учитывая способности Анны Васильевны, хотело командировать ее в Красноярск в краевой краеведческий музей, чтобы она могла составить эскиз "уголка природы" для Енисейского музея. В просьбе было решительно отказано. А вдруг, как сказано в одном из документов ее личного дела, "находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда"?
И вообще с такими, как Книпер-Тимирева, надо ухо держать востро. Написал же начальник Казачинского райотдела МГБ в январе 1951 года начальнику Енисейского райотдела МГБ под грифом "совершенно секретно" такую бумагу:
 "Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.
"Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.
Прошу установить Кипнер-Темерязеву, взять ее под агентурное наблюдение с целью установления характера связи Кипнер-Темерязевой с Капнист М.Р. Одновременно прошу сообщить, не располагаете ли вы компр. данными на Кипнер-Темерязеву. По агентурным данным известно, что Кипнер якобы является женой Колчака. Ответ прошу, как можно, ускорить".
В архиве Енисейского краеведческого музея хранится личное дело
№ 20529. Вот один из документов, хранящийся в нем:
«Обязательство.
Мне, Книпер-Тимиревой Анне Васильевне, 8 октября 1950 года, проживающей в пос. Ходовом Енисейского района, объявлено, что я не имею права никуда выезжать (хотя бы временно) из указанного мне постоянного места жительства без разрешения органов МГБ и обязана периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указывать органы МГБ.
Об уголовной ответственности предупреждена.»
И еще:
«На основании изложенного обвиняется: Книпер-Тимирева Анна Васильевна, в 1918 - 1920 жена адмирала Колчака», - говорится в деле Анны Книпер… «Была с ним в Харбине и в Японии, участвовала в походах Колчака против советской власти. 20 декабря 1949 года за антисоветскую деятельность арестована и привлечена в качестве обвиняемой. Проведенным расследованием установлено: Книпер-Тимирева… среди своего окружения проводила антисоветскую агитацию, высказывала клевету на ВКП (б), на политику советской власти, и условия жизни трудящихся в Советском Союзе».
В дело вложен «словесный портрет»: «Фигура: полная, плечи: опущены, шея: короткая, цвет волос: темно-русые с проседью, лицо: овальное, лоб: высокий, брови: дугообразные, губы: тонкие, подбородок: прямой…
Особые приметы: на правой ноге имеется шрам от операции. Прочие особенности и привычки (картавит, грызет ногти, жестикулирует, сплевывает) - нет».
Лишь в середине пятидесятых годов(1954), когда в стране широкой волной прокатилась реабилитация невинно осужденных, освободилась Анна Васильевна Книпер-Тимирева от ссылки и покинула Енисейск. В кармане лежала справка-характеристика:
«На учете с 1950 г. Режима спецпоселения не нарушала, на регистрацию является своевременно, склонности к побегу не проявляла. Занимается общественно-полезным трудом. Компрматериалами Енисейский РО МВД на нее не располагает».
Все дети из семьи Сафоновых в той или иной степени были заражены волшебством созидания и так или иначе проявили себя в изобразительном или музыкально-исполнительском искусстве, в литературных опытах. Во все годы Анны Васильевны, даже в самые тяжкие, в ней жил-светился огарочек поэзии – Она писала стихи. Вот одно из стихотворений, написанных Книпер-Тимиревой в енисейской ссылке в 1953 году.
(Из книги воспоминаний Книпер А.В. «…Не ненавидеть, но любить» С.72)
Ох, вспомним мы тебя, унылый город,
На северном печальном берегу,
Где ссыльное безвыходное горе
На каждом повстречается шагу...
А может быть, припомнится иное?
Твоих берез морозных кружева,
Прохладный вечер летом после зноя,
На улицах росистая трава...
И может быть, еще такая малость:
Единственное в городе кино,
Где и для нас порой приоткрывалось
В широкий мир ведущее окно.
Росла, росла из глубины экрана
Сверкающая гранями звезда,
Шли корабли под пеленой тумана,
На нас в упор летели поезда...
И крепкими прикованы цепями
К чужой и неприветливой земле,
Смотрели мы, как жизнь скользит пред нами,
Сидящими в печальной полумгле.
1953
Роль личности в истории… Сколько говорят об этом! Однако, связывая личность с историей мы имеем ввиду людей государственного уровня, известных. А тут – тихая, слабая женщина. Уж ее-то роль в истории какая?
При поиске материалов о Книпер-Тимиревой я разговаривал со многими людьми: работниками музея, библиотекарями, учителями, старожилами Енисейска. У всех разное мнение о личности этой женщины. Кто-то говорил, что ее готовность и желание жертвовать собой ради любимого человека и быть вместе с ним до самой последней черты, заслуживает уважения. Кто-то вообще не воспринимает эту женщину, награждая ее нелицеприятными словами. Кто-то считает, что она поехала со своим любовником (Колчаком) забыв о материнских чувствах, бросив сына.
Мнения разные. У меня эта женщина вызывает уважение. Вот стихотворение, написанное Анной в 1970 году:
Полвека не могу принять:
Ничем нельзя помочь!
И всё уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
А я осуждена идти
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог...
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.
30 января 1970
Пройдя через невзгоды и лишения, тюрьмы, ссылки, потерю близких ей людей, она пронесла через всю жизнь свою любовь.
Жителей Енисейска, помнивших Книппер-Тимиреву, я не нашел. Хотя в одном из источников упоминается, что ее знали А. И Малютина, профессор Енисейского педагогического института и художник Михаил Виноградов. К сожалению, эти люди ушли из жизни.
И еще одна боль этой женщины – ее сын Владимир, которого она искала всю жизнь. Даже двойную фамилию Книпер-Тимирева она носила для того, чтобы она послужила опознавательным знаком или маяком, чтобы сыну было легче найти ее. Только в 1956 году Анна Васильевна на очередной запрос о судьбе сына получила извещение о его посмертной реабилитации. Володя Тимирев воспитывался у бабушки в Кисловодске, стал художником, его творческая жизнь складывалась удачно. В марте 1938 года он был арестован, обвинялся по трем пунктам: во-первых, обвинялся в том, что переписывался с отцом-эмигрантом, контр-адмиралом С. Тимиревым; во-вторых, в том, что он был «пасынком» Колчака; в-третьих, и это было основное обвинение, что он был немецким шпионом, завербованным Павлом Линком (один из его знакомых). В мае 1938 года Володю Тимирева расстреляли, ему было 24 года. В Енисейской городской библиотеке есть книга, посвященная короткой жизни и творчеству Владимира Тимирева.
В общей сложности Анна Васильевна Тимирева провела в тюрьмах, лагерях, ссылках около 35 лет. Окончательно вернулась в Москву лишь в 1960 году. Она поселилась в Москве, получив крохотную комнатку в коммуналке на Плющихе. Шостакович и Ойстрах выхлопотали ей «за отца» (выдающегося музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова) пенсию - 45 рублей. Снималась в массовке на «Мосфильме» - в «Бриллиантовой руке» Гайдая мелькнула в роли уборщицы, а в «Войне и мире» Бондарчука - на первом балу Наташи Ростовой в образе благородной пожилой дамы.
Умерла Анна Васильевна в 1975 году, похоронена на Ваганьковском кладбище.
Вот такая история.

Список использованных источников
1.Владимир Тимирев, 1914-1938. Книга-альбом. – М.: Возвращение, 2008. – 116с.
2.Книпер А.В. «… Не ненавидеть, но любить». Стихи-воспоминания. – Кисловодск: Театр-музей «Благодать», 2003. – 248с.
3. Минувщее: исторический альманах.1. – М.: Прогресс, 1990. – 348с.
4. Попова К. Музы в снегах Сибири // День и ночь. – 1998. - №4-5. – с. 270 – 277.
5. Шинкарев Л. …Если я еще жива: Неизвестные страницы иркутского заточения А.Колчака и А. В. Тимиревой // Известия (далее источник не известен)
6. Шайдт А. Эпопея казачества в судьбе адмирала Колчака // Вовремя. – 2005. - №21, 23
http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/13/Vlasov/0.htm
|
Метки: сафоновы книппер гражданская война |
Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк |

Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк
В субботу, 23 марта, в 14-00 приглашаем посетить необыкновенный дом, у которого не только много владельцев в названии, но и история более чем богатая! Ещё в начале 19 века участок, который сейчас занимает городская усадьба, принадлежал Екатерине Васильчиковой, построившей здесь сразу после пожара 1812 года два особняка. Свой современный вид здание приобрело уже позже, после того как в конце 1830-х гг. владение выкупила семья Зубовых-Оболенских. В 1860-х годах два дома соединяются в один и строится огромный бальный зал. В 1865 году Оболенские продают дом семье купцов Алексеевых. Но на этом история не закончилась, после смерти Александра Алексеева в 1884 году его вдова делит владение на две части, строит себе вместо сада особняк, а старый дом продаёт Владимиру Карловичу фон Мекку. После его смерти усадьбу покупает А.Э. Фальц-Фейн. Фальц-Фейны проводят водяное отопление, вентиляцию и электричество и уже через три года, в 1898 году продают Любови Зиминой, которая и владела домом до самой революции. А после продолжала проживать в национализированном особняке, где ей выделили небольшую квартирку.

Усадьба связана с именами декабристов Н. В. Васильчикова, П. Н. Свистунова, И. И. Муравьёва-Апостола. В конце XIX в. здесь часто бывали на светских приёмах композиторы С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, П. И. Чайковский.

После революции здание тоже сменило несколько владельцев. С 1923 года здесь находился Верховный суд РСФСР. В конце 1930-х годов – жилой дом для политических эмигрантов. После 1945 года – строительная организация. С 1956 года особняк с богатой биографией стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России).

В ходе реставрации 2015-2016 годов восстановлены исторические интерьеры парадного вестибюля, холла второго этажа, Большого парадного, Чигоринского и Портретного залов, кабинета руководителя. Воссоздано первоначальное колористическое решение интерьеров. Раскрыты первоначальные ниши и дверные проемы, поздние — заложены. Восстановлены элементы декора. Усадьба стала лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016» в номинации «лучший проект реставрации».

Тем, кто не является членом Федерации Шахмат попасть сюда невозможно. Но для нас сделано исключение. Приглашаем на экскурсию. Участие 900 руб. Группа 20 человек. Гид — художник и краевед Ирина Левина. Фотосъёмка разрешена. Запись на glavred@cozymoscow.me
Декабрь 14, 2018 By Julia
https://cozymoscow.me/ekskursii/ekskursiya-v-usadb...kovoj-obolenskogo-fon-mekk.htm
|
Метки: дворянские владения васильчиковы оболенские фон мекк |
Оболенский, Алексей Васильевич |
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
24 января 1877(1877-01-24) Место рождения:
Москва
Дата смерти:
21 ноября 1969(1969-11-21) (92 года)
Место смерти:
Стокгольм, Швеция
Гражданство:
Российская империя
Образование:
Московский университет
Партия:
Союз 17 октября
Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (24 января 1877, Москва — 21 ноября 1969, Стокгольм, Швеция) — русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
Биография
Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского (1846—1890) и княжны Марии В. Долгоруковой (1851—1930).
Окончил лицей цесаревича Николая (1895) и юридический факультет Московского университета (1898).
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 — назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
Занимался общественной деятельностью: с возникновением Союза 17 октября вступил в число его членов, состоял секретарем городского совета и членом ЦК партии, в 1906 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы, входя в состав прогрессивной партии. Участвовал в реставрации Ферапонтова монастыря.
После революции эмигрировал в Финляндию, в 1939 году переехал в Швецию. Состоял председателем общества помощи русским беженцам, вместе с супругой стал одним из основателей Общества ревнителей русской старины. Написал книгу «Мои воспоминания и размышления».
Скончался в 1969 году в Стокгольме. Был женат на Ольге Алексеевне Прозоровой, дочери предпринимателя А. Я. Прозорова.
Сочинения
- Мои воспоминания и размышления. Стокгольм—Брюссель: издание журнала «Родные перезвоны», 1961.
Источники
- Памятная книжка Виленской губернии на 1901 год. — Вильна, 1900. — С. 6.
- Золотая книга Российской империи. Санкт-Петербург, 1908. С. 93.
- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 5. Н — Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 184.
Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Информацию О

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Комментарии
-

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) beatiful post thanks!
29.10.2014
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Вы просматриваете субъект
There are excerpts from wikipedia on this article and video
https://www.turkaramamotoru.com/ru/Оболенский,-Алексей-Васильевич-(1877)-232205.htm
|
Метки: оболенские |
Революционер - князь Оболенский. |

Революционер - князь Оболенский.
Март 4, 2019 - Тайны прошлого - Нет комментариев - Просмотров - 58
 "В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.
"В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.
Общие собрания с длинными и страстными прениями шли с перерывами, во время которых редакционная комиссия в составе Винавера, Кокошкина и трудовика Бондарева тщетно пыталась найти всех удовлетворявшие формулировки.
Между тем прения продолжались. Противники воззвания из нашей партии не сдавались, а трудовики вносили в него бесконечные поправки. Список ораторов все увеличивался. Депутаты нервничали, а более робкие под предлогом, что все равно сговориться не удастся, стали уезжать из Выборга. К концу второго дня мы были дальше от какого бы то ни было решения, чем в начале наших заседаний.

Из этого безысходного положения нас вывел выборгский губернатор: частным образом он довел до нашего сведения, что русское правительство требует от него прекращения наших заседаний.
Так как финские законы охраняют свободу собраний, то он но может исполнить этого требования, но все же, не желая по такому поводу создавать конфликт с русским правительством, он просит нас по возможности считаться с создающимся для него неприятным положением.
Мы поняли, что дольше злоупотреблять оказанным нам Финляндией гостеприимством невозможно. По предложению Петрункевича совещание решило прекратить прения и приступить к голосованию текста воззвания в последней редакции комиссии.Когда мы уезжали из Выборга, на вокзал привалила большая толпа народа. Кричали нам "ура", махали шляпами. На промежуточных между Выборгом и Петербургом станциях многочисленные дачники тоже выходили нас приветствовать, а мы бросали им в окна листки воззвания.

Не знаю, как другие мои товарищи, а я с тяжелым чувством возвращался из Выборга. Нас приветствовали как "героев", а между тем в собственном сознании я видел всю бутафорию своего "геройства".
В свое время много было споров о "Выборгском воззвании". Одни им возмущались, другие над ним издевались, называя "выборгским кренделем". Даже некоторые из подписавших воззвание спешили от него отречься. Противники доказывали, что воззвание было актом революционным, и возмущались лицемерием кадетской партии, на словах признававшей лишь легальные методы борьбы.
Лидеры кадетской партии оправдывали себя тем, что роспуск Думы был по форме неконституционным актом, ибо в указе о роспуске не был назначен срок новых выборов, а потому Дума, отстаивая свои бюджетные права, была вправе призывать население к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности впредь до созыва новой Думы.

Вооруженная борьба была для многих неприемлема, да и в успех ее мы не верили. А призывать население к вооруженному сопротивлению считали для себя морально недопустимым.
Правда, в возможность всенародного пассивного сопротивления тоже большой веры не было, но в нашей памяти была еще свежа забастовка 1905 года, принудившая Николая Второго дать конституцию.
Значит, если не вера, то слабая надежда все же оставалась. Удастся - хорошо, а не удастся - по крайней мере не будет кровавых жертв. Таким образом, "Выборгское воззвание", несмотря на то, что многих из голосовавших за него не удовлетворяло, стало для нас единственным психологически возможным актом.
Теперь, после всего пережитого, я хорошо понимаю, что первая Дума была лишь очень маленьким историческим эпизодом. Но в моей личной жизни она все-таки была одним из самых ярких событий...
В Добровольческой армии на моих глазах шло падение моральных устоев, но все-таки критерием поступков оставалась общечеловеческая мораль. Отступали от нее и руководители, и исполнители, но не отрицали ее и, нарушая, сознавали, что поступают дурно. Большевики заменили общечеловеческую мораль классовой."
Из мемуаров Князя Российской Империи А.В. Оболенского. Русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы. Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского и княжны Марии Алексеевны, урождённой Долгоруковой.
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 - назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
источник https://oper-1974.livejournal.com/1302925.htmlhttp://kykyryzo.ru/o-proekte/
|
Метки: оболенские |
Сретенка и сретенские переулки |
Сретенка и сретенские переулки
Сретенка,Сретенский бульвар, Мясницкая, Чистые пруды - для меня эти улицы и бульвары с их переулками очень личное, это Москва моего детства. На этих улицах осталась часть моей беззаботной жизни...
Осенним погожим днем выбираюсь из дома и еду на Сретенку. Брожу по знакомым местам, заряжаюсь их энергетикой.
Здесь практически не встретишь приезжих, нет и экскурсоводов с любопытными туристами. История этой московской улицы с её легендами и преданиями для многих, посетивших Москву, остается неведомой.
История Сретенки
Когда то давным-давно, в веке XII, стояли в этих местах "сёла красные, хорошие" боярина Стефана Кучки. Район Сретенки именовался Кучковым полем. Через Кучково поле проходила часть дороги из Киева в Ростов Великий, Суздаль, Владимир и Кострому. Сама Москва носила двойное название: "Москва" или "Кучков".
О городе Кучкове мало что известно, но есть о нем упоминание в одной новгородской берестяной грамоте и в летописи ХII века. Археологи уточняют, что Кучков представлял собой не простую усадьбу или село, а укрепленный замок. Он имел земляную насыпь, глубокий ров, через который был перекинут подъемный мост. За стенами укрепления находились богатые хоромы, а также деревянная церковь, возведенная предположительно в XI веке.
И приглянулось сиё благолепное место Юрию Долгорукому и присоединил он его к своему княжеству. А, как дело было, о том есть разные легенды. В одной говорится:
Ехал князь Юрий Долгорукий из Киева во Владимир. Посреди болота он увидел огромного чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть пестрая многих цветов... Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, словно туман утренний.
Греческий философ на вопрос Юрия о значении видения сказал, что в этих местах "встанет град превелик треуголен", и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех племен и народов.
Князь поехал дальше и увидел город Москву, бывшую во владении боярина Кучки. Юрий решил остановиться в этом городе, но Кучка "не почте великого князя подобающею честию", отказался впустить Юрия с дружиной в город. Заподозрив боярина в сговоре с новгородцами, Долгорукий повелел "того боярина ухватити и смерти предати". После непродолжительного боя суздальская дружина через главные ворота ворвалась в город, а Кучка вместе с остатком воинов бежал в леса, где был вскоре настигнут и убит воинами Юрия.
Другое предание говорит, что Юрий Долгорукий "хотя имел жену, достойную любви, часто навещал жен своих подданных. Среди таких возлюбленных владела им всего сильнее жена суздальского тысяцкого Кучка. Последний узнал о связи жены своей и, подстрекаемый Юрьевой женою, посадил жену свою в заточенье, а сам вознамерился уйти к Изяславу в Киев. Юрий, собравшийся в поход на Торжок, проведал об участи любовницы, оставил войско и в сильном гневе помчался к Москве-реке, на берегу которой жил Кучка. Тут он предал его скорой смерти".
Дочь казненного боярина Улиту Долгорукий выдал замуж за своего сына Андрея Боголюбского, передал ему в бояре сыновей Кучки Якима и Петра, а "села красные, хорошие" взял себе. ( эта же легенда в изложении Елены Арсеньевой - "Злая жена". Преступления страсти. Месть за любовь )
* * *
Сама же улица Сретенка своим названием обязана древнему Сретенскому монастырю, основание которого связано с удивительным событием.
Летом 1395 года на Московское княжество надвигалось почти полумиллионное войско Тамерлана.
Москва начала готовиться к обороне, но надежд на победу было мало. И тогда было принято решение перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Божьей Матери, называемую Владимирской.
Все горожане и жители окрестных сел, что не ушли в ратное ополчение, вышли встречать икону.
... и пригрезился ночью Тамерлану сон. Ясно узрел он идущих на него святителей "с золотыми жезлами" и "жену некую, в багряные ризы одешу". Тогда Тимур "ужасно вскочи, яко от тресновен бысть", и, собрав своих сподвижников, сообщил о том, что видел, и услышал от них следующее: "...на русских движемся все и без успеха метемся". Устрашенное небесным знамением, войско в ужасе обратилось вспять.
В действительности неизвестно что остановило Тамерлана, чудо или иные причины. Как бы ни было, в честь избавления Москвы от нашествия Тамерлана было принято решение построить на месте встречи (сретения) иконы Владимирской Богоматери мужской монастырь.
Сретенский монастырь (XIV век):
* * *
Сретенка сегодня и в начале 20 века (Сухарева башня, знаменитая "невеста Ивана Великого", ещё на своем месте):
Вид на Садовое кольцо, проспект Мира и Церковь Троицы Живоначальной "в Листах":
Название "в Листах" закрепилось за церковью давно, в те времена, когда в районе Сретенки находилась слобода печатников. Мастера печатного дела изготовляли лубочные картинки (листы) и продавали их у церкви, увешивая ее ограду своими произведениями.
Дом 19 - театр-школа драматического искусства. А, когда то здесь был кинотеатр "Уран" - один из первых дореволюционных синематографов Москвы:
Кинотеатр уничтожен в 1997 году по постановлению правительства Москвы несмотря на то, что был отнесен ко вновь выявленным памятникам архитектуры. Новоиспеченные демократы оказались не лучше большевиков.
Это тоже Сретенка:
(желаете присесть, отдохнуть, - пожалуйте на лавочку. Заодно можно полюбоваться Сретенским монастырем, что на противоположной стороне улицы, а затем заглянуть в сретенские переулки)
* * *
Сретенские переулки
Нигде в Москве нет такой плотности переулков как на Сретенке - 16 переулков на улицу протяженностью 800 метров. Этой особенности Сретенка обязана купеческой рачительности.В XVII веке район Сретенки был застроен лавками и мастерскими. Купцы старались использовать каждый метр так называемой "красной линии" под торговые помещения, что и определило необычный для московских улиц характер планировки Сретенки - на ней нет ни одних ворот, а все дворы выходят только в прилегающие переулки.
Большинство сретенских переулков названы по именам домовладельцев, иные же - по располагавшимся когда то на их месте слободским поселениям.
Панкратьевский - получил свое название от приходской слободской церкви Панкратия (разрушена по решению Моссовета зимой 1929 года на том основании, что была "расположена в центре квартала, отведённого под рабочее строительство"):
В окрестностях церкви располагалась Панкратьевская слобода. Жили в слободе скорняки.
До революции, переулок был как бы продолжением знаменитой Сухаревки - огромной толкучки возле Сухаревой башни. В переулке продавали и покупали старинные, редкостные и художественные вещи.
От рассвета до потемок на Сухаревке толклось множество народа, и у всякого была своя цель.
"...Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора [Фарфоровый завод Попова]. ... Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.
На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного "Попова". Подделки практиковались во всех областях.
...
Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов - сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей "на грош пятаков". Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.
Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: "И. Репин"; на ней ярлык: десять рублей.
- Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему. dd> Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: "Это не Репин. И. Репин".
Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей."
(В.А.Гиляровский)
В Панкратьевском стоит роскошный, сказочный дом - доходный дом М.Н.Миансаровой постройки 1908-1912гг(архитектор С.К.Родионов):
Печатников - на месте этого переулка когда-то находилась слобода печатников - мастеров Государева Печатного Двора, что жили недалеко от своей приходской церкви Успения Богородицы "в Печатниках".
Сама же церковь стоит на пересечении Сретенки и проезда Рождественского бульвара:
В 1812 году церковь была разграблена и подожжена французами В огне сгорели иконы, церковная утварь и большая часть библиотеки ("цивилизованная нация" постаралась на славу).
Церковь интересна тем, что в ней хранится еврейская монета времён кесаря Августа - сребреник. Считается, что это один из тех сребреников, которые получил Иуда за Христа.
По преданию, в этой церкви произошло венчание, послужившее художнику В.В. Пукиреву темой для картины "Неравный брак":
В 1861 году (за год до создания картины) состоялось обручение богатого пожилого фабриканта и молоденькой девушки из бедной семьи, некой С. Н. Рыбниковой. Пукирев знал об этом обручении от своего друга и ученика С. М. Варенцова. По рассказу последнего, он и С. Н. Рыбникова любили друг друга, но по неизвестным нам сейчас причинам девушка вышла замуж не за любимого человека, а за богача-фабриканта, на долю же ее возлюбленного выпала роль шафера на этой свадьбе. Фигура молодого человека со скрещенными на груди руками - это шафер, бывший возлюбленный невесты.
Пушкарёв и Большой Сергиевский переулки получили своё название по слободе пушкарей и церкви Сергия Радонежского, которую выстроили в 1689 году стрельцы-пушечники. Церковь так и называлась - церковь Сергия Радонежского, что в Пушкарях:
(фото с сайта mosday.ru)
Сергиевская церковь долгое время считалась "артиллерийской", и когда из нее совершался крестный ход на Неглиненский пруд, то пушкари производили "пушечную пальбу". Церковь снесли в 1935 г., предварительно закрыв, как было написано в постановлении Моссовета, "ввиду острой необходимости помещения для глухонемых". Хотели выстроить клуб, а в результате появилось школьное здание.
Большой Головин (бывший Соболев) переулок переименован в 1906 году по находившемуся в этом районе в середине XVIII века ведомству Московской полицмейстерской канцелярии капитана Головина. Переулок сразу получил определение Большой, чтобы отличить его от уже существующего Головина переулка, к которому добавилось определение Малый.
В конце XIX в. в одном из этих переулков поселяется семья Чеховых. "Я живу в Головином переулке, - писал Антон Павлович. - Если глядеть со Сретенки, то на левой стороне. Большой неоштукатуренный дом, третий со стороны Сретенки, средний звонок справа, бельэтаж, дверь направо, злая собачонка". С осени 1881-го по начало октября 1885 г. Чеховы снимают скромную квартиру в Малом Головином переулке.
Колокольников переулок - здесь находился завод семейства Моториных, из которых Иван с сыном Михаилом отлили знаменитый "Царь-колокол".
Большой Сухаревский - получил своё название по находившейся по соседству Сухаревой башне.
Последний переулок - в 18 веке он и был последним от центра города по нечётной стороне Сретенки. Ранее здесь были мясные лавки и переулок именовался Мясным.
Угол Сретенки и Последнего переулка:
Последний переулок:
Сретенский тупик - возник в XVII веке, когда здесь были поселены стрельцы. Тупик упирался в «артиллерийский двор, где большой пруд окружали несколько деревянных строений, в которых помещались канцелярия, правление, амбары, лазарет и прочие учреждения».
Луков, Рыбников, Ащеулов, Селивёрстов, Даев переулки названы по фамилиям домовладельцев.
* * *
Про "чертовщинку" в Даевом переулке:
Нынче у нас популярны необычные экскурсии по загадочным, мистическим местам города. За 6 - 15 тысяч рублей (в зависимости от пожеланий клиента) предприимчивый гид "окунёт" гостя столицы в мир московских приведений, легенд, мифов и прочей чертовщины. Даев переулок как раз одно из таких мест, где, по преданию, происходит нечто необъяснимое. В инете эту чертовщину описывают так:
"...на углу улицы Сретенки и Даева переулка на стене на уровне третьего этажа одного из зданий иногда появляется огромная чёрная тень мужчины или тёмное сырое пятно, которое разрастается и становится похожим на великана. Нечто чёрное и бесплотное возникает прямо из кирпичной кладки одного из зданий, сходит со стены и отправляется бродить по старой Москве, пугая прохожих. Рост призрака примерно от 3 до 5 метров, достигает второго этажа. Является призрак редко и неприятностей не доставляет.
В архивах КГБ хранится докладная записка двух сотрудников, которые, уверяя, что находясь в трезвом уме и твёрдой памяти в августовскую ночь 1920 г. встретились с этим призраком и выпалили в него две обоймы из наганов, но пули проходили насквозь и рикошетили от стен в разные стороны. Однако, вместе с призраком бесследно исчез и арестованный, которого чекисты конвоировали, а в ВЧК их рассказу не поверили.
Чаще всего фантом-великан является единичным "свидетелям"
Не счесть сколько раз хаживала я мимо того места, где "квартируется" та самая Тень, но что-то ни разу она не почтила меня своим вниманием.
* * *
В истории сретенских переулков был и такой период, когда одно их упоминание вызывало у благопристойных граждан отвращение.
После того, как во второй половине 19 века проституция в России была объявлена терпимой, сретенские переулки,примыкавших к Грачевке (ныне Трубная ул.) превратились в район "красных фонарей". В те времена в этих переулках насчитывалось около 100 дворов, и в этих ста дворах было 97 притонов.
Обилие третьесортные дешевых борделей,пьянство, драки, преступность, делало жизнь немногих благопристойных обитателей сретенских переулков невыносимой, превращала её в ад.
Особо был знаменит своими притонами Соболев переулок.
А, вот, Чехов А.П.,знал эти места не по наслышке, и бывал там с Лесковым Н.С. Об этом упоминает Аннинский Л.А.:
"Среди поездок Лескова в Москву, обыкновенных в его жизни, одна - осенью 1883 года - достойна особого внимания, потому что Лесков познакомился там с молодым, лет двадцати трех, студентом-медиком, который оставил об этом знакомстве краткую, но выразительную запись. Студент был человек веселый и даже печатался с осколками своего остроумия в московском "Будильнике" и в юмористических петербургских журналах, в том числе у Лейкина. Лейкин, собственно, Лескова со студентом и познакомил.
"Мой любимый писака, - определил Лескова студент, - ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы..." (то есть в варьете и в увеселительные заведения в Соболевом переулке - надо понимать, что эти походы были выдержаны в той традиции, которая в 60-е годы влекла литераторов в петербургские "углы" и "трущобы", а в будущем повлекла Горького на Хитров рынок). Отношения вышли теплые: "милому юноше" Лесков надписал "Левшу". Юноша же оставил следующее свидетельство:
"Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: "Знаешь, кто я такой?" - "Знаю". - "Нет, не знаешь... Я мистик..." - "И это знаю..." Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: "Ты умрешь раньше своего брата". - "Может быть". - "Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши"..."
Чуть позже, в 1888 году, Чехов напишет рассказ "Припадок", в котором "осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений" покажет Соболев переулок с домами терпимости. Рассказ получится грустным и серьёзным...
В 1907 году, несмотря на протесты притонодержателей, городская дума начала расчистку сретенских переулков. Первым делом, разумется, взялись за переименование. Соболев стал Большим Головиным, Большой Колосов - Большим Сухаревским, а Малый Колосов - Малым Сухаревским. Мясной переулок переименовали в Последний, а Сумников - в Пушкарев. Так исчезли с карты Москвы печально известные имена переулков.
На месте вертепов начали возводить дома доходные с хорошими квартирами, оборудованными всеми городскими удобствами. А чтобы в новые дома, выстроенные в старом районе с подмоченной репутацией, заманить жильцов, цены на квартиры здесь устанавливали немного ниже, чем в других местах московского центра.
Не ведаю по чем в те годы были цены на квартиры, а нынче в Головином переулке квартира в 178 кв.м. стоит 59 млн.руб. (≈ 1,372 млн.€). Вот, в таком домике:
* * *
Смотрим Cретенские переулки:
(Даев пер., угол Даева и Сретенки, угол Даева и Ананьевского пер.)
(Сильверстов пер.)
(Малый Головин пер.)
(Большой Головин пер.)
(Пушкарев пер.,+ вид на Сретенку)
(Печатников пер.)
(Луков пер.)
И напоследок - композиция, изображающая семью:
(и так и этак смотрела я на этот шедевр... но, не поняла, что поддерживает малышка своими ручонками и куда это так пристально смотрит её отец)
|
Метки: москва сретенка |
От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве |
http://www.timeout.ru/msk/feature/483658?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве
Сергей Морозов 8 марта 2019 4 мин
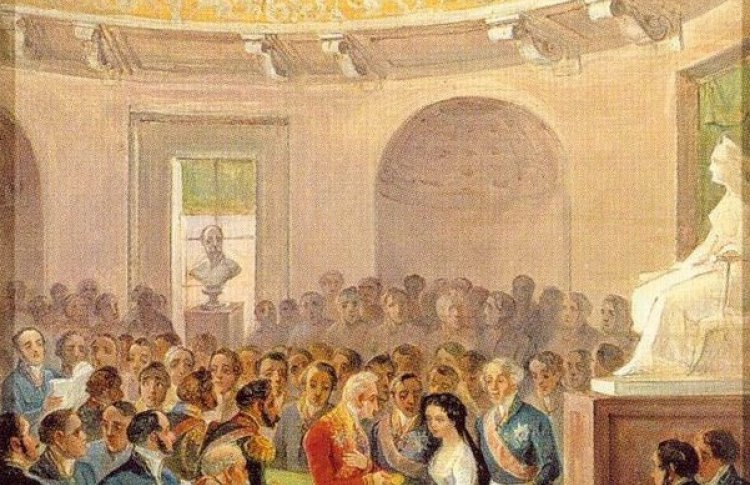
8 марта — не просто еще один выходной, и не вымученный повод купить маме цветы, а жене — новый миксер. Этот праздник возник как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. Еще не так давно считалось, что искусство — не женское дело. Time Out попытался разобраться, как и когда это изменилось.
В культовом эссе «Почему не было великих женщин-художниц?» 1971 года американский историк искусств Линда Нохлин взялась развенчать миф об интеллектуальных различиях между полами и продемонстрировала, что недостаток женских имен в списке самых-самых художников был обусловлен социальными предубеждениями и вытекающими из них институциональными препятствиями — в том числе ограничением женщин в доступе к художественному образованию.
Последний век существования дореволюционной России прекрасный тому пример. Вплоть до 1840-х годов женщинам в искусстве отводилась разве что роль натурщиц. Рисование могло быть либо хобби в случае аристократок (рассчитывать они могли лишь на частные уроки), либо способом заработка для тех, кто их обучал — в основном, родственниц художников-мужчин. Нередко у художниц не оставалось другого выбора, кроме как подражать стилю отца, мужа или брата, ведь учились они у них. Например, дочь живописца Алексея Венецианова, несмотря на врожденный талант, пошла по стопам отца и посвятила себя жанровой живописи.

Александра Алексеевна Венецианова (1816—1882) на портрете кисти отца в возрасте 13 лет
Только в 1842 году в Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноопределяющихся открываются первые женские вечерние классы. Инициатором нововведения стал министр финансов Канкрин — по странному стечению обстоятельств, рисовальная школа находила в ведении его министерства. Впрочем, считать Канкрина протофеминистом было бы большим заблуждением. В докладе к Николаю I он ставит рисование в один ряд с рукоделием и отмечает, что новые курсы помогут обучению женщин «не только как самостоятельных работниц, но и как будущих помощниц и воспитательниц мужчин в качестве их жен и матерей».
В соответствии с подобным настроем разработали и программу классов: если в мужском отделении пейзаж считался жанром легким и поверхностным и почти не преподавался, то в женском он был одним из основополагающих наряду с изображением «цветов и орнаментов». А вот черчению женщин-слушательниц, в отличие от мужчин, не обучали вовсе. Несмотря на предрассудки и ограничения, женское художественное образование начинает развиваться и приносить плоды — так, рисовальную школу для вольноопределяющихся закончила одна из самых примечательных русских художниц XIX века Елизавета Бем. Работы из стекла по ее эскизам имели большой успех на двух Всемирных выставках: в Чикаго в 1893-м и в Париже в 1899-м.
 Открытка авторства Елизаветы Бем
Открытка авторства Елизаветы Бем
Со временем будущих художниц начинают принимать и в Императорскую академию художеств. Вероятно, в их пользу сыграло то, что в 1852 года президентом Академии стала женщина — дочь царя великая княгиня Мария Николаевна. В 1856-м большую золотую медаль Академии впервые в истории получила художница — Софья Сухово-Кобылина (к слову, награду ей принесли пейзажи). Вслед за Академией женщин стали принимать и в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (в 1900-х в нем обучалась авангардистка Наталья Гончарова). Рисование постепенно перестает быть хобби, а художественная карьера — прерогативой мужчин.

Софья Сухово-Кобылина (1825-1867). Автопортрет художницы, 1847
Художник — не единственная роль в русском искусстве, которую с середины XIX века начинают играть женщины. Одним из главных меценатов в истории России была женщина — княгиня Мария Тенишева. В 1894-м она основала в Петербурге студию подготовки к высшему художественному образованию, а с 1898-го вместе с купцом Саввой Морозовым субсидировала журнал «Мир искусства». Тенишева оказывала материальную помощь Александру Бенуа, Сергею Дягилева и другим деятелям культуры начала ХХ века.
 Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»
Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»
Первую в России арт-галерею в современном понимании тоже основала женщина — Надежда Добычина. Ее «Художественного бюро Н. Е. Добычиной» специализировалось на актуальном искусстве своего времени. Здесь работала студия Всеволода Мейерхольда, выставлялись работы Василия Кандинского, проходили экспозиции «Мира искусства». А в 1915-м в бюро открылась одна из самых знаменитых выставок в истории — «Последняя футуристическая выставка картин 0,10», на которой Казимир Малевич представил «Черный квадрат». Галерея Добычиной продвигала и творчество женщин-художниц: Ольги Розановой, Любови Поповой и Натальи Гончаровой.
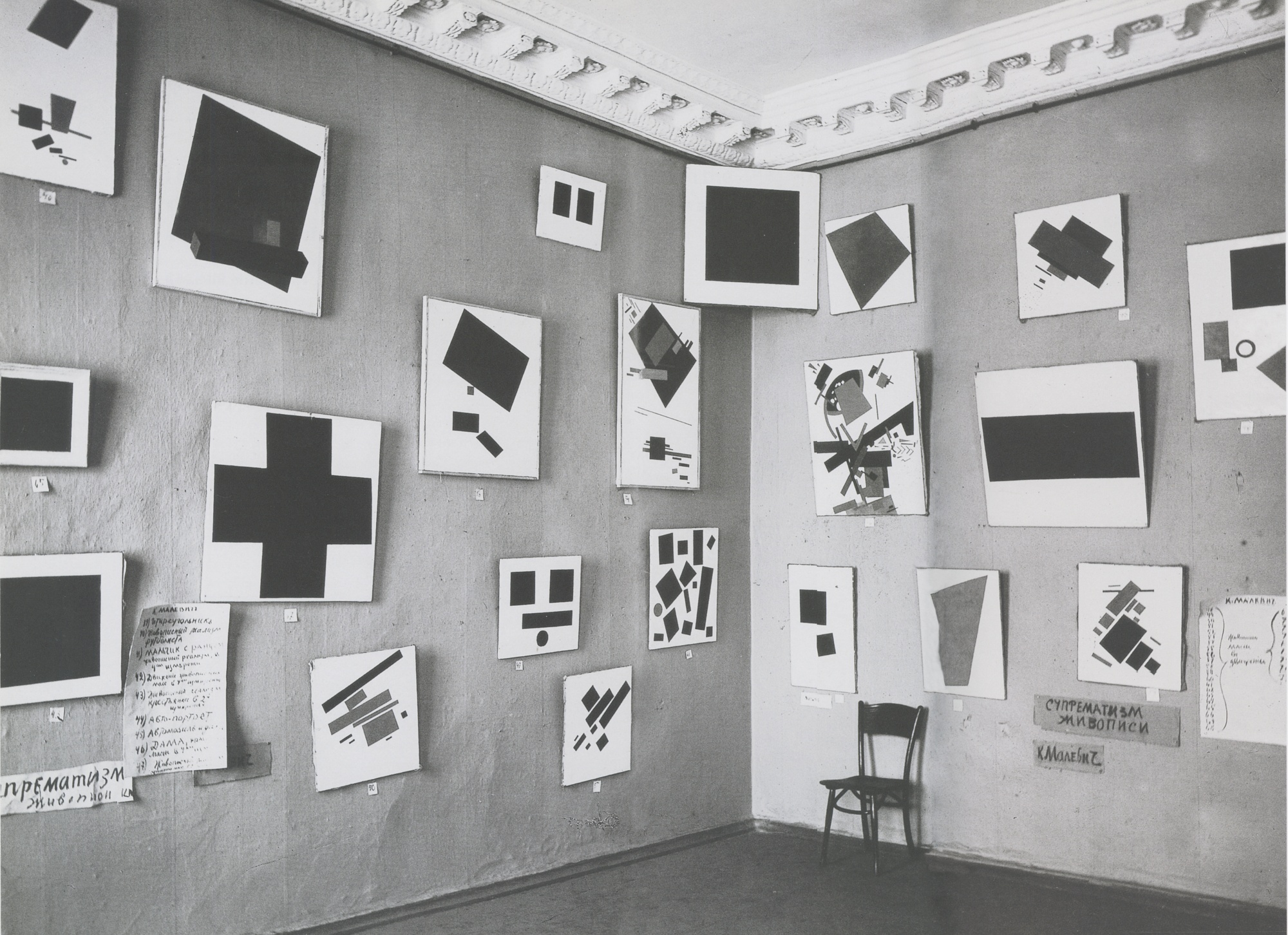 Последняя футуристическая выставка картин 0,10
Последняя футуристическая выставка картин 0,10
К началу ХХ века доступ к художественному образованию, становление меценатства и галерейного движения, проходившие при покровительстве и непосредственном участии женщин, привели к тому, что художницы получили возможность развивать свой собственный стиль и войти в историю искусства наравне с мужчинами, что еще сто лет назад казалось невозможным, а некоторым — попросту неприличным.
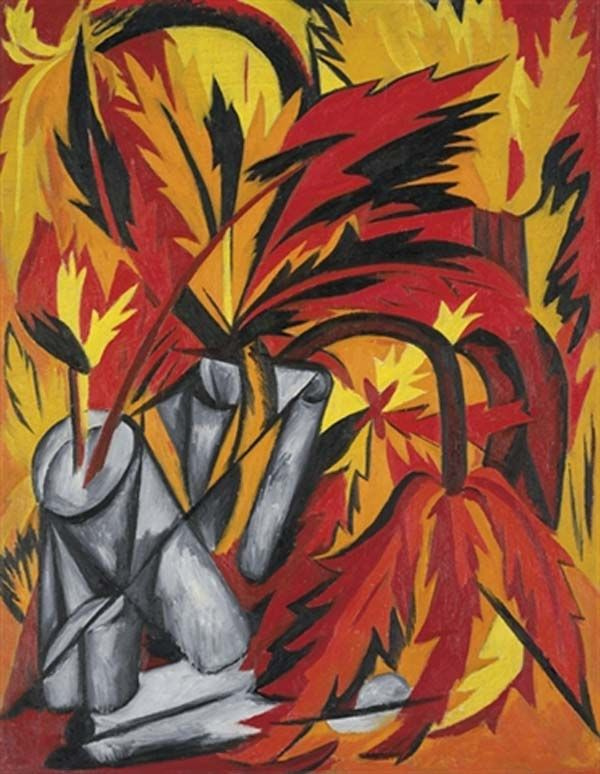
Наталья Гончарова. «Цветы», 1912
Сегодня «Цветы» Натальи Гончаровой стоимостью $10,8 миллионов входят в топ-10 самых дорогих произведений русского искусства в истории. Без Гончаровой и ее современниц Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Варвары Степановой и Веры Мухиной сложно представить мало-мальски достойный учебник по истории искусства.
|
Метки: мир живописи |
«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя» |


«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя»
85https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275
26 февраля 2019 в 8:40
Юлия Караваева / LADY.TUT.BY
Те, кто родился в СССР, наверняка помнят Надежду Константиновну, серьезно глядящую со страниц учебников: круглые очки, растрепанный седой пучок, мешковатый пиджак.

Фото: из архивов Государственной публичной исторической библиотеки России
На фоне спорной, но яркой фигуры Ленина Крупская всегда выглядела бледненько и довольно стерильно. А в описаниях ее жизни основными эпитетами были «неизменная спутница вождя» и «верная соратница». Впрочем, когда пришло время разоблачений, то вместе с «товарищем Крупским» досталось и его жене.
26 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны, а 27-го — 80 лет со дня ее смерти, ведь умерла она на следующий день после своего 70-летнего юбилея. Сегодня вспоминаем факты и мифы, связанные с личной жизнью этой неординарной женщины.
Она была совсем некрасивой
На самом деле юная Наденька была вполне обычной и даже не лишенной миловидности девушкой. Подруги вспоминали ее белую кожу, нежный румянец и длинную русую косу. Сама Крупская называла свою внешность типично «санкт-петербургской» и сравнивала себя с северной природой: «Нет во мне ярких красок».

Фото: pinterest.com / Сходство молодой Крупской и голливудской звезды Йоханссон забавляет пользователей Сети не первый год. Разумеется, в оригинале снимок Крупской не был цветным
Возможно, миф о «некрасивости» связан с тем, что Надежда Константиновна нередко оказывалась рядом с настоящими красавицами и, понятное дело, проигрывала на их фоне. Например, когда Надя только познакомилась со своим будущим мужем, он был не на шутку увлечен ее подругой — симпатичной активисткой Аполлинарией Якубовой. Позже, уже в браке, ей пришлось выдерживать конкуренцию такой яркой революционерки, как Инесса Арманд.

Фото: staticflickr.com / Аполлинария Якубова

Фото: pinterest.com / Инесса Арманд
C возрастом наружность Крупской серьезно изменила базедова болезнь, давшая ей одутловатое лицо и шею, глаза навыкате. Во внешности Надежды всегда было что-то «рыбье». Недаром одной из ее партийных кличек была Рыба, а Ленин называл ее «миногой» и даже «селедкой». Болезнь усугубила это сходство. Проблемы с почками, а также женские недомогания тоже пагубно сказывались на ее внешности.
Кроме того, Крупская всегда была сладкоежкой, и в пожилом возрасте дала себе волю — ела сладости в больших количествах. Это сделало ее фигуру грузной и прибавило проблем со здоровьем.
Ленину она была больше товарищем, чем женой
И да, и нет. В 1896 году Крупская впервые увидела 26-летнего революционера Владимира Ульянова, и он понравился ей с первого взгляда. Но Володя ухаживал за Якубовой, а в Наде видел только товарища. Когда Ленин попал в тюрьму, то попросил подружек приходить на место, видное из окна его камеры, — так сказать, для моральной поддержки. Аполлинария не пришла ни разу, а Надя каждый день подолгу простаивала на заветном пятачке. Неудивительно, что скоро она получила предложение выйти замуж и отправилась за Лениным в Шушенское. Молодые, кстати, венчались в церкви — советские идеологи тщательно скрывали этот факт.
Позже Крупская напишет о том времени: «Мы ведь молодоженами были, и это скрашивало ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…».
И Ленин, вероятно, любил свою Наденьку. В письмах, где он писал о мучившей жену базедовой болезни и необходимости скорой операции, чувствуется забота и тревога. В других он с нежностью вспоминает прогулки и совместные занятия. И везде это — «Наденька». Когда роман между Лениным и Инессой Арманд достиг апогея, Крупская предложила ему развестись и даже пообещала лично найти удобную квартиру для мужа и его пассии. Но Ленин не согласился на развод.

Фото: leninism.su / 1919 год. Ленин и Крупская выходят из Дома Союзов
Конечно, Крупская была мужу товарищем, которого только может пожелать увлеченный делом мужчина. Жена разделяла страсть Ленина к революции, горела одной с ним идеей и помогала ему во всем: переписывала его труды, организовывала встречи, служила связной… Крупская высказалась по этому поводу вполне конкретно: «Любовь — любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая счастливая семья». Также она писала: «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».
Она не умела готовить и налаживать быт
А вот это похоже на правду. Товарищи Крупской вспоминали, что коронным блюдом Надежды Константиновны была яичница из четырех яиц, а в съемных квартирах обычно царил хаос. Впрочем, ни Крупскую, ни Ленина этот факт абсолютно не волновал: вероятно, оба были весьма неприхотливыми в житейском плане людьми.
Но надо учитывать, что большую часть времени вместе с четой жила мать Крупской, Елизавета Васильевна. А вот она как раз была женщиной домовитой и славилась своими кулинарными изысками. Так что именно теща обеспечивала налаженный быт, пока дочка с зятем раздували мировой пожар. После ее смерти в 1915 году Ленину и Крупской пришлось питаться в дешевых столовых, и Надежда Константиновна писала: «Еще более студенческой стала наша семейная жизнь».
Она плохо одевалась
Правильнее сказать: она одевалась согласно своему статусу. И это был вовсе не статус «первой леди», как принято говорить сейчас. Крупская была женой вождя мирового пролетариата, старой большевичкой. Могла ли такая женщина думать о бантиках и рюшечках? Этого не поняли бы ни товарищи по партии, ни народ. Одежда Надежды Константиновны всегда была простого покроя, неярких однотонных расцветок, косметикой она не пользовалась. В годы революции и последовавшей за ней разрухи Крупская одевалась скромно до бедности и этим еще раз подчеркивала близость вождя и его семьи к народу.

Фото: Владимир Веленгурин, kp.md / Сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» показывает залатанные туфли, которые носила Крупская.
После смерти Ленина Крупская почти перестала обращать внимание на свою внешность: мешковатые костюмы плохо сидели на ее грузной фигуре, седые волосы выглядели неухоженными. Впрочем, это можно расценить как очередное точное попадание в образ — на этот раз вдовы Ленина.
Она обладала незаурядным умом
Надежда Константиновна действительно была совсем не глупа. Она с легкостью поступила на Бестужевские курсы — одно из первых женских высших учебных заведений в России. Выучила немецкий, чтобы в подлиннике читать Маркса, и никогда не жалела времени и сил на образование (другой вопрос — какого толка информация входила в сферу ее интересов).
Способности Крупской соединялись с неимоверной работоспособностью: на фоне того, что ее помощь в делах постоянно требовалась Ленину, она еще успевала писать собственные труды. Историки полагают, что если бы Надежда Константиновна не стала женой вождя, то и сама могла оставить заметный след в политике. Того же мнения придерживался и Лев Троцкий: «Крупская была не только женой Ленина — она была сверх того лично выдающимся человеком: по своей преданности делу, по своей энергии, по чистоте своей натуры. Она была несомненно умным человеком. Но нет ничего удивительного, если рядом с Лениным ее политический ум не получил самостоятельного развития».
Для Крупской интересы мужа всегда стояли на первом месте. Так, Ленин действительно испытывал глубокие чувства к Инессе Арманд. Осознав положение вещей, Крупская не только подружилась с любовницей мужа, но и по-своему привязалась к ней. В результате пресловутый «любовный треугольник» Крупская — Ленин — Арманд существовал, насколько это возможно, гармонично, не мешая вождю в работе.

Фото: leninism.su /1922 год. Ленин и Крупская в Горках
После первого удара именно Надежда выхаживала полупарализованного Ленина — заново учила ходить, говорить и практически вернула к жизни. Но второй инсульт свел этот успех к нулю.
Она не любила сказки, потому что была бездетной
Проблемы со здоровьем не позволили Крупской стать матерью. В настоящее время врачи, скорее всего, смогли бы помочь Надежде Константиновне, но тогда даже курс лечения в швейцарской клинике не принес результатов.
Умирая, Инесса Арманд попросила Крупскую позаботиться о ее детях — это еще одно свидетельство теплых отношений между женщинами. Супруга Ленина исполнила обещание, а дочь Арманд, тоже Инесса, после смерти Ленина стала самым родным для Надежды человеком. Ее сына Крупская звала «внучком».
Свою нерастраченную заботу и воспитательный пыл Крупская обрушила на всех советских детей. Например, Крупская ратовала за искоренение беспризорности и открытие детских садов. Кроме того, она была одной из создательниц советской школьной системы. Кстати, уроки труда в школе — это тоже привет от Крупской. Она была ярой противницей телесных наказаний, и по этому вопросу вступила в конфликт с Антоном Макаренко. Ей писали тысячи детей из всех уголков огромной страны, и она отвечала, за что и получила титул «всесоюзная бабушка».

Фото: ru.wikipedia.org / 1927 год, Крупская среди пионеров
Что касается сказок, то в 1928 году в «Правде» была опубликована статья Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского», где она предъявляла автору многочисленные идеологические претензии. И заканчивала так: «Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».
Стоит признать, что статья крайне негативно отразилась на творческой судьбе Чуковского и в целом на детской литературе того времени.
Сегодня нам сложно понять, что плохого в замечательном «Крокодиле» и других прекрасных произведениях Чуковского. Но Надежда Константиновна была человеком своего времени и человеком очень идейным. Она свято верила в то, что главная педагогическая задача — это воспитать из детей будущих строителей коммунизма. «Содержание детской книги должно быть коммунистическое», — написала Крупская в более поздней статье «Детская книга — могущественное орудие социалистического воспитания».
Она умерла не своей смертью
24 февраля 1939 года Надежда Константиновна праздновала свое 70-летие — на два дня раньше официальной даты. Писали, что стол был очень скромным — пельмени и кисель. Сталин, зная любовь Крупской к сладкому, прислал торт, которому все гости отдали должное. Ночью имениннице стало плохо, но скорая, как назло, добиралась очень долго. А потом и в больнице консилиум никак не мог принять решение об операции. В результате 27 февраля Надежда Константиновна скончалась от осложненного гнойного перитонита.
Конечно, «тортик от Сталина» не мог не возбудить подозрений. Однако версия с отравлением не выдерживает критики — сладкое угощение отведали все гости. Другое дело — опоздание врачей, неоправданно долгое обсуждение решения об операции, которое и привело к летальному исходу. Но и здесь может быть два объяснения: первое — приказ тянуть время был получен «сверху», второе — доктора просто боялись взять на себя ответственность за жизнь такого важного пациента.
Правды мы никогда не узнаем: тело вдовы Ленина было кремировано, а урна с прахом замурована в Кремлевскую стену. Как не узнаем мы и того, была ли счастлива Надежда Константиновна, в жизни которой было только две любви — Ленин и марксизм.
Читайте также
«Интернациональный долг», наркотики, ловушка для СССР. Вопросы и ответы о войне в Афганистане
Настоящая Колхозница. Почему прототип скульптуры Мухиной сбежала в деревню
«Оскар» получил фильм «Зеленая книга». Что это за книга?


https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275
|
Метки: крупские |
Левый эсер Блюмкин Я.Г. |
Левый эсер Блюмкин Я.Г.
- Автор Vinogradskaya
- Дата 25 июля 2012 9:27
Главная » Новости » Войны » Гражданская 1918-1920 гг. » События » Левый эсер Блюмкин Я.Г.
Блюмкин Яков Григорьевич — левый эсер, сотрудник ВЧК, убийца германского посла графа фон Мирбаха. В январе 1918 г. Блюмкин, совместно с блатным Мишкой Япончиком, принимает активное участие в формировании в Одессе Первого Добровольческого «железного отряда». Скольких буржуев Яков со своим блатным помощником убил и ограбил — история умалчивает. Водит Яша дружбу не только с уголовниками, но и с представителями местной поэтической богемы. Один из них — Петр Зайцев.
Этот «поэтический» юноша становится начальником штаба у диктатора Одессы, эсера Михаила Муравьева. Деньги всегда производили на Блюмкина магическое действие. Всю свою жизнь он будет где-то поблизости от серьезных финансовых потоков. Глядя на своего нового приятеля Петра Зайцева, буквально купающегося в деньгах, Блюмкин понимает, что революция — это большие деньги. Очень большие.
Но помимо простой алчности было в Блюмкине и много талантов. Поэтому его последующий взлет был просто умопомрачительным. А для него ведь надо было молодому еврейскому пареньку собой что-то представлять. Блюмкин устраивает своих таинственных покровителей, и с этого момента в его карьере начинается стремительный рост. А он у Яши Блюмкина был невероятный, просто фантастический.
Яков Блюмкин
В марте 1918 г., не имеющего военного опыта, 19-летнего Блюмкина рекомендуют на пост начальника штаба 3-й Украинской советской «одесской» армии, которой предстояло остановить наступление румынских и австро-венгерских войск. Эта «армия» насчитывала всего около четырех тысяч солдат и подчинялась эсеру Муравьеву. Однако, так и не понюхав пороху, она панически отступила при приближении противника.
Несмотря на это, Блюмкина «за особые боевые заслуги» назначают комиссаром Военного совета и помощником начальника штаба армии. Здесь он участвует в сомнительной финансовой афере, пытаясь присвоить часть реквизированных, а значит казенных денег. Махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк 3,5 млн. рублей. Дело благополучно заминается, и в конце апреля 1918 г. Блюмкин покидает армию, где он уже прослыл вором, и приезжает в Москву.
Матросский патруль проверяет документы, 1919 г.
И тут сразу становится во главе охраны ЦК партии левых эсеров! (Савченко В.А. «Авантюристы Гражданской войны: Историческое расследование», Харьков, изд. Фолио; М.: ACT, 2000 г., с. 309). «Революция избирает себе молодых любовников», — писал о Блюмкине Троцкий, отмечая, что тот «имел за плечами странную карьеру и сыграл еще более странную роль». В будущем Яков станет правоверным троцкистом, но пока он еще левый эсер и именно в этом качестве войдет в историю. Его карьера неудержимо идет вверх. В мае 1918 г. Блюмкин поступает на работу в ЧК. И не просто рядовым сотрудником — Якова назначают на ответственную должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией!
Левые же эсеры планомерно готовились к мятежу. Резолюция их съезда гласила: «Разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор». Повсюду «союзники» руками эсеров расставляли нужных людей. Если отдел по борьбе с заговорами возглавит заговорщик, его коллеги могут спокойно готовиться к намечаемой акции.
В июне 1918 г. Блюмкин Я.Г. — «заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью». Будущему убийце немецкого дипломата поручили охранять его жертву… Операция по ликвидации графа Вильгельма фон Мирбаха была весьма непростой. Блюмкин начал издалека — с родственника посла, офицера австрийской армии Роберта фон Мирбаха, который находился в русском плену.
В апреле 1918 года он был освобожден и проживал в одной из московских гостиниц. В этой же гостинице снимала номер шведская актриса Ландстрем, любовница молодого Мирбаха. Неожиданно, без видимых причин, она кончает жизнь самоубийством. Вероятно, бедная актриса была убита Блюмкиным и его помощниками. На эту мысль наводит дальнейшая цепь событий.
Расследование смерти шведской подданной ведут чекисты отдел Якова. Роберт фон Мирбах ими арестован, а родственник-дипломат пытается ему помочь. Фон Мирбах обращается в ЧК с просьбой освободить его под свои гарантии посла Германии. В конце июня именно Блюмкин убеждает руководство партии левых эсеров убить посла Германии, для того чтобы спровоцировать «революционно-освободительную войну против немецких империалистов».
На официальном бланке ЧК было отпечатано направление для переговоров с послом Германии «по делу, имеющему непосредственное отношение к самому германскому послу». Член ЦК партии левых эсеров Прошьян подделал подпись Дзержинского на документе, а эсер Александрович, в то время занимавший должность заместителя Дзержинского, «приложил» к мандату печать и распорядился выдать Блюмкину машину ЧК. Подготовка была безупречна: настоящий начальник отдела ЧК Яков Блюмкин с настоящими документами в настоящей чекистской машине ехал к послу по делу о его родственнике, которым по-настоящему занимался именно он.
6 июля 1918 года в 14 часов Блюмкин и Андреев вошли в здание германского посольства и потребовали аудиенции. Пришедшие проявляли завидное упрямство и настаивали на личной встрече с послом. Осторожный Мирбах все-таки выходит к настырным визитерам. Блюмкин в течение пяти минут излагает ему «историю» ареста его племянника, а затем лезет в свой портфель якобы для того, чтобы достать нужные документы. Но внезапно выхватывает из портфеля револьвер и стреляет, а затем бросает бомбу, которая и становится для графа Мирбаха роковой.
Блюмкин и его подручный Андреев прыгают в окно, садятся в машину и уезжают. В машине обнаруживается, что Блюмкин ранен и не в состоянии самостоятельно передвигаться. Его переносят в штаб эсеровского отряда Попова и перевязывают. Далее начинается интересная комбинация. Информация о месте нахождении убийц посла странным образом моментально попадает к Дзержинскому. Он приезжает на место, где скрываются убийцы, чтобы их задержать, и оказывается в ловушке.
Поехал «железный» Феликс в отряд Попова без охраны и без тени сомнения, так как это отряд особого назначения ЧК, а значит, ехал Дзержинский к собственным подчиненным. Однако командир левых эсеров (и будущий махновский командир) Дмитрий Попов без колебаний арестовал руководителя советской контрразведки. Штаб отряда становится центром эсеровского мятежа. Именно сюда по плану был перебазирован ЦК, здесь левые эсеры сосредоточили свои главные силы…
9 июля 1918 г. Блюмкину Я.Г. удается совершить побег из усиленно охранявшейся больницы, как он вспоминает, при помощи «внепартийных друзей». Друзья эти берегут своего агента. Да и кто же они, если не эсеры? Впоследствии Блюмкин напишет: «В августе 1918 года я жил в окрестностях Петербурга очень замкнуто, занимаясь исключительно литературной работой, собирая материалы об июльских событиях, и писал о них книгу».
Одним словом — он сделал свою часть работы, и не его вина, что мятеж провалился и между Россией и Германией война снова не началась. А ведь она была так нужна! Немецкие войска рвались к Парижу, шло последнее немецкое наступление этой войны. Решающее. И открытие заново Восточного фронта было бы куда как кстати. Кому? Внепартийным «друзьям» Якова Блюмкина из британской разведки.
Прятался убийца Мирбаха от карающей руки пролетарского правосудия совсем недолго. Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК Советов, приняла решение об амнистии Блюмкина. За какие заслуги, почему столь милосердно поступили суровые чекисты, не совсем понятно. Но вся биография Блюмкина из таких непонятных «чудес» и состоит. Поэтому просто примем к сведению — везет парню, и все тут.
А он после своей амнистии в середине мая 1919 г. не просто прятаться перестал, а снова страстно захотел работать в ЧК. Строги чекисты, беспощадны к врагам трудового народа. Но Яше Блюмкину отказать не могут и берут его в ЧК во второй раз! Чем он там занимался, точно неизвестно: то он во главе какого-то чекистского отряда, то он законспирированный агент по борьбе со шпионажем, то, по сообщению официальной печати, он занимается подрывной работой в тылу петлюровских войск.
После того как Яков Блюмкин был неожиданно помилован и принят во второй раз в советскую спецслужбу, участвовал в многочисленных спецоперациях. В 1920 году был зачислен слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовили работников посольств и агентуру разведки. И уже летом 1920 г. Блюмкин участвует в одной громкой авантюре межгосударственного уровня.
С помощью советской военной и материальной помощи на севере Ирана создается местная самопровозглашенная Гилянская Советская республика с центром в городе Решт. Блюмкин становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии, членом только что образованной компартии Ирана. Участвуя в боях, Блюмкин руководит обороной города Энзели от наступавших войск шаха Ирана.
Доходит до того (и это не шутка), что еврей Блюмкин как делегат от Ирана приезжает на Первый съезд угнетенных народов Востока, проходящий в Баку! Но все имеет свой конец — и чудеса тоже. Возвращаясь домой, Блюмкин попадает в опалу. Оказывается, в 1929 году он тайно встречался с Троцким в Турции и привез от него письма его сторонникам. Передал полученный пакет Радеку, тот, не распечатывая, позвонил в ГПУ. Блюмкин — арестован. Расстрелян в 1929 году.
Статья написана по материалам книги Н. Старикова «Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне?», изд. «Питер», 2012 г.
Советую прочитать:
|
Метки: яков блюмкин террор |
Суперагент Яша Блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин

В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).
Давайте познакомимся с ним чуть ближе.
Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.
В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.
В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.
Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.
Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.
Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.
Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.
В конце апреля 1918-го Блюмкин покидает армию, где прослыл вором, и приезжает в Москву. Там он становится главой охраны ЦК партии левых эсеров. Именно Яков Блюмкин стал одним из отцов-основателей ЧК (и позднее – жертвой своего детища). В мае 1918-го девятнадцатилетний Блюмкин представляет свою партию в ЧК при Дзержинском и занимает должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией в ЧК. В июне 1918 года в его обязанности входит наблюдение за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.
В это время он дружит с остроумным Карлом Радеком и, возможно, именно через Блюмкина «непримиримый антигерманец» Муравьёв получает деньги от немецкого посла Мирбаха. В страхе перед разоблачением неприглядных финансовых делишек Блюмкин и Муравьёв убеждают ЦК левых эсеров убить посла Германии, якобы для спровоцирования войны против немецких империалистов и для того, чтобы убрать от власти сторонников Брестского мира (Ленина и его приверженцев). Вечером 4-го июля Мария Спиридонова и ЦК левых эсеров принимают план Блюмкина.
6-го июля Блюмкин и Н. Андреев в 14:00 подъехали к посольству с двумя бомбами и двумя револьверами. При осуществлении теракта Блюмкин получил от охраны посольства «героическое» ранение в ягодицу. После убийства Мирбаха оба прячутся в отряде особого назначения московской ЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов. Через несколько часов преступление было раскрыто и в штаб Попова приехал Дзержинский, которого там и арестовали. Отряд левых эсеров захватывает телеграф и объявляет, что все депеши за подписью Ленина вредны для советской власти. Арестовывают чекиста Лациса и председателя Моссовета большевика Смидовича. В 6 часов утра 7-го июля по особняку, где располагался штаб Попова, открыла огонь артиллерия. Большевики получили возможность избавиться от конкурентов в борьбе за власть. К 5 часам дня выступление левых эсеров было подавлено.
Есть версия, что мятежа вообще не было, а была провокация, была оборона левых эсеров от нападений большевиков и попытка освободить своих лидеров, незаконно арестованных большевиками.
Позже, в беседе с женой Луначарского и её двоюродной сестрой Татьяной Сац, Блюмкин признался, что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин. Ленин сразу после покушения, по телефону, приказал, что убийц надо «искать, очень тщательно искать, но не найти»…
Но совершенно замять столь громкое международное преступление было невозможно - Блюмкин был заочно приговорён к трёхлетнему заключению.
Уже находясь под арестом, 9-го июля 1918 года Яков Блюмкин совершает побег из усиленно охранявшейся больницы. Лето 1918 года Блюмкин проводит в Питере. Тут он служит в местной ЧК по документам на фамилию Владимирова Константина Константиновича. По службе («агент под прикрытием») он входит в оккультные кружки и прочие многочисленные сборища местных мистиков. Волей-неволей обрастает большим кругом знакомств в этой весьма специфической среде.
Зимой 1918-1919 годов Блюмкин появляется на Украине, а в апреле 1919 года сдаётся ЧК в Киеве. Его почти сразу же амнистируют. Следует серия провалов в организации левых эсеров, и Блюмкина обвиняют, как провокатора. Блюмкин переживает три покушения на свою жизнь только в течение одного июня. Во время второго он ранен, а третье – бомба в окно больницы, где он лежал, но никто от взрыва не пострадал.
В конце 1919 года он уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию.
В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.
И вот он в кругу поэтов, где Маяковский открыто восхищается батькой Махно.
Блюмкин часто общается с Сергеем Есениным и Осипом Мандельштамом. Не рискну назвать их друзьями, но то, что они были близко знакомы – никто отрицать не будет. Есенину Блюмкин говорил: « Я террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии».
Позже это приятельство перейдёт в неприязнь.
В один из последних дней июня 1918 года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как он арестовал брата посла Мирбаха по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии.
- Не сознается – цинично говорил Блюмкин, поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Вон, видите, вошёл поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу – тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
- Не вмешивайся в мои дела! – грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь сунуться – сам получишь пулю в лоб. С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору.
(Цитирую по тексту А.С. Велидова «Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина» - М.: Современник, 1998 г.)
За год до гибели Есенина, Блюмкин, находясь в Закавказье, приревновал к поэту свою жену и угрожал ему пистолетом. Есенин считал угрозу вполне реальной и поспешно покинул Тбилиси.
По одной из версий смерти Есенина – его убили чекисты под руководством Блюмкина. И даже знаменитые предсмертные стихи, написанные кровью, написал от имени поэта сам Блюмкин (хотя в своё время, спасая Есенина от тюрьмы, брал поэта на поруки под личную ответственность).
Тем не менее, Маяковский дарил Блюмкину книги с трогательными надписями: « Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».
Летом 1920 года Блюмкин участвует в создании на севере Ирана Гилянской Советской республики, где становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии. Как делегат Ирана участвует в I-м съезде угнетённых народов Востока в Баку. После четырёх месяцев экзотической командировки Блюмкина отзывают в Москву.
В конце 1920 года Блюмкин вместе с Розой Землячкой и Бела Куном участвует в уничтожении белых офицеров, (цифры называют от 50 до 100 тысяч человек). В 1921-м году – участвует в подавлении восстаний голодных крестьян Нижнего Поволжья и Еланского восстания. Вместе с Тухачевским и Антоновым-Овсеенко участвует в подавлении восстания атамана Антонова на Тамбовщине. Осенью Блюмкин уже командует 61-й бригадой в боях против барона Унгерна фон Штернберга во Внешней Монголии. Затем он занимает высокую должность секретаря по особым поручениям в аппарате самого Троцкого.
По окончании Академии Блюмкин в совершенстве владеет турецким, арабским, китайским и монгольскими языками. Он становится официальным секретарём наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. А с 1923-го года начинаются самые увлекательные авантюры Блюмкина, сведения о которых до сих пор хранятся в секретных архивах за семью печатями. Восстанавливать канву событий приходится буквально по крупицам. Есть сведения, что Блюмкин прошёл курс рукопашного боя у лучших тогдашних инструкторов по боевым воинским искусствам. И он был прилежным учеником. У Блюмкина восстанавливаются контакты с оккультными кругами. Он работает совместно с Александром Барченко и Генрихом Мебсом по проблемам воздействия гипнозом и суггестией на толпу и на отдельного человека, занимается проблемами предсказания будущего.
Затем идёт работа иностранным агентом на территории Палестины. Через год его отзывают в Москву и он получает пост политического представителя ОГПУ в Закавказье и члена коллегии Закавказского ЧК.
Примерно в это же время он тайно выезжает в Афганистан, где входит в контакт с сектой исмаилитов. Пробравшись в Индию, Блюмкин изучает расположение английских колониальных войск и добирается до Цейлона.
Возвращается он в Москву он только в 1925-м году. ОГПУ доверяет Блюмкину особо тайную миссию в Китае. Он должен был проникнуть с экспедицией Рериха в таинственную Шамбалу и разведать мощь англичан в Тибете. Под личиной тибетского монаха Блюмкин объявляется в Тибете (в расположении экспедиции Рериха, на которую ОГПУ выделило из своих фондов 600 тысяч долларов). И у великого мыслителя, и у великого террориста общая цель – создание в Тибете советского присутствия путём провозглашения Николая Рериха правителем Тибета – «Рета Ригденом».
В 1926-м году Блюмкин получает назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики – местного ЧК. Одновременно он руководит советской разведкой в Северном Китае и на Тибете. В Монголии Блюмкин вёл себя как диктатор. Он расстреливал неугодных, не ставя местные власти в известность, из-за чего через полгода его убирают и перебрасывают в Париж (для организации покушения на бежавшего во Францию секретаря Сталина – Бажанова). Покушение не удалось, хотя Блюмкин, по слухам, утверждал обратное. Официальные данные говорят о том, что Борис Георгиевич Бажанов скончался в Париже в 1982-м году.
В сентябре 1927-го года Блюмкин руководит всей агентурной сетью советской разведки Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Палестины. Главной целью было свержение английского колониального влияния, особенно в Индии. Под личиной персидского купца Блюмкин налаживает агентурные каналы в Персии, Ираке и Палестине. Он специализируется на торговле старинными еврейскими книгами (объединёнными тематикой магии, каббалы и оккультной мистики). Эта торговля приносит доход в сотни тысяч долларов.
В 1929-м году Блюмкин проникает в среду воинственных арабских и курдских националистов. Возвращаясь в Москву Блюмкин встречается в Стамбуле с сыном уже опального Троцкого – Львом Седовым (якобы – случайно), а через него 16-го апреля 1929 года встречается и с самим Троцким.
В октябре Блюмкин совершает непростительную (для агента его уровня) ошибку – он рассказывает о своей встрече с Троцким своим друзьям, бывшим троцкистам: Радеку, Преображенскому и Смигле. Бывшие соратники советуют ему «покаяться».
В панике Блюмкин доверяется своей любовнице (и сослуживице) Лизе Горской, которая немедленно сообщает об этом начальству. Покровитель и начальник Блюмкина – Меер Абрамович Трилиссер (начальник Иностранного отдела ГПУ) решил не принимать пока никаких мер, но Блюмкин принимает решение бежать из столицы. 15-го октября 1929 года он перед отъездом решил встретиться с Горской. Они вместе едут на вокзал, но оказывается, что поезда на Грузию (куда намеревался отправиться Блюмкин) отправляются только на следующий день. Горская уговаривает Блюмкина переночевать у неё на квартире. Туда и приехал вызванный её же отряд чекистов.
В бумагах Блюмкина при обыске обнаружили инструктивное письмо Троцкого к оппозиции с предложением организовать антисталинское подполье. На восемнадцатый день после ареста Блюмкин был расстрелян. Казнь Блюмкина была первой казнью представителя коммунистической элиты в СССР.
Погиб он с возгласом: «Да здравствует Троцкий!»
P.-S. Немногие знают, что на картине Николая Рериха "Весть Шамбалы" (Стрела-письмо) изображен Яков Блюмкин в образе тибетского ламы.
Личность интересная. И весьма неоднозначная.
Он ведь вёл иногда поэтические вечера в "Кафе поэтов" и "Стойле Пегаса". Да и сам писал стихи, иногда печатался в журналах того времени (я, при всём старании, ни одного стихотворения Блюмкина не нашёл, а было бы интересно взглянуть). Неоднократно Блюмкина видели среди гостей Максима Горького - говорят, что "буревестник" очень интересовался "романтиком революции" (эпитет поэта Вадима Шершеневича).
За рамками моего короткого текста осталось много интересного - и дружба Блюмкина с Луначарским, и трагически закончившаяся любовная история с Ниной Сац (сестрой основательницы детского музыкального театра Натальи Сац). Любовных историй в жизни "еврейского Скорцени" было множество - женщин он любил.
Но не меньше в его жизни было и опасностей.
Помимо тех трёх покушений на его жизнь, о которых я упомянул в тексте, были и другие. После первых трёх он умолял приятелей не оставлять его одного - Есенин, Мариенгоф, Кусиков и Шершеневич провожали его по очереди.
Однажды, когда они уже подходили к дому, раздался окрик: "Стоять!" Блюмкин кинулся наутек, поэты за ним. Грянули выстрелы. Пули пробили в двух местах шляпу Блюмкина, после чего он почел за лучшее остановиться. Выяснилось, что их обстреляли не эсеры, а агенты с Лубянки: ЧК ловила бандитов. Блюмкин тотчас осмелел и принялся уверять, что, если б он открыл ответный огонь, чекистам бы не уцелеть: стрелял он изумительно.
С тех пор его убивали еще шесть раз: дважды холодным оружием, четыре раза - из браунинга и нагана. Его хранила какая-то тайная сила, пока в очередной раз не подвела боевая подруга - Лиза Розенцвейг.
Судьба красавицы Лизы сложилась вполне благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
Литература:
1. «БИТВА ЗА ГИМАЛАИ. НКВД: магия и шпионаж» Олег Шишкин – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. – 400 стр. Тираж 5000 экз.
2. «Оккультные тайны НКВД И СС» Первушин Антон – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999 г. – 416 стр. Тираж 11000 экз.
3. « Время Шамбалы» Александр Андреев СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС https://www.chitalnya.ru/work/1278852/Образование», 2002 г. – 352 стр. Тираж 5000 экз.
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин |
Яков Блюмкин
Воскресенье, 17 января 2016, 11:50
-

Источник: odessa-life.od.ua
Всемирные Одесские новости, № 4, 2014
Повышенный интерес, который «с младых ногтей» я испытывал к сфере внешней разведки, ничуть не ослабевший даже после неудавшейся попытки профессионального приобщения к ней, показал насколько безгранична эта самая сфера, как богата её история, какие незаурядные и талантливые люди посвятили ей свою жизнь. Хотя, конечно, в определённой части случаев мотивацией деятельности разведчиков служили и служат не патриотизм и не бескорыстный интерес к профессии, а изрядные суммы вознаграждения и иные, сугубо прагматичные соображения. Среди них даже «отмаливание» вины за прегрешения, за предательство, за государственную измену. Иное дело, что такие агенты доверием руководства разведслужб не пользовались, а выполняли лишь отдельные поручения под строгим контролем. Прагматики и авантюристы легко становились т. н. двойными и даже тройными агентами.
Мне приходилось писать, что в практике разведчика причудливо сочетаются высокая романтика и будничная работа, героические подвиги и глубокое нравственное падение, альтруизм и корыстолюбие — разнообразие, сравнимое лишь с самой жизнью. Два издания моей книги «Рассекреченные судьбы», вышедшие в 1999 и 2001 г г, смогли охватить около двухсот таких судеб, хотя почти каждой из них могут быть посвящены отдельные тома. Не будет неожиданным тот факт, что особое моё внимание привлекли разведчики, жизнь и (или) деятельность которых связана с нашим городом. Таковых было немало. Но, пожалуй, две фигуры из их числа оказались фантастически интересными и неправдоподобно эффективными по многообразию и количеству совершенных ими акций. Осведомлённому читателю нетрудно догадаться, что я имею в виду Сиднея Рейли и Якова Блюмкина. Об этом последнем и пойдёт речь в предлагаемом очерке.
Этот номер газеты выходит в дни, когда исполняется ровно 85 лет со дня завершения уникальной судьбы нашего земляка. Сразу оговорюсь, что я практически не работал с архивными документами спецслужб, доступ к которым непрост и нынче, но довелось ознакомиться со значительным количеством нередко противоречивых источников в биографической литературе, на официальных сайтах, в блогосфере, видеоматериалах. Шпионские биографии практически никогда не бывают абсолютно достоверными. Слишком много усилий прилагается к тому, чтобы сделать их именно такими.
Судя по большинству доступных материалов, Яков Григорьевич (Симха-Янкель Гершевич) Блюмкин (псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров, Вишневский, Живой и масса других) — революционер, чекист, советский разведчик и контрразведчик, террорист, государственный и военный деятель, считается одним из создателей советских разведывательных служб. Возможный прототип молодого Штирлица. По данным, сообщенным ЧК в 1918 году самим Блюмкиным, родился он 8 октября 1900 года в Одессе, на Молдаванке. Но он не был бы Блюмкиным, если бы от него не исходили различные версии любых событий. В соответствии с наиболее достоверной версией Яков происходил из одесской пролетарской семьи, и то, что с полуторагодовалого возраста он с нищей семьей отца, в которой было пятеро детей, жил на Молдаванке в Одессе, практически не вызывает сомнений у биографов.
Выстроить надёжную хронологическую последовательность совершённых им или приписываемых ему действий и связанных с ними событий не представляется возможным, т. к., совершенно различные по характеру и месту происшествия, они нередко проецируются на одни и те же временные периоды. Поэтому при их изложении постоянно хочется употреблять формулировки «очевидно», «скорее всего», «наиболее вероятно»…
В 1913 г. Блюмкин окончил еврейскую начальную школу — Талмуд-тору, которой руководил известный писатель — «дедушка еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорим. Обучение в школе было бесплатным, за счёт иудейской общины. Там он получил начальные знания в древнееврейском и русском языках. Блюмкин писал:
«В условиях еврейской провинциальной нищеты, стиснутый между национальным угнетением и социальной обездоленностью, я рос, предоставленный своей собственной детской судьбе».
В автобиографии он указал, что в 1914 году (14-15-ти лет от роду) работал электромонтёром в Одесском трамвайном депо, затем в театре, на консервной фабрике братьев Аврич и Израильсона. Брат его Лев был анархистом, а сестра Роза — социал-демократкой. Старшие братья Якова — Исай и Лев — были журналистами одесских газет, а брат Натан получил признание как драматург (псевдоним — Базилевский). Яков участвовал в отрядах еврейской самообороны против погромов в Одессе. Вступил в партию социалистов-революционеров. Как агитатор «по выборам в Учредительное собрание», он в августе — октябре 1917 года побывал в Поволжье, а уже в ноябре 1917-го примкнул к отряду матросов, участвовал в боях с частями украинской Центральной Рады. Во время революционных событий в Одессе в 1918 г. участвовал в экспроприации ценностей Государственного банка. По слухам, часть конфиската присвоил. Одно время в Одессе подрабатывал в конторе некоего Пермена на Военном спуске, в роде деятельности которой краеведы не разобрались, но чем в ней занимался младший служащий Блюмкин, уже не скрыть. Он наладил подделку документов, обеспечивавших освобождение от призыва. Разоблачённый Яша заявил, что делал это по приказу хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд, который, вопреки ожиданиям, Блюмкина оправдал. Оказалось, что, узнав о неподкупности судьи, Яков послал ему какое-то подношение с вложенной в него визиткой своего шефа. Возмущенный откровенной взяткой, судья вынес оправдательное решение. Узнавший об этом Пермен возмутился, но потом дал Блюмкину характеристику, которой тот всегда гордился: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый». В январе 1918-го Блюмкин совместно с Моисеем Винницким (Мишкой Япончиком) принимает активное участие в формировании в Одессе 1-го Добровольческого «железного» отряда. Входит в доверие к диктатору революционной Одессы Михаилу Муравьеву, которого одесситы называли «красным маршалом».
Анархистское, а затем эсеровское подполье, первые «опыты» экспроприаций, мошенничества и подлогов ярко проявили его характерные качества революционного авантюриста: жестокость, цинизм, беспринципность, непомерную амбициозность и при этом, безусловно, довольно широкий спектр способностей и талантов, выраженную склонность к романтизму. В одесской периодике, в газетах «Одесский листок», «Гудок» и в журнале «Колосья», печатались первые стихи Блюмкина, да и впоследствии он продолжал их писать. В Одессе Блюмкин знакомится с поэтом А. Эрдманом, членом Союза защиты родины и свободы, английским шпионом и типичным тройным агентом. Возможно, Эрдман дал старт дальнейшей головокружительной карьере Блюмкина в ЧК. Уже в апреле 1918-го Эрдман под видом лидера литовских анархистов Бирзе ставит под свой контроль часть вооружённых анархистских отрядов Москвы и одновременно работает для ЧК, собирая информацию о немецком влиянии в России для стран Антанты.
Когда в мае 1918 года Блюмкин приехал из Одессы в Москву, ЦК Партии левых эсеров делегировал его в ВЧК, где он сразу же назначается заведующим отделом по борьбе с международным шпионажем. С июня 1918 года — заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью. В основном Блюмкин занимался «немецкими шпионами». Находясь в должности (данные разноречивы в разных источниках) начальника «германского» отдела ВЧК, Блюмкин 6 июля 1918 г. явился в посольство Германии якобы для обсуждения судьбы военнопленного (ранее завербованного Блюмкиным) — дальнего родственника посла графа Вильгельма фон Мирбаха, которого арестовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК, матрос Николай Андреев. Около 15 часов Блюмкин несколько раз выстрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две бомбы. Посол погиб на месте. Преступники скрылись.
Однако Б. Бажанов в своих воспоминаниях описывает эти события иным образом: «Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его чекисты были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увёз». Матросик очень скоро погиб на фронтах гражданской войны, а чуть было не спровоцировавший возобновление военных действий (после Брестского мира) левый эсер Блюмкин был объявлен большевиками вне закона, но очень скоро перешёл на их сторону, предав организацию левых эсеров. Блимкин стал самым молодым начальником управления в истории ВЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ. И это невзирая на то, что провокационное убийство Мирбаха послужило сигналом для вооружённого выступления левых эсеров против советского правительства во главе с большевиками. Позже в беседе с женой Луначарского Натальей Луначарской-Розенель и с её двоюродной сестрой Татьяной Сац Блюмкин признался (если не солгал), что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин.
Никаких других исторических свидетельств этого «признания» нет. Поэтому неудивительно, что существует совершенно другая версия этих событий, свидетельствующая о том, что после провала эсеровского мятежа Блюмкин под фамилией Белов скрывался в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр, затем под именем Григория Вишневского работал в Кимринском комиссариате земледелия. А затем, уже в сентябре 1918-го, оказался в Украине.
В ноябре того же года, в момент всеобщего восстания против украинского гетмана Павла Скоропадского и австро-немецких оккупантов, Блюмкин находит своих партийных товарищей-эсеров в Киеве и включается в их подпольную работу. Он участвует в подготовке террористического акта против Скоропадского и в покушении на командующего немецкими оккупационными войсками в Украине фельдмаршала Эйхгорна. По этим же данным, в декабре 1918 — марте 1919 г. Блюмкин был секретарем Киевского подпольного горкома ПЛСР. По заданию ВЦИКа был якобы задействован и в подготовке покушения на адмирала Колчака, необходимость в котором отпала из-за ареста Колчака левыми эсерами в Иркутске.
В марте 1919 года близ Кременчуга попал в плен к петлюровцам, которые выбили Блюмкину передние зубы и жестоко избили. После месячного лечения, в апреле 1919 г., Блюмкин явился с повинной в ЧК. Особая следственная комиссия по согласованию с Президиумом ВЦИКа и с одобрения Ф. Дзержинского приняла решение об амнистии Блюмкина. Писали также, что ранее Ленин велел «железному Феликсу» хорошо искать и… не найти Блюмкина, выдачи которого требовала германская сторона.
В октябре 1919 г. он получает первые задания по борьбе со шпионажем на Южном фронте. Отмечалось, что он выдал ЧК многих своих прежних товарищей и был заочно приговорён левыми эсерами к смерти. На него совершили 3 покушения, Блюмкин был тяжело ранен, но сумел скрыться из Киева. Правдоподобие этой версии подкрепляется тем, что активной участницей эсеровской боевой дружины, охотившейся на Блюмкина, была его тогдашняя возлюбленная Лида Соркина. Согласно другой, также вполне правдоподобной версии, за убийство Мирбаха Блюмкин был в 1920-м приговорен армейским военным трибуналом к расстрелу. И вовсе не Дзержинский, а Троцкий добился, чтобы смертную казнь заменили «искуплением вины в боях по защите революции», взял его к себе в штаб, где Блюмкин провёл всю гражданскую войну начальником личной охраны наркомвоенмора.
Затем своим шефом он был направлен на учёбу в Академию Генштаба РККА, после окончания сокращённого курса которой вновь был переведен в органы ГПУ. С Блюмкиным и тут всё не просто, и ещё одна, третья, изобилующая подробностями версия утверждает, что в 1920 г. дело Блюмкина рассматривал (заочно?) межпартийный суд по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда входили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. Товарищеский суд возглавил Карелин — бывший член ВЦИКа РСФСР, мистик, лидер российских анархистов-коммунистов. Суд этот тянулся две недели, но якобы так и не вынес окончательного решения. Вот попробуй разберись в этих обстоятельствах. Тем более что последующая информация почти перечёркивает всё вышесказанное о перипетиях, связанных с Блюмкиным в годы гражданской войны.
В частности, подробно излагаются сведения о том, что когда в мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе была направлена в Энзели (Персия) с целью возвращения российских кораблей, которые увели в Персию эвакуировавшиеся из российских портов белогвардейцы, дело там не обошлось без вездесущего Блюмкина. В результате последовавших боевых действий белогвардейцы и занимавшие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись этой ситуацией, в начале июня вооружённые отряды революционного движения дженгалийцев под командованием Мирзы Кучек-хана захватывают город Решт — центр остана Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская Советская Республика. Вот тут-то Блюмкина направляют в Персию, где он участвует в свержении Кучек-хана и приходе к власти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» и коммунисты.
В боях он шесть раз (!) был ранен. После переворота Блюмкин участвовал в создании Иранской коммунистической партии (на базе Социал-демократической партии Ирана «Адалят»), стал членом её Центрального комитета и военным комиссаром штаба Красной армии Гилянской Советской Республики. Он представлял Персию на Первом съезде угнетённых народов Востока, созванном большевиками в Баку. В Персии Блюмкин знакомится с будущим успешным советским военным разведчиком Яковом Серебрянским, содействует устройству его сотрудником особого отдела Иранской Красной армии. В сентябре 1920 года правительство РСФСР принимает решение о сворачивании своей военной операции в Персии и приступает к переговорам с шахским правительством.
В 1920-21 годах Блюмкин — начальник штаба 79-й бригады (помните, указывалось, что он всю войну провёл в штабе Троцкого?), а позже — комбриг, планировал и осуществлял карательные акции против восставших крестьян Нижнего Поволжья, на Тамбовщине, в подавлении Еланского восстания. Осенью того же 1921 года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной на борьбу против войск барона Унгерна фон Штернберга. Позднее он занимал ряд высоких командных должностей в войсках и штабах Красной армии, был награждён орденом Боевого красного знамени. Вообще же знакомство с материалами о 1920 — 21 годах оставляет чёткое ощущение, что Блюмкин одновременно находился в разных географических точках, на разных должностях в разных гражданских и военных структурах.
Согласно этим данным, вернувшись в Москву, Блюмкин написал и издал (как, когда успел?) книжку о Дзержинском и стал его фаворитом в ЧК, именно по его личной рекомендации вступил в РКП(б). Дзержинский, не жаловавший Блюмкина за авантюризм, но ценивший как бесстрашного агента, переманил его в ИНО (иностранный отдел ГПУ). Указывается, что во время учёбы в Академии Блюмкин (правда, неясно, каким образом — молниеносно?) к знанию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайского, монгольского языков, приобрёл обширные военные, экономические, политические знания. «Природная смекалка и умение разбираться в драгоценных камнях, обретенное им во время одесских экспроприаций» (так убедительно и красноречиво излагает источник), позволили Блюмкину всё той же осенью 1921 года быстро раскрутить дело с хищениями в Гохране. В октябре Блюмкин под псевдонимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Таллинн) в роли «ювелира» и, выступая в качестве провокатора, выявляет заграничные связи работников Гохрана.
Se none е vero, ma ben trovato! — если это и неправда, то хорошо придумано! (итал.), т. к. именно этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а блюмкинский псевдоним Исаев использован им в дальнейшем в качестве официальной фамилии для самого обаятельного героя советской «шпиониады» — Штирлица. В 1920-е годы Блюмкин тесно сошёлся с кружком поэтов и литераторов. Дружил с Есениным, познакомился с Маяковским, Шершеневичем и Мариенгофом. Все они посвящали ему стихи. Блюмкин был одним из учредителей полуанархической поэтической Ассоциации вольнодумцев, имевшей своей целью «духовно-экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции», завсегдатаем круга имажинистов. Николай Гумилёв писал о Блюмкине («убийце императорского посла») в стихотворении «Мои читатели». Маяковский написал на подаренной Якову книге «Дорогому товарищу Блюмочке…». В ряде воспоминаний об Осипе Мандельштаме сообщается, что поэт вырвал у Блюмкина пачку ордеров на расстрелы, которые тот, похваляясь своим всемогуществом, подписывал в пьяном виде на глазах у компании собутыльников, и разорвал их. Возникший скандал привёл к кратковременным неприятностям у Блюмкина с ВЧК и лично с Дзержинским, после чего Мандельштам, опасаясь мести Блюмкина, уехал на Кавказ. Независимо от того, имел ли место именно такой эпизод, известно точно, что из-за какого-то серьёзного конфликта с Блюмкиным Мандельштам был вынужден на время покинуть Москву. По воспоминаниям Владислава Ходасевича, Есенин как-то привёл в круг богемы Блюмкина в чекистской кожаной куртке. Сергей Есенин, стремясь поразить воображение окружающих дам, предложил понравившейся ему девушке: «А хотите поглядеть, как расстреливают в ЧК? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». В 1920 году, когда Есенин и братья Кусиковы арестовывались ЧК, Блюмкин оказал помощь поэту, обратившись с ходатайством отпустить его на поруки. Сергей Есенин и Яков Блюмкин познакомились, по всей видимости, в Москве весной 1918 года, во время съезда партии левых эсеров. Секретарю Ассоциации вольнодумцев Матвею Ройзману крепко врезались в память такие слова чекиста, обращенные к Есенину: «Я — террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии!» «Горел. Сгорал. Жёг жизнь с двух концов…»
Вадим Шершеневич вспоминает, что когда у поэта-имажиниста Сандро Кусикова в квартире освободилась комната, Блюмкин получил на нее ордер. До этого он, не имевший собственной жилплощади, жил в разных московских гостиницах. Например, адрес гостиницы «Савой» был указан на поручительствах Блюмкина за Сергея Есенина и братьев Кусиковых — Александра и Рубена, арестованных МЧК по ложному доносу в ночь на 20 октября 1920 года на квартире в Большом Афанасьевском переулке, д. 30, кв. 5. В этой квартире рядом с Арбатом жил тогда и Есенин.
Внешность Блюмкина, этого «чёрного ангела революции», описывалась многими, и всегда по-разному. «Невероятно худое, мужественное лицо обрамляла густая черная борода, темные глаза были тверды и непоколебимы», — писал Виктор Серж (Кибальчич), поэт-революционер, впоследствии арестованный (затем выпущенный) чекистами. Со временем невероятно худое лицо преобразилось в довольно круглое, и поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала о нем уже как о мордатом чекисте, ражем и рыжем (впрочем, цвет волос он менял неоднократно). Другой современник изображает Блюмкина широкоплечим, довольно упитанным, пухлогубым, черноволосым. Поэт Мариенгоф упоминает его «жирномордость» да к тому же добавляет, что пухлые его губы были всегда мокрыми и при сильном волнении он забрызгивал слюной всех окружающих. Да ещё лез целоваться. На некоторых фотографиях не разберешь, толст он или худ: щеки скрывает борода. Зато вышеупомянутый Серж вспоминает: «Его суровое лицо было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина». «Древнееврейский воин» увлекался собственным имиджем, декламировал стихи Фирдоуси, других восточных поэтов. Словом, Яков Блюмкин был многолик.
На восточном отделении Академии Генштаба готовили разведчиков для стран Азии, хотя Блюмкин уже был вполне сложившимся и профессиональным шпионом. Именно там, в Академии, он встретил Татьяну Исааковну Файнерман, дочь известного толстовца Файнермана-«Тенеромо», и вскоре на ней женился.. После замужества Татьяна, унаследовавшая отцовские авантюризм и самомнение, почти немедленно оставила медицину, которой к тому времени училась уже четыре года, ради занятий литературой и искусством.
Склонность к возвышенному объединяла супругов Блюмкиных. В их маленькой комнате в квартире поэта-имажиниста Кусикова стену украшали перекрещенные сабли, на столе стояли бутылки отличного вина, а сам хозяин поражал воображение гостей то красным шелковым халатом и восточным чубуком в аршин длиной, то роскошным креслом, на котором восседал, как на троне, завернувшись в плед. Кресло считалось подарком монгольского принца.
Брак с Татьяной Файнерман оказался не особенно удачным и через несколько лет распался. Однако в своем завещании Блюмкин просил власти о назначении пенсии бывшей жене и их общему сыну Мартину.
Блюмкин печатался в «Правде», пописывал стихи (по отзывам — очень разного уровня.), до нас не дошедшие, а также был завсегдатаем «Кафе поэтов» и «Стойла Пегаса». Иногда он даже сам вел поэтические вечера. «Дорогой Блюмочка» пользовался расположением Маяковского до тех пор, пока — уже в конце двадцатых — мучительно ломавший себя поэт не почувствовал в нём идейного противника. В то время Маяковский уже с трудом заставлял себя восхищаться государственностью, строительством и бюрократическим окостенением революции, Блюмкин же оставался романтиком плаща и кинжала, и после бурной дискуссии Маяковский от него навсегда отвернулся.
Блюмкина видели у Горького; «буревестник революции» очень заинтересовался «романтиком революции» (так называл террориста поэт Вадим Шершеневич). Когда Есенина арестовали по ложному доносу, Блюмкин предложил взять его на поруки. Впрочем, их отношения были вовсе не безоблачными. За год до гибели поэта Блюмкин грозил Есенину револьвером и тюрьмой, когда ему показалось, что поэт флиртует с его любовницей. И тут же пытался соблазнить жену Есенина, которую, заболтав, завел к себе в номер гостиницы. Верная жена дотянулась до кнопки вызова прислуги или охраны. Резкий звонок отрезвил ловеласа, и он отпустил жену приятеля.
Ряд сторонников появившейся в 1970-1980-е годы версии об убийстве С.А. Есенина связывает со смертью поэта именно Блюмкина; некоторые из них приписывают ему подделку предсмертных стихов Есенина («До свиданья, друг мой, до свиданья»), что опровергается специально проведённой экспертизой автографа. Другие прямо называют его убийцей поэта. Но большинство источников, несмотря на свидетельства (опять же якобы) очевидцев и повторную экспертизу в 1993 г., эту версию исключают. Многими отмечалась склонность Якова к черной мистике, к оккультизму, он владел редкостной способностью — искусством перевоплощения, как оборотень, умел менять внешность, превращаясь из двадцатилетнего парня в дряхлого старика.
Живя одно время в квартире Луначарского, с которым дружески сошёлся, принимал и там приятелей в бухарском халате, с длинной трубкой и томом Ленина в руках (говаривали — всегда открытым на одной и той же странице), а потом демонстративно переодевался в гимнастерку с тремя ромбами в петлицах. Некоторые пишут, что он был дьявольски умен, другие считают его весьма недалеким, но очень хитрым человеком. Все сходятся, однако, в том, что он испытывал сильнейшее пристрастие к деньгам, выпивке, женщинам.
Последующие события, при всём их невероятном многообразии, более-менее последовательны в хронологическом плане.
В 1922 году, после окончания сокращенного курса Академии Генерального штаба, Блюмкин становится адъютантом наркома по военным и морским делам Л.Д. Троцкого. Выполняя особо важные поручения, тесно сошёлся с наркомом. Блюмкин редактировал (если считать, что она в этом нуждалась.) первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась революция» (издание 1923 года). Троцкий писал о Блюмкине: «Революция предпочитает молодых любовников». Осенью 1923 года по указанию Дзержинского Блюмкин вновь становится сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Одновременно введён в состав Коминтерна для конспиративной работы.
Хроники гласят, что он командовал штурмом города Баграм-Тепе, захваченного персидскими войсками в 1922 году. Участвовал в пограничных комиссиях по урегулированию спорных вопросов между СССР, Турцией, Персией. Очевидно, тогда же Блюмкин, знавший восточные языки, тайно выехал в Афганистан, где пытался найти связь на Памире с сектой исмаилитов, почитавших в качестве живого бога своего лидера Ага-хана, который жил тогда в Пуне (Индия). С исмаилитским караваном Блюмкин в образе дервиша проник в Индию. Однако там он был арестован английской полицией. Из тюрьмы бежал, прихватив с собой секретные карты и документы арестованного английского агента.
По заданию председателя Коминтерна Г. Зиновьева в связи с назревавшей революцией в Германии был командирован туда для инструктирования и снабжения оружием немецких революционеров. В 1924 году работал в Закавказье политическим представителем ОГПУ и членом коллегии Закавказской ЧК. Одновременно он являлся помощником командующего войсками ОГПУ в Закавказье и уполномоченным Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Участвовал в подавлении крестьянского восстания в Грузии и антисоветского выступления чеченцев, которые, по восторженному утверждению одного из источников, «перед Блюмкиным трепетали!».
В 1926 году Я. Блюмкин направлен представителем ОГПУ и главным инструктором по государственной безопасности Монгольской Республики. Выполнял спецзадания в Китае, Тибете и Индии. В 1927-м отозван в Москву в связи с трениями с монгольским руководством и дезертирством начальника Восточного сектора ИНО Георгия Агабекова. Бежав на Запад, Агабеков рассекретил сведения о деятельности Блюмкина в Монголии, в т. ч. о совершении им убийства П.Е. Щетинкина — инструктора Государственной военной охраны МНР и секретаря партячейки.
Тема Блюмкина продолжает интересовать исследователей. В новейшей литературе появились работы А. Ильичевского, Я. Леонтьева и Д. Маркиша, посетившего пару лет назад литературный фестиваль в Одессе.
Многократно красочно описан считающийся достоверным факт пребывания Блюмкина в экспедиции Н.К. Рериха на Гималаи («поиски Шамбалы»). В книге Олега Шишкина «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж» (1999), в которой содержится более 150 ссылок на документы различных архивов, утверждается, что Яков Блюмкин под видом буддийского монаха принимал участие в центральноазиатской экспедиции Н. Рериха. ОГПУ использовало Блюмкина в качестве одного из главных координаторов Тибетской миссии по свержению Далай-ламы XIII. Попав в Лхасу, участники экспедиции должны были попытаться спровоцировать противостояние между Далай-ламой и Таши-ламой, чтобы вызвать беспорядки в Тибете и сместить неугодного СССР Далай-ламу XIII. По мнению Шишкина, главная роль в этой затее отводилась Николаю Рериху. Яков Блюмкин присоединился к экспедиции Н.К. Рериха, продвигавшейся в то время по Индии, осенью 1925 года, под видом монгольского ламы. Николай Рерих восхищался эрудицией «ламы» Блюмкина, делал неоднократные записи о нём в своем дневнике, что подтверждали в своих записях вдова Рериха Елена и его сын Юрий.
Согласно версии Шишкина, Блюмкин прошёл с экспедицией Рериха Западный Китай, а затем в июне 1926 года прибыл в Москву вместе с Рерихом. Также совместным был дальнейший путь по Тибету, где миссия по свержению Далай-ламы потерпела фиаско. Шишкин указывает, что, по воспоминаниям Н.А. Луначарской-Розенель, именно Блюмкин привёл Рериха, «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой», в гости к наркому просвещения А.В. Луначарскому. Одним из доказательств участия Блюмкина в центральноазиатской экспедиции Рериха Олег Шишкин считает фотографию из экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году. В документальной повести Шишкина на этой фотографии первый слева лама с галстуком — Яков Блюмкин. По мнению А.В. Стеценко, представителя одной из рериховских организаций, заместителя генерального директора Музея имени Н.К. Рериха, на фотографии изображен ладакец Рамзана, а не Блюмкин.
Представители различных рериховских организаций критически отнеслись к книге Олега Шишкина. В качестве одной из основ для критики используется заявление бывшего шефа пресс-центра Службы внешней разведки Российской Федерации генерала Ю. Кобаладзе. Он заявил: «Известного учёного перепутали с агентом Буддистом, и отсюда пошла вся путаница. С нашей политической разведкой Рерих связан не был. Я заявляю это официально». Не исключено, что такая категоричность связана именно с тем, что миссия Рериха планировалась и осуществлялась советскими спецслужбами.
Тоталитарные режимы испытывали необъяснимо сильную заинтересованность в секретах Шамбалы. Достаточно вспомнить секретную организацию «Аненербе», существовавшую в недрах СС. В 2000 году заместитель директора Международного центра Рерихов А.В. Стеценко встречался с Б. Лабусовым, сменившим Ю. Кобаладзе на его посту, и сообщил, что «в отличие от своего предшественника Лабусов не проявил ни малейшего желания опровергнуть измышления Шишкина, сославшись на все тот же Закон о Службе внешней разведки, который в 1993 году, когда материалы о Рерихе и его экспедиции были переданы из архива внешней разведки в МЦР, обязывал их рассекретить и сделать общедоступными». Кроме того, по его утверждению, Стеценко проверил архивы, на которые ссылается Шишкин в своих публикациях, и нашёл некоторые несоответствия.
В 1928 году Блюмкин — резидент ОГПУ в Константинополе (Стамбуле). Курирует весь Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) он занимался также организацией в Палестине резидентской сети. Блюмкин наладил через каналы ЧК вывоз и продажу еврейских манускриптов и антиквариата из СССР. ОГПУ проделало огромную работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старинных свитков Торы, текстов Талмуда. С целью изъятия старинных еврейских книг Блюмкин выезжал в наш город Одесса, в Ростов-на-Дону, в местечки Украины — Проскуров, Бердичев, Меджибож, где обследовал библиотеки синагог и еврейских молитвенных домов. Книги изымались даже из государственных библиотек и музеев. В Палестине Блюмкин наладил контакт с Леопольдом Треппером, будущим руководителем антифашистской организации и советской разведывательной сети в нацистской Германии, известной как «Красная капелла». Был депортирован английскими мандатными властями.
В следующем, 1929-м, году он находился там же, в Стамбуле (в ипостаси персидского купца Якуба Султанова), и когда там летом 1929 года появился высланный из СССР его кумир Л.Д. Троцкий, Блюмкин не замедлил посетить его. В ОГПУ поступил агентурный сигнал о том, что Блюмкин согласился передать секретное письмо Троцкого Радеку и обсуждал способы установления нелегальной связи с троцкистским подпольем в Москве. Считается, что это подтвердилось. Зная изворотливость Блюмкина, после консультации с Ягодой начальник 1-го Главного управления ОГПУ (позднее КГБ СССР) Трилиссер не стал отдавать прямой приказ о его аресте, а приказал агенту ОГПУ Лизе Горской-Розенцвейг (впоследствии — подполковник ГБ Зарубина, участник Манхэттенского атомного проекта), отбросив буржуазные предрассудки, совратить Блюмкина (хотя есть версия, что они были давними любовниками и даже вступили в брак), выяснить детали его сотрудничества с Троцким и обеспечить его возвращение в Москву. Руководил операцией нелегальный агент ОГПУ в Стамбуле Наумов (Л. Эйтингон), ставший впоследствии «ангелом смерти» Троцкого, организовавшим его убийство в Мексике. Замысел удался, и когда Блюмкин по прибытии в Москву в компании Горской был арестован, он сказал ей: «Лиза, я знаю, это ты предала меня!» А на казнь, по свидетельству Орлова, он пошел спокойно, со словами «Да здравствует Троцкий!», став, таким образом, первым большевиком, расстрелянным в СССР. Сталин ценил талантливых шпионов, мог им многое простить, только не троцкизм.
Небезынтересно, что Лизу Розенцвейг, родившуюся в Черновцах (тогда Буковина была в составе Румынии), а позже оказавшуюся в СССР, вовлекли в коммунистическое движение, а заодно и в подпольную организацию румынских красных её двоюродная сестра Анна Паукер, впоследствии министр иностранных дел социалистической Румынии, расстрелянная в начале 50-х как агент мирового империализма, и двоюродный брат Карл Паукер, парикмахер бухарестской оперетты, чудесным образом превратившийся в видного чекиста в Москве. Он возглавлял оперативный отдел ГПУ, был всесильным начальником личной охраны Сталина — самым доверенным лицом вождя в период его воцарения на советском троне и расправы с соперниками. За это благодарный Хозяин и самого Карла поставил к стенке в 1937-м. Такая семейка, такие судьбы.
В 1920-е годы Блюмкин был одним из самых знаменитых людей Советской России. Большая Советская Энциклопедия (главный редактор О.Ю. Шмидт) уделила ему более тридцати строк. Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» наделил своего героя, Наума Бесстрашного, его чертами и портретным сходством. В современных текстах о Блюмкине никто не симпатизирует ему, разве что троцкисты: слишком он не подходит к стереотипам русского, советского, или постсоветского, или еврейского, сионистского героя. При его характеристике пользуются анахронизмом «террорист», хотя в то время его бы назвали диверсантом, и это не носило бы отрицательного оттенка. Действия его вернее было бы назвать общим термином — спецоперации, а его самого — агентом спецслужб. Сама карьера Блюмкина говорит о том, что человеком он был незаурядным.
Решение «тройки», приговорившей Я.Г. Блюмкина, в архивах обнаружено, а акт о смерти отсутствует.
Все многочисленные события этой уникальной судьбы произошли с кинематографической быстротой — за какие-нибудь пятнадцать лет сознательной жизни.
К моменту расстрела во внутреннем дворе здания НКВД на Лубянке (считается, что это произошло 12 декабря 1929 года) нашему земляку Якову Блюмкину было всего тридцать лет или немногим больше…
Блюмкин, шпион, троцкист, архив, история
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью |
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью

Автор:
Сергей Миркин

Источник изображения: https://www.weekly-news.info
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью
0
Карьера многих известных политиков и особенно военачальников началась в 1918 году. Кроме того, этот год стал знаковым для авантюристов всех мастей, которые в «мутной воде» Гражданской войны чувствовали себя как в родной среде. Одним из самых ярких политических авантюристов той эпохи был Яков Блюмкин.
Его жизнь напоминает приключенческий роман. За свой недолгий век он успел побывать революционером, начальником отдела контрразведки, террористом, шпионом, эзотериком и заговорщиком. Блюмкин участвовал в убийстве немецкого посла, дружил с выдающимися литераторами начала XX века, искал загадочную Шамбалу... Он даже рискнул затеять «игру» против Иосифа Сталина, за что в результате и поплатился головой. Чтобы рассказать об этом человеке подробно, нужно написать как минимум роман. В этой же статье портал RuBaltic.Ru осветит самые значимые эпизоды жизни Якова Блюмкина.
Убийство Мирбаха
Событие, которое сделало имя Якова Блюмкина известным по всей России и даже за ее пределами, произошло 6 июля 1918 года. В этот день он вместе с Николаем Андреевым убил посла Германии в Советской России графа Вильгельма фон Мирбаха. Оба террориста входили в партию левых эсеров, которая выступала против Брестского мира, заключенного большевиками с Германией.
Эсеры считали, что заключение мирного договора с кайзером вредит делу мировой революции. Пикантность ситуации заключалась в том, что левые эсеры на тот момент были политическими союзниками большевиков, а Блюмкин и Андреев служили во Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), куда попали по рекомендации своей партии.
Но если Николай занимал незначительную должность фотографа в новосозданной спецслужбе, то Яков возглавлял германский отдел контрразведки. Также надо отметить, что на территорию немецкого посольства убийцы смогли попасть лишь благодаря документам ВЧК. Непосредственно посла ликвидировал Андреев. Блюмкин тоже стрелял, но безрезультатно, хотя вся слава досталась именно ему.
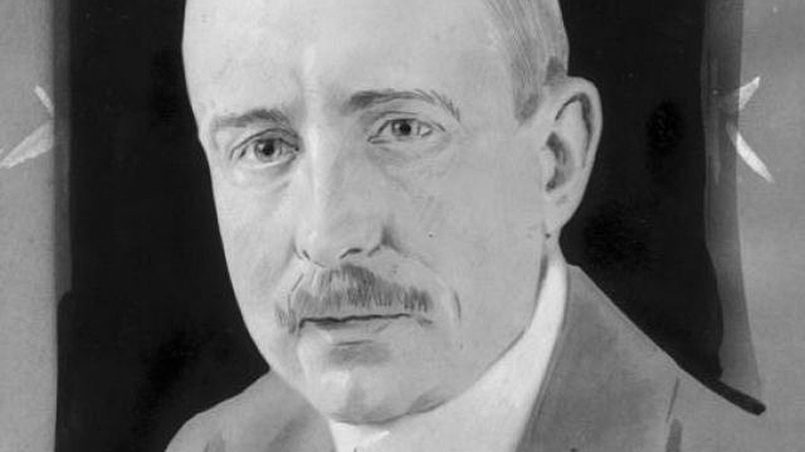 Вильгельм фон Мирбах / Источник: aif.ru
Вильгельм фон Мирбах / Источник: aif.ru
Нужно заметить, что Брестский мир воспринимался общественностью как позор России. И несмотря на то, что смерть Мирбаха не привела к денонсации договора, убийца посла в глазах очень многих людей стал героем. Есть даже исторический анекдот, подтверждающий его славу.
На одном поэтическом вечере Яков Блюмкин подошел к Николаю Гумилеву, чтобы познакомиться с ним, протянул руку поэту. Однако Гумилев проигнорировал жест Блюмкина. На что тот сказал: «Я — Яков Блюмкин». После этой фразы поэт повернулся со словами: «Я с удовольствием пожму руку убийце Мирбаха».
Но вернемся к событиям 6 июля 1918 года. Главным результатом смерти Мирбаха стало восстание левых эсеров, которые отказались выдать Блюмкина и Андреева. После того как бунт был подавлен, левые эсеры утратили политический вес, а ведь в 1917–1918 годах многие, и в частности британцы, рассматривали их как возможную альтернативу большевикам.
Германия не пошла на разрыв Брестского мира, так как сама уже была на грани поражения в Первой мировой войне. Таким образом, выгоду от убийства Мирбаха получили большевики. Во-первых, они избавились от надоевших союзников — левых эсеров. Во-вторых, убедились, что Германия для Советской России уже не представляет реальной опасности.
То, что большевики выиграли от смерти посла, породило версию, что именно они с самого начала и стояли за покушением — если не всё правительство Ленина, то конкретно руководитель ВЧК Феликс Дзержинский, который был противником Брестского мира.
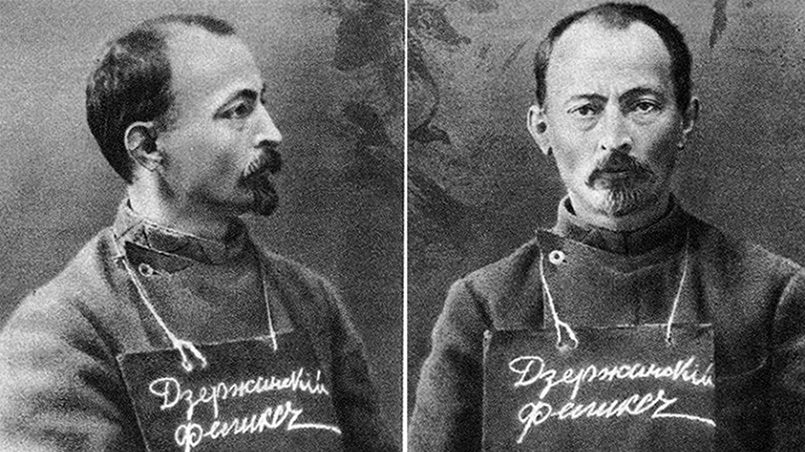 Феликс Дзержинский / Источник: si.rbth.com
Феликс Дзержинский / Источник: si.rbth.com
Косвенно о том, что убийство Мирбаха поддерживалось кем-то из руководителей большевиков, свидетельствует судьба Блюмкина. В мае 1919 года, менее чем через год после убийства посла, он пришел с повинной в президиум ВЦИК и был полностью амнистирован.
Более того, по рекомендации Дзержинского он был принят в партию большевиков. Однако ради объективности надо отметить, что это всё-таки косвенные доводы. В июле 1918 года власть большевиков держалась на тонкой нитке, а у левых эсеров были собственные вооруженные отряды, которые теоретически могли уничтожить правительство Ленина до прибытия латышских стрелков, которых 6 июля не было в Москве. Да и стопроцентной гарантии никто не мог дать, что немцы в ответ на убийство Мирбаха не начнут боевых действий против Советской России.
Думается, большевики просто грамотно воспользовались ситуацией, а не создали ее. Что же до Якова Блюмкина, то в 1919 году Феликс Дзержинский и Лев Троцкий поняли, что решительные парни на дороге не валяются. Кроме того, вероятно, что еще осенью 1918‑го, будучи на Украине, Блюмкин начал сотрудничать с большевиками.
Есенин
В качестве шпиона или разведчика — кому как нравится — Яков Блюмкин хорошо себя проявил на Украине, на Ближнем Востоке, в иранском Азербайджане. Он принимал активное участие в попытке создания государства, независимого от Персии. Однако людям нового тысячелетия Яков Блюмкин прежде всего известен благодаря двум эпизодам: во-первых, его подозревают в убийстве поэта Сергея Есенина, а во-вторых, Блюмкин вроде бы принимал участие в экспедиции художника Николая Рериха в Тибет.
Подозрения в причастности Блюмкина к убийству Есенина базируются на следующей теории: Сергей Есенин ненавидел Льва Троцкого и евреев, писал стихи, направленные против Льва Давидовича, за что Троцкий приказал верному Блюмкину убить поэта.
 Сергей Есенин / Источник: 24smi.org
Сергей Есенин / Источник: 24smi.org
Версия, мягко говоря, конспирологическая. Несмотря на сотни публикаций на тему смерти Есенина, никто так и не смог привести железобетонные доказательства, что это было не самоубийство. У поэта на тот момент был трудный период в жизни, а гении, как известно, воспринимают всё острее, чем обычные люди.
Да, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Есенин выкрикивал антисемитские и антибольшевистские лозунги и даже писал стихи, где называл Троцкого Лейбой. Но при этом он был человеком настроения: однажды поэт признался, что Лев Троцкий — единственный человек, которому бы он позволил себя высечь.
Сергею Есенину покровительствовал старый революционер, главный редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский — человек, близкий к Троцкому. Поэтому сложно сказать, как на самом деле Есенин относился к Льву Давидовичу. И даже если поэт действительно испытывал антипатию к Троцкому, достаточное ли это основание, чтобы последний отдал приказ о его ликвидации?
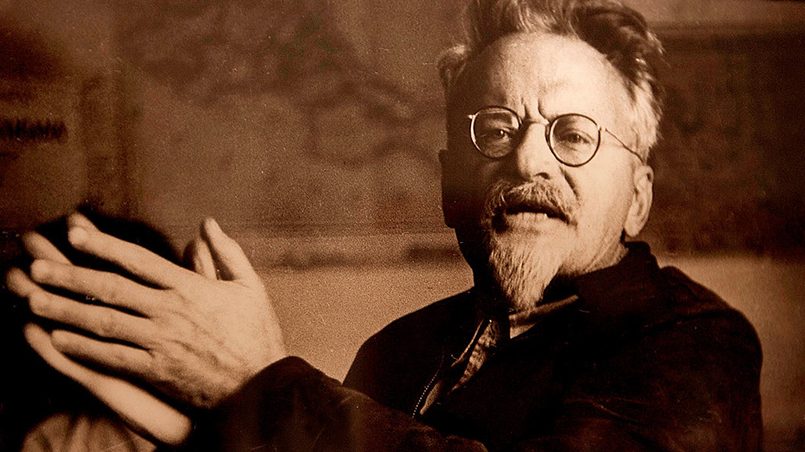 Лев Троцкий / Источник: tsargrad.tv
Лев Троцкий / Источник: tsargrad.tv
Сомнительно, тем более что в 1925 году у Льва Давидовича хватало проблем и без Есенина и, думается, он бы не стал давать Иосифу Сталину такой «козырь» во внутриполитической борьбе, как убийство Есенина. Можно предположить, что если бы Троцкий или кто-то из его людей был причастен к смерти поэта, то Сталин бы не упустил возможность обвинить в этом своего политического оппонента.
Тибет
Участвовал Яков Блюмкин в экспедиции художника Николая Рериха в Тибет или нет, доподлинно неизвестно. Однако версия такая есть. Но что могло заинтересовать советские спецслужбы в этой далекой стране в 20‑е годы? Существует теория, что в Москве хотели свергнуть пробритански настроенного Далай-ламу, правителя Тибета. Однако более вероятным кажется, что Блюмкин, также как члены немецкой экспедиции Эрнста Шефера в 1938–1939 годах, мог охотиться за тайными знаниями тибетцев.
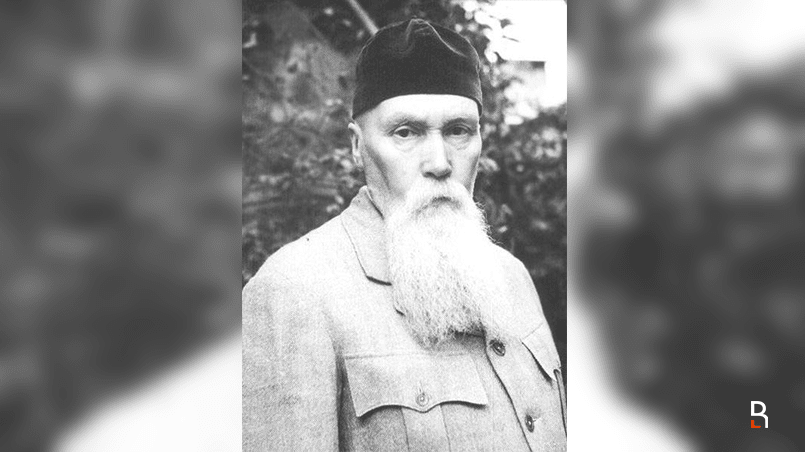 Николай Рерих / Коллаж RuBaltic.Ru
Николай Рерих / Коллаж RuBaltic.Ru
Дело в том, что с конца XIX и до середины XX века в Европе верили, что тибетские монахи владеют древними знаниями, которые можно использовать в военных целях! Например, многие западные эзотерики были уверены, что тибетцы обладают искусством управления массовым сознанием.
Также в Европе полагали, что в Тибете находится дорога в мистическую страну — Шамбалу. Конечно, в 1950 году, когда КНР захватила территорию Тибета, стало понятно, что никаких тайных знаний в военной сфере у буддийских монахов нет. Но в 1920‑е многие были уверены в обратном. Поэтому полностью исключить возможность участия Якова Блюмкина в экспедиции нельзя.
Финал и «Интернационал»
Всю свою жизнь Яков Блюмкин играл со смертью и в результате проиграл. По одной из версий, по просьбе Троцкого, когда тот уже жил в Стамбуле в эмиграции, Блюмкин провез в СССР некую книгу. Это стало известно советским спецслужбам, Иосиф Сталин не простил убийце Мирбаха контактов со своим главным политическим оппонентом. В 1929 году Блюмкин был расстрелян. По легенде, перед смертью он спел «Интернационал».
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya...ovek-kotoryy-igral-so-smertyu/
|
Метки: яков блюмкин вчк-кгб |
Падение Вавилона |
Падение Вавилона
Се жених грядет в полунощи
Entries by tag: Александр Барченко Петр Шандаровский
"ЕДИНОЕ ТРУДОВОЕ БРАТСТВО" В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ
March 5th, 23:12
ОККУЛЬТНЫЕ ВОЙНЫ НКВД И СС
автор - Антон Иванович Первушин
Мы оставили Александра Васильевича Барченко в тот момент, когда он вернулся из Лапландии в Петроград и сделал доклад об обнаруженных на севере артефактах древней цивилизации.
В 1923 году Барченко вместе с женой на некоторое время поселился в общежитии при Петроградском буддийском дацане. Здесь он пытался постигнуть основы древней науки под руководством самого Агвана Доржиева.
В этот период жизни Барченко встречает множество людей, которые познакомили его с преданием о Шамбале, значительно расширив познания Александра Васильевича по этому вопросу. Среди них стоит выделить Петра Шандаровского, монгола Хаяна (Хияна) Хирву, тибетца Нага Навена и странника Михаила Круглова. О них и пойдет речь в этой главе.
Петр Сергеевич Шандаровский был хорошо известен до революции в оккультистских кругах северной столицы как ученик и последователь Гурджиева. Сын военного сановника, он окончил юридический факультет Петербургского университета. В предреволюционные годы служил по военному ведомству (был кодировщиком в кодировальном отделе), однако свое истинное призвание видел в занятиях наукой и искусством. После революции Шандаровский читал лекции и работал художником-оформителем.
Барченко познакомился с Шандаровским совершенно случайно зимой 1922-23 года. Кондиайн в своих записках рассказывает об этом так: "Однажды зимой Ал. Вас. стоял перед витриной магазина и рассматривал узор на выставленном восточном ковре, где имелись элементы Универсальной Схемы. Рядом стоит какой-то гражданин, уже не молодой, худощавый, и тоже рассматривает этот ковер. А. В. обращается к нему: "Это вам что-нибудь говорит?" А тот рисует ногой на снегу какую-то геометрическую фигуру и спрашивает: "А это вам что-нибудь говорит?" А. В. ботинком на снегу тоже изображает какую-то фигуру. Так, обменявшись чертежами, они пошли вместе.
Шандаровский просидел с Ал. Вас. в комнате всю ночь. Наташа (жена Барченко. - А.П.) им только изредка чай приносила. Они сидели почти молча, но за ночь целую кипу бумаги цифрами исписали. Иногда из комнаты выскакивал Ал. Вас., взволнованный, восторженный. Снимал пенсне, ворошил волосы, протирал покрасневшие глаза и издавал восторженные восклицания".
Важность этой встречи состояла в том, что Шандаровский познакомил Барченко с "числовым механизмом" древней науки и с так называемой Универсальной Схемой, с помощью которой якобы можно установить местоположение центров "доисторической культуры". В дальнейшем между ними установились тесные отношения, а после того как последний поселился в дамском общежитии, стал регулярно навещать его там. Не менее важным было и знакомство Барченко с восточными учителями; некоторые из них, по его словам, "лично побывали в Шамбале".
Именно они и стали для него главным источником сведений о тантрической системе Дюнхор (Калачакра-тантре). Среди учителей Барченко был тибетец Нага Навен, являвшийся наместником Западного Тибета (провинция Нгари) и приехавший в Россию втайне от Лхасы для ведения переговоров с советским правительством. Навен сообщил Барченко ряд сведений о Шамбале как о хранилище опыта доисторической культуры и центре "Великого Братства Азии, объединявшего теснейшим образом связанные между собой мистические течения Азии".
В то время как Барченко мирно беседовал с тибетским сановником в дацанском общежитии на окраине Петрограда, в Москве полным ходом шла подготовка к отправке в Тибет группы советских эмиссаров. Поэтому Чичерин благоразумно уклонился от встречи с Нага Навеном, и последний спустя некоторое время уехал из России в Китай.
Еще одним "эмиссаром Шамбалы" в России являлся Хаян Хирва. Член ЦК Монгольской народной партии, он занимал в Монголии ответственный пост начальника Государственной внутренней охраны (монгольский аналог ОГПУ). По слухам, Хаян Хирва, узнав от дацанских лам о том, что он "разрабатывает систему Дюнхор", явился на квартиру Кондиайнов в Петрограде. О себе заявил, что хотя сам не является авторитетом в этой системе, но имеет о ней конкретное представление. Впоследствии он неоднократно встречался с Барченко в Москве и там же связался с Нага Навеном, что указывает на определенный интерес монгольского чекиста к этим двоим.
Встреча Барченко с еще одним учителем - костромским крестьянином Михаилом Кругловым - произошла весной 1924 года. Круглов вместе с несколькими членами одной из сект "искателей Беловодья" пришел пешком в Москву, где и познакомился с Барченко в одной из ночлежек (во время поездок в столицу Барченко останавливался не в гостиницах, а в ночлежных домах, поскольку там можно было встретить очень интересных людей).
В конце XIX века исследователи Центральной Азии столкнулись с еще одной удивительной легендой - о Беловодском царстве, или Беловодье, стране справедливости и истинного благочестия.
Находясь в 1877 году на берегах "блуждающего" озера Лоб-нор, севернее реки Тарим в Западном Китае (Синьцзянь), знаменитый русский путешественник Николай Пржевальский записал рассказ местных жителей том, как в эти места в конце 1850-х годов пришла партия алтайских староверов числом более сотни человек. Староверы разыскивали Беловодскую "землю обетованную". Большая часть пришельцев, не удовлетворившись условиями жизни на новом месте, двинулась затем дальше на юг, за хребет Алтынтаг, где и устроила свое поселение. Но и те, и другие в конце концов вернулись на родину, на Алтай.
Рассказ об этом хождении искателей Беловодья, записанный со слов одного из его участников Зырянова, вместе с приложенной к нему маршрутной картой всего путешествия, был впоследствии опубликован в "Записках Русского географического общества".
Беловодье - еще одна загадка центральноазиатской истории. Современные исследователи считают, что это "не определенное географическое название, а поэтический образ вольной земли, образное воплощение мечты о ней". Поэтому не случайно эту "счастливую крестьянскую страну" русские староверы искали на огромном пространстве - от Алтая до Японии и Тихоокеанских островов и от Монголии до Индии и Афганистана. Во второй половине XVIII века название Беловодье носили два поселения в Бухтарминской и Уймонской долинах юго-восточного Алтая. Сюда не доходила власть "начальства" и попов - гонителей староверов, не принявших церковной реформы патриарха Никона. Эта "нейтральная земля" между Российской и Китайской империями была включена в 1791 году в состав России. Именно тогда, как утверждает Чистов, и возникла легенда о Беловодье. Ее появление тесным образом связано с деятельностью секты "бегунов", которая является непримиримым ответвлением старообрядчества.
Первые сведения о поисках староверами заповедной страны относятся к 1825-1826 годам, а во второй половине XIX столетия (1850-1880 гг.) хождения в Беловодье приобретают массовый характер. Для нас, однако, наибольший интерес представляют сообщения о центральноазиатских маршрутах искателей Беловодья (Монголия - Западный Китай - Тибет). Сходство между христианским и буддийским преданиями впоследствии послужило поводом некоторым авторам говорить об их едином "корне". Крайне любопытен также другой факт - побывавшие в Индии и Тибете искатели Беловодья принесли оттуда в Россию какие-то элементы восточных учений, которые впоследствии были усвоены и переработаны некоторыми русскими мистическими сектами старообрядческого толка.
В письме бурятскому ученому Гомбожабу Цыбикову Барченко рассказывал о своей встрече с "искателями Беловодья" так:
"Эти люди значительно старше меня по возрасту и, насколько я могу оценить, более меня компетентны в самой универсальной науке и в оценке современного международного положения. Выйдя из Костромских лесов в форме простых юродивых (нищих), якобы безвредных помешанных, они проникли в Москву и отыскали меня, служившего тогда (в 1923- 24 г.) в качестве научного сотрудника Главнауки. Посланный от этих людей под видом сумасшедшего произносил на площадях проповеди, которых никто не понимал, и привлекал внимание людей странным костюмом и идеограммами, которые он с собой носил".
Михаила Круглова, рассказывает далее Барченко, несколько раз арестовывали - "сажали в ГПУ, в сумасшедшие дома". Однако, убедившись, что его "безумие" вполне безвредно, отпускали на свободу.
В этом же письме Цыбикову Барченко часто использует две из кругловских идеограмм. В одной из них легко угадывается написанное искаженным тибетским курсивом слово "Дюнхор", за которым следует мистический треугольник с точкой посередине - возможно, эта идеограмма соответствует по смыслу слову "Шамбала".
Круглов затем несколько раз приезжал к А. В. Барченко в Ленинград. Вот как вспоминала об этом супруга Кондиайна: "Явился к нам как-то пешком из Костромской обл(асти) мужик, Круглов Михаил Трофимыч. Неизвестно как он прослышал про Ал. Вас-а. Принес он целую кучу совершенно необычных изделий из дерева, обклеенных цветной бумагой, разными геом(етрическими) фигурами, знаками и надписями. Там была шестигранная корона, которую Михаил Трофимович надевал, в руку брал скипетр и всякие другие атрибуты, был у него и небольшой гробик.
Говорил он скороговоркой стихами, которые тут же слагал. Он жил у нас раза два недели по две и был совершенно нормальный. Бывал он в Москве в психиатрической б(ольни)це. Своим бормотанием и дерзкими выходками перед врачами и аудиторией студентов, где его демонстрировали как умалишенного, он очень ловко имитировал больного. А был он самый нормальный человек, только что говорил часто стихами. Один древний старик в Костроме научил его изготовлять эти свои изделия, а быть может, он их у него похитил. Вид у вещей был старый. И велел-де ему старец носить эти вещи и показывать людям и всегда ходить пешком.
В психиатрическую б(ольни)цу он приходил, как на постоялый двор. Его там всегда охотно принимали..."
Надеюсь, вы еще не забыли о главной теме нашего разговора? В ряду учителей Александра Барченко представлены все основные типажи, которые мы встречаем в эзотерических кругах на протяжении всей истории оккультизма. Оккультист-ученый Петр Шандаровский, политик-мистик Нага Навен, чекист-эзотерик Хаян Хирва и сумасшедший шаман-медиатор Михаил Круглов. Фактически к этим фигурантам можно свести любого исторического персонажа, о которых идет речь в этой книге. Различаются только имена и декорации - суть остается той же самой. И это весьма неприглядная суть, если вспомнить, к чему приводят попытки объединить интересы этих людей в некую государственную программу. Александр Барченко предпринял такую попытку, но она, к счастью для всех нас, не имела успеха.
* * *
Под воздействием рассказов Шандаровского о "Едином трудовом содружестве", организованном Георгием Гурджиевым, Александр Барченко решает создать тайное общество с оккультным уклоном под названием "Единое трудовое братство" (ЕТБ), главная цель которого - коллективное изучение древней науки и установление контактов с тайными центрами исчезнувших цивилизаций.
Барченко, Кондиайн и Шандаровский учредили тайное общество под названием "Единое трудовое братство" (ЕТБ). Общество возглавил сам Александр Барченко, он же написал и устав для новой организации.
Впоследствии Барченко так будет рассказывать о задачах своего эзотерического общества:
"Проповедь непротивления, христианского смирения, помощь человеку в нужде, не входя в обсуждение причин нужды, овладение одним из ремесел, работа в направлении морального саморазвития и воспитание созерцательного метода мышления - в этом я видел ближайшие функции ЕТБ, ориентирующегося на мистический центр Шамбалу и призванного вооружить опытом Древней Науки современное общество".
О структуре ЕТБ мы знаем, главным образом, из показаний самого Александра Барченко. Во главе организации находился Совет, состоявший из "отцов-основателей". Все члены Братства подразделялись на две степени - братьев и учеников. Для достижения степени брата требовалось выполнение ряда условий - "отказ от собственности, нравственное усовершенствование и достижение внутренней собранности и гармоничности". Барченко, впрочем, считал, что сам он до столь высокого уровня еще не поднялся.
Никакой обрядности в Братстве не существовало, в том числе и ритуалов посвящения. В то же время у ЕТБ имелась своя собственная символика. Символом брата служила "красная роза с лепестком белой лилии и крестом", означавшая "полную гармоничность". Знак Розы и Креста явно позаимствован у розенкрейцеров, а лилия, по утверждению Барченко, - из позднесредневековых трактатов "Мадафана" ("Золотой век восстановления") и "Универсальная сила музыки" Атанасиуса Кирхера. Символ ученика - "шестигранная фигура со знаком ритма, окрашенная в черные и белые цвета" (также взятая у Кирхера). Смысл этого символа состоял в том. что ученик должен следить "за ритмичностью своих поступков". По уставу эти знаки следовало носить "на перстне, розетке или булавке, а также иметь на окне своего жилища" - "для отыскания других посвященных в знание". Кроме того, Барченко имел личную печать, "составленную из символических знаков Солнца, Луны, Чаши и шестиугольника".
Кто входил в ЕТБ? В поздних следственных протоколах НКВД приводятся различные списки членов Братства. Сам Барченко во время одного из допросов назвал следующие фамилии: Нилус (сотрудник Академии наук), Алтухов (физик), Элеонора Кондиайн, Маркова-Шишелова, Струтинская, Королев, Шишелов (в то время оба обучались на монгольском отделении Петроградского института живых восточных языков), Николай Троньон (сов. служащий), Шандаровский. Любопытно, что в этом списке нет ни жены Барченко Наталии, ни Александра Кондиайна, ни знакомых из ЧК - Владимирова, Рикса, Отто, Шварца (не включая эту четверку в число членов ЕТБ, Барченко тем не менее называл их "покровителями Братства", хорошо осведомленными о его деятельности). Впрочем, к началу 1924 года ни один из этих "покровителей" уже не служил в ЧК. Александр Кондиайн в своих показаниях добавляет к этому списку еще несколько фамилий: Борсук, Кашкадамов, Васильев, Лопач, Лазарева, Поварнин (психолог), Никитин.
Но можно ли считать всех этих людей членами ЕТБ? Ведь следователи НКВД, без сомнения, стремились расширить "масонскую организацию" Барченко путем включения в нее как можно большего числа лиц.
В конце 1923 года Александр Барченко поселился на квартире у супругов Кондиайнов в доме на углу улицы Красных Зорь (Каменноостровский проспект) и Малой Посадской (дом 9/2). В этой добровольной "коммуналке", ставшей штаб-квартирой ЕТБ, происходило много интересного. Сюда, чтобы встретиться с Барченко, приходили именитые ученые Бехтерев и Кашкадамов, его восточные "учителя" Хаян Хирва и Нага Навен, патронировавшие Братство бывшие чекисты во главе с Константином Владимировым.
Свидетельствует Элеонора Кондиайн:
"Мы жили одной семьей или, вернее, коммуной. У нас все было общее. Мы, женщины, дежурили по хозяйству по очереди по неделе. За столом часто разбирали поведение того или другого, его ошибки, дурные поступки. Вначале мне трудно было к этому привыкнуть, но, привыкнув, поняла, как это хорошо, какое получаешь облегчение, когда перед дружеским коллективом сознаешься в своем проступке..."
Кондиайн также упоминает об экспериментах Барченко:
"Делали мы и опыты по передаче коллективной мысли. Один раз мы произвели спиритический сеанс, устроили цепь вокруг легкого деревянного столика. Он (стол) сначала стукнул ножкой, потом поднялся, т(ак) ч(то) мы все вынуждены были встать и поднять руки до уровня головы. А. В. разомкнул цепь, и стол упал на пол на свои ножки".
Сеанс этот был устроен Барченко, чтобы показать, что в спиритизме нет никакой мистики. Будучи "убежденным материалистом", он объяснял спиритические явления тем, что при сцеплении рук образуется замкнутая электромагнитная цепь.
Что же касается ответов на вопросы, якобы получаемых из потустороннего мира, то их, по убеждению Барченко, дают не духи умерших людей, а подсознание самих участвующих в спиритическом сеансе. Концентрируя свое внимание на каком-то одном предмете, люди усыпляют сознание и тем самым пробуждают подсознание.
Здесь же, в квартире Кондиайнов, Барченко оборудовал специальную лабораторию по образцу той, в которой он в 1911 году ставил опыты с N-лучами.
* * *
К концу 1924 года в жизни Александра Барченко наметился перелом.
Во время одного из визитов к нему бывших чекистов под предводительством Константина Владимирова ученый рассказал им о своем намерении посвятить в древнюю науку советских вождей и обратился за помощью - попросил свести его с кем-либо "из близко стоящих людей к руководству ВКП(б) и Советского правительства". "Покровители" откликнулись на его просьбу с готовностью. Дальнейшие события развивались приблизительно так. Барченко написал письмо главе ОГПУ и председателю ВСНХ Феликсу Дзержинскому, в котором рассказал о себе и о своей работе. Это письмо Владимиров отвез в Москву на Лубянку. Через несколько дней в Ленинград приехал заведующий секретно-политическим отделом ОГПУ Яков Агранов, который встретился с Барченко на одной из чекистских конспиративных квартир.
Агранов с интересом отнесся и к самому Барченко, и к его идеям. Впрочем, Владимирову этого показалось мало, и для того, чтобы форсировать ситуацию, он попросил Барченко написать еще одно письмо, но теперь уже на коллегию ОГПУ - еженедельное собрание начальников всех отделов. В декабре 1924 года ученый был вызван в столицу для доклада о своих научных открытиях на коллегии ОГПУ.
"Вернувшись через несколько дней в Ленинград, - вспоминал Барченко, - Владимиров сообщил мне, что дела наши идут успешно, что мне следует выехать в Москву, для того чтобы изложить наш проект руководящим работникам ОГПУ. В Москве Владимиров снова свел меня с Аграновым, которого мы посетили у него на квартире, находившейся, как я помню, на одной из улиц, расположенной вблизи зданий ОГПУ. Точного адреса я в памяти не сохранил. При этой встрече Агранов сказал мне, что мое сообщение о замкнутом научном коллективе предполагается поставить на заседание коллегии ОГПУ. Мое это предложение, об установлении контактов с носителями тайн Шамбалы на Востоке, имеет шансы быть принятым, и в дальнейшем мне, по-видимому, придется держать в этом отношении деловую связь с членом коллегии ОГПУ Бокием. В тот же или на другой день Владимиров свозил меня к Бокию, который затем поставил мой доклад на коллегию ОГПУ. Заседание коллегии состоялось поздно ночью. Все были сильно утомлены, слушали меня невнимательно. Торопились поскорее кончить с вопросами. В результате при поддержке Бокия и Агранова нам удалось добиться в общем-то благоприятного решения о том, чтобы поручить Бокию ознакомиться детально с содержанием моего проекта и, если из него действительно можно извлечь какую-либо пользу, сделать это".
Tags: Александр Барченко Петр Шандаровский
https://swinopes.livejournal.com/tag/%D0%90%D0%BB%...%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
|
Метки: яков блюмкин шамбала вчк-кгб |
Волшебная Сухарева Башня |
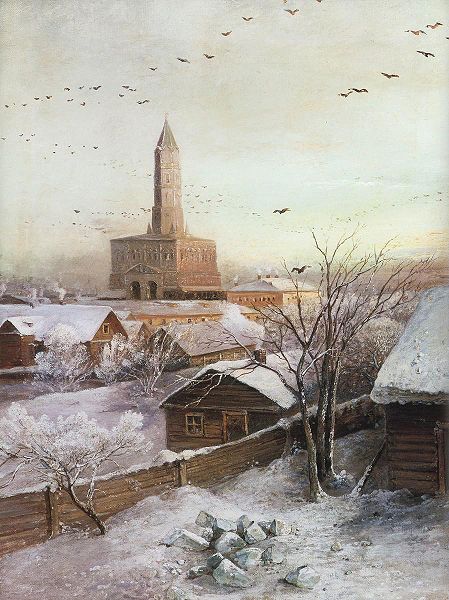
Волшебная Сухарева Башня
ФОТО ХУДОЖНИКА. Худ. А.К.Саврасов, 1872г. Сухарева башня.
Волшебная Сухарева Башня
21.06.2012
Не знаю в какое время я живу, в какой отрезок истории… все,
то что мы знаем и читаем, все в большей степени выдумка….
Нас окружает лживая история, которой не было. Нам внушаются деяния, которых не было. Нам преподносятся для подражания герои, которые были другими, как другими были и их деяния. Время нашей жизни точно не известно и не обозначено. Цифры, которыми мы пользуемся для обозначения времени, в котором живет, номинальные. Их назначение : обозначить время и дать нам понять, что история наша богатая и мы имеем четкие границы исчисления времени.
Для тех, кто хочет мыслить, а не вкушать данные плоды истории из лживых книг, хочу сообщить некоторые данные о знаменитой в истории Москвы Сухаревой башне.
Так уж случилось, что деду моему Люкману Сеид-Бурхану, помогающему делать революцию В. Ульянову, дали квартиру…рядом с Сухаревкой. Так в народе прозвали и место и башню. У нас в семье даже сохранилась старая открытка этой самой Сухаревой башни, которую застала моя мама.
Я написала про деда, что он помогал «делать революцию». Да, именно ДЕЛАТЬ. Так как любая революция – это плод магии и работа жрецов. Магов, настоящих магов, давно извели. И любое государство тщательно следит за всеми людьми, обозначенными новым словечком «экстрасенсы». Дабы не упустить настоящего мага. Пока таковых не обозначено на горизонте Мировой Сцены.
Итак, мой дед в 1922 году из Питера прибыл в Москву и получил квартиру в одном из самых мистических мест Москвы. Точнее место было больше стратегическим, чем мистическим. Район вокруг Сухаревой башни. Адрес нашей квартиры: 1-й Коптельский пер., д. 2/7 кв. 20. Двух комнатная квартира на первом этаже четырехэтажного здания, окна которой выходили во внутренний дворик. Дом представлял из себя почти квадрат, фасадом выходящий на Садовое кольцо с внешней стороны. С одной стороны дома стоял ин-т Склифасофского, с другой казармы Казакова.
Когда мы с мамой рассматривали открытку, случайно найденную мною в старых бумагах у нас в квартире, то я, как и все вокруг, спросила маму про Сухаревскую башню и просила маму показать на улице, где находилась Сухаревская башня. Мы вышли из квартиры на улицу. И я повернулась в сторону Колхозной площади. На что мама сказала мне, что это неверное направление. Сухаревская башня находилась на горе, на большом возвышении, в районе Красных Ворот. Тогда еще было советское время и для меня обозначение Лермонтовской площади именем Красные Ворота, показалось каким-то диссонансом.
Если внимательно приглядеться к картине Алексея Саврасова, написанной в 1872 г., то мы видим, что район Сухаревской башни в конце XIX века, это деревянные развалюхи дома. И только рядом с башней можно разглядеть новенькое здание, вероятно, чья-то усадьба, только недавно отстроенная. Потому что стиль постройки очень характерен для конца (именно конца) XIX века.
Когда вы рассматриваете различные старые фотографии, то очень часто на них не стоит дат, когда сделан снимок. Но, как правило, это начало XX века. Рассматривая любую старую фотографию, не хранящуюся в вашем личном альбоме, или альбоме знакомых, а выставленную на сайте или альбоме фотоснимков старой Москвы, - всегда будьте готовы к любому обману, возведенному в ранг нашей с вами истории.
О легендах, которые ходят вокруг Сухаревской башни, рассказывать можно много. Где выдумка, где реальность, трудно теперь разобраться. Но, судя по картине А.К.Саврасова, можно с уверенностью сказать, что в конце XIX века в этой части города Москвы как таковой еще не было. Как я пишу во в других своих рассказах, - Москва начала застраиваться нормальными домами, имеющими вид городских домов, только в конце XIX и начале XX. До середины XIX века Москвы практически не было. Если вы в школе хорошо учились и запомнили стихотворение «Бородино», которое начинается со строк истории Москвы:
Скажи-ка, дядя,
Ведь недаром,
Москва, спаленная пожаром,
Французам отдана?
Деревянная Москва была до тла, как знаем по истории, сожжена Кутузовым, чтобы не досталась врагу Наполеону. И дата сожжения Москвы 1812 год. С этих пор и практически по середину XIX века Москвы не было. Затем постепенно пустынное место стало застраиваться деревянными домишками. И только в конце XIX века начитается строительство тех домов, которые еще мы застали на территории Москвы, но от которых мало что осталось в настоящее время.
Итак, вернусь к Сухаревской башне. Когда построена была башня, - неизвестно. Нет башни, нет даты постройки. Все остальное выдумка. В этой статье обозначу лишь те моменты, которые нигде и никем не описываются.
Мама моя провела свое шальное предвоенное детство в воровском районе, который назывался запросто: Сухаревка. Это и Сухаревский рынок, громадный, тянущийся сверху с горы, вниз, к Колхозной площади, это и сама Сухаревская башня, это и Сухаревская площадь, с ее ответвленными тесными городскими улочками.
Район Сухаревки с 30-х годов и до 70-х годов ХХ века был опасным воровским районом. Таким он стал по спецпроекту Сталина, который огораживал особо стратегический район от нежелательных элементов. От любознательной интеллигенции в первую очередь. От искателей кладов – во вторую очередь. От заезжих гастролеров, шпионов, ищущих тайные следы…дороги в Кремль.
Башни, такие, как Сухаревская, были в первую очередь стратегическим объектом в том понимании, что из Кремля, на случай осады или бунта внутри Кремля, были тайные ходы, ведущие далеко за город. Сколько было таких башен вокруг Москвы, - это тема другой работы. А было их много, не одна. Они окружали Кремль примерно на одном расстоянии, беря Кремль в охранное кольцо. Путаниц с башнями, где какая, можно было создать легко. Здесь же рассматриваю только Сухаревскую башню. Скажу только, что почти на месте Сухаревской башни, Сталин начал возвел одну из Высоток нашей Москвы, с подземным метро.
Итак, подземный город, который проектировался вместе с построением самой Москвы, и некоторые подземелья, которые существовали еще до основных построек, это цепь единого подземного города в пределах Садового кольца. Садовое кольцо – магический круг вокруг алтаря-жертвенника Кремля.
Итак, после переезда правительства «большевиков» в 20-х годах в Кремль и решением обосноваться на новом месте, не было случайным. Они перебирались к священному месту, к сердцу России, к алтарю-Кремлю.
Сейчас уже известно из исторических свидетельств, что Ленин значился во главе государственной машины власти – номинально. Фактически, уже в 1921 г. власть захватил странный маг, хромой, сухорукий, рябой, - внешностью отмеченный печатью сверху не в лучшую сторону, - Иосиф Сталин.
Именно по замыслу Сталина особый район Москвы, который был важной и тайной точкой, соединяющей Кремль с выходами на улицы Москвы, - начал заселяться ворами, людьми, освобождающимися из тюрем. Это не был особо опасный криминальный элемент, это были в основном – воры. Начало заселения воровским элементом началось только после укрепления власти Сталина, а именно после 1925 г. Вы знаете, что Сталин долгое время провел в лагерях. Менталитет и характер жизни заключенных в тюрьмы людей был ему хорошо известен. И , как вы знаете, именно Сталин соединил работу секретных служб с криминалом, вышедшим из тюрьмы. Сталин, внедрив в криминальные структуры бандитов, своих людей, управлял криминалом и контролировал. Собственно, сегодня ничто не изменилось, разве, что идеология: в то время, Сталин таким внедрением держал под контролем бандитов и старался постепенно сводить их силу на нет. Сегодня задачи другие , как показывает практика, - личное обогащение в первую очередь. И сегодня, похоже, что руководящие элементы превращаются сами в бандитов. Так, личные интересы наживы и обогащения, изменили характер контроля криминальных структур общества.
Особенно опасным оставался вплоть до конца 70-х годов ХХ века район ул. Маши Парываевой. Проезжая мимо, по Садовому кольцу, вы не увидели бы ничего особенного. Обычное начало улицы. Но, ступив чуть дальше, вы оказывались в совершенно другой Москве. Закуточки и улочки напоминали тесные окраины бедного района. Здесь было тесно и по-домашнему. Тетки сидели на лавочках в малюсеньких палисадничках и перекидывались между собой словами. Здесь чужим нечего было делать. Сюда входить могли только «свои». Те, кто проживал. Здесь царила особая обстановка, где каждый знал всех, где все про каждого известно. Входя на улицу, вы чувствовали на себе множество злобных глаз, спрашивающих, зачем сюда пожаловал. Если видели, что чужак, то выгоняли мгновенно, не дав зайти глубже. Это было почти общежитие воровских семей. По духу напоминало улочки старой воровской Одессы (по фильмам). Я однажды случайно попала туда, когда одноклассница из 282 школы позвала меня к себе после уроков отдать учебник. В квартиру я не заходила. Видимо, было не положено. Больше там я никогда не была. Этот район настолько выбивался из общего вида московских улиц, что я была шокирована.
То, что я увидела, были только остатки от прежней Москвы 30-х годов, которую создавал вокруг Сухаревской башни Сталин. Мама рассказывала, что весь район от Красных Ворот до Цветного бульвара был страшный район. Особенно участок от Красных Ворот вниз до Шереметьевского дома. Интересен и тот факт, что свою усадьбу граф Шереметьев построил в аккурат вниз по улице от Сухаревской башни совсем близко. Больше в округе нет особняков. Не значит и это, что граф Шереметьев каким-то образом контролировал башню на рубеже XIX-XX веков? Не простой человек был граф для Москвы. Не Голицыны, не Оболенские, не Толстые, а именно Шереметьев построил свою усадьбу рядом с артефактом, рядом с Сухаревской башней.
То, что башня была своеобразным артефактом, думаю, ни у кого нет сомнения. Достаточно почитать легенды, окружающие мистикой эту башню. Судя по легенде, что в башне у алхимика Брюса были искусственные люди небывалой красоты, можно предположить, что в башне создавали новых людей, то есть занимались генетикой. Факт расположения личной лаборатории Брюса на третьем этаже башни тоже подтверждается легендами. Еще есть легенда о Черной Книге, из которой Брюс черпал свои знания. Эта книга выделяется из череды легенд о Брюсе.
В 1934 г Сталин приказал снести башню, точнее, разобрать по кирпичикам. Что и было сделано. Что искал Сталин в башне? И нашел ли? Возможно.
В нашей семье тоже хранится легенда о том, что у деда Джафара, брата Люкмана, была волшебная большая по размеру и толщине книга в кожаном переплете, закрытая на металлический замок. Мама видела эту книгу, когда ездила в родную деревню, в дом деда в Нижегородскую область. Но больше всего маме запала в душу красивейшая книга-альбом о Наполеоне. О картинах и гравюрах, об оформлении великолепного альбома, она часто вспоминала, пока мы с сестрой были маленькие. Странно, что эти две книги хранились в одном сундуке в дедовом доме.
В самые жестокие сталинские времена к моему деду приходили люди в погонах из ОГПУ и просили выйти к ним на работу. Не приказывали, а просили… Предлагали хорошие посты в специальных отделах. «Чего ты бедствуешь, выходи на работу, погоны хорошие дадим, жить будешь как человек», - уговаривали деда чекисты. Но каждый раз дед отказывался. Мама помнит таких гостей из органов три раза. Начальник милиции, которая всегда находилась рядом по Коптельскому переулку, был в почтительно-уважительном отношении к деду. В чем таком особом был мой дед специалист, я могу только догадываться. Мама ничего не помнит, что дед говорил о Сталине. Но Ленина называл «косой рыжий черт».
От Сухаревской башни, через Орликов переулок и Мясницкую улицу, ход вел напрямую в Кремль. Именно, ул. Мясницкая обозначена, как объект покупки Карлом Брюсом дома, через который он мог свободно, будучи незамеченным, подземным путем ехать в Сухаревскую башню, для работы над секретными проектами, связанными с алхимией. Только вот даты жизни Карла Брюса и покупкой дома на ул. Мясницкая, которой во время жизни алхимика не было, не совпадают. Улицы Мясницкой не было. Все дома на ул. Мясницкая это всего лишь конец XIX века. Вы были на Мясницкой? Сходите, изучите здания, посмотрите их внешний вид, загляните в подъезды, и вы поймете, что древность Москвы, той Москвы, которую мы еще застали, это плод фантазии.
Дом в Москве, в котором проживал мой дед и родилась моя мама, родилась моя дочь Мария, был построен архитектором Казаковым, учеником Баженова. Этим же архитектором были построены Казармы, которые расположены через улицу Большая Спасская. Помещения Казарм изначально предназначались, как охранный военизированный пост, на границе тайных подземных выходов из Кремля. Во времена Казакова там располагался полк особого назначения, в мое время в 70-х годах ХХ века там находились отделы Внешней разведки и другие спецподразделения, включая секретные морские. На территории Казарм мы с сестрой выгуливали наших собак. В общежитии, на заднем дворе Казарм, я и сестра брали свои первые частные уроки английского языка у жены военного. Казармы были огорожены по периметру высоким забором. Сейчас секретность сохраняется.
После того, как выехали разведчики, в Казармы заехало подразделение МВД, РУБОП. Ворота перекрыли шлакбаумом. Построили массу построек внутри за забором. Теперь войти можно только по пропуску, что говорит о том, что подразделения, расположенные там сегодня, не столь секретны, как во времена моей молодости. Тогда входить можно было свободно. Только не входил никто просто так.
Напротив Казарм через Садовое кольцо находился особо охраняемый специализированный объект, тайна которого до сих пор сокрыта в его подземельях, где говорят пытали и содержали под стражей страшного человека, которым пугали в советское время, - Л.П.Берию. Во время войны из-за крепких и высоких стен мрачного серого объекта доносились истошные вопли пытаемых людей. Это наш район. Это район Сухаревки. Объект был построен уже в конце 30-х годов. Не было нужды везти арестованного в Кремле во время совещания Берию через всю Москву, - достаточно было спуститься в подземелье, сесть в автомобиль и домчаться до тюрьмы особого назначения, на территории которой содержались высокого ранга властители.
У наших соседних улочек есть такие интересные названия, как Малая Спасская и Большая Спасская. Ничего не напоминает? Ну, конечно же, это название башни Кремля. Полагаю, что каждая башня имеет свой выход на улочки Москвы. Названия улиц по имени башен, ничего особенного, все на виду, но и все сокрыто тайной. Люди близоруки и невнимательны, люди не научились думать и анализировать. У людей свои насущные заботы, - хлеб и деньги. Так было и так будет всегда, пока есть власть на Земле.
Когда-то, уже в конце 60-х годов ХХ века, маленькие мальчишки, любопытные, как все мальчишки, через глубокие подвалы нашего дома, соединенные с соседними подвалами, попали в тайный ход подземного города, где легко обнаружили коробку старых царских золотых монет. Еле вытащив коробку из подвала, мальчишки начали шуметь и радоваться. На шум обратил внимание проходящий мимо дядка, который не долго думая, зачерпнул из коробки шапкой золотые монеты, и двинулся дальше.
Возмущенные такой наглостью взрослого дяди мальчишки, начали кричать и ругаться. 122 отделение милиции находилось совсем рядом с нами по Коптельскому переулку. Сотрудники милиции часто находились на улице, то ли курили, то ли просто дышали воздухом. На крик они прибежали быстро, через несколько минут. Дядьку с шапкой догнали и отобрали неожиданно свалившееся богатство «на голову» в шапку. Подвал обследовали насколько было разрешено. Там обнаружили красный песок, указывающий на древность сооружений и якобы, что только под Кремлем есть такой красный песок в древних слоях почвы. Подвал закрыли.
А еще через некоторое время, уже в 70-х годах, подвальные помещения под нашим и соседними домами, затопили кипятком. У нас в квартире была настоящая парная баня. Горячий мокрый воздух лез в комнаты из под пола и из остатков окон подземелья, которые находились под нашей квартирой. В квартире была парилка. Одежда мгновенно промокла. Находиться в квартире было невозможно. Было жаркое лето, можно было сидеть на улице и ждать пока перекроют кипяток, льющийся в наши подвалы. Спасибо, что эту операцию по заполнению объектов водой провели летом, а не зимой.
О Сухаревской башне наши писатели.
М.Ю. Лермонтов, 1834 г : …На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности. Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.
Через 100 лет:
Владимир Алексеевич Гиляровский, из письма дочери, 1934:
Её ломают. Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру. Все ещё розовую, как она была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом.
Жуткое что-то! Багровая, красная,
Солнца закатным лучом освещённая,
В груду развалин живых превращённая,
Все ещё вижу её я вчерашнею —
Гордой красавицей, розовой башнею…
В разрушении Сухаревской башни приняли участие два жреца того времени: Иосиф Сталин и черный раввин Лазарь Каганович, переживший всех своих соратников. Лазарь Каганович, черный жрец СССР, умер в 1991 году, проживя красивую, полную скрытых тайн, жизнь на Рублево-Успенском шоссе, внешне уйдя от политических игр. На самом деле кто знает, чем до конца своей жизни занимался, живущий в почете, черный раввин, жрец, который лично присутствовал на жертвоприношении царской семьи. По всем правилам жертвоприношения, некоторые головы были отсечены от тел и в заспиртованном виде доставлены Якову Свердлову. Сосуды и ящики для царских голов были приготовлены и привезены в Екатеринбург заранее. Именно рукой Черного Жреца ноябрьской революции 1917 г (под знаком Скорпиона) были кровью написаны кабаллистические знаки и надписи на стенах Ипатьевского дома. Ритуал проводили по всем правилам древней науки КАББАЛЫ.
Во всех разрушениях старых сооружений, хранящих память о прежней власти, о прежней России, символов другой эпохи, принимал участие лично жрец и черный раввин новой кровавой России, подготовленный заранее и присланный из-за границы, - Лазарь Каганович.
|
Метки: сухарева башня |
Старая Москва. Сухарева башня. |
Сухарева башня - выдающийся памятник русской гражданской архитектуры, стоявший по своей архитектурной ценности в одном ряду с Кремлем, его соборами, и храмам Василия Блаженного, башня являлась символом Москвы с 1695 по 1934 годы , возвышалась она пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира).
"…На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы — всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться" М.Ю. Лермонтов, «Панорама Москвы», 1834

Башня была сооружена в 1692—1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города., по инициативе Петра I по проекту М. И. Чоглокова. Название своё получила в честь Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий полк в конце XVII века охранял Сретенские ворота.
В 1689 году Пётр I бежал от своей сестры царевны Софьи в Сергиеву лавру, полк Сухарева стал на защиту Петра. В благодарность царь приказал построить на месте старых ворот новые, каменные с часами.
|
Метки: сухарева башня москва |
Разрушенная Москва - Сухарева башня |
Разрушенная Москва - Сухарева башня
7 декабря, 2007

После революции 1917 года главной целью новой власти стало преобразование мира, затронувшее все стороны жизни. На уровне конкретного города это проявлялось как в «воспитании масс» (в изменении мышления советских граждан), так и в физическом преобразовании пространства их жизни. При этом идеологические и практические задачи решались часто одновременно, без четкого разграничения чисто утопических и функциональных планов.
В Москве как в столице «нового мира» в 1920–1930-е годы шла активная «социалистическая реконструкция» городского пространства. Предполагалось активное создание новых объектов наряду с преобразованием или уничтожением существующих. При этом старое меняли или сносили из соображений «удобства» (то есть приносили в жертву новому, потому что новому безусловно отдавали предпочтение) или из чисто идеологических соображений: классовую борьбу, борьбу с инакомыслием переносили на градостроительную политику. Городская инфраструктура изменялась как из-за необходимости переустройства пространства для нужд стремительно увеличивавшегося московского населения, так и для искоренения «Москвы купеческой».
Активный снос памятников архитектуры начинается в конце 1920-х годов, а в первой половине 1930-х, когда окончательно оформляется сталинский режим, происходят основные разрушения, что объясняется начавшимся в 1930-х систематическим переустройством городского пространства. В 1931 году Москва выделяется из Московской области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу, в ней создается самостоятельная партийная организация, которую возглавляет сначала Л. М. Каганович, затем Н. С. Хрущев. Тогда же принято решение о строительстве в Москве метро, а в 1935 году выходит «Генеральный план реконструкции Москвы». При этом в постановлении о генплане значилось: «при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой по пути решительного упорядочения сети городских улиц и площадей». Из этой установки видно, что идеи полного уничтожения «московского прошлого» у московских правителей не было, однако приоритетной, безусловно, являлась новая застройка, и ради нее можно было пожертвовать «стариной».
Идеологию сноса памятников очень хорошо иллюстрируют следующие слова секретаря Московского городского комитета партии К. В. Рындина: «Старая, неподвижная Москва, Москва купеческая, с самоварами, уступила место новому мощному промышленному центру с крупным передвижением масс». На деле благоустройство прибывающих в город из деревень рабочих оставляло желать лучшего, например, в одном из документов читаем: «передать тресту для организации общежитий церкви по списку, имеющемуся в Моссовете, что должно обеспечить жилищем 1200 рабочих». Однако, судя по информационным сводкам и политдонесениям, сами москвичи были вполне довольны и своим бытом, и общей реконструкцией столицы.
Стоит отметить, что некоторые особенно скандальные сносы встречали протест даже у ведущих московских архитекторов, но к их мнению не прислушивались, а наоборот, их поведение считалось выпадом против режима:
«Тов. Орлеанский оказался в хвосте у худшей части аппарата, идеологически враждебных, реакционно настроенных специалистов. Не боролся за высвобождение из-под их влияния наиболее близких нам специалистов и в результате скатился до поддержки вылазки классового врага против социалистической реконструкции г. Москвы (поддержка протеста против решения партии и советских органов о сносе Иверских ворот)» (из протокола заседания МГК ВКП(б)).
Самое известное из снесенных зданий – Сухарева башня. Это самое известное из снесенных в Москве в 1920–1930-е годы светское сооружение, разрушение которого вызвало наибольший протест. Оно было построено в 1692–1695 годах по инициативе Петра I в стиле московского барокко. Башня находилась на Садовом кольце, на его пересечении со Сретенкой, и служила Сретенскими воротами Земляного города. Башня, построенная архитектором М.И. Чоглоковым, находилась близ Стрелецкой слободы полка Л.П. Сухарева (отсюда ее название). В нижней части Сухаревой башни были ворота и караульни, над которыми находились палаты, окруженные открытой галереей. В 1698–1701 годах над палатами надстроены еще один этаж и четырехъярусная башня, в третьем ярусе которой установлены часы. В палатах Сухаревой башни помещалась созданная Петром I Школа математических и навигацких наук, позднее переведенная в Петербург. До 1806 года в Сухаревой башне размещалась Московская контора Адмиралтейской коллегии. В начале XVIII в. в верхнем ярусе Сухаревой башни была оборудована астрономическая обсерватория, в которой вел наблюдения Я. В. Брюс. В конце XVIII в. вокруг Сухаревой башни возник рынок, просуществовавший до самого сноса башни. При постройке Мытищинского водопровода во втором ярусе Сухаревой башни был сооружен чугунный резервуар на 7 тысяч ведер, откуда вода поступала в центр города. В 1925 году в это здание был перенесен Московский коммунальный музей – предшественник современного Музея истории Москвы.

Сухарева башня. Слева - церковь Троицы в Листах
Виды Сухаревой башни:




Незадолго до сноса

Сухарева башня. Фрагмент

Сухарева башня. Фрагмент
К началу 1930-х годов в условиях увеличения количества населения невероятно усложнилась сеть трамвайных путей на площади вокруг Сухаревой башни. Через ее ворота проходила однопутная линия. Пока проезжали два-три старомодных трамвая в одном направлении, приходилось ждать вагонам, следовавшим в противоположную сторону. Одновременно планировалось расширение проезжей части на всем протяжении Садового кольца, что тоже требовало переустройства пространства «Сухаревки». Итак, в 1932 году в МГК ВКП(б) (Московском городском комитете партии) заговорили о «сломке Сухаревой башни, затрудняющей движение по Садовой улице и нормальное сообщение Сретенки и первой Мещанской улицы (нынешнего Проспекта Мира)». Возможно, конечно, башня воспринималась не только как досадная помеха на пути технического усовершенствования Москвы, но и как символ старой традиционной Москвы, что усугубляло желание московского руководства поскорее с ней разделаться.
17 августа 1933 года информация о планируемом сносе Сухаревой башни появилась в печати. Ведущие московские архитекторы были возмущены планами Мосгоркома и направили самому Сталину ряд писем, в которых объясняли, что разрушение этого памятника абсолютно недопустимо, и предлагали свои проекты по перепланировке площади, не требующие сноса башни.
«Сломка башни нецелесообразна по существу, ибо, если цель ее – урегулирование уличного движения, то этот результат с одинаковым успехом может быть достигнут иными путями, не идя по линиям наименьшего сопротивления»
(И. Э. Грабарь, И. А. Фомин, И. В. Жолтовский и др. – И. В. Сталину // Известия ЦК КПСС. 1989. №9).
Предлагался даже вариант передвижки всей башни на несколько десятков метров, на более широкую часть площади, что «освободит перекресток улиц и даст сквозное движение по всем направлениям» (К. Ф. Юон, А. В. Щусев, А. М. Эфрос и др. – И. В. Сталину // Известия ЦК КПСС. 1989. №9).
Однако увещевания архитекторов не подействовали, Сталин категорично написал Кагановичу:«Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее надо обязательно снести. Архитектора, возражающие против сноса – слепы и бесперспективны». Сталин утверждал, что «советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня».
В вопросе сноса такого важного для Москвы памятника архитектуры, как Сухарева башня, важна была и идеологическая сторона дела. Некоторые историки считают, что техническое решение задачи – сохранить башню и при этом обеспечить пропуск транспорта по Садовому кольцу – было делом значительно более сложным и трудоемким, нежели это представлялось протестовавшим против ее сноса архитекторам. В период с апреля по май 1934 года башня была разобрана. Все «строительные материалы», то есть фрагменты памятника, были переданы горотделу «для использования при замощении улиц».
В 1932 году было также принято решение учредить в Москве доску почета колхозов Московской области, на которую заносить особо отличившиеся колхозы, а также переименовать саму Сухаревскую площадь в Колхозную. Это было осуществлено уже после разрушения Сухаревой башни: в ноябре 1934 года после проведения коллективизации и подведения итогов соревнования, предложенного Всесоюзным съездом колхозников-ударников (февраль 1933 года), посреди Сухаревской площади, переименованной в Колхозную, перпендикулярно потокам городского транспорта по Садовому кольцу установили монументальную «доску почета» колхозов Московской области. Через некоторое время ее вынуждены были убрать и перенести на Самотечную площадь, потому что она, как и снесенная башня, мешала движению.
Сухарева башня в процессе разборки:





Колхозная площадь (после сноса):


|
Метки: брюс сухарева башня |
Московские легенды. Сухарева башня |
Московские легенды. Сухарева башня
- Nov. 28th, 2016 at 10:41 AM
Некогда по Земляному валу тянулись Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 метров.
Яков Вилимович Брюс, московский колдун, фигура не менее таинственная и загадочная, чем французский прорицатель Мишель Нострадамус. Шотландец на службе русских царей, он предсказывал судьбу по звездам, ставил на ноги безнадежно больных и говорят, создал эликсир вечной молодости. Он был инженером, математиком, астрономом, знахарем, топографом, военным, политиком, дипломатом. И даже колдуном – были уверены его современники. В том числе и царь Петр.
В 16 лет Брюс записался в потешные войска, которые создавал тогда Петр Первый. Молодой государь, жадно рвавшийся к знаниям, сразу выделил среди остальных просвещенного шотландца. Который, к тому же, не уступал «герру Питеру» в пьянстве и разгуле. Петр любил шотландца и прощал ему колкости в свой адрес и в адрес православной церкви.
Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе. В 1698 году Пётр, получив известия о бунте стрельцов в Москве, спешит на родину. Вместе с ним в Россию возвращается и Брюс. Фактически масонство было завезено в Россию, после этих экспедиций Петра I в Англию, в которых его сопровождал Брюс. Считается, что основателями масонства в России являются Пётр I и его соратники, — Патрик Гордон, Франц Лефорт и как мы уже знаем Яков Брюс.
Сразу после прибытия в Россию Великого посольства 1697-1698 годов, Брюс предложил воодушевленному после посещения Европы царю, спроектировать и построить первое в Москве светское учебное заведение, — школу математических и навигационных наук. Помимо прочего это здание должно было служить штаб-квартирой первой масонской ложи России, учрежденной Петром вскоре после возвращения из Англии, так называемого «Нептуного общества». Это сооружение, известное как Сухарева башня, располагалось в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспекта Мира).
В Сухаревой башне по ночам собиралось «Нептуново общество», тайный царский совет и первая российская масонская ложа, члены которой увлекались магией, чародейством и астрологией, и в которую помимо Петра I входили его приближённые, первые лица государства. Среди них были Меньшиков, Шереметьев, Голицын, Лефорт, Апраксин ну и, конечно же, Брюс. В народе шептались, что царь, окружив себя иноземцами, творит теперь с ними в башне дела «богомерзкие» и «нечестивые», общается с сатаной и занимается колдовством.
В 1701 году в Сухаревой башне Пётр I открывает Навигацкую школу, а Брюс, который являлся ближайшим сподвижником царя, открывает при этой школе первый в России научный центр. В башне проводились регулярные астрономические наблюдения, ставились различные физические и химические опыты, чертились карты, переводились иностранные и писались свои учебники и пособия. Но, в народе говорили, что в башне Брюс творит жуткие вещи, и обходили её стороной.
На последнем этаже Брюс устроил обсерваторию. Светящееся каждую ночь окно обсерватории быстро уверило москвичей в том, что дело здесь нечисто. Свечной торговец Алексей Морозов, например, утверждал, что как-то в сумерках сам видел, что из окон астронома вылетают железные птицы. И вскоре по городу прошел тревожных слух - лютеранин из Сухаревой башни общается с нечистой силой и с ее помощью превращает живых людей, чьи стоны и разносятся по окрестностям, в летающих железных драконов.
- В этой истории есть доля правды, - говорит доктор исторических наук Зинаида Татарская. - В Сухаревой башне Яков Брюс работал над созданием летальных машин. Сохранившиеся чертежи действительно напоминают чертежи современных самолетов. Эти бумаги сейчас находятся в Российской академии наук. К сожалению, часть ценных документов бесследно исчезла в тридцатые годы. По одной из версий, их выкрали немецкие шпионы и потом по чертежам Брюса фашисты сделали свои непобедимые истребители «мессершмиты».
По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать» на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…».
Но самой большой тайной чернокнижника из Сухаревки, пожалуй, остаётся его колдовская «Черная книга». Много легенд ходило вокруг этого таинственного предмета. В народе говорили, что эту книгу написал сам сатана, и называли её не иначе как «Библией чёрта», если откроет её кто-то помимо чернокнижника, которому она принадлежит, будет проклят навечно. Чернокнижнику же эта книга даёт огромную власть и тайные знания. Также ходила молва, что книга эта досталась Брюсу вместе со знаменитой и легендарной библиотекой Ивана Грозного, которую он надёжно спрятал от посторонних глаз в подземельях Сухаревой башни.
Другая легенда о магической «Чёрной книге» повествует о том, что писана она была волшебными знаками, принадлежала некогда премудрому царю Соломону ив ней записаны судьбы всех людей на земле. Книга Соломона была заговоренной, кроме Брюса её никто не мог взять в руки, она просто исчезала. Хранилась она в тайной комнате башни, вход в которую знал только Брюс. С этой книгой хотел познакомиться Петр I, но даже в присутствии самого Брюса она не далась царю в руки. Перед смертью Брюс замуровал «Чёрную книгу» где-то в Сухаревой башне, в потайной комнате на которую наложил особое заклятие, «магический замок», чтобы не попала книга и тайные знания, содержащиеся там, в руки посторонних людей.
После смерти Брюса легендарную книгу якобы пытались разыскать многие, а Екатерина II даже заставила разобрать стены в части комнат башни. Но книгу тогда так и не нашли. Брюс пугал москвичей и после смерти. Его тело уже было погребено в склепе у лютеранской кирхи Св. Михаила в Немецкой слободе, но каждую ночь в обсерватории по-прежнему загорался свет. Москвичи говорили, что это дух колдуна охраняет свою магическую книгу.
Следующую масштабную попытку найти книгу, по слухам, предпринял сам Сталин. Произошло это событие в 1934 году, когда по решению советского правительства башню было решено снести, так как якобы она мешала движению транспорта. Несмотря на протесты многих архитекторов, к сносу приступили немедленно и с необычной спешностью. Явная надуманность причины сноса этого редчайшего памятника архитектура Петровской эпохи, и то, как происходил сам снос, вызвало массу сплетен. Сухареву башню не взорвали, как это происходило в те времена со многими другими сооружениями и храмами, пошедшими под снос, а разобрали, буквально по кирпичику.
За разборкой башни наблюдал лично Лазарь Каганович, а все выезжающие с объекта машины и всех выходящих людей обыскивали сотрудники НКВД. Вывод напрашивался сам собой, — там явно что-то искали, что-то очень важное. И нашли. Но увы, среди различных рукописей, книг, манускриптов, эзотерических трудов, принадлежавших Брюсу, а также приспособлений и механизмов, алхимической утвари и чертежей не было самого главного, «Чёрной книги».
Разгневанный тиран отдал приказ взорвать останки башни. Присутствовавший при уничтожении архитектурного памятника Лазарь Каганович потом говорил Сталину, что видел в толпе высокого, худого человека в парике, которые погрозил ему пальцем, а потом испарился. Но некоторые научные труды Брюса вождь всех народов все-таки нашел и использовал их при строительстве современной Москвы.
Определить место, где стояла Сухарева башня, можно по фотографиям ниже. Трёхэтажный дом справа практически не изменился.
Вот этот дом крупным планом. Узнать его легко по сталинской символике.
А ниже мы видим расположение Сухаревой башни по отношению к больнице Склифосовского (Шереметьевской больнице). Прямо перед нами бурлит Сухаревский рынок, воспетый Гиляровским.
А так больница и рынок выглядели с верхушки Сухаревой башни. Перед нами Садовое кольцо, справа Сретенка, слева проспект Мира (их не видно).
Больница Склифосовского с тех пор почти не изменилась.
Другие московские легенды:
Голосов овраг
Подземелья в Коломенском
Меншикова башня
Усадьба колдуна Брюса «Глинки»
Дом колдуна Брюса
Сухарева башня
Дом Пашкова
Дом Стахеева
|
Метки: брюс масонство сухарева башня |
Иван Васильевич Столяров |
РРФ Иван Васильевич Столяров
Нет портрета
| Отец |
|---|
| Василий * 2-я треть XIX в. |
| Древо рода |
| Предки |
| Цепь родства |
18.04.1885 – 21.04.1938
эсер; член БО; расстрелян
|
Метки: столяровы |
Сухарева башня |
55°46′22″ с. ш. 37°37′56″ в. д.HGЯO
Сухарева башня
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Башня | |
| Сухарева башня | |
|---|---|
 Сухарева башня на открытке 1927 года |
|
| 55°46′22″ с. ш. 37°37′56″ в. д.HGЯO | |
| Страна |  Россия Россия |
| Город | Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь |
| Архитектурный стиль | барокко |
| Автор проекта | Михаил Иванович Чоглоков |
| Дата основания | 1701 |
| Строительство | 1692—1695 годы |
| Дата упразднения | 1934 год |
| Высота | 64 м |
| Состояние | утрачена |
 Сухарева башня на Викискладе Сухарева башня на Викискладе |
|
Су́харева башня — памятник русской гражданской архитектуры, построенный в 1695 году в Москве по проекту Михаила Чоглокова на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира). Была разрушена в 1934 году в рамках Генеральной реконструкции Москвы[1][2]. В настоящее время ведутся разговоры о восстановлении башни на старом фундаменте или неподалёку от изначального места[3].
Содержание
История[править | править код]
Строительство[править | править код]
В конце XVII века у Сретенских ворот находился стрелецкий полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева. Когда Пётр I в 1689 году бежал в Троице-Сергиеву лавру от царицы Софьи, желающей свергнуть младшего брата с престола, полк последовал за ним. По одной версии, Сухарева башня была построена Петром в 1692—1695 годах в награду за их верную службу. По другой версии, он решил таким образом ознаменовать своё избавление от грозившей ему опасности[4][5]. Проект был разработан Михаилом Чоглоковым, строителем Арсенала в Кремле. Башню возводили в два этапа. Сначала построили два первых яруса: перестроенные в камне Сретенские ворота и палаты над ними. В одной из них, которая называлась «рапирной», обучали фехтованию. В других палатах располагалась «полковая изба» стрельцов Сухарева. Над перекрытием находился постамент шатра, а на нём боевые часы. Постамент украшали четыре остроконечные башенки, похожие по форме на надстройки Троицкой и Спасской башен Кремля. Позади ворот, по направлению к 1-й Мещанской улице, к башне была пристроена часовня с кельями, отданная в ведение Перервинского монастыря[1][6][7][8].
В 1698—1701 годах, когда Пётр I вернулся из Европы, башню реконструировали и выстроили третий ярус. С востока было пристроено крыльцо в два лестничных марша. После окончания строительства здание достигло 64 метра в высоту и 40 метров в ширину. Считается, что архитектура башни была позаимствована у ратуш в Голландии или Германии. Её общий вид должен был напоминать корабль с мачтой: галереи второго яруса образовывали верхнюю палубу, восточная сторона — нос, а западная — корму[5][9][6][7].
Использование[править | править код]
Иллюстрация в журнале «Нива», 1870 год
Сухарева башня, 1884 год
Вид Сухаревой башни на Садовой с улицы Сретенки, 1900-е годы
Сухарева башня на дореволюционной открытке.
В 1701 году третий ярус башни заняла Школа математических и навигацких наук, где обучались 500 человек[10]. До 1706-го она находилась в ведении Оружейной палаты, затем перешла под контроль Приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. Руководителем школы стал учёный Яков Брюс, который на одном из последних этажей башни основал первую в России астрономическую обсерваторию. По легенде, там собиралось тайное «Нептуново общество», возглавляемое Францом Лефортом. Также существует предание, что в основании башни была спрятана «чёрная книга» Брюса, способная дать неограниченную власть[11][12]. Здесь же находились астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранился голландский медный глобус семи футов в диаметре — подарок царю Алексею Михайловичу от Генеральных штатов Голландии, перенесённый из колокольни Ивана Великого. Башню отапливали голландские печи, однако они не справлялись с холодом, поэтому в 1706 году ученики обратились к царю с прошением о переводе школы. В 1712-м Сухарева башня загорелась и Навигационную школу временно разместили в Меншиковой башне. В 1715 году школу перевели в Петербург, а Сухареву башню заняла Адмиралтейская контора, заготовлявшая в Москве продукты и материалы для Балтийского флота. В ней также находилась московская школа под руководством Леонтия Магницкого, закрытая в 1752-м[4][13][14][15][16].
В 1733 году Адмиралтейская контора донесла в Сенат о повреждениях Сухаревой башни. Было сказано о протечках, плесени, обвалах. После этого в рапирном зале разобрали крышу и своды, сделали накатные деревянные потолки. На месте уничтоженного простенка была устроена арка[17][18]. В 1751 году по приказу архитектора Дмитрия Ухтомского крыша была покрыта черепицей. Однако через шесть лет она частично обвалилась, а под ней опустились деревянные стропила. В 1760-м черепичную крышу заменили железной[19].
В начале XIX века в башне вновь был проведён ремонт, в результате которого на втором этаже сделали лестницы из белого камня, а из рапирного зала на крышу установили деревянную лестницу. Пожар 1812 года уничтожил вокруг башни ветхие деревянные постройки и архивы Морского ведомства. В том же году у Сухаревой башни был организован воскресный Сухаревский рынок[20][4].
В 1829-м в зале второго этажа устроили резервуар Мытищинского водопровода, вмещающий 6500 вёдер воды, которая накачивалась паровыми машинами из Алексеевской водокачки, а затем подавалась в уличные фонтаны и бассейны[21]. Посетивший Москву в конце 1830-х годов маркиз де Кюстин назвал башню одной из лучших достопримечательностей города[22].
В 1834 году Михаил Лермонтов писал о башне:
На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться[23].
В 1859 году башня перешла в управление IV округа путей сообщения, а с 1871-го — в ведение города[21]. В том же году началась её реставрация под руководством архитектора Александра Обера. Были отремонтированы крыши, потолки, облицовка башни. Со стороны Мещанской улицы сделали новые пилястры, карнизы, исправили белокаменные украшения у окон[24]. С устройством в 1892 году Крестовских водонапорных башен вода в Сухареву башню перестала подаваться, а в начале 1900-х годов были разобраны резервуары[21]. Следующий большой ремонт провели в 1897—1899 годах. За этот период были сделаны стоки для дождевой воды, железную крышу столба и четырёх башенок заменили разноцветной черепицей, также установили новые часы[25].
Перед войной 1914 года в башне находились следующие учреждения: склад Городского архива в западных залах третьего этажа, средний, рапирный зал и второй этаж пустовали из-за разрушений, произведённых при ликвидации резервуаров. В восточной части нижнего этажа с 1899 года стоял электрический трансформатор для освещения часов в Сухаревой башне, а с 1910-го — компрессорная станция. В западной половине находились канцелярия I Мещанского попечительства о бедных, часовня Перервинского монастыря с кельями, контора смотрителя Сухаревой башни. Помещения под наружной лестницей сдавались в аренду для торговли[26][27].
После революции 1917 года все учреждения, кроме нижнего этажа, занятого трансформаторами МОГЭС и Горьковской железной дороги, были ликвидированы. В 1918-м с башни сбили орлиный герб, созданный при Петре I[17][27].
3 января 1926 года в башне был открыт Московский коммунальный музей, ранее находившийся в доме № 3 по Театральному проезду. Его директором назначили историка Петра Сытина. Перед этим башню отремонтировали, а также соединили западную половину первого этажа и второй этаж, на котором сделали раздевалку, архив и склад музея. В башне также заложили новые двери и окна. Стены и своды выкрасили клеевой краской, полы покрыли дубовым паркетом. Были отремонтированы кровля и разрушившиеся части украшений фасадов. Взамен голландских печей было устроено водяное отопление. Ремонтные работы проходили под наблюдением инженеров А. Ф. Зябкина и Э. В. Кнорре и архитектора Зиновия Иванова. Реставрация обошлась в 150 тысяч рублей[4][13][28]. В том же году специалисты признали Сухареву башню памятником архитектуры[27].
Снос башни[править | править код]
Сдвоенный наличник Сухаревой башни в стене Донского монастыря, 2010 год
Сухарева башня, 1931 год
Сухарева башня на картине Саврасова 1872 г.
В 1931 году был разработан план Генеральной реконструкции Москвы, согласно которому планировалось расширить центральную часть города. Сухарева башня, по мнению советского руководства, мешала развитию транспортной магистрали, поэтому её было решено снести. Газета «Рабочая Москва» 17 августа 1933 года опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», в которой говорилось, что через два дня приступят к сносу башни и к 1 октября очистят Сухаревскую площадь[29]. На защиту башни встали художник и искусствовед Игорь Грабарь, академики архитектуры Иван Фомин и Иван Жолтовский. Они написали Иосифу Сталину и секретарю Московского комитета ВКП(б) Лазарю Кагановичу письмо с объяснением важности сохранения Сухаревой башни:
Сухарева башня, есть неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру и всюду одинаково высоко ценимый. Несмотря на все новейшие достижения техники, она все ещё не утратила своего громадного показательного и воспитательного значения для строительных кадров. Мы <…> решительно возражаем против уничтожения высокоталантливого произведения искусства, равносильного уничтожению картины Рафаэля. В данном случае дело идет не о сломке одиозного памятника эпохи феодализма, а о гибели творческой мысли великого мастера[24].
Авторы письма также предлагали разработать проект реконструкции Сухаревской площади, который позволил бы оставить башню. Вскоре архитектор Иван Фомин представил проект сохранения башни при организации кругового движения по площади, а инженер Владимир Образцов разработал техническое обоснование передвижки башни на случай, если будет признано, что нельзя сохранить её на старом месте[30][31].
4 сентября того же года, выступая на совещании московских архитекторов, Каганович обвинил защитников башни в классовой борьбе:
 |
В архитектуре у нас продолжается ожесточенная классовая борьба… Пример можно взять хотя бы из фактов последних дней — протест группы старых архитекторов против сноса Сухаревой башни… Характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что все эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами — в попытках обвинить советскую власть в вандализме[13]. |  |
18 сентября 1933 года из Сочи Иосиф Сталин и Климент Ворошилов направили Кагановичу телеграмму с поддержкой решения снести башню:
Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к выводу, что её надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, — слепы и бесперспективны[31].
20 сентября в ответном письме Сталину Каганович просил разрешения повременить со сносом башни в связи с обещанием, данным архитекторам. Он писал: «Я не обещал, что мы уже отказываемся от ломки, … Если Вы считаете, что не надо ждать, то я, конечно, организую дело быстрее, то есть сейчас, не дожидаясь их проекта»[32].
Несмотря на протесты 16 марта 1934 года Центральный комитет ВКП(б) одобрил предложение Московского комитета партии о сносе Сухаревой башни. В том же году Московский коммунальный музей был переведён в церковь Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади[4][33]
|
Метки: брюс сухарева башня |
Иоффе Абрам Федорович |
Иоффе Абрам Федорович
российский и советский физик. 1880–1960
Родился в городе Ромны Полтавской губернии в 1880 году в семье купца второй гильдии Файвиша (Фёдора Васильевича) Иоффе и домохозяйки Рашели Абрамовны Вайнштейн.
Он окончил Роменское реальное училище в 1897 году и поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Абрам получил диплом инженера-технолога и решил продолжить обучение. В 1902 году он едет в Мюнхен к Рентгену. Лаборатория ученого поразила его. Он задержался там до 1906 года. В 1905 году он окончил Мюнхенский университет и получил степень доктора философии. Он работал ассистентом на кафедре физики, а потому мог остаться там. На родину он вернулся в 1906 году и стал старшим лаборантом в Санкт-Петербургском политехническом институте. Он защитил магистерскую, а позже и докторскую диссертацию.
В 1911 году принял лютеранство для вступления в брак с нееврейкой.
В 1913–1915 годах его избрали профессором физики, он работал в Политехническом институте, а также читал лекции по термодинамике в Горном институте, по физике – в университете на курсах Лесгафта. Учить других Иоффе нравилось не меньше, чем учиться самому.
Профессор с 1913 года. В 1915 году Иоффе за исследование упругих и электрических свойств кварца присвоили степень доктора физики.
Крупнейшей заслугой А.Ф. Иоффе является основание уникальной физической школы, которая позволила вывести советскую физику на мировой уровень. Первым этапом этой деятельности была организация в 1916 году семинара по физике. К участию в своём семинаре Иоффе привлёк молодых учёных из Политехнического института и Петербургского университета, которые вскоре стали его ближайшими соратниками при организации Физико-технического института.
В 1918 году Абрам Федорович создает физико-технический отдел Рентгеновского института. Из него позже вырос знаменитый Физико-технологический институт. По инициативе Иоффе, начиная с 1929 года, были созданы физико-технические институты в крупных промышленных городах: Харькове, Днепропетровске, Свердловске и Томске. За глаза и ученики, и другие коллеги с любовью и почтением называли Абрама Фёдоровича «папа Иоффе». Абрам Федорович уже тогда верил в великое будущее физической науки. Он был убежден, что для развития исследований нужно желание, нужны молодые и талантливые ученые, хорошие лаборатории.
Всё это время он вел научную работу. Он подтвердил атомное строение электрического заряда. С 1918 года член-корреспондент, с 1920 года – действительный член Академии Наук.
В 1919–1923 годах – председатель Научно-технического комитета петроградской промышленности, в 1924–1930 годах – председатель Всероссийской ассоциации физиков, с 1932 года – директор Агрофизического института.
Иоффе совместно с Кирпичёвой впервые выяснил механизм электропроводности ионных кристаллов (1916–1923 годы).
Совместно с Кирпичёвой и Левитской в 1924 году получил важные результаты в области прочности и пластичности кристаллов. Было также показано, что прочность твёрдых тел повышается в сотни раз при устранении поверхностных микроскопических дефектов; это привело к разработке высокопрочных материалов (1942–1947 годы). В исследованиях Иоффе разработан рентгеновский метод изучения пластической деформации.
В 1931 году Иоффе впервые обратил внимание на необходимость изучения полупроводников как новых материалов для электроники и предпринял их всестороннее исследование. Им (совместно с А.В. Иоффе) была создана методика определения основных величин, характеризующих свойства полупроводников.
В 1933 году получил звание заслуженного деятеля науки. В 1934 году по инициативе Иоффе и некоторых других ученых был создан Дом учёных в Ленинграде.
Исследование Иоффе и его школой электрических свойств полупроводников в 1931–1940 годах привело к созданию их научной классификации. Эти работы положили начало развитию новых областей полупроводниковой техники: термо– и фото-электрических генераторов и термоэлектрических холодильных устройств.
В начале Отечественной войны назначен председателем Комиссии по военной технике, в 1942 году – председателем военной и военно-инженерной комиссии при Ленинградском горкоме партии. В 1942 году удостоен Государственной премии за исследования в области полупроводников.
В декабре 1950 года, во время кампании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был снят с поста директора и выведен из состава Учёного совета института. В 1952 году возглавил лабораторию полупроводников АН СССР. В 1954 году на основе лаборатории организован Институт полупроводников АН СССР.
Иоффе вошел в историю науки и как организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики». Надо отметить, что большая часть физиков из России XX века, оставивших в науке след, косвенно или прямо – ученики «папы Иоффе» или ученики его учеников. Важнейшая заслуга Иоффе – создание школы физиков, из которой вышли многие крупные советские учёные: А.П. Александров, Л.А. Арцимович, П.Л. Капица, И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, П.И. Лукирский, Н.Н. Семёнов, Я.И.Френкель и др. Уделяя много внимания педагогическим вопросам, организовал новый тип физического факультета – физико-технический факультет для подготовки инженеров-физиков. Он был Учителем с большой буквы.
Иоффе был очень общительным и открытым мужчиной. Он был в дружеских отношениях со многими учеными Европы, США. Он был Героем Социалистического Труда, почетным академиком академий наук многих стран мира.
А.Ф. Иоффе скончался в своём рабочем кабинете 14 октября 1960 года. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Материал создан: 14.07.2015http://www.iamruss.ru/persona-16/
|
Метки: наука иоффе |
Яков Блюмкин: легенда ОГПУ |

Яков Блюмкин: легенда ОГПУ
28.11.2012
Имя Якова Блюмкина прежде всего ассоциируется с убийством немецкого посла Мирбаха в июле 1918 года. Однако это только один, пусть и яркий, эпизод его незаурядной жизни. И наиболее загадочной ее страницей, несомненно, является экспедиция, организованная Блюмкиным для поисков легендарной и загадочной страны Шамбала.
Двуликий Яша
Яков Блюмкин
Хотя до нас дошло несколько фотографий Якова Блюмкина, человек, изображенный на них, столь разнолик, что утверждать, будто это одно и то же лицо, довольно трудно. Разнятся в своих описаниях его внешности и современники. И ладно цвет волос – в конце концов перекраситься никогда трудно не было, – но и в описании роста, лица, фигуры современники расходятся.
Так, поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала о «мордатом и низкорослом» чекисте, с которым познакомилась у Мариенгофа. А в прошлом троцкист и один из преподавателей Академии генерального штаба Виктор Серж говорил о «тонком и аскетичном профиле Блюмкина, напоминавшем лицо древнееврейского воина».
Надежда Мандельштам описывала «низкорослого, но ладно скроенного чекиста». А Лиля Брик, некоторое время дружившая с единственной официальной женой Блюмкина, Татьяной Файнерман, вспоминала «довольно высокого и рано оплывшего юношу».
Талантливый подлец
Симха-Янкель Блюмкин родился в марте 1898 года в Одессе, по другим данным, – в местечке Сосница Черниговской губернии. Он был пятым ребенком Герши Блюмкина, служившего приказчиком в небольшом магазине на Молдаванке.
Когда Яше было шесть, отец умер, и мать, без того с трудом сводившая концы с концами, отдала его в Первую одесскую Талмудтору, где преподавали не только Библию, иврит, русский язык, но и гимнастику. Уже в 20-е годы на спор с одним из своих знакомых Блюмкин сделал три сальто подряд. На вопрос же о том, зачем ему это надо, ответил, что гибкое и натренированное тело способствует изворотливости ума. Так это или не так, каждый решает самостоятельно, но то, что сам он отличался умом изощренным, несомненно.
Так, уже после начала Первой мировой войны, подрабатывая в конторе некоего Пермена, он наладил подделку документов, необходимых для освобождения от призыва. Когда это выплыло наружу, Яша заявил, что делал это по приказу хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд, но тот, к удивлению многих, Блюмкина оправдал. Оказалось, что, узнав о неподкупности судьи, Яков послал ему какое-то подношение с вложенной в него визиткой своего начальника. Возмущенный столь откровенной взяткой судья и вынес оправдательное решение.
Когда об этом стало известно Пермену, он возмутился, но потом дал Блюмкину характеристику, которой тот гордился: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый».
«Чистые руки революции»
Фразе Дзержинского о «холодной голове, горячем сердце и чистых руках» чекист Блюмкин предпочитал ленинский лозунг «грабь награбленное».
В феврале 1917 года он вступил в партию эсеров, в которой уже состояли его брат Лев и сестра Роза. В январе 1918 он принял участие в установлении Советской власти в Одессе, а в апреле того же года стал уже начальником штаба 3-й украинской армии. При этом деловые качества молодого человека вызвали такое доверие командования, что именно ему, неофиту от революции, поручили изъятие золота из отделения государственного банка в Киеве.
С поручением Яков Григорьевич справился, экспроприировал 4 миллиона золотых рублей, но в штаб армии передал на полмиллиона меньше. Когда же от него потребовали отчет о пропавшем золоте, никому не сказавшись, бежал в Москву, где руководство партии эсеров рекомендовало его для работы в ЧК. Трудно сказать, какие именно качества Блюмкина расположили к нему Феликса Дзержинского, но вплоть до своей смерти в 1926 году он помогал ему выпутываться из самых, казалось, безвыходных ситуаций. Чего стоит то же убийство Мирбаха?
Немецкого посла к убийству приговорил ЦК левых эсеров. Они рассчитывали, что после этой акции Германия разорвет Брестский мир, начнет военные действия с Россией, а возмущенные этим немецкие народные массы свергнут кайзера, и рабоче-крестьянская революция постепенно охватит всю Европу. Блюмкин сам вызвался привести приговор в исполнение. С помощью заместителя Дзержинского, члена партии левых эсеров Вячеслава Александрова, он выправил мандат для посещения посольства и 6 июля 1918 года метнул в Мирбаха бомбу.
Казалось, карающий меч революции должен неминуемо настичь предателя. Но меньше чем через год, который Блюмкин провел на Украине, 16 мая 1919 года он был амнистирован. И инициатором этой амнистии выступил… Дзержинский.
9 жизней бедного еврея
Покровительство Дзержинского не осталось незамеченным руководством партии левых эсеров. С одной стороны, они пытались таким образом разорвать и без того шаткий Брестский мир. С другой – Блюмкин отсиживался в Киеве, а эсеры стали первыми жертвами террора, развязанного большевиками. Естественно, у тех из них, кто еще оставался на свободе, появились сомнения: не был ли Блюмкин, больше других выступавший за убийство Мирбаха, провокатором, подыгравшим ЧК? На Якова объявили охоту.
Разыскав его в Киеве, эсеровские боевики пригласили Блюмкина за город якобы для того, чтобы обсудить линию поведения в новых условиях. Там в него выпустили восемь пуль, но Блюмкину удалось скрыться.
Через несколько месяцев изменившего внешность Блюмкина два боевика обнаружили сидящим в кафе на Крещатике. Расстреляли оба револьвера. Истекая кровью, Яша упал, но… остался жив.
Разочарованные эсеры отыскали его и в больнице. Не доверяя больше стрелковому оружию, они бросили в окно палаты, где Блюмкин лежал после операции, бомбу, но за считанные секунды до взрыва тому удалось выпрыгнуть в окно и… остаться живым.
Через несколько лет, находясь с друзьями в «Кафе поэтов», Блюмкин заявил, что всего на него было совершено восемь покушений. Выдержав театральную паузу, он добавил: «И не убьют! У каждого еврея девять жизней, и пока я все их до конца не проживу, умирать не собираюсь!»
«Дорогой товарищ Блюмочка»
Блюмкин был знаком со многими известными литераторами молодой советской республики. Среди них Владимир Маяковский
Неизвестно, откуда Блюмкин взял, что у еврея должно быть девять жизней, но жить он любил с размахом. Его квартира в Денежном переулке (в одном доме с Луначарским, напротив того самого посольства, где был убит Мирбах) напоминала склад антиквариата и разного рода раритетов. Картины передвижников, изделия Фаберже, редкие книги, мебель… При этом для каждой вещи он находил (выдумывал?) свою историю. Так после командировки в Монголию, куда он был послан для организации местной контрразведки, но откуда Берзиным был отозван, у него появилось старинное кресло, которое якобы принадлежало монгольским ханам.
После поездки на Ближний Восток, где Блюмкин (по легенде, торговец книгами) занимался созданием первой советской резидентуры, в его библиотеке появились древние еврейские манускрипты. Злые языки утверждали, что до того эти книги находились в хранилище Ленинской библиотеки и были изъяты оттуда, чтобы «легенда» выглядела правдоподобно.
Но наибольшее удовольствие Блюмкин получал от общения. Убийство немецкого посла вовсе не сделало его изгоем, а наоборот, придало облику обычного прохиндея ореол романтизма. А женитьба на довольно бойкой дочери известного толстоведа Тенеромо – Татьяне Файнерман – ввела в круг революционной богемы. Среди знакомых Блюмкина в двадцатые годы были Гумилев, Шершеневич, Мандельштам, Маяковский… Последний одну из книг надписал: «Дорогому товарищу Блюмочке от Вл. Маяковского». Даже Горький однажды изъявил желание с Блюмкиным познакомиться. Есенину Блюмкин как-то заявил: «Мы с тобою оба террористы. Только ты от литературы, а я от революции». Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» вывел его в образе Наума Бесстрашного. Впрочем, среди поэтов первых советских лет труднее назвать того, кто не посвящал Блюмкину своих стихов. Тот и сам себя считал неплохим литератором.
Болтун и революционер
Хотя мы и привыкли к образу революционера как пламенного трибуна, одухотворенного идеей, таковых среди них было не так уж много. Блюмкин же, без сомнения, был человеком вербальным. И его рассказы, в которых реальные события переплетались с фантазией, давали окружающим ощущение сопричастности великому делу больше, нежели даже свое собственное участие в революции.
Однако чрезмерная болтливость популярного чекиста представляла и несомненную опасность. Основательница Детского музыкального театра Наталья Ильинична Сац до конца своих дней была уверена, что в смерти ее сестры Нины повинен именно Блюмкин. Девушка, писавшая восторженные стихи, без ума влюбилась в него. Когда же тот ее бросил, последовала за ним в Крым и была обнаружена убитой на пляже. Сац считала, что Блюмкин в период близости с ее сестрой наговорил лишнего и, испугавшись последствий, расправился со свидетелем.
Шамбала
Однако при всех своих недостатках Блюмкин до поры и времени молодым советским спецслужбам был нужен. Его авантюризм и, главное, бесшабашность были теми качествами, которые помогали добиваться успеха в, казалось совершенно безвыходных ситуациях. Чего, например, стоит одна персидская авантюра…
Но вершиной его деятельности, несомненно, стала экспедиция для поисков легендарной страны Шамбалы
В июне 1920 года его в качестве всего лишь наблюдателя отправляют в Иран. Но собирать информацию и писать ежедневные донесения в Москву показалось Блюмкину скучным, и он, блефуя и выдавая себя за ближайшего соратника Троцкого и Дзержинского, всего за четыре месяца (!) устроил государственный переворот, привел к власти Эхсанулл-хана, создал коммунистическую партию и, посчитав, что с поручением справился, вернулся в Москву. За эту операцию Блюмкин был награжден орденом Красного Знамени и зачислен в Академию Генерального штаба РККА.
Но вершиной его деятельности, несомненно, стала экспедиция для поисков легендарной страны Шамбалы.
Замечено, что в периоды социальных катаклизмов вера в мистику возрастает. Так было и во времена Великой Французской революции, до и после 1917 года в России, в фашистской Германии, да и наше время тому подтверждение.
Согласно преданию, Шамбала уцелела во времена Всемирного потопа, и населяющие ее монахи до наших дней сохранили «тайны бессмертия и управления временем и пространством». Естественно, что обуреваемые идеей перманентной революции большевики не могли не заинтересоваться поисками этой загадочной страны.
Разработка операции была поручена начальнику спецотдела ВЧК Глебу Бокию и руководителю научной лаборатории того же отдела Евгению Гопиусу. В своем докладе в ЦК партии Бокий особо отмечал, что знакомство с тайнами Шамбалы поможет с большей эффективностью вести пропагандистскую работу среди трудового народа.
Надо признать, что Дзержинский к идее поиска отнесся скептически. Несмотря на весь свой революционный романтизм, он был человеком реальным и не принимал не то что Шамбалу, а и саму идею Всемирного потопа. Только аргумент, что, организовав экспедицию в Гималаи, можно разведать пути дальнейшего расширения революции, смог убедить Дзержинского в ее необходимости.
Колоссальные для того времени деньги – 100 тысяч золотых рублей, или 600 тысяч долларов, – нашли без труда, а вот исполнителя подыскивали долго. По одним данным, о Блюмкине вспомнил Дзержинский, по другим – Яша вызвался сам, умудрившись при этом перессорить Бокия и Ягоду.
Блюмкин уже имел опыт командировок на Восток, к тому же слыл полиглотом. Как вспоминали современники, Яшка знал два десятка языков, половина из которых была тюркскими. 17 сентября 1925 года он под видом монгольского ламы прибыл в столицу княжества Ладакх – Леху. Там уже находился знакомый Бокия, художник Николай Рерих, на помощь которого рассчитывали в Москве.
Какие-либо документы, а, главное, отчет Блюмкина об экспедиции, если сохранились, то до сих пор засекречены. Однако существует целый ряд косвенных свидетельств, что экспедиция прошла успешно. И в первую очередь, это свидетельство симпатизировавшего Советам Рериха. Так, например, в своей книге «Алтай — Гималаи» художник довольно подробно описывает свою встречу с «монгольским ламой», в котором лишь со временем распознал эмиссара Москвы.
Лама показал себя не только хорошим и умным собеседником, знакомым с московскими друзьями Николая Константиновича, но и довольно опытным путешественником, что для экспедиции Рериха оказалось особенно ценно. Он провел инженерные исследования местности, уточнил протяженность отдельных участков пути, записал характеристики мостов и бродов через горные реки… Но и записки Рериха заканчиваются на дне начала восхождения к монастырям.
О том, что советская экспедиция оказалась результативной, говорит то, что именно после нее немецкие нацисты, объединенные в мистическое общество «Аненербе», сами занялись поисками мистической Шамбалы. И даже в апреле 1945-го, когда дни гитлеровской Германии были сочтены, Гимлер и Геббельс советовали уже помышлявшему о самоубийстве Гитлеру покончить с собой не в Берлине, а при помощи подстроенной над Балтийским морем авиакатастрофы. Таким образом, считали они, сможет сохраниться легенда о великом фюрере, которая затем поможет ему вернуться из Шамбалы и восстановить нацистский порядок на Земле. А после взятия рейхсканцелярии на ее развалинах обнаружили тела тибетских монахов, переодетых в форму СС.
Да здравствует…
Как бы то ни было, но с Тибета Блюмкин вернулся другим человеком. До того не признававший никаких сомнений, он начинает хандрить, а в разговорах с друзьями и коллегами выказывает скепсис в правильности сталинского пути. А после того как знакомые с секретной экспедицией люди стали исчезать, начинает распродавать столь ценившиеся им антикварные вещи.
Оказавшись в 1929 году в Константинополе, Блюмкин встречается с высланным из СССР Троцким и сомневается, стоит ли ему возвращаться в Москву. Существует предположение, что и о результатах советской экспедиции в Гималаи гитлеровцам стало известно из окружения Троцкого, который, в свою очередь, узнал о них от Блюмкина.
О том, что Блюмкин уже не походил на того дерзкого и изворотливого чекиста, каким был ранее, говорит и совершенная им по возвращении ошибка. Выполняя поручение Троцкого встретиться с его сторонниками в Москве, он рассказывает об этом Радеку, который сообщает об этом в ЦК и Ягоде. Предположить дальнейшее нетрудно.
Ягода подослал к Блюмкину одну из своих лучших агентесс, когда же и она подтвердила, что тот собирается эмигрировать, Якова арестовали и отдали под суд коллегии ОГПУ. При аресте у него обнаружили чемодан, доверху наполненный американскими долларами.
Суд над Блюмкиным впервые в СССР осуществляла так называемая «тройка», в состав которой входили нарком внутренних дел Ягода, его заместитель Менжинский и непосредственный начальник Блюмкина Трилиссер. Последние два выступали за сохранение Якову жизни, но его приговорили к расстрелу. 3 октября 1929 года приговор был приведен в исполнение.
По одним данным, Блюмкин перед расстрелом пропел Интернационал, по другим – прокричал «Да здравствует…». Правда, кто именно должен «здравствовать», палачи расслышать не смогли.
P.S.
Ни один из фактов жизни Якова Блюмкина (исключение – убийство Мирбаха) твердого подтверждения не имеет. Уже упоминалось, что местом его рождения называется то Черниговская губерния, то Одесса. Разнится год рождения: некоторые исследователи указывают 1898 год, другие – 1900-й. Даже отчество у Блюмкина разное: то он – Яков Григорьевич, иногда – Семенович, встречаются Яков Моисеевич и Яков Наумович Блюмкин. Но если этот человек, прожив столь яркую жизнь, оставил сомнения даже в том, как звали его отца, резонно усомниться и в его гибели в 1929-м. Во всяком случае, несмотря на то, что решение о расстреле Блюмкина существует, акта о его смерти найти не удалось.
Похожие статьи:
- Приворот по телефону (0)
- Русалки. Гуманоиды со дна океана (0)
- Роллан Аббиа — от агента до резидента (0)
- Сексуальный приворот (0)
- Хезболла. Воины Аллаха (0)
- Первый предатель советской разведки (0)
- Народная трагедия (0)
Теги: разведка, Шамбала, Яков Блюмкин
Опубликовано в: Тайны истории
http://mysteric.ru/mysteries/yakov-blyumkin-legenda-ogpu.html
|
Метки: яков блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин
В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).
Давайте познакомимся с ним чуть ближе.
Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.
В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.
В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.
Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.
Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.
Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.
Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.
В конце апреля 1918-го Блюмкин покидает армию, где прослыл вором, и приезжает в Москву. Там он становится главой охраны ЦК партии левых эсеров. Именно Яков Блюмкин стал одним из отцов-основателей ЧК (и позднее – жертвой своего детища). В мае 1918-го девятнадцатилетний Блюмкин представляет свою партию в ЧК при Дзержинском и занимает должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией в ЧК. В июне 1918 года в его обязанности входит наблюдение за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.
В это время он дружит с остроумным Карлом Радеком и, возможно, именно через Блюмкина «непримиримый антигерманец» Муравьёв получает деньги от немецкого посла Мирбаха. В страхе перед разоблачением неприглядных финансовых делишек Блюмкин и Муравьёв убеждают ЦК левых эсеров убить посла Германии, якобы для спровоцирования войны против немецких империалистов и для того, чтобы убрать от власти сторонников Брестского мира (Ленина и его приверженцев). Вечером 4-го июля Мария Спиридонова и ЦК левых эсеров принимают план Блюмкина.
6-го июля Блюмкин и Н. Андреев в 14:00 подъехали к посольству с двумя бомбами и двумя револьверами. При осуществлении теракта Блюмкин получил от охраны посольства «героическое» ранение в ягодицу. После убийства Мирбаха оба прячутся в отряде особого назначения московской ЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов. Через несколько часов преступление было раскрыто и в штаб Попова приехал Дзержинский, которого там и арестовали. Отряд левых эсеров захватывает телеграф и объявляет, что все депеши за подписью Ленина вредны для советской власти. Арестовывают чекиста Лациса и председателя Моссовета большевика Смидовича. В 6 часов утра 7-го июля по особняку, где располагался штаб Попова, открыла огонь артиллерия. Большевики получили возможность избавиться от конкурентов в борьбе за власть. К 5 часам дня выступление левых эсеров было подавлено.
Есть версия, что мятежа вообще не было, а была провокация, была оборона левых эсеров от нападений большевиков и попытка освободить своих лидеров, незаконно арестованных большевиками.
Позже, в беседе с женой Луначарского и её двоюродной сестрой Татьяной Сац, Блюмкин признался, что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин. Ленин сразу после покушения, по телефону, приказал, что убийц надо «искать, очень тщательно искать, но не найти»…
Но совершенно замять столь громкое международное преступление было невозможно - Блюмкин был заочно приговорён к трёхлетнему заключению.
Уже находясь под арестом, 9-го июля 1918 года Яков Блюмкин совершает побег из усиленно охранявшейся больницы. Лето 1918 года Блюмкин проводит в Питере. Тут он служит в местной ЧК по документам на фамилию Владимирова Константина Константиновича. По службе («агент под прикрытием») он входит в оккультные кружки и прочие многочисленные сборища местных мистиков. Волей-неволей обрастает большим кругом знакомств в этой весьма специфической среде.
Зимой 1918-1919 годов Блюмкин появляется на Украине, а в апреле 1919 года сдаётся ЧК в Киеве. Его почти сразу же амнистируют. Следует серия провалов в организации левых эсеров, и Блюмкина обвиняют, как провокатора. Блюмкин переживает три покушения на свою жизнь только в течение одного июня. Во время второго он ранен, а третье – бомба в окно больницы, где он лежал, но никто от взрыва не пострадал.
В конце 1919 года он уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию.
В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.
И вот он в кругу поэтов, где Маяковский открыто восхищается батькой Махно.
Блюмкин часто общается с Сергеем Есениным и Осипом Мандельштамом. Не рискну назвать их друзьями, но то, что они были близко знакомы – никто отрицать не будет. Есенину Блюмкин говорил: « Я террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии».
Позже это приятельство перейдёт в неприязнь.
В один из последних дней июня 1918 года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым И своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как он арестовал брата посла Мирбаха по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии.
- Не сознается – цинично говорил Блюмкин, поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Вон, видите, вошёл поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу – тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
- Не вмешивайся в мои дела! – грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь сунуться – сам получишь пулю в лоб. С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору.
(Цитирую по тексту А.С. Велидова «Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина» - М.: Современник, 1998 г.)
За год до гибели Есенина, Блюмкин, находясь в Закавказье, приревновал к поэту свою жену и угрожал ему пистолетом. Есенин считал угрозу вполне реальной и поспешно покинул Тбилиси.
По одной из версий смерти Есенина – его убили чекисты под руководством Блюмкина. И даже знаменитые предсмертные стихи, написанные кровью, написал от имени поэта сам Блюмкин (хотя в своё время, спасая Есенина от тюрьмы, брал поэта на поруки под личную ответственность).
Тем не менее, Маяковский дарил Блюмкину книги с трогательными надписями: « Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».
Летом 1920 года Блюмкин участвует в создании на севере Ирана Гилянской Советской республики, где становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии. Как делегат Ирана участвует в I-м съезде угнетённых народов Востока в Баку. После четырёх месяцев экзотической командировки Блюмкина отзывают в Москву.
В конце 1920 года Блюмкин вместе с Розой Землячкой и Бела Куном участвует в уничтожении белых офицеров, (цифры называют от 50 до 100 тысяч человек). В 1921-м году – участвует в подавлении восстаний голодных крестьян Нижнего Поволжья и Еланского восстания. Вместе с Тухачевским и Антоновым-Овсеенко участвует в подавлении восстания атамана Антонова на Тамбовщине. Осенью Блюмкин уже командует 61-й бригадой в боях против барона Унгерна фон Штернберга во Внешней Монголии. Затем он занимает высокую должность секретаря по особым поручениям в аппарате самого Троцкого.
По окончании Академии Блюмкин в совершенстве владеет турецким, арабским, китайским и монгольскими языками. Он становится официальным секретарём наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. А с 1923-го года начинаются самые увлекательные авантюры Блюмкина, сведения о которых до сих пор хранятся в секретных архивах за семью печатями. Восстанавливать канву событий приходится буквально по крупицам. Есть сведения, что Блюмкин прошёл курс рукопашного боя у лучших тогдашних инструкторов по боевым воинским искусствам. И он был прилежным учеником. У Блюмкина восстанавливаются контакты с оккультными кругами. Он работает совместно с Александром Барченко и Генрихом Мебсом по проблемам воздействия гипнозом и суггестией на толпу и на отдельного человека, занимается проблемами предсказания будущего.
Затем идёт работа иностранным агентом на территории Палестины. Через год его отзывают в Москву и он получает пост политического представителя ОГПУ в Закавказье и члена коллегии Закавказского ЧК.
Примерно в это же время он тайно выезжает в Афганистан, где входит в контакт с сектой исмаилитов. Пробравшись в Индию, Блюмкин изучает расположение английских колониальных войск и добирается до Цейлона.
Возвращается он в Москву он только в 1925-м году. ОГПУ доверяет Блюмкину особо тайную миссию в Китае. Он должен был проникнуть с экспедицией Рериха в таинственную Шамбалу и разведать мощь англичан в Тибете. Под личиной тибетского монаха Блюмкин объявляется в Тибете (в расположении экспедиции Рериха, на которую ОГПУ выделило из своих фондов 600 тысяч долларов). И у великого мыслителя, и у великого террориста общая цель – создание в Тибете советского присутствия путём провозглашения Николая Рериха правителем Тибета – «Рета Ригденом».
В 1926-м году Блюмкин получает назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики – местного ЧК. Одновременно он руководит советской разведкой в Северном Китае и на Тибете. В Монголии Блюмкин вёл себя как диктатор. Он расстреливал неугодных, не ставя местные власти в известность, из-за чего через полгода его убирают и перебрасывают в Париж (для организации покушения на бежавшего во Францию секретаря Сталина – Бажанова). Покушение не удалось, хотя Блюмкин, по слухам, утверждал обратное. Официальные данные говорят о том, что Борис Георгиевич Бажанов скончался в Париже в 1982-м году.
В сентябре 1927-го года Блюмкин руководит всей агентурной сетью советской разведки Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Палестины. Главной целью было свержение английского колониального влияния, особенно в Индии. Под личиной персидского купца Блюмкин налаживает агентурные каналы в Персии, Ираке и Палестине. Он специализируется на торговле старинными еврейскими книгами (объединёнными тематикой магии, каббалы и оккультной мистики). Эта торговля приносит доход в сотни тысяч долларов.
В 1929-м году Блюмкин проникает в среду воинственных арабских и курдских националистов. Возвращаясь в Москву Блюмкин встречается в Стамбуле с сыном уже опального Троцкого – Львом Седовым (якобы – случайно), а через него 16-го апреля 1929 года встречается и с самим Троцким.
В октябре Блюмкин совершает непростительную (для агента его уровня) ошибку – он рассказывает о своей встрече с Троцким своим друзьям, бывшим троцкистам: Радеку, Преображенскому и Смигле. Бывшие соратники советуют ему «покаяться».
В панике Блюмкин доверяется своей любовнице (и сослуживице) Лизе Горской, которая немедленно сообщает об этом начальству. Покровитель и начальник Блюмкина – Меер Абрамович Трилиссер (начальник Иностранного отдела ГПУ) решил не принимать пока никаких мер, но Блюмкин принимает решение бежать из столицы. 15-го октября 1929 года он перед отъездом решил встретиться с Горской. Они вместе едут на вокзал, но оказывается, что поезда на Грузию (куда намеревался отправиться Блюмкин) отправляются только на следующий день. Горская уговаривает Блюмкина переночевать у неё на квартире. Туда и приехал вызванный её же отряд чекистов.
В бумагах Блюмкина при обыске обнаружили инструктивное письмо Троцкого к оппозиции с предложением организовать антисталинское подполье. На восемнадцатый день после ареста Блюмкин был расстрелян. Казнь Блюмкина была первой казнью представителя коммунистической элиты в СССР.
Погиб он с возгласом: «Да здравствует Троцкий!»
P.-S. Немногие знают, что на картине Николая Рериха "Весть Шамбалы" (Стрела-письмо) изображен Яков Блюмкин в образе тибетского ламы. Личность интересная. И весьма неоднозначная. Он ведь вёл иногда поэтические вечера в "Кафе поэтов" и "Стойле Пегаса". Да и сам писал стихи, иногда печатался в журналах того времени (я, при всём старании, ни одного стихотворения Блюмкина не нашёл, а было бы интересно взглянуть). Неоднократно Блюмкина видели среди гостей Максима Горького - говорят, что "буревестник" очень интересовался "романтиком революции" (эпитет поэта Вадима Шершеневича).
За рамками моего короткого текста осталось много интересного - и дружба Блюмкина с Луначарским, и трагически закончившаяся любовная история с Ниной Сац (сестрой основательницы детского музыкального театра Натальи Сац). Любовных историй в Жизни "еврейского Скорцени" было множество - женщин он любил.
Но не меньше в его жизни было и опасностей.
Помимо тех трёх покушений на его жизнь, о которых я упомянул в тексте, были и другие. После первых трёх он умолял приятелей не оставлять его одного - Есенин, Мариенгоф, Кусиков и Шершеневич провожали его по очереди.
Однажды, когда они уже подходили к дому, раздался окрик: "Стоять!" Блюмкин кинулся наутек, поэты за ним. Грянули выстрелы. Пули пробили в двух местах шляпу Блюмкина, после чего он почел за лучшее остановиться. Выяснилось, что их обстреляли не эсеры, а агенты с Лубянки: ЧК ловила бандитов. Блюмкин тотчас осмелел и принялся уверять, что, если б он открыл ответный огонь, чекистам бы не уцелеть: стрелял он изумительно.
С тех пор его убивали еще шесть раз: дважды холодным оружием, четыре раза - из браунинга и нагана. Его хранила какая-то тайная сила, пока в очередной раз не подвела боевая подруга - Лиза Розенцвейг.
Судьба красавицы Лизы сложилась вполне благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
Литература:
1. «БИТВА ЗА ГИМАЛАИ. НКВД: магия и шпионаж» Олег Шишкин – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. – 400 стр. Тираж 5000 экз.
2. «Оккультные тайны НКВД И СС» Первушин Антон – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999 г. – 416 стр. Тираж 11000 экз.
3. « Время Шамбалы» Александр Андреев СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2002 г. – 352 стр. Тираж 5000 экз.
http://russianpoetry.ru/proza/istorija/superagent-jasha-blyumkin.htm
|
Метки: яков блюмкин |
Стихи Якова Блюмкина |
В полумраке настольном , прокуренном,
Кабинетных зловонных углов,
Ворох папок картонных,изрубленных,
Не подшитых, не найденных слов.
Зачеркнуло пенсне переносицу,
Портупеи натянутый нерв ,
Сколько вас пред глазами проносится,
Скольких, даже прочесть не успев.
Анархисты, эсеры с троцкистами,
Реваншисты, дворяне, шпана....
Многих вас революция истово,
Поднимала. Но вот, ни хрена:
Большевистская все-таки выведет,
Чай за нами не пусто, народ.
Эта нечисть из темени выбродит,
Да и кто там потом разберет.
И пером колупая чернильницу,
До утра всем наотмашь писать,
Стиснув пальцами красную книжицу,
Зло по буквам шепча : - РАССТРЕЛЯТЬ!!!https://poembook.ru/duel/80568
|
Метки: яков блюмкин |
Смерть авантюриста Вадим ЛЕБЕДЕВ |
Смерть авантюриста
Вадим ЛЕБЕДЕВ
Шальная пуля для агента ОГПУ Якова Блюмкина.
|
9 жизней террориста Блюмкина - В поисках истины.
|
Тайны разведки - Спецагент Яков Блюмкин.
|

В 20-е годы он был одним из самых знаменитых людей Советской России. Большая советская энциклопедия (главный редактор О. Ю. Шмидт) уделила ему более тридцати строк. Ему посвящали стихи Сергей Есенин, Николай Гумилев, Вадим Шершеневич, а Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» наделил своего героя, Наума Бесстрашного, его чертами и портретным сходством. Вот и захотелось мне, пользуясь рассекреченными документами из архива Лубянки, рассказать о похождениях этого незаурядного... авантюриста.
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 5-го Всероссийского съезда Советов ЦК партии левых эсеров принял решение убить германского посла графа Вильгельма Мирбаха. По их мнению, это было единственной возможностью сорвать Брестский договор, заключенный Лениным с Германией в счет платы за помощь большевикам по захвату власти в России. Решение, естественно, держалось в строжайшей тайне.
Была назначена дата, 5 июля 1918 года, и исполнители теракта – Яков Блюмкин и Николай Андреев, фотограф ВЧК. Но из-за того, что не смогли вовремя подготовить взрывное устройство, «мероприятие» перенесли на 6 июля.
Почему исполнителем выбрали Блюмкина? С мая 1918 года он состоял на службе в ВЧК, и именно ему поручено было организовать отделение по борьбе с международным шпионажем. Надо отметить, что многие разработки Якова Блюмкина использует отечественная контрразведка и по сей день.
Блюмкин понимал – наступил его звездный час. В любом случае его имя останется в истории России.
Так вот. Используя служебное положение, Яков по поручению левого крыла эсеров занимается сбором информации о германском посольстве, устанавливает слежку за его работниками.
Блюмкину удается отыскать среди военнопленных австрийской армии родственника германского посла. Изощренные способы допроса и психологического воздействия позволили Блюмкину взять с него подписку о сотрудничестве с ВЧК. Одновременно он вербует еще несколько работников посольства. В результате в его руках оказался план помещений и постов внутренней охраны посольства. М. Лацис, непосредственный начальник Якова Григорьевича, вспоминал: «Блюмкин хвастался тем, что его агенты дают ему все, что угодно, и что таким путем ему удается получить связи со всеми лицами немецкой ориентации».
Итак. Ранним утром 6 июля Блюмкин пришел в ВЧК, взял бланк удостоверения и уполномочил себя вести переговоры с германским послом. Подпись Председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликса Дзержинского он подделал так умело, что, когда ставили на бланк печать, никто ничего не заподозрил. Окрыленный первой удачей, Блюмкин нагло потребовал в личное распоряжение автомобиль. Его предоставили вне очереди.
Ровно в 14.15 темного цвета «паккард» остановился у особняка германского посольства в Денежном переулке. Выйдя из машины, Блюмкин приказал шоферу не глушить мотор.

Лиза Горская
Советнику посольства Яков Григорьевич показал мандат и потребовал личной встречи с графом Мирбахом. Его провели через вестибюль в гостиную и предложили подождать.
Мирбах, наслышанный о готовящемся покушении, избегал встреч с посетителями, но, узнав, что прибыли официальные представители советской власти, решил выйти к ним. К нему присоединились советники посольства Рицлер и Мюллер.
Блюмкин предъявил послу бумаги, которые красноречиво говорили о шпионской деятельности родственника посла. Мирбах заметил, что с этим родственником он никогда не встречался и ему безразлична его судьба. Тогда Андреев поинтересовался, не хочет ли граф узнать о мерах, которые собирается предпринять советское правительство. Граф кивнул. Яков выхватил револьвер и нажал на курок. Мирбах, вскочив с кресла, бросился в зал. Тяжело раненные Мюллер и Рицлер повалились на пол. Блюмкин бросил вслед убегающему послу бомбу. Раздался взрыв, Мирбах, обливаясь кровью, упал на ковер. Якова взрывной волной отбросило на несколько метров.
Оставив на столе шляпы, мандат и портфель с запасным взрывным устройством, террористы выпрыгнули в разбитое взрывом окно. Андреев через несколько секунд уже был в машине. Блюмкин же приземлился крайне неудачно – сломал ногу. Он с трудом стал карабкаться через ограду. Со стороны посольства открыли стрельбу. Пуля угодила Якову в ногу. Но он добрался до машины. Шофер надавил на педаль газа.
Через десять минут они примчались к своим. Блюмкина остригли, сбрили бороду, переодели в красноармейскую форму и проводили в лазарет. Спустя полчаса Дзержинский, Чичерин, Троцкий и Свердлов узнали о совершенном теракте. Ленин запаниковал, отдал распоряжение поднять на ноги все немедленно для поимки преступников. Задержать автомобили и держать до тройной проверки.
А вскоре Дзержинский доложил Ленину о вероятном убийце Якове Блюмкине и о том, где он прячется. Только, отметил Дзержинский, по описанию внешность его и убийцы не совпадают. Восемнадцатилетнего Блюмкина Мюллер, оставшийся в живых, принял за тридцатипятилетнего мужчину. А Дзержинский тогда еще не знал, что Блюмкин, не применяя грима, мог старить и молодить лицо в течение нескольких секунд. Эта особенность не раз спасала Якову жизнь.
РАННИМ МАРТОВСКИМ УТРОМ 1900 ГОДА в Одессе родился мальчик. По старой еврейской традиции на восьмой день ему дали имя: Симха-Янкель. Рос он болезненным, денег в семье Герша Блюмкина, мелкого коммерческого служащего, катастрофически не хватало. А уж когда глава семьи умирает от сердечного приступа, в доме его поселяется беспросветная нищета.
Мать, заботясь о будущем восьмилетнего сына, отдала его в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Обучение было бесплатным – все расходы брала на себя религиозная община. Кроме Библии, Талмуда, иврита и истории там преподавали русский язык, арифметику, географию, пение и рисование. Были уроки гимнастики. Янкелю удалось получить не только общеобразовательную и духовную подготовку, но и значительно укрепить здоровье. Тут необходимо отметить один знаменательный факт, который со временем повлияет на жизнь Янкеля Блюмкина. Талмуд-торой руководил писатель Шолом Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-Сфорим. Основоположник современной еврейской литературы, один из крупнейших знатоков Библии и древнееврейских авторов. Уже тогда у Янкеля проявился интерес к стоимости старинных еврейских манускриптов.
Окончив училище, Яков поступает на службу учеником в электротехническую мастерскую Ингера. Получает по двадцать-тридцать копеек в день, монтируя электропроводку в частных домах и конторах, а в ночное время подрабатывает в Ришельевском трамвайном парке. Так вплоть до 1917-го. Знавшие Блюмкина в те годы вспоминают, что уже тогда за Яковом тянулся шлейф дурных историй. Вот одна из них.
Во время службы в торговой компании у некого Перемена Блюмкин за крупное вознаграждение оформлял отсрочки по отбыванию воинской повинности: умело подделывал документы и подписи высокопоставленных лиц. По Одессе поползли слухи о молодом брюнете с левым лисьим глазом, который помогает увиливать от службы в армии. Очень быстро брюнетом заинтересовалась уголовная сыскная полиция. Яков свалил все на своего начальника: мол, это по его требованию он занимался подделкой различного рода справок и под страхом смерти был вынужден молчать. Перемен, ошарашенный наглостью своего работника, подал в суд. Блюмкин проконсультировался у адвоката, можно ли дать судье взятку. Но с судьей ему не повезло: попался один из самых честных и принципиальных юристов города. Яков все же купил небольшой подарок и отправил его судье. Какого же было удивление полиции и адвоката, когда молодой человек выиграл процесс, безнадежно проигрышный. Позже Блюмкин хвастал, что в отосланный судье «подарок» он вложил визитную карточку своего начальника.

Зав. секретным отделением ВЧК…
В ЯНВАРЕ 1918 ГОДА Яков Блюмкин участвует в установлении Советской власти в родном городе. Записывается в «Железный отряд» при штабе 6-й армии Румынского фронта. Участвует в боях с войсками Центральной рады. Его вводят в Военный совет армии в качестве комиссара, чуть позже назначают помощником начальника штаба. А в апреле 18-го он уже начальник штаба. И опять нехорошая история.
Якову Григорьевичу поручают заняться экспроприацией денег в государственном банке. Удалось захватить четыре миллиона рублей. Блюмкин, красный командир, предложил командующему армией взятку в десять тысяч рублей, себе запросил такую же сумму, а остальные деньги готов был передать лично на нужды партии. Три с половиной миллиона рублей он под угрозой ареста возвратил. Куда подевались еще полмиллиона, выяснить так и не удалось.
С мая 1918 года Яков Блюмкин работает в ВЧК.
По природе довольно болтливый, он любил рассказывать о своей работе друзьям и просто первым встречным. Работа в ВЧК сделала его еще более тщеславным. В разговорах со знакомыми он выдавал себя за человека, наделенного полномочиями решать, жить человеку или умереть. А своим новым московским приятелям Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму не раз предлагал посмотреть, как в подвалах ЧК расстреливают контрреволюционеров. Дзержинскому стали докладывать, что некий Блюмкин на каждом углу разбалтывает секреты Лубянки. Шефу ВЧК нравился «молодой брюнет с левым лисьим глазом», под него планировались операции, которые максимально задействовали бы его природные качества – авантюризм и изворотливость. Но все же парня надо было проучить – чтобы не зазнавался. И 1 июля 1918 года коллегия ВЧК упразднила отдел по борьбе со шпионажем. Яков Григорьевич сдал дела М. Лацису...
ЯКОВ ЖДАЛ НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Левое крыло левых эсеров, к которому некогда примкнул Блюмкин, никак не могло понять, почему человек, чуть было не сорвавший Брестский мир, пользуется поддержкой большевиков. Террорист – и вдруг приближенный Троцкого и Дзержинского. Что-то тут не чисто. На всякий случай эсеры выносят приговор – смерть предателю. Три боевика приглашают Блюмкина за город для «разъяснений» и политической беседы. Беседа не состоялась. «Разъяснения» закончились тем, что в Блюмкина выпустили восемь пуль. Но ни одна пуля в него не попала.
Через несколько дней было совершено второе покушение. Блюмкин сидел за столиком уличного кафе на Крещатике. Играл оркестр. Яков Григорьевич пил аперитив и читал местную газету. Неожиданно к нему подошли два человека и в упор расстреляли весь барабан револьвера. Блюмкин с окровавленной головой повалился с венского стула. Но... остался жив. Левые эсеры предприняли еще одну попытку разделаться с террористом. И опять неудача.
Провидение хранило Якова Григорьевича, чего не скажешь о людях, которые готовили на него покушение: одних расстреляли, другие пропали без вести.
БЛЮМКИНА ОТКОМАНДИРОВАЛИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ Народного комиссариата иностранных дел. А в июне 1920 года он отбывает в Северный Иран, чтобы разобраться в тамошней непростой политической ситуации. Однако каждодневные донесения о местной обстановке нагоняли на Якова скуку. Зачем прощупывать обстановку, когда можно совершить революционный переворот! Он решил действовать на свой страх и риск. Выдавая себя за личного друга Троцкого, Дзержинского и вообще всех сильных мира сего, Блюмкин разрабатывает план переворота, сам принимает в нем участие и становится членом ЦК Компартии Ирана. Правительство Кучук-хана низложено. К власти пришел Эхсанулла-хан. Якову предлагают высокий военный пост в его правительстве. Но тому уже неинтересно.
Всю огромную работу в Северном Иране Блюмкин начал и завершил всего за четыре месяца. Москва поощрила инициативного и удачливого сотрудника, наградив боевым орденом и зачислением в Академию Генерального штаба РККА.
В 1922 году Якова отзывают из Академии и направляют в секретариат наркома по военным делам. В течение полутора лет он выполняет особые поручения Л. Д. Троцкого. (Известно, что именно Блюмкин знакомит наркома со своими друзьями поэтами С. Есениным, В. Шершеневичем и А. Мариенгофом.)

Резидент советской разведки…
В октябре 1923 года Дзержинский, помня об успехах молодого брюнета, забирает его в иностранный отдел ОГПУ на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики. И одновременно поручает руководить советской разведкой в Тибете, в Монголии и северных районах Китая. Но тут – гром среди ясного неба – родного брата Блюмкина, Льва Григорьевича Рудина, арестовывают по обвинению в убийстве.
СОГЛАСНО КАРТОТЕКЕ, на учете департамента полиции славного города Одессы состояли родные братья и сестры Якова Григорьевича: Лев, Исай, Розалия и Лиза. Лев и Розалия еще в 1904 году в рядах социал-демократов участвовали в первой российской революции.
1 декабря 1924 года в редакции одесских «Известий» разыгралось трагическое происшествие, «небывалое в летописях печати: журналист убил журналиста» – заведующий отделом «Рабочая жизнь» Л. Рудин-Блюмкин – секретаря редакции «Вечерних Известий» Ю.Саховалера.
Причина убийства – из-за очереди на пишущую машинку. Саховалер в присутствии сотрудников редакции обозвал Блюмкина провокатором и предложил покинуть помещение. Что на месте Льва сделал бы его героический брат? Правильно! Взяв из письменного стола в спальне револьвер, Лев вернулся в редакцию...
Его задержали на следующий день. Суд квалифицировал убийство по статье 143 УК и приговорил Льва Григорьевича Рудина-Блюмкина, 38 лет, к лишению свободы на шесть лет со строгой изоляцией.
Яков хорошо заплатил адвокатам за то, чтобы они добились пересмотра дела и квалифицировали убийство по статье 144, предусматривающей убийство в состоянии сильного душевного волнения. Но вышестоящие судебные инстанции кассационную жалобу не приняли.
Известно, что по делу Льва Блюмкина велось расследование, которое пыталось выявить, не был ли он провокатором и агентом царской или белой контрразведки. Предположения эти не подтвердились, и ведущий следствие чекист Д. Медведев передал дело в прокуратуру как чисто уголовное.
А Яков отбыл из Одессы в Москву, чтобы затем отправиться в Монголию выполнять поручение ОГПУ.
В ДЕКАБРЕ 1926 ГОДА ПО ЗАДАНИЮ ЦЕНТРА ОН ЕДЕТ В КИТАЙ, к генералу Фэн Юйсяну, для оказания военной помощи. Справляется с поручением и становится военным советником при генерале. Помогает китайским товарищам наладить работу разведки и контрразведки.
А потом вновь возвращается в Улан-Батор. В Монголии Блюмкин фактически руководил советской миссией, во всяком случае, оказывал решающее влияние на ее деятельность. И довольно скоро вступает в конфронтацию с советскими специалистами. Беда Блюмкина была в том, что он считал себя крупным военным и политическим деятелем и поэтому жесткими методами внедрял дисциплину. Против него назревает заговор. Предвидя это, он пишет заявление... о выходе из ВКП (б). Риск колоссальный. За такие «штучки» по головке не погладят. В тот же день из Москвы приходит ответ: ОГПУ требует аннулировать заявление. Что Блюмкин тут же исполнил и, получив очередной кредит доверия, стал полноправным хозяином советской миссии. А потому позволил себе расслабиться.

Член исторической секции…
Теперь его интересуют женщины, деньги, выпивка и очередные авантюры. На банкете, который устроил ЦК МНРП по случаю нового 1927 года, Яков очень много выпил, полез обниматься с высоким монгольским начальством, признавался в любви и заставлял всех произносить тосты за Одессу-маму на разных языках. Кривлялся перед портретом тов. Ленина, установленным в центре банкетного зала, отдавал Ильичу пионерский салют. Кончилось тем, что его обильно стошнило на портрет вождя. Но и между приступами рвоты он продолжал паясничать. «Прости меня, дорогой Ильич, – говорил он, обращаясь к портрету. – Но ведь я провожу твои идеи в жизнь. Я не виноват, виновата обстановка». Монгольские руководители пребывали в шоке.
Москва закрыла глаза и на эту шалость своего любимца. Не было применено к Блюмкину санкций и когда он начал заниматься коммерцией, заводя неразборчиво связи с частными торговцами. Делал заказы на покупку в Китае всевозможных вещей, брал большие суммы в долг, не брезговал подарками.
В июле 1927 года Якову предложили выехать в Сомбейс на подавление вспыхнувшего там восстания. Он потребовал наделить его мандатом, дающим право расстреливать мятежников на месте. Монгольское правительство отказалось. Тут уж Якову пришлось возвращаться в Москву.
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАДАНИЕ ПАРТИИ – организовать резидентуру на Ближнем Востоке. Яков решает для прикрытия создать коммерческое предприятие. Прозондировав рынок, останавливается на торговом обществе по продаже антикварных книг, закупленных в России. Руководство ОГПУ одобрило план создания резидентуры. Развернулась работа по собиранию еврейских книг и старинных манускриптов. Многие раритеты были взяты из Библиотеки имени Ленина, куда они попали в основном из расформированной библиотеки Полякова-Персица.
24 сентября 1928 года из Одессы в Турцию выехал персидский купец Якуб Султанов. А вскоре в Москву стала поступать ценная информация. Не зря в ОГПУ считали Блюмкина разведчиком, который может справиться с любой поставленной задачей. Проявил он себя и как прекрасный коммерсант. Так, на переговорах с крупными европейскими покупателями раритетов ему предложили за книги всего 800 долларов. Якуб стал поднимать цену. Когда она доросла до четырех тысяч, он объявил, что не будет продавать книги. А через несколько дней продал их без торга за восемь тысяч долларов. Сумма в то время огромная.
И ТУТ БЛЮМКИН ДОПУСКАЕТ РОКОВУЮ ОШИБКУ.
16 апреля 1929 года он встречается со своим бывшим руководителем. Беседа с Троцким продолжалась более четырех часов. Троцкий поручает Якову передать письмо в Россию и предлагает работать на оппозицию. Тщеславный авантюрист, прищурив левый лисий глаз, соглашается.
Проблемы начались еще на пароходе, который вез Блюмкина в СССР. Подвыпив, по старой привычке Яков начал болтать о своей исключительности. Говорил, будто имеет целый флот подводных лодок, развозит оружие сирийским товарищам, сам Троцкий с ним советуется и критикует политику СССР на КВЖД. Донесение о поведении Блюмкина полетело в Москву.
Тем не менее его встретили как героя. Даже Менжинский лично захотел с ним увидеться и пожать руку. Блюмкин чувствовал себя победителем. Он готовит проект по продаже сокровищ из хранилища Эрмитажа. Но дальнейшие события, к счастью, оставят проект только на бумаге.
БЛЮМКИН ВОЗОМНИЛ СЕБЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ АВАНТЮРИСТОМ. И об этом очень часто рассказывал всем своим многочисленным знакомым. После встречи с Карлом Радеком, которому под большим секретом сообщил о беседе с Троцким, начались настоящие неприятности. Радек сразу побежал к Сталину и доложил о связях Блюмкина с Троцким. Сталин вызвал Ягоду и поручил ему установить наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, кто еще состоит в оппозиции.

Террорист, убивший Мирбаха… И все это один человек – Яков Блюмкин
Ягода вызвал в свой кабинет сотрудницу Иностранного управления Лизу Горскую и предложил, отбросив всякие предрассудки, вступить в интимную связь с Яковом Блюмкиным, выведать необходимую информацию. Лиза предложение приняла – многие женщины мечтали поближе познакомиться с обаятельным брюнетом.
Яков Григорьевич почувствовал, что допустил оплошность, и попытался выкрутиться из создавшегося положения. Из двух вариантов – либо пойти на Лубянку и во всем сознаться, либо бежать – он выбирает второй. С целым чемоданом долларов, в сопровождении Горской, он едет на Казанский вокзал. К его несчастью, отправка поездов задержана на несколько часов. Очевидно, миссия Якова на грешной земле была выполнена. Блюмкин понял, что пришел конец. Он скрывался от ОГПУ целый день. И когда Горская предложила заехать к ней домой передохнуть, Блюмкин согласился. У дома Лизы их поджидала машина с чекистами. Яков презрительно посмотрел на Лизу, выругался, открыл дверь машины и скомандовал шоферу: «В ОГПУ». Он еще надеялся, что изворотливость и наглость помогут ему и на этот раз сохранить жизнь... Ах, как он ошибался!
3 ноября 1929 года дело Блюмкина было рассмотрено на судебном заседании ОГПУ. Он обвинялся по статьям 58-10 и 58-4 УК РСФСР. Приговор – расстрел.
Его отвели в подвал и поставили к стенке. Ничего лучше не придумав, он запел пролетарский гимн. Раздались выстрелы. Яков Блюмкин рухнул на каменный пол...
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин: портрет и рама |
Яков Блюмкин: портрет и рама
Вл. Алабай
В конце 1950-х годов мне случалось встречаться с Петром Ивановичем Чагиным, возглавлявшим в то время Комиссию по литературному наследию Переца Маркиша. Мне было тогда двадцать лет, и я, скорей всего, ничего не слышал о Якове Блюмкине – во всяком случае, в связи с Чагиным. Это уже потом, после смерти Петра Ивановича, я узнал, каково было значение этого человека в Баку в начале 1920-х, что его связывало с загадочной историей «бакинских комиссаров», узнал о его приятельских отношениях с Сергеем Есениным. Это ему, Чагину, были посвящены «Персидские мотивы», а головное стихотворение цикла открывалось вначале строчкой «Чагане ты моя, Чагане»… Есенин, как видно, любил пошутить – да и Чагин тоже. В ответ на просьбу поэта отвезти его в Персию Чагин взял машину и долгие часы, в веселейшем настроении, возил знаменитого гостя по горам и долам вокруг Баку. Вернувшись в город, сказал: «Вот мы, Сергей, и побывали в Персии!» В результате появился цикл «персидских» стихов.
Не чужим человеком Чагин был и для Блюмкина, наезжавшего в Баку – поближе к той же Персии, куда Блюмкин действительно попал по заданию московских архитекторов «мировой революции».
Нынче я горько сожалею о том, что полвека назад ничего такого не знал о Петре Ивановиче Чагине и не допытывался у него обо всех этих интереснейших вещах. Впрочем, далеко не факт, что Чагин удовлетворил бы мое любопытство и дал бы сколько-нибудь вразумительные ответы на возможные вопросы…
Первым из них был бы такой: «Что представлял собою Яков Блюмкин?»
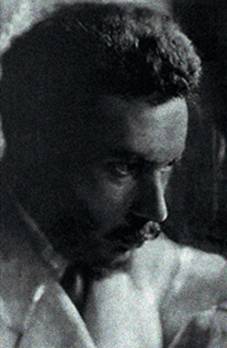
Как его только не называют! И «супертеррорист», и «ультрадиверсант», и даже «еврейский Скорцени». Он сегодня в моде – о нем пишут статьи и книжки, полные выдумок, он появился на экране в фильме, рассчитанном на простофиль и любителей «клубнички». Чем больше о нем говорят и пишут, тем более размытым становится образ этого незаурядного человека, Якова Блюмкина.
Проверенных, документальных сведений о нем сохранилось немного. Едва ли он сам умышленно искажал и путал факты своей короткой, но чрезвычайно насыщенной биографии; скорее, его «богемность» протестовала против костлявой точности документа. Как это ни поразительно, по-видимому, он видел в себе прежде всего творческую личность, поэта имажинистской школы. Надо полагать, ореол чекиста делал свое дело: немногие стихотворцы набирались смелости открыто ругать его стихи. Как бы то ни было, «Манифест имажинистов» – один из шести его вариантов – подписан, вместе с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом, также и Яковом Блюмкиным. Принимали ли его всерьез в пестрых поэтических кругах той безумной и кровавой поры? Вряд ли… Револьвер Блюмкина перевешивал прочие аргументы, а «слава» убийцы фон Мирбаха затмевала его иные – впрочем, также сомнительные – поступки. Не следует обольщаться его отвагой и находчивостью – он служил неправому делу, и никакие обстоятельства, никакие удивительные черты характера не высветляют его вины.
Блюмкин вошел в историю именно покушением на германского посла графа Вильгельма фон Мирбаха в июле 1918 года. В то время он разделял идеологию левых эсеров, унаследовавших от революционных ниспровергателей-семидесятников их патологическое влечение к террору. Роль личности в истории, по мнению левых эсеров, чрезвычайно ответственна, и физическое уничтожение ключевых политических фигур ведет к дестабилизации общества и к изменению хода исторических событий. Надо заметить, этот взгляд на вещи и этот подход немногим отличается от варварской практики сегодняшних террористических группировок… Убийство посла Мирбаха играло особую роль: драматическая гибель высокопоставленного дипломата призвана была сорвать выполнение условий Брестского мира между Россией и Германией – позорного и неприемлемого, с точки зрения эсеров.
Выбор пал на начальника охраны эсеровского ЦК – находчивого и решительного Блюмкина, к тому же прекрасно подготовленного физически. Задача была не из легких: немцы подозревали об опасности, и посольство тщательно охранялось. Главному исполнителю ассистировал достаточно случайный человек – фотограф ЧК эсер Николай Андреев. Воспользовавшись фальшивыми документами, террористы проникли в здание посольства и добились встречи с послом. Сам ход теракта многократно описан – и всякий раз по-новому. Согласно одной версии, стрелял и метал бомбу Блюмкин, согласно второй – Блюмкин стрелял и промахнулся, а взрывал Андреев. Готовясь к теракту, Блюмкин написал своего рода предсмертную записку, озаглавленную им «Письмо к товарищу»:
Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняют евреев в германофильстве, и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей, как социалист, беру на себя совершение акта, являющегося этим протестом.
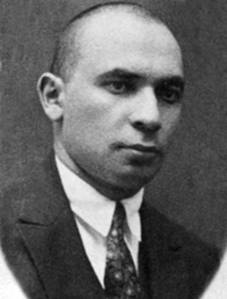
Я. Блюмкин.
Нет никаких оснований подвергать сомнению искренность этого обращения.
Современные исследователи склонны осмеивать Блюмкина и, по мере сил, дегероизировать его: он и трус, и болтун, и фигляр, и немецкая пуля, когда он уходил после теракта, угодила ему в задницу; такое ранение, по всей видимости, должно развеселить читающую публику и выставить террориста в смешном свете. В действительности же Блюмкин был отменным стрелком и вряд ли промахнулся бы, стреляя в посла с трех метров, а ранен он был в ногу, что не помешало ему перемахнуть через высокую ограду посольства и скрыться от преследования вместе с Андреевым. Якову Блюмкину, ушедшему после покушения в подполье и бежавшему на Украину, в то время было двадцать лет отроду.
Впрочем, и здесь имеются разночтения. По одним данным, Блюмкин родился в 1900 году в Одессе, на Молдаванке, по другим – в местечке Сосница, близ Чернигова, в 1898 году. Первая версия представляется более достоверной: известно, что Яков Блюмкин начал свое традиционное еврейское обучение в одесском хедере, а расстрелян был большевиками в 1929 году, не дожив трех месяцев до своего тридцатилетия.
Так или иначе, он появился на свет в многодетной семье, и его отец, нищий еврей Герш Блюмкин, умер вскоре после рождения Симхи-Янкеля. Семья осталась без средств к существованию и нищенствовала. Малолетний Янкель подрабатывал где и как придется: в трамвайном депо, учеником электрика, разнорабочим в театре, на консервной фабрике. Знание идиша, русского и иврита помогало ему выжить в одесской многонациональной круговерти. Он писал стихи по-русски и публиковал их в газетах «Одесский листок» и «Гудок», в журнале «Колосья». Одесса насквозь была пропитана антимонархическими, революционными настроениями, и Яков Блюмкин сблизился с радикально настроенными эсерами. Впрочем, это не препятствовало его национальным устремлениям – он участвовал в рейдах отрядов еврейской самообороны, к руководству которыми непосредственное отношение имел знаменитый налетчик Мишка Япончик, увековеченный Исааком Бабелем в «Одесских рассказах» под именем Беня Крик.
1917–1918 годы в Одессе были настоящим хаосом. Февральская революция и последующий захват власти большевиками породили опасные смерчи на юге России: пестрые власти сменяли друг друга на местах, ситуацию контролировали, как сейчас бы выразились, «полевые командиры»: красные и белые, анархисты, атаманы и просто бандиты. Боевые соединения действовали под разными флагами и под разными лозунгами.
Революционные карьеры делаются быстро. «Революция избирает себе молодых любовников», – эта крылатая фраза Льва Троцкого в полной мере относится к Блюмкину. Весной 1918 года Яков Блюмкин уже назначен на должность начальника штаба Третьей Украинской советской «одесской» армии, насчитывавшей от силы четыре тысячи штыков. Эта «армия» должна была противостоять наступающим румынским и австро-венгерским войскам – и была смята. Остатки армии были перегруппированы, поддержаны пополнением и отправлены в район Донбасса. В новом формировании восемнадцатилетний Блюмкин получает должность комиссара Военного совета армии.
В конце апреля – за два месяца до покушения на Мирбаха – Блюмкин появляется в Москве и занимает ответственные посты в партии левых эсеров. План покушения принадлежал лично Блюмкину, он докладывал его лидеру партии Марии Спиридоновой за сорок восемь часов до теракта и был принят к исполнению. Оперативная подготовка заняла в конечном счете двадцать четыре часа. Такой прыти позавидовали бы, пожалуй, и сегодняшние «борцы за всемирную справедливость».
После совершения теракта и бегства из посольства раненый Блюмкин укрывается в отряде Дмитрия Попова – левого эсера, командовавшего отрядом особого назначения ЧК. Затем события набирают скорость и сменяют друг друга, рассыпаясь и складываясь в новые комбинации, подобно цветным стеклышкам в калейдоскопе. Эсеровские боевики арестовывают Дзержинского, явившегося арестовать террористов Блюмкина и Андреева. Вместе с Дзержинским схвачен чекист Лацис и большевистский председатель Моссовета Смидович. Эсеры захватывают Центральный телеграф и рассылают депеши, дезавуирующие указания Ленина как «вредные» и противоречащие приказам «правящей в настоящее время партии левых социал-революционеров». На рассвете 7 июля большевики переходят в атаку и начинают обстреливать из артиллерийских орудий особняк, в котором разместился штаб Попова и руководители партии левых эсеров. К тому времени раненый Блюмкин уже переправлен в больницу и к нему приставлена большевистская охрана, которая должна арестовать его и доставить на Лубянку, как только он сможет подняться с койки. Блюмкин мастерски обманывает бдительность охранников, совершает побег из палаты и исчезает, «ложится на дно». Путь его лежит на Украину, где он планирует теракт против гетмана Скоропадского, сорвавшийся из-за неисправности взрывных устройств. Тем временем «мятеж» левых эсеров утоплен в крови большевиками, одним махом избавившимися и от конкурентов во власти. Триста эсеров убито, шестьсот – включая состав ЦК – арестовано. Дмитрий Попов спасся бегством, пробился к вольнолюбивому Нестору Махно и возглавил один из его боевых отрядов.
Ленин, кажется, остался доволен всем случившимся. После разгрома эсеров его власть укрепилась, убийц графа Мирбаха он приказал «искать, очень тщательно искать, но не найти». Вполне прагматичный Ульянов, по-видимому, не желал лишиться такого ценного человека, как Блюмкин. И «крыша» была предоставлена ему ведомством Дзержинского, счастливо спасшегося из эсеровского плена. Исходя из этого можно предположить, что украинская эпопея Блюмкина насквозь просвечивалась фонарями ЧК.
Но и уцелевшие киевские левые эсеры были, как говорится, начеку: они заподозрили своего молодого однопартийца в измене и дважды организовывали покушение на его жизнь. Из первой переделки Блюмкин вышел без царапины: почуяв неладное, он бросился бежать, и восемь пуль, выпущенные ему вслед, прошли мимо. Спустя неделю он снова подвергся нападению: двое боевиков стреляли в него, когда он сидел за столиком кафе на Крещатике. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, но и там невозможно было укрыться от партийного приговора: в окно палаты бросили бомбу, которая, однако, не причинила больным серьезного ущерба. Справедливо опасаясь за свою жизнь, Блюмкин исчез из больницы и вновь скрылся в глубоком подполье.
Время между уходом на нелегальное положение и возвращением в Москву в марте 1920 года Блюмкин не тратил даром. Оставаясь приверженцем индивидуального террора, он разрабатывал планы покушений на адмирала Колчака, а потом и на Деникина, – впрочем, оба они остались неосуществленными: по каким-то таинственным причинам Москва не дала окончательное «добро» на эти теракты.
Колеся по Украине, Блюмкин приобретает известность как организатор партизанских отрядов в белогвардейском тылу. В конце 1919-го, за полгода до своего двадцатилетия, он командует бригадой 27-й дивизии на Южном фронте, затем получает назначение на должность начальника штаба этой бригады.
Наконец боевая подготовка перспективного молодого человека закончена, его оперативные возможности проверены и получили высокую оценку. Блюмкин отозван в Москву и зачислен слушателем восточного отделения Академии Генерального штаба. Это означало для него переход на игровое поле внешней или, как тогда говорили, закордонной разведки, руководимой давним одесским знакомцем Якова, сыном сапожника с Молдаванки Меиром Трилиссером. Активная полевая разведка – как раз то занятие, которое как нельзя лучше подходило беспокойному, склонному к опасным авантюрам Якову Блюмкину. Помимо изучения военных и политических дисциплин, слушатели отделения Востока зубрили иностранные языки. Способный к языкам Блюмкин успешно осваивает фарси, штудирует китайский, а также без понуканий совершенствуется в немецком, открытом ему благодаря родному идишу. Загадочный Восток влечет отныне прошедшего огни и воды Якова Блюмкина, жаждущего новых приключений и успехов.
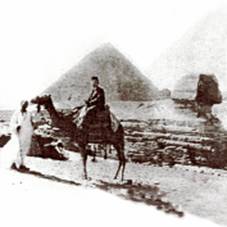
Я. Блюмкин на фоне пирамид.
Египет, 1929 год.
Живя в столице и не испытывая недостатка в деньгах, Блюмкин укрепляет связи с молодыми поэтами. Приятельские отношения с Маяковским, Есениным, Шершеневичем вряд ли носили оперативный характер, связанный с ведомством на Лубянке: Блюмкину, несомненно, импонировало знакомство с литературными знаменитостями, которым к тому же он мог оказывать своего рода покровительство – выдирать из лап ЧК, охотившейся за буйными и неуправляемыми вольнодумцами.
Летом 1920 года Блюмкин исчезает из Академии на четыре месяца. За это время он совершает невозможное: устраивает переворот в самопровозглашенной «Гилянской советской республике» на севере Ирана, свергает ее лидера Кучук-хана и приводит к власти безоговорочно послушного большевикам Эхсануллу. В военных структурах «нового государственного образования» Блюмкин занимает должность комиссара Гилянской Красной армии и ведет кровопролитные бои с войсками шаха Ирана, не без оснований видевшего в гилянской интриге направляющую руку Москвы. А Блюмкин, на практике закрепивший знание персидского языка, вступает в только что образованную с его помощью иранскую компартию и делегируется Ираном на Первый съезд угнетенных народов Востока в Баку.
Выполнив все свои задачи, в ореоле славы, Блюмкин возвращается в Москву и мирно продолжает обучение в Академии Генштаба. Именно к этому периоду относятся его первые серьезные контакты с Троцким, обратившим пристальное внимание на одаренного молодого человека. Спустя десятилетие преданность авантюрным революционным идеям Троцкого приведет Блюмкина к расстрельной стенке.
Между тем секретные приказы из Центра то и дело срывают Блюмкина с учебы, забрасывают в близкие и далекие края – туда, где не утихают бои и продолжается кровопролитие. То он в Крыму чинит расправу над остатками разбитой армии Врангеля, а заодно и форсировавшими Сиваш махновцами, то в должности комбрига подавляет восстание крестьян в Нижнем Поволжье, а потом появляется на Тамбовщине, преследуя отряды атамана Антонова. Осенью 1921 года комбриг-61 Яков Блюмкин вступает в боестолкновения с войсками барона Унгерна.
Окончив Академию и овладев, помимо прочих, основами турецкого, арабского и монгольского языков, Блюмкин занимает официальный пост личного секретаря Троцкого. Террор, война, разведка – а теперь и политика в чистом виде.
Впрочем, Блюмкин умел совмещать самые разнообразные занятия: разведка осталась, а краткосрочные поездки в Китай и на Памир, в Тибет и Монголию, на Цейлон и в Афганистан Яков чередовал с сочинением стихов и веселыми пирушками с приятелями-литераторами по возвращении в Москву. Он охотно читал свои стихи на публике, в литературных кафе. Его имя мелькало среди имен других стихотворцев. И между прочим, сомнительная слава графомана за ним не утвердилась. Кому-то даже пришло в голову приписать ему предсмертные стихи Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья, милый мой, ты у меня в груди…»
Могу засвидетельствовать, что передвижение по горным азиатским тропам, пешком и верхом, далеко не развлекательная прогулка. Гибель ждет там неопытного путника на каждом шагу – в пропасти, в ледяной расщелине, в бешеной темной реке, волочащей по дну пушечные ядра камней. Блюмкин, отдалившись от опального Троцкого, с головой ушел в разведывательную работу и раскинул сеть нелегалов по всему Востоку – от Турции до Китая. Особый интерес представляла для Иностранного отдела ОГПУ, по-прежнему руководимого Меиром Трилиссером, британская Индия. Блюмкин планировал создать мощную резидентуру в Бомбее, куда следовало забросить агентов через подмандатную Палестину: в борьбе с англичанами стоило использовать просоветски настроенных палестинских евреев, а не склонных к сотрудничеству с Лондоном арабов. Но первостепенным делом – делом сердца – неугомонный Блюмкин считал для себя поиски Шамбалы с ее бездонным запасом научных знаний, которые он намеревался использовать во благо «мировой революции». Впрочем, быть может, его увлекал не столько размытый научный результат, сколько захватывающий поиск.
Шамбалу искали многие: и большевики, и нацисты, и англичане с китайцами; никто как будто не нашел. В Москве заинтересовались Шамбалой в начале 1920-х годов, задача «найти и доложить» была возложена на руководителя спецотдела ЧК Глеба Бокия, разработчиком «теории Шамбалы» выступал парапсихолог Александр Барченко, исполнителем был назначен Блюмкин. ЧК, как это ни странно, была далеко не чужда мистическим веяниям: к «шамбалинскому» проекту был причастен и Дзержинский, и Трилиссер, и нарком Чичерин. Ведомственная склока, однако, спутала карты, и подготовленная уже экспедиция на Тибет была отменена. Это вовсе не означало, что Блюмкин отказался от своей мечты найти Шамбалу. Играя роль то дервиша-исмаилита, то бродячего ламы он, отправившись в путь с Памира, присоединился к экспедиции художника Николая Рериха, также искавшего подходы к Шамбале. Рерих отзывался о Блюмкине весьма уважительно, он так его и называл – «молодой лама». Приведу отрывок из романа Давида Маркиша «Стать Лютовым», написанного на документальной основе, – о заключительном этапе этой экспедиции:

Фрагмент картины Н. Рериха «Весть Шамбалы», на которой изображен «лама» Блюмкин*.
Переход затянулся, на ночлег встали в совершенной тьме. Ветер налетал порывами, как из мехов, и нес с собою ленты сухих острых снежинок. Выбрав среди скал местечко потише, люди уложили своих животных и легли сами, поджав колени к подбородкам.
– Пришли, – сказал проводник Дордже и сдвинул шапку с бровей на затылок. – Отсюда начинается спуск на Шамбалу. – И указал рукой.
Рерих и Молодой лама долго, молча глядели в провал, указанный им проводником. В темноте невозможно было определить глубину пропасти, открывавшейся за перевалом. Дно пропасти, по словам Дордже, заросло горным лесом, там текла река, повторяя изгибы широкой долины.
– Огоньки, как будто, мигают... – глухо сказал Рерих. – А?
Блюмкин промолчал, и Рерих обернулся за подтверждением к Дордже. Но проводник исчез <...>
– Подождем до утра, – сказал Блюмкин и бережно погладил Рериха по плечу. – Ничего не поделаешь...
Утром обнаружилось, что проводник исчез и из лагеря. Никто не видел, как он уходил и куда. Не досчитались и одной лошади. Узнав о происшествии, Рерих стал угрюм.
– Я вам говорил, – зло сказал Блюмкин, – этот подлец работает на англичан.
– Будем спускаться, – решил Рерих. – Мы у цели, никакие англичане, будь они прокляты, нам не помешают.
Долина была пуста и красива. Крепкие деревья леса окаймляли реку, на галечные берега которой, казалось, нога человека не ступала со дня сотворения мира. Пересвистывались красные сурки, столбиками стоя у своих нор и без боязни глядя на караван. Зайцы, рассекая высокую траву, передвигались короткими перебежками. Горный покой, величественный и строгий, словно запечатывал долину, отсекая ее от населенного мира. Трудно было бы сыскать на свете лучшее место для Шамбалы со всеми ее мудрыми тайнами. Но не было здесь Шамбалы.
Блюмкин жадно поглядывал по сторонам, как будто с последней надеждой ждал появления из леса припозднившегося шамбалийца, и кусал губы.
– Не знаю, как вам, – сказал Рерих ровным стеклянным голосом, – а мне здесь нравится. Пейзаж фантастический: фиолетовое небо лежит на ледяных опорах вершин, над рыжим потоком, вырывающимся из каменных райских врат... Я остаюсь тут рисовать.
Блюмкин вздохнул, спешился и, усевшись по-турецки, отвернулся от людей.
Следует добавить, что в ходе путешествия Блюмкин самым тщательным образом собирал разведданные об английских военных гарнизонах, о состоянии дорог, о расположении мостов. Британцы, надо полагать, знали о «молодом ламе» немало интересного, да и вся экспедиция Рериха сильно их раздражала, и они, как могли, ставили палки в колеса. Блюмкин же пользовался караваном художника как «крышей»; он то пропадал куда-то на день-другой, то вдруг возникал совершенно неожиданно на каком-нибудь снежном перевале и вновь присоединялся к Рериху и его спутникам. На одном из участков пути его арестовали и посадили под замок в местной каталажке. Офицер английской разведки ждал конвоя, чтобы сопроводить пленника «куда следует». Но удача и тут сопутствовала Блюмкину: он благополучно бежал из тюрьмы, прихватив с собою секретные английские документы и, на всякий случай, комплект солдатского обмундирования. Эта «военная хитрость» пригодилась ему немедленно: спасаясь от погони, он смешался с преследовавшими его британскими солдатами – и был таков.
Всё имеет свой конец – и удача тоже. Удача отвернулась от Якова Блюмкина на взлете его успеха, в Константинополе, в 1929 году. Этому предшествовала «служебная командировка» в Палестину от ведомства Меира Трилиссера.
Можно сказать, что Палестина не была для Якова Блюмкина – с его еврейской внешностью и знанием иврита – чужим местом. Он и раньше, до 1929-го, бывал здесь: под личиной владельца прачечной Гурфинкеля приглядывался в Яффе к англичанам, евреям и арабам. Теперь, «забрасывая разведсеть» в направлении Бомбея, он прибыл в Иерусалим в роли персидского купца Султанова – торговца уникальными древнееврейскими книгами. Книги эти, представлявшие значительную ценность, были изъяты по распоряжению наркома Луначарского из библиотечных хранилищ; часть из них относилась к конфискованному властями собранию священных книг Любавичского Ребе Шнеерсона. Редчайшие книги не предназначались к продаже – они должны были доказать основательность и серьезность коммерческих возможностей купца Султанова.
В Иерусалим Блюмкин приехал из Константинополя, где руководил нелегальной резидентурой. Он привез с собою в Палестину четверку обученных московских агентов, и есть основания предполагать, что еще одного или нескольких ему удалось завербовать на месте из числа лево настроенных палестинских евреев. Агентурная сеть быстро пустила корни, Яков предпринял несколько поездок в Европу для установления связей с коммерческими партнерами и укрепления своего положения в мире торговцев еврейским книжным антиквариатом. Трилиссер был доволен действиями своего ближневосточного резидента.

Е. Зарубина (в девичестве Розенцвейг).
Поездка Блюмкина в Москву для отчета и консультаций являлась, по существу, рутинным действием. Путь домой лежал через Турцию. Там, в Константинополе, состоялась встреча – вероятно, вполне случайная – с сыном Троцкого Седовым, а затем и с самим Львом Давидовичем. Несомненно, Яков мог уклониться от этих контактов – но не сделал этого. Троцкий (быть может, Седов) попросил передать московским родственникам книгу, и Блюмкин согласился выполнить поручение. Нет доказательств, что между строк книги было размещено написанное симпатическими чернилами послание Троцкого к своим приверженцам в Москве – хотя эта «шпионская» версия охотно муссируется исследователями.
По прибытии в Москву в конце 1929 года Блюмкин, из романтических соображений, встретился с сотрудницей Иностранного отдела ЧК Лизой Розенцвейг. С этой молодой красавицей, с которой он делил постель, Яков поделился и своими сомнениями: передавать ли посылку Троцкого адресату или воздержаться от рискованного поступка. Вот уж, действительно, ночная кукушка дневную перекукует!.. Узнав о константинопольской встрече Блюмкина, Лиза немедленно донесла о ней своему чекистскому руководству.
«Всё время меня не покидала мысль о том, – доносила красотка Лиза, – что, собственно говоря, раньше всех обо всем должен узнать т. Трилиссер, что я, его сотрудница, обязана ему рассказать…»
Узнал, со слов самого Якова, о встрече с Троцким и о посылке и бывший преданный троцкист Карл Радек. Реакция его на эту новость была панической: Радек посоветовал Блюмкину немедленно идти в канцелярию Сталина, каяться и вымаливать прощение. Взвесив все «за» и «против», Блюмкин решил в очередной раз «лечь на дно»: бежать в Азию и укрыться там в одном из горных буддийских монастырей. По дороге на Казанский вокзал Яков, в сопровождении неотвязной Лизы, решил заглянуть к художнику Фальку, того не оказалось дома. Поехали на Казанский, там выяснилось, что поезд на Восток будет через несколько часов. Пришлось ждать. На вокзале, по наводке Лизы Розенцвейг, Блюмкин и был взят чекистами. Его судьба была решена на самом верху: за контакт с Троцким он был расстрелян 12 декабря 1929 года.
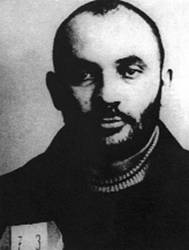
Я. Блюмкин в тюремной камере на Лубянке.
Судьба красавицы Лизы Розенцвейг сложилась благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
А Меир Трилиссер, Глеб Бокий и Александр Барченко были расстреляны в 1937 году.https://lechaim.ru/ARHIV/166/alabay.htm
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
|
Метки: яков блюмкин |