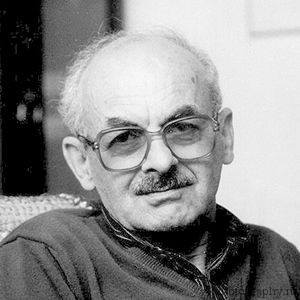|
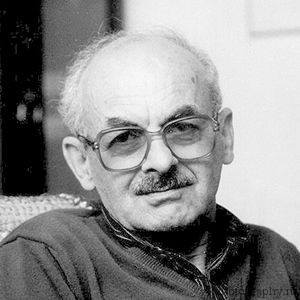
последнее интервью Окуджавы
Булат Окуджава. Анекдоты от классика
Дм.Быков
Булат Окуджава, прошедший весь путь классика, переживший и бешеную славу, и почти забвение, изобрел новый прозаический жанр — «Автобиографические анекдоты» (цикл рассказов с таким названием опубликован в «Новом мире»). Впрочем, повестуя о себе, Окуджава никогда не впадал в пафос, а потому вся его автобографическая проза выглядит чередой анекдотов, более или менее печальных.
— В ваших последних стихах много ужаса перед старостью. Вы не находите преимуществ в своем нынешнем возрасте?
— Преимущества нашлись, ужас остался.
— И что это за преимущества?
— Думаю, главным образом способность не обольщаться.
— А вам не кажется, что обольщения здорово способствуют творчеству и вообще полезны?
— О да, когда я, засучив рукава, работаю, я совершенно искренне считаю себя гением. И без этого чувства вряд ли сдвинулся бы с места. Но стоит мне перечесть только что написанную вещь, как я снова способен взглянуть на себя трезво.
— В «Анекдотах» достоверно почти все, но в одно я, извините, не поверю: в вашу переписку со шведской королевой...
— И правильно делаете, что не верите. Это же не автобиография, а анекдот, устный жанр, так что я вправе кое-что досочинить. Я действительно стоял в Стокгольме на улице и вдруг увидел королевский кортеж. Неожиданно для себя я испытал очень теплое чувство, и мне даже показалось, что королева взглянула на меня... И я позволил себе помечтать: вот я прихожу в гостиницу и пишу ей письмо. «Ваше Величество, я не монархист, но я очень рад Вас видеть, и мне кажется, что Вы два раза милостиво посмотрели в мою сторону. С почтением, такой-то». Тут же мне представился ее ответ: «Милостивый государь, я тоже Вас заметила и действительно посмотрела в Вашу сторону. На всей улице Вы один не сняли шляпу».
— А про мышку — правда?
— Да, с мышкой действительно была такая история. Я жил один в Переделкине и заметил, что вместе со мной посмотреть телевизор выходит мышка. Я никогда мышей особенно не любил, но тут мы с ней друг к другу привязались, и я очень горевал, когда она попала в мышеловку.
— Вы, вероятно, трудно переносите одиночество?
— Нот, напротив. В юности я был компанейский человек, а потом все больше стал предпочитать уединение. Вот сейчас, например, я тоже один, потому что лечу бронхи. От этих лекарств у меня как-то снижается сопротивляемость, я становлюсь более восприимчив к инфекции... Жена заболела гриппом и, оберегая меня от вируса, переехала к сыну. Но у меня хватает дел, и я вполне нормально чувствую себя в этом уединении: минут на пятнадцать выхожу потоптаться во двор, вспоминаю, читаю, готовлю...
— Готовите?!
— Я очень люблю это дело и хорошо умею. Не забывайте, я ведь кавказец. С молодости люблю...
— Не представляю, когда вам в молодости было этому учиться.
— До войны — бабушка, после войны — тетя. Ничего сложного я, конечно, не делаю, но если берусь, готовлю как следует. Я очень не люблю неприхотливых людей. Наше пресловутое долготерпение, которым принято восхищаться, это тоже неприхотливость. А я не таков. Я многое прошел и умею терпеть. Но если я пью чай, это должен быть хороший чай. Или надо честно наливать себе воды.
— Вы называете себя кавказцем. Что-нибудь еще восточное есть в вашем характере?
— Я наполовину грузин, наполовину армянин. И оттого во мне сочетаются две страсти: грузинская царственная лень и уважение к себе с упрямством и работоспособностью армянина.
— Лень?
— Это не любовь к безделью, не страх работы, но некое сибаритство, пристрастие к комфорту.
— А грузинская катастрофа не приводит вас к грустным выводам относительно национального характера?
— Это не грузинский характер виноват, а советская наша школа, из которой мы все вышли. Все мы ждем распоряжения барина, обожествляем впасть и не уважаем личность. Впрочем, неуважение к личности болезнь российская, исконная, застарелая.
— Недавно, как я заметил, у вас появился автоответчик. Почему вдруг? И как он меняет вашу жизнь?
— Автоответчик подарили японцы, мы его поставили, но я очень редко включаю его и почти всегда забываю прослушать. У меня очень сложные отношения с техникой. В доме ее полно, потому что, когда появлялась такая возможность, я ее покушал за границей, содрогаясь от страсти. Однажды купил видеокамеру и к ней этот... Господи... ну, во что вставляют кассету...
— Видак?
— Его. Привез, и в течение двух недель мы всей семьей пылко эксплуатировали камеру: снимали пришедшего к нам почтальона, снимали Москву с тринадцатого этажа... Очень скоро нам это надоело, с тех пор она и пылится на попке. Никогда не забуду, как лет десять назад Володя Войнович меня в Мюнхене обучал работать на компьютере.
— И как?
— Глухо.
— То есть вы обходитесь машинкой?
— Я обхожусь пером и бумагой, причем люблю чернильные ручки. Перепечатываю на машинке только готовую вещь, и машинка самая обыкновенная, старая.
— У вас много стихов и песен о вашей гитаре, а что это за гитара, часто ли вы ее меняете?
— В молодости мне показали три аккорда, показали, как настроить, и я купил семиструнку. Гитара периодически терялись, ломались, забывались в гостях и так далее. Я покупал новые — как сейчас помню, они стоили по семь с полтиной. Я никогда об этом всерьез не заботился, потому что к игре относился как к хобби. И только лет двадцать назад в Америке мне подарили мою нынешнюю гитару, с металлическими струнами. Я ведь всегда играл на нейлоновых, а тут все гораздо ярче зазвучало. Так эта гитара у меня сейчас и лежит — временно без движения, потому что я сейчас не пою.
— Вам приятно петь?
— Чаще всего это зависит от реакции аудитории. А где-то с начала восьмидесятых это мне стадо трудно, так что особой радости не доставляет.
— У вас есть какие-то наблюдения, почему одну вещь подхватывают и поют, а другая при всех своих достоинствах остается неоцененной?
— Тут есть секрет, которого я сформулировать не могу и который, наверное, проще всего было бы объяснить на примере фольклора. Я в молодости с удовольствием пел народные песни, люблю их и сейчас. Вот они все с секретом, потому что в фольклоре выживает только то, что поется. У меня бывали случаи, когда на интересные стихи придумывалась прихотливая мелодия, а никто этого потом не пел. А иногда я сочинял стихи и музыку за десять минут — так было с «Ленькой Королевым», — и вещь немедленно подхватывалась. Какие-то песни нравились мне самому, но их трудно исполнять, например, «Вилковские фантазии» или «Почтальон».
— Интересно, как вы относитесь к ностальгической волне, захлестнувшей телевидение? Ко всякого рода «Старым песням о главном»?
— Ну сам я не слишком ностальгирующий челочек и слушал в те времена другую музыку. Но если это кому-то напоминает лучшие годы — почему нет? Ностальгия не самая большая беда, меня тревожит другое — засилье ресторанной культуры. Я понимаю, что в ресторане «Онегина» не слушают, но всякому жанру свое место. Кроме того, меня сильно раздражает слово «звезда», применяющееся сейчас к чему попало.
— А что из своего творчества вы любите больше всего?
— Из песен и стихов всякий раз разное. Из прозы «Свидание с Бонапартом» по совпадению замысла и воплощении. Хотя в читательском мнении больше повезло «Путешествию дилетантов», потому что это любовная история.
— В «Свидании» есть интересные фантастические допущения, например, герой, которого как бы преследует Наполеон. Он в Россию — и Наполеон за ним. И пока его не убили, французов не могли остановить.
— Это, кстати, совсем не фантастическое допущение. Я наткнулся в архивах на совершенно реальное письмо, где человек рассказывает о своих метаниях по Европе: куда бы он ни бросился, Наполеон его преследовал и настигал. И теперь он надеется спрятаться в России. Ничего о дальнейшей судьбе этого героя мне не известно, но он так меня поразил, что я ввел его в роман.
— Вы много болели в прошлом году, почти одновременно с Ельциным. Вам не кажется, что ему при его состоянии здоровья все-таки следует уйти?
— Насколько я могу судить, он не до такой степени болен.
— Вы были одним из немногих, кто достаточно резко оценил шумную поездку Лужкова в Севастополь. Я с вами совершенно солидарен. Как вы вообще относитесь к московскому мэру?
— Лужков — замечательный строитель, замечательный управдом, какие люди нужны. Но когда управдом начинает вырабатывать идеологию, навязывать ее, устраивать шумиху вокруг своих политических акций или взглядов, как в случае с Севастополем, это меня настораживает. Государство вообще не должно вызывать у человека никаких пылких чувств. Оно меня оберегает, я ему за это плачу налоги, оно представляется мне большой жилищной конторой и ничем более. Если говорят о Великой Державе, за этим наверняка скрывается прохиндейство.
— А нищим вы подаете?
— Музыкантам — да. Иногда и немузыкантам, если вижу, что это не жульничество. Я считаю себя человеком зорким.
— Вы можете прожить только с литературных доходов?
— У меня хорошая пенсия — ветеранская, и Ельцин мне добавил: он сейчас подписал список нескольких литераторов, которым пенсия повышена. Два-три раза в неделю звонят и предлагают переиздать что-то из моих стихов или прозы. Что-то выходит на Западе. И потом, мне ведь немного надо. Какой-то минимум функциональной мебели.
— Например?
— В комнате желательны два кресла, кровать, диван, стол, стулья. Все это у меня есть. Что до одежды — в юности я любил приодеться, любил хорошо выглядеть и порядочно на эго тратился. А сейчас — я уж и не вспомню, когда в последний раз покупал одежду. Я ношу те вещи, к которым привык и которые люблю.
— А старый пиджак действительно перешивали?
— Было такое, он еще долго мне служил.
— В вашей новой подборке стихов в «Знамени» меня несколько обескуражило стихотворение о немце, который оказался в раю вместе с русским солдатом Ленькой и теперь беседует с ним не по-русски и не по-немецки, а на райском языке. Ленька, как я понял, это Ленька Королев?
— Наверное, да. И что тут странного?
— Неужели вы допускаете, что немецкий солдат мог попасть в рай — во всяком случае, в один рай с русским?
— Допускаю. Я для него о был такой же мишенью: его послали на войну, ему приказали стрелять, он стрелял, я его убил. Я никогда не ненавидел немцев. Фашизм — всегда. Немцев — нет. Они же солдаты.
— «Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом».
— Это песенка добровольного конформиста, который сам выбрал такую позицию. А солдата никто не спрашивал, послали воевать, и все. Кстати, эту песенку спас Евтушенко. Мы где-то вместе выступали, он сидел в первом ряду и оттуда попросил спеть мою последнюю вещь. Это как раз и была «Возьму шинель, и вещмешок, и каску». Я стал отнекиваться: не могу, не помню, а он продолжал просить: «Ну, спой песню американскою солдата!» С тех пор я ее на выступлениях так и называл, хотя у американских солдат вещмешков не бывает.
— А «Как славно быть совсем простым ученым, пока еще ни в чем не уличенными» — это не ваша переделка?
— Нет, это сочинили в Московском университете. Там сделали на меня две очень смешные пародии: первая — эта, а вторая — «За что ж вы Клима Ворошилова». Если помните, тогда Ворошилов временно примкнул к фракции Молотова — Маленкова — Кагановича. И песенка была такая: «За что ж вы Клима Ворошилова, ведь он ни в чем не виноват! Ведь он хотел, чтоб лучше было бы, а сам ни в чем не виноват! Он в цирк ходил на Старой площади и там во фракцию вступил. Ему б чего-нибудь попроще бы, а он во фракцию вступил. Она по проволоке ходила, махала белою рукой, но партия ее схватила своей мозолистой рукой».
— Какая ваша песня вызывала наибольшие нарекания властей?
— Знаете, мне всегда трудно это объяснить. На нынешних концертах двадцатилетие спрашивают: вот вас преследовали вначале, а за что? И я теряюсь, потому что нарекания, например, вызывала моя строка: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» Какая она подлая, если она — великая? Вот такой был уровень претензий. Или, например, вызывают меня и интересуются, почему я в песнях употребляю Слово «женщина». Рекомендуются «девушки», а лучше всего «девчата».
Я вызывал недоумение только в первое время. Представьте, появился какой-то усатый грузин с гитарой, запел пошлятину... как реагировать? Большой шухер! Поскольку песенки пели многие, а про автора знали только, что он Окуджава, сначала им вообще было непонятно, не женщина ли я. Потом стало известно, что Окуджава — это такой поэт, работает в «Литературной газете», реальное лицо. И они постепенно стали ко мне привыкать. Потому что хоть они и говорили, что народу я не нужен, но сами-то меня слушали, у них у всех дома мои пленки крутились. И постепенно я стал своим, и на меня перестали обращать внимание, а когда появился Солженицын, ну, на его фоне я был уже просто родной.
С выпуском моей пластинки получилось совсем забавно. Приехали французы и спрашивают: почему у вас Окуджаву не издают? Мой французский диск тогда уже существовал и даже пользовался некоторой известностью. Им отвечают: «Как не издают? Его пластинка выходит!» И тут желают команду срочно издать мою пластинку. Берут французский диск, списывают с него четыре песенки: «Леньку», «Смоленскую дорогу», «Песенку о ночной Москве» и «Полночный троллейбус». И печатают, ляпнув на обложку самую неудачную мою фотографию. Я ничего не знаю. Звонит мне поэт Ваншенкин: «Слушай, я шел мимо киоска, а там твоя пластинка!» Я не поверил и побежал в этот киоск. Действительно, стоит пластинка. Купил, послушал и написал на фирму «Мелодия»: «Дорогие друзья! Сначала меня озадачило, чтобы не известили меня о выходе моей пластинки. Но потом я понял: вы решили, что я уже умер. Рад сообщить вам, что это не так. В довершение всего вы поместили на обложке фотографию моего двоюродного брата». Через неделю мне позвонили, и мы начали делать большую пластинку.
— К вопросу об уже упоминавшейся ресторанной культуре. У вас была ранняя песенка «А ну, швейцары, отворите двери». От чьего имени она поется?
— От имени нормального небогатого молодого человека моего поколения, который выбрался в ресторан. И ему не нравится, как бездельники и шлюхи глядят на него и на его женщину.
Я помню, было какое-то проработочное собрание деятелей культуры под председательством тогдашнего культурною босса Ильичева. И вот он с трибуны заявляет: «У Окуджавы есть песня, прославляющая золотую молодежь». Он сделал паузу, и я с места громко сказал: «У меня нет такой песни». Он: «А как же про швейцара в ресторане?» Я: «Эта песня прославляет не золотую, а нормальную молодежь». Он растерянно произнес: «А мне сказали». Воображаю, как он после разнес своих информаторов.
— Но вам случалось в ресторане пояснять всякого рода брюнетам, что так смотреть на вашу женщину не надо?
— Случалось.
— В том числе и кулаком?
— Почему нет?
— А как же интеллигентность, главный признак которой, по вашей же формуле, ненависть к насилию?
— Защищать свою женщину — это сила, а не насилие. Интеллигентный человек должен сомневаться в себе, иронизировать над собой, страстно любить знания, нести их на алтарь Отечества — и уметь дать в морду. Вот это и есть интеллигент, а не советская формула «диплом — очки — шляпа».
— А что для вас определяет настоящего мужчину и настоящую женщину?
— И в мужчинах, и в женщинах меня интересует одно: личность. Цельность.
— У Домбровского в «Факультете» настоящим мужчиной назван ваш отец, так и не признавший ни одного обвинения против себя.
— Его дело всегда лежит у меня в столе. Отца допрашивали в Свердловске, и, когда я там выступал — уже, впрочем, в Екатеринбурге, — мне подарили ксерокопию этого дела. Мой отец был сложный человек. Да, он держался с редким мужеством и ничего не подписал. А до этого он всю жизнь с тем же фанатизмом, мужеством и азартом создавал все то, что его погубило.
— Как вы воспитывали собственных сыновей? Вас устраивает результат?
— Сейчас у меня остался один сын. Старший умер. Антон — младший, от второго брака, профессиональный музыкант и музыкант, по-моему, очень хороший. Но он совершенно не умеет, что называется, тусоваться, а это при его профессии один из способов делания карьеры. Вместо этого он, не разгибаясь, сочиняет. Иногда и по заказам — что-то для рекламы.
— Вы много времени посвящали воспитанию детей?
— Как всякий азиат, я чадолюбивый отец. Но всегда получается так, что отцы уделяют детям меньше времени, чем хотят и должны.
— Я слышал, что ваша жена — одна из самых известных московских красавиц, дочь академика Арцимовича. Вы легко ее завоевали?
— Не дочь Арцимовича, а племянница, и это никак не облегчало ей жизнь. Что до известной московской красавицы... Нет, это неточное определение. Она действительно очень привлекательна, и круг моих друзей разделял мое восхищение. Но никакого завоевания не было. Мы сблизились очень быстро. Потом в нашем союзе бывали и отчаянные минуты, но то, что объединяет нас, всегда перевешивало.
— Вы заинтересовали ее, я полагаю, именно песнями?
— Мои песни ее тогда интересовали меньше всего.
Б. Окуджава

рисунок ЮК
-=-
помещая этот рисунок я вспомнил стихи Булата
.
шуршат-шуршат карандаши
за упокой живой души
шуршат не нашуршатся
а вскрикнуть не решатся...
а у меня болит душа
но что возьмешь с карандаша
- он правил не нарушит
и душу мне потушит...
последний штрих и вот уже
я выполнен в карандаше
- мой фас увековечен
но плакать ему нечем...
.
АвтобиографическиЕ АнекдотЫ
Гений
Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!» Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.
И вот однажды дядя меня спросил:
– А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было… и у Безыменского… А у тебя ни одной…
Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.
Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.
– Здравствуйте, – сказал я.
– О, здравствуйте, здравствуйте, – широко улыбаясь, сказал он. – Вы ко мне?
Я кивнул.
– О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..
Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:
– Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи…
– О! – прошептал он.
– Мне хочется… я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского…
Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда…
Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:
– Книгу?! Вашу?!. О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! – Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: – Но, видите ли, у нас трудности с этим… с бумагой… это самое… у нас кончилась бумага… ее, ну, просто нет… финита…
– А-а-а, – протянул я, не очень-то понимая, – может быть, я посоветуюсь с дядей?
Он проводил меня до дверей.
Дома за обедом я сказал как бы между прочим:
– А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу… но у них трудности с бумагой… просто ее нет…
– Бездельники, – сказала тетя.
– А сколько же нужно этой бумаги? – по-деловому спросил дядя.
– Не знаю, – сказал я, – я этого не знаю.
– Ну, – сказал он, – килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два…
Я пожал плечами.
На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал.
Любовь навеки
В ранней молодости я был поразительно влюбчив. Нет-нет, это была не похотливость, не склонность к разврату, не холодная расчетливость самца. Это был жаркий огонь, умопомрачение, платоническое безумие. Я влюблялся. И когда смотрел на предмет своей влюбленности, у меня вырастали крылья, и я понимал, что отныне это навсегда.
Конечно, некоторое легкомыслие, свойственное возрасту, определяло степень этого пожара, но я был абсолютно порядочен, верен, щедр, склонен к самопожертвованию и счастлив. И все это до той поры, пока не возникала другая.
Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул и понял, что это навсегда. Ее предшественница тотчас померкла. И дело тут было не в красоте, не в особых каких-то достоинствах. Я уже тогда сознавал, что есть что-то, какая-то таинственная власть, утверждающая мое восхищение. Смешно было бы говорить, что у этой, например, глаза были прекраснее, чем у той, или что у этой манера общения была обворожительней. Нет-нет, и глаза у той были прекрасней, и манера общения, и нос, и губы, и характер… А сгорал от этой и искренне верил, что уж теперь все, что это навеки.
Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул. Она была прекрасна. Высокая, стройная брюнетка с локонами, покоящимися на плечах, с зелеными глазами, с загадочной улыбкой. Она была немногословна, и за этим тоже таилось нечто, что не давало покоя. Я, как брюнет, обычно был склонен к блондинкам, но тут все блондинки показались заурядными. Я даже, помню, удивлялся, мол, как это можно было иметь дело с той и даже ею восхищаться и так обольщаться на ее счет, когда в мире существовала эта!
Я жил тогда в Тбилиси у своей тети. Шел сорок пятый год. Тетя меня очень любила и была мне вместо матери. Меня, как вчерашнего фронтовика, легко приняли в университет и многое прощали. А прощать было что. Филология меня не очень возбуждала, но мысль о том, что я вчерашний фронтовик, что я жив, что мне в связи с этим все дозволено, что очередная пассия не сводит с меня глаз, что вечером мы пойдем с нею в парк Дома офицеров и будем отбивать ноги в танго, фокстроте, в вальсе-бостоне, – мысль об этом очень возбуждала меня.
И вот появилась Алиса Бошьян, и я вздрогнул и уже через несколько дней решил познакомить ее с моей тетей. Всех предшественниц я тоже приводил к тете, и всем она давала самые возвышенные оценки. И это стало традицией.
– Вот, – сказал я взволнованно, – знакомьтесь, это Алиса Бошьян.
– Я очень рада, – сказала тетя, – он столько рассказывал о вас, и с таким восхищением, что не терпелось познакомиться… О, вот вы какая! Ну, заходите, заходите, я очень рада…
Мы ужинали втроем. Было очень сердечно. Я смотрел то на Алису, то на тетю. Разговор был милым и непринужденным. Тбилисский вечер вплывал в окно. Как хорошо, что закончилась война!
Уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро. Вбежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола.
– Ну что?! – почти закричал я. – Какова, а? Я ведь говорил!.. Ты ведь не разочаровалась? Да? Да?..
– Ну что ты, – сказала тетя и погладила меня по голове, – она великолепна! Какая фигура! А глаза!.. – Ушла на кухню, вернулась: – Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги… – и тут же поправилась: – ножки… Впрочем, может быть, и показалось… Да это, в сущности, такой пустяк… Не так ли?
– Конечно, – выдохнул я оторопело.
Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. Подумаешь, думал я, какая мелочь! Утром, проснувшись, снова подумал о том же. Приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц. У всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу.
Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались, я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей и, оглядев ее, понимал, что это навеки.
Гитарист
Это случилось в пятьдесят девятом году. Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.
Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым.
Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь.
И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника… И звон стекла, и кряканье, и вздохи – и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этакий ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.
В доме Павла я был впервые, и родственники его были мне незнакомы. Судя по их лицам и разговорам, простые милые люди, в основном из московских работяг. Они и преобладали за столом. А наших было мало, и они, конечно, старались не очень-то «высовываться» и не нарушать господствующего климата своим интеллектуальным вздором. Так, нашептывали друг другу всякие остроты и посмеивались украдкой. Только Володя Максимов был крайне мрачен.
Наконец, когда было достаточно выпито и съедено, отяжелевшие гости потянулись в соседнюю комнату. Мои подмигивали мне многозначительно. Я шел и понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.
В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и волновался: очень хотел угодить слушателям.
– Что же мне вам спеть? – спросил я, перебирая струны, – что-то сразу и не соображу…
– Может быть, «Сапоги»? – шепнул кто-то из своих.
Я подумал, что «Песенка о сапогах» – это военное. Это не ко дню рождения… И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.
– Ну, «Неистов и упрям…», – подсказали снова.
– Нет, – сказал я, – начну-ка с «Последнего троллейбуса»… Все-таки московская тема…
Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.
«Когда мне невмочь пересилить беду…» – запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет «Песенка о Леньке Королеве». Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская.
Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: «…и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает…» – и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:
– Веселую давай!.. «Цыганочку»!..
– "Цыганочку"!.. – загудели гости, и кто-то затянул «Ехал на ярмарку ухарь-купец…».
Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:
– Пошли отсюда!.. – и повел меня насильно в прихожую. – Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..
Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.
– Я не хотел тебе говорить, – сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, – когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано – «гитарист»!
Большая честь
Самое начало шестидесятых. У меня уже некоторая известность. Крутятся магнитофоны. Появляются в газетах бичующие меня фельетоны. Это еще больше усиливает интерес ко мне. Бурное для меня время, очень значительное. Ведь мною интересуется публика, ну, может быть, и не очень широкая, ну и, конечно, интересуются не столько мною, сколько моими песенками, которые они пересказывают друг другу, напевают, находят в них что-то близкое для себя… Большая честь.
И вот однажды звонит мужчина с завода твердых сплавов, где-то в районе Марьиной рощи. Называется председателем профкома. Голос у него какой-то странный, какие-то подозрительные интонации слышатся в его речи. Он долго выспрашивает меня – Окуджава ли я и пою ли я свои песни… Ах, тот самый?.. И выступаете с ними?.. Ну да… ну конечно… и выступаете… Тогда вам нужно срочно к шести часам быть у нас в профкоме. Тут дело чрезвычайной важности… Тут, понимаете, такая каша заварилась!..
Еду. Ломаю голову: что может быть у меня общего с заводом твердых сплавов?! Какие это твердые сплавы?!
В профкоме множество народу. Все смотрят на меня разинув рты, всплескивают руками, ахают, чертыхаются.
– Здравствуйте, – говорю я, – что это случилось?
И председатель профкома, задыхаясь от волнения, рассказывает мне о происшедшем.
О том, как несколько дней назад явился в профком молодой человек высокого роста, широкоплечий. Льняные волосы украшают голову. Голубые глаза дружелюбно распахнуты. Сдержан. Немногословен. Вы про Окуджаву что-нибудь слыхали? Мы говорим, мол, слыхали, слыхали, ну и что? А я и есть Окуджава, ну, здравствуйте. Тут все наши сбежались, и мы начали сговариваться о его выступлении в нашем клубе. Договорились как раз на сегодня, на семь вечера. Он сказал, что ему нужен аванс в пятьдесят рублей, а остальные, мол, после вечера. Ну, мы дали ему аванс, и он ушел. И тут, через полчаса, наш бухгалтер возьми и скажи: по-моему, Окуджава вовсе не такой. Он и постарше, и помельче вроде, худенький такой, и усики у него… Что-то тут не так… Началась у нас паника, и вот сегодня мы к началу вызвали опергруппу после разговора с вами. Скоро он явится, представляете? И возьмут его с поличным, а вы будете свидетелем!
Ко мне подходит лейтенант милиции и спрашивает:
– А документики у вас есть?
Предъявляю ему удостоверение. Все в порядке. Он говорит:
– Прошу всех лишних покинуть помещение.
– Публики полон зал, – говорит кто-то.
Все наэлектризованы. Я больше всех. Дрожь меня сотрясает. Особенно когда думаю о сумме аванса. Ведь в те годы пятьдесят рублей – это была неслыханная плата за выступление, а тут аванс! Я, выступая по разным клубам, получал самое большее тринадцать рублей, а тут аванс!
И вот дело уже к восьми, а мошенника все нет.
– Не придет ваш жулик! – смеется лейтенант. – Что он, дурак, что ли?
– Подождем еще немного, – говорит председатель профкома без всякой надежды.
В восемь часов председатель говорит мне:
– Пойдемте, хоть покажитесь публике… Вот беда!
И вот я выхожу из-за кулис на сцену, и зал меня приветствует, и председатель, вышедший со мной, потерянно говорит в зал:
– Тут, понимаете, вот какая штука получилась… Как бы вам это объяснить…
Я отодвигаю его от микрофона и рассказываю о случившемся. Все хохочут, аплодируют и кричат:
– Пойте! Пойте!..
Председатель шепчет мне:
– Может, выступите?.. Что же теперь-то… Уж теперь придется…
Вдруг у меня мелькает мысль, что все это затеяно специально, чтобы заставить меня выступить!.. Впрочем, эта мысль тут же гаснет, потому что в те годы меня не нужно было уговаривать и всякое приглашение выступить я почитал за большую честь… И все-таки я замотал головой и наотрез отказался, мол, я не готовился, и гитары со мной нет, и вообще вы сами видите, как все сложилось…
Так и разошлись.
Через несколько лет в перерыве одного из выступлений кто-то вручил мне конверт. В нем лежала фотография незнакомого мужчины. На обороте была надпись: «Этот человек на книжной ярмарке выдавал себя за вас и давал автографы на ваших книжках».
Глядя на эту фотографию, я вспомнил ту давнюю историю на заводе твердых сплавов. Этот тоже был молодой человек, высокий и широкоплечий. Но он был брюнет, и у него были пышные украинские усы.
И все-таки большая честь.
-=-
продолжение будет
|