Без заголовка |

Зюганов предложил референдум о национализации минерально-сырьевой базы | Интересные новости
Зюганов предложил референдум о национализации минерально-сырьевой базы
 Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

"Я уверен, мы сумеем провести общенациональный референдум о национализации минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей производства", — сказал Зюганов на митинге КПРФ, посвященном годовщине Октябрьской революции, который проходит на площади Революции.
По его словам, это позволит увеличить доходы бюджета РФ в два раза.
"Почему у нас 10% самых богатых захватили 87% национального богатства? Почему у нас социальное неравенство? Почему у нас полстраны живет на 15 тысяч и менее?" — добавил лидер коммунистов.
"Наша партия разработала реальную программу. Суть этой программы в двух словах заключается в том, чтобы развивать, а не воровать", — сказал Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что ночью вернулся из Белоруссии, где в должность президента заново вступает Александр Лукашенко. Глава Белоруссии попросил поблагодарить Россию за поддержку того курса, который оказался самым эффективным и самым социально грамотным, отметил Зюганов.
Лидер КПРФ уверен, что надо все сделать, чтобы главные богатства России служили каждому человеку.
Руководитель коммунистов поздравил всех с праздником. "Да здравствует Великий Октябрь, да здравствует народ-труженик!" — отметил Зюганов.
Ранее зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ в день годовщины Октябрьской революции 7 ноября проведет серию акций, демонстраций и митингов по всей России. По его словам, лозунги этих акций касаются национализации, перехода от деградации к устойчивому развитию страны, поддержки науки и образования, принятия закона о детях войны и ряда других требований.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20151107/1315633435.html#ixzz3qoG1nZfb
|
|
Без заголовка |

Эх, хорошо в стране российской жить! | АНТИСОВЕТСКАЯ ЛИГА
Эх, хорошо в стране российской жить!
 Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
- Смотришь по карте, где железная дорога. Едешь туда, ждешь, больше суток никогда не ждали. Поднимаешь руку со стаканом, останавливаешь локомотив. И машинист тебе за стакан спирта все емкости соляркой зальёт. Заправок же там нет. Дорог, в европейском понимании этого слова, тоже нет. Полторы тысячи километров можно проехать по проселкам и руслам рек и никакого жилья не встретить...
Там всё странно, в этой незнакомой нам России. Путешественники почти ничего не покупали в этой поездке, потому как - натуральный обмен.
- Мы набрали в дорогу старой одежды, спирта, перочинных ножей, сахару - и меняли на то, что нам было нужно. Один раз дал я мужику пятисотку, он отказался: "Нет, нам ваших денег не надо. Что у вас есть из полезного? Сахар? Спички?" Как у папуасов - можно на перочинный ножик или старую куртку выменять мешок кедровых орехов... Конечно, иногда они выезжают в мир. Одна бабка, например, раз в два года ездит получать пенсию за 800 километров. Она знает, когда идет лесовоз, садится к машинисту и едет до развилки. Там на следующий день пересаживается на кукушку и едет до поселка, где получает деньги и ждет обратной оказии. Все путешествие за пенсией у нее занимает месяц.
Но самое интересное то, что в этом путешествии мой новый знакомец добрался до мест, где керосин жгут по праздникам, а в обычные дни освещают дома лучиной. Он даже выменял у них на свою старую куртку светец. Это, если кто не знает, такая кованая рогулька, куда закрепляется лучина.
- Мне не только светец дали, но и плошечку под него, куда наливается вода, чтобы угольки и пепел в туда падали. И вдобавок научили лучины калить.
- Что значит "лучины калить"?
- Ну простую березовую лучину в светец сразу не вставляют, она будет гореть неравномерно, коптить начнет, да и сгорит почти сразу. Поэтому лучины сначала калят в печи - разгребают угли и кладут лучины на горячий под, чтобы они прокалились и стали коричневыми. Вот тогда лучины горят хорошо.
- Это какой-то пиздец. Впервые слышу, чтюбы в 21 веке люди лучины жгли... А что они там носят, чем моются, где берут металл?
- Моются золой и чистотелом, ходят в баню. Носят, что с большой земли случайно попало. Например, мужик, у которого я светец выменял, носил свой армейский бушлат или спецовку, не знаю, как назвать - со знаком радиационной опасности на спине. А представьте его ботинки! У них вместо подметок - автомобильная покрышка. Ну а ножи и прочие металлические предметы куют, у них кузнец есть. Слава богу у нас по северам этого металла валяется..
- А документы у них вообще есть?
- Я не интересовался. Но что касается лучин, то это как раз не очень и удивительно, так далеко ехать не надо, чтобы лучины увидеть - у нас в полутора тысячах километров от Москвы лучинами дома освещают.
- Где?
- В Карелии. Там в глухомани нет электричества, поэтому люди не знают, что такое телевизор, холодильник. Колбасу они впервые увидели, когда я им показал...
|
|
Без заголовка |

Притча о добродетели | Политик
Чем выше поднимался старец на вершину, тем прозрачнее и чище ощущался воздух вокруг.
Ступив на последний камень, старик удивленно ужаснулся: на самом краю небольшой горной лужайки, вдали от человеческого житья, на фоне восходящего солнца стояла молодая женщина.
Утренний ветерок развивал ее длинные пряди волос и ворошил её ниспадающее складками черное одеяние.
Не скрывая восхищенного взгляда от женской красоты, старец вышел на середину горной лужайки покрытой редкой изумрудной травой с белыми хлопьями горных эдельвейсов.
В стороне сидела молодая женщина в белом одеянии и вопросительно смотрела на него.
Как бы отвечая ей и объясняя своё присутствие на вершине, старец присел рядом и, отдышавшись, произнес:
- «Я решил уединиться, уйти от мира корыстолюбия и празднословия, осознать причины и глубину опустошения. Почему общественное, да и религиозное самосознание совершенно непотребно нашему обществу.
Религия унизилась до чего-то в роде - служения Изиде. И главная тема - это мамона.
Головокружительная роскошь, пышность, проявляемая всюду с каким-то безумным увлечением, скрывает нищету нравов, носители Кардена бранятся как портовые грузчики.
Забота об общественном благе, не говоря уж, об его преумножении его, становится такой же редкостью, как петушиные бои.
Никто не стыдится жить на чужой счет. Людей ценят не по тому, на что они способны и что могут сделать, а лишь по тому, сколько они имеют.
В брачных делах деньги решающий критерий. Другой скверный признак времени – упадок семейной жизни, пренебрежение домашним очагом».
Старец замечает в глубине ниши скалы еще одну фигуру женщины.
- «А кто вы и ваши подруги»? – вдруг спросил старец женщину в белом.
- «Я,.. Правда,.. подруга Совесть - прикорнула и Честь, что в одиночестве стоит»…
После многодневного молчания пути, чувствуя потребность выговориться, старец продолжил:
- «Тридцать серебренников» стали уделом или мечтанием поколения. Патриотизм пал и только временами его возбуждают спиртными напитками или дозированной каплей истины.
Показательная бравада парадов и приёмов не шевелит ни чувств, ни мысли благородной.
- «Третий Рим»… - медленно произнес он и задумчиво продолжил: - «Мы римляне худшего периода римской истории, погрязшие в роскоши и до нельзя изнеженные. Единственный идеал наш — деньги. Храбрость настолько выродилась, что мы оправдываем трусость и предательство.
Вместе с косой и шпагой, по-видимому, бесследно исчез и рыцарский образ мыслей. Как в мужчинах нет больше сдержанности, так в женщинах нет утонченной скромности.
В искусстве нас не влечет к себе прекрасное, и мы всецело отдались грубому реализму. Всякая тема считается пригодной для семейной, дружеской беседы, наряду с пошлыми сплетнями свободно обсуждаются и самые рискованные вопросы из интимной сферы»...
- «Как долго вы скитаетесь»? – спросил он, по-прежнему обращаясь к женщине в белом.
- «Шестой десяток лет, как Честь одела траур, в изгнании далёком мы теперь»… ответила Правда и складка печали опустилась на ее лицо.
После длительного молчания, Старец повернувшись к долине и как бы в назидание - громко произнёс:
- Как прав был Гельвеций, когда предупреждал:
«Добродетели покидают те места, откуда изгнана истина»...
|
|
Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений от 13 лет и выше |

Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений от 13 лет и выше
|
|
Без заголовка |

О людях и животных | Крылья, лапы, хвост.
О людях и животных
История первая.
У моей знакомой есть кошка. Кошка беспородная, но красивая и невероятно компанейская, любит людей и совершенно их не боится. Подруга живёт на втором этаже, поэтому кошка периодически выходит погулять.
Она, конечно же, стерилизована и выходит просто побродить и пообщаться. Тут погладят, там погладят - короче, не кошка, а звезда.
И вот однажды подруга купила ей очередной противоблошиный ошейничек. Да не чёрный, как обычно, а красивый, красненький, из дорогих. Смотрелся он качественно и ярко.
Кошка вышла с ним погулять ровно два раза. А на третий - вернулась без ошейника. Ошейник не мог расстегнуться или сползти, ни крепление, ни объём кошачьей головы не позволяли.
Его просто снял какой-то милый человек. Не знаю, наверное, понёс домой, на своего кота.
Просто сняли с кошечки ошейник. Бывает и так. Люди.
История вторая.
Её давным-давно рассказала мне другая знакомая, а я вот недавно с ней общалась и вспомнила.
Завела он, в общем, собаку. Ну как завела… случайно. Ей её подарили, а так-то она, конечно, не собиралась держать никаких собак (никогда не дарите животных!).
Но подруга поначалу обрадовалась.
Собака - подрощенный щенок, был вполне себе хорошеньким. Правда, беспородным. То есть, частично определённый экстерьер был: на маму-спаниеля случайно сделал садку папа-дворянин. Это было известно от людей у метро, по весьма символической цене продавших щенка дарителю (да и видно по собаке, что дело нечисто), но ведь метис даже самой качественной собаки породы не имеет.
Впрочем, для подруги это было неважно.
Проблема, собственно, была в другом: во времени. Ну не вписывалась собака в плотный рабочий график, ну никак.
Хотя поначалу подруга решила, было, оставить собаку и с энтузиазмом взялась за воспитание щенка. Конечно, сразу же сходила с ним к ветеринару, и прикупила ему приданого.
Раскошелилась, надо сказать, неплохо: мисочки, прессованные косточки для зубов, пару пищащих игрушек, ошейник противоблошиный, ошейник обычный. А также хороший, крепкий поводок-рулетку и лежанку. На качестве - не экономила, всё-таки, эти предметы нужны надолго.
Правда, через неделю стало понятно: нет, никак.
Щенок был всем хорош, но времени на него просто катастрофически не было, да и уходить утром на работу, оставляя его запертым одного в квартире, было невозможно: он скулил, а сердце разрывалось.
Короче, как ни старалась она уместить в одну корзинку и работу, и собаку, да ничего не выходило.
Щенка решено было отдать. И подруга занялась поиском хороших рук.
На удивление, буквально через пару дней такие руки были найдены. Родственники одной из приятельниц как раз собирались заводить собачку и были согласны на метиса, лишь бы хорошенький.
Приехали знакомиться буквально всей семьёй: папа, мама, дочка лет десяти.
Щенка затискали: понравился очень.
Стали собираться.
И подруга абсолютно бесплатно - то есть, вообще бесплатно - отдала с собакой всё её приданое. И мисочки, и игрушечки, и оба ошейничка, и поводок. И лежанку тоже отдала. Даром.
Она никогда не была мелочной и рассудила, в принципе, правильно: всё покупалось для этого щенка, пусть с ним и будет. Ну чё вот это вот б/у распродавать, не с последних же денег покупала, не нуждается.
К тому же, ей собаки не видать, а людям проблем меньше - уже ничего не нужно покупать, кроме корма.
И с чистым сердцем отдала щенка. Со всем приданым.
Первое время те люди даже пару раз передавали ей через приятельницу приветы и короткие рассказы про то, как замечательно щенок освоился в квартире.
Прошло месяца два.
Мир очень, крайне тесен.
Она встретила щенка буквально на другом конце города, совершенно случайно - приметила по необычному пятнышку. Обрадовалась, решила подойти, погладить.
Только вот вела собаку совсем другая женщина, не та мать семейства, которая приезжала с семьёй его забирать.
Но мало ли, сколько их там живёт в квартире.
Короче, подошла и поздоровалась, перекинулась парой фраз, и от удивлённой женщины узнала, что, во-первых, та не имеет отношения к забиравшей семье.
А во-вторых - она вообще ни сном, ни духом, что у щенка когда-то был ещё хозяин.
И да, отдали ей собаку, как оказалось, именно из той самой семьи с десятилетней девочкой.
Нет-нет, собака вела себя прилично, взрослые на неё не жаловались, просто сказали, что вот, приобрели, а нет возможности держать. Правда, девочка как-то случайно сболтнула, что они просто решили завести настоящего спаниеля с родословной… чем заслужила суровый родительский взгляд.
А женщина с радостью взяла. У неё недавно умерла своя, тоже беспородная.
Но это ладно. То есть, не ладно (если речь идёт о мотиве), но всё же…
Речь сейчас не об этом.
Речь о том, что слово за слово и подруга, посмотрев на новый ошейник, поинтересовалась, мол, а из моего ошейника он вырос уже, да? Вроде ж не должен был, на вырост покупалось, с запасом.
Женщина удивилась ещё больше.
Потому что собаку ей отдали, что называется, абсолютно голой.
И даже словом ей не намекнули, что к собаке прилагается что-то ещё. (Хорошее дело - "что-то"! Можно сказать - всё!)
А вот так. Та семья, выходит, просто оставила себе все собачьи вещички. Собаку отдали, а о приданом скромно умолчали.
Похоже, рассудили, что незачем тратиться на приданое для новой собаки, когда всё есть. Красивое, новенькое, недешёвое.
Конечно же, подруге стало крайне неприятно от этого факта. Вроде как, она от чистого сердца, а тут такое...
И она буквально настояла на том, что всё это надо бы вернуть. Хоть сама новая хозяйка, особа, видимо, крайне неконфликтная, и махнула рукой, мол, пусть им будет, раз люди такие, что поделаешь...
Но подруга, что называется, закусила удила.
Она здраво рассудила, что новая хозяйка бойцовских качеств явно не имеет, взяла у неё телефон, обещала привезти всё, как вернёт, и они распрощались.
Она позвонила тем людям. Сказала прямо: мол, ладно, что вы отдали собаку, не имею права судить, но раз уж так - хотелось бы забрать и то, что к собаке прилагалось. Оно ведь принадлежит собаке, а не вам.
Отец семейства, с которым она общалась, попытался выкрутиться, типа, какая вам разница, что стало с вещами? Вещи вы отдали? Отдали. Собака пристроена? Пристроена. Не на улицу же выкинули!
А вещи новая хозяйка сама пусть купит. И вообще - вам теперь какое до этого дело?
Пришлось ругаться. За время разговора один раз там даже кинули трубку. Подруга в смс пообещала узнать их адрес и прийти уже с полицией и заявлением о краже. Мол, чеки остались!
Конечно, это был блеф. Но подействовало.
Ей перезвонили спустя минут десять.
Раздражённый голос теперь уже матери семейства очень недовольно сказал, что она может подойти на такую-то остановку через полчаса. Так и быть, вернут ей вещи, раз она такая.
Через полчаса на нужной остановке мамаша буквально швырнула ей пакет. С фразой "И чтоб вы нам больше не названивали!".
Растерявшись от такой уж наглости подруга даже не стала сразу всё проверять. Да и лежанка собачья была утрамбована свёрнутой сверху, не очень удобно копаться внутри плотно набитого пакета.
Позвонить ещё раз, всё же, пришлось.
Дома обнаружилось, что в собачьем приданом не хватает двух вещей: противоблошиного ошейника и поводка-рулетки.
За противоблошиный она решила не бороться, фиг бы уже с ним, пусть носит их новая собака. Но вот рулетка…
Понятно было, почему не вернули именно её.
Она была самым дорогим предметом в наборе, после лежанки. Но если лежанка была достаточно большой и её отсутствие было бы заметно уже в момент передачи вещей, то рулетку они просто, видимо, специально не вложили в набор. Обычный ошейник там, кстати, был. И даже пищалки вернули.
Трубку не брали несколько раз. Потом таки взяли. Наверное, не решились просто внести в чёрный список. Или не смогли.
Дама на том конце провода недовольно заявила, что рулетка у них потерялась. И попыталась обвинить подругу в мелочности.
После очень короткого, но металлического разговора, в котором подруга ещё раз напомнила про возможные проблемы, рулетка внезапно нашлась. Ну а как же!
Пришлось встречаться снова. На этот раз молча. Видимо, по глазам подруги та баба поняла, что вот только ещё что-то скажи...
И собачье приданое благополучно вернулось к щенку. Сейчас он уже взрослый и с ним, вроде, всё в порядке.
Короче, вот такие приключились истории.
Про животных.
А люди… люди бывают всякими.
________
Екатерина Безымянная
|
|
Видео-запись: Без заголовка |

|

|
Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений
Регистрируйтесь!!!!!!!!!
|
|
|
Без заголовка |

Ростислав Ищенко. Россия против США: сотрудничество вместо подавления | Политика
Ростислав Ищенко. Россия против США: сотрудничество вместо подавления
 Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
Анализируя последние международные события, Ростислав Ищенко доказывает, что промежуточный финиш в российско-американском противостоянии оказался за Россией.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования
Стратегия Америки была более глубокой, чем кажется на первый взгляд. Жертвуя качеством, а в некоторых случаях уступая и инициативу, Вашингтон был намерен втянуть Россию в серию конфликтов, которые позволили бы представить ее в качестве единственной и неповторимой угрозы миру во всем мире, непредсказуемого агрессора, единственным политическим аргументом которого является военная сила. Это должно было лишить Россию союзников, сплотить вокруг США (как единственного защитника от агрессии ракетно-ядерного монстра) страны, обладающие контрольным пакетом в мировой экономике и боящиеся военной угрозы своему благополучию.
Главная угроза России исходит извне — США пытаются создать в стране разрушительное оппозиционное движение, для которого нет внутренних причин, иначе экономный Вашингтон не тратил бы на выращивание хоть какой-то оппозиции десятки миллиардов долларов.
Коротко я бы назвал выигрышную политико-дипломатическую стратегию России стратегией Минска. Конечно, термины "Минск" и "Минск-2" являются не самыми популярными у донбассоцентричной части российского политического актива, акцентирующего внимание на гибели русских Донбасса, на попытках нацификации подрастающего поколения, на агрессивности киевского режима, мечтающего дестабилизировать Россию и т.д. и т.п.
На деле Минск является локальным, но наиболее концентрированным выражением российской внешней политики. В его рамках легко определяются следующие базовые моменты внешнеполитической стратегии Москвы:
Почему? По одной простой причине. К 2010 году США, конечно, смертельно надоели своей наглостью не только России, но и всему остальному миру, включая своих ближайших союзников.
Ну а голой военной силой переформатировать мир под себя еще ни у кого не выходило. Те же США добились наибольших успехов, когда в них верили как в справедливого арбитра и подчинялись добровольно. А как только начались Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия — возникли и проблемы с вассалами, союзниками и партнерами, которые не рисковали бунтовать открыто, но изящно саботировали многие американские инициативы, перенапрягая военные силы, экономику и финансы США.
|
|
Без заголовка |

Запуск системы «Арктика» отложили из-за санкций Госдепа | Back in the USSR
Запуск системы «Арктика» отложили из-за санкций Госдепа
Технологические санкции в отношении России со стороны США обусловили перенос сроков создания и запуска космической системы «Арктика», пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.
«Пришлось переделывать часть аппаратуры в связи с санкциями», – пояснил он. По его словам, аппараты «Арктики» предполагалось более чем наполовину собрать из импортных, в том числе американских комплектующих – не приборов (они российские), а транзисторов, микросхем и прочих деталей.
Практически на все эти детали установлено ограничение: они могут поставляться России только с разрешения Госдепартамента США, который в последнее время последовательно отвечает отказом. Эксперты космической отрасли отмечают, что проблемы с этим начались еще до событий на Украине – на фоне ситуации с Эдвардом Сноуденом и Сирией.
По контракту космическая система «Арктика» должна была заработать к 25 ноября 2015 года (к этому сроку спутник предполагалось уже вывести на орбиту), однако в проекте Федеральной космической программы на 2016–2025 годы теперь значатся новые даты запуска первого аппарата «Арктика» – 2017 год (второй спутник – в 2019 году, третий – в 2020-м, четвертый – в 2021-м).
Вообще, тема импортозамещения - болезненная. И у многих возникают вопросы... Например, лидер партии социал-демократов Сергей Миронов задается вопросом, почему до сих пор не дана оценка так называемым, "либералам", которые чуть не развалили странув 90-е, и почему до сих пор либералы 90-х находятся в команде премьера? В его блогах, Миронова много таких вопросов. А ответов нет... Сам Миронов отвечает пользователям - типа, ну а что я сделаю..
На абсолютную правду не претендую, это больше подсказка, а дальше думайте сами.
Мысль была высказана Н. Стариковым, и мне показалась очень реалистичной, поэтому практически цитирую вам.
Итак, скоро крах доллара, крах сша, и вообще глубокий кризис в мире. Достанется всем, в том числе и России, слишком все взаимосвязаны. То есть могут быть (и скорее будут) некоторые ухудшения.
Если перед этим всех либералов выгнать из правительства, то когда станет хуже, они громко завопят, мол, вот видите, нас нет и всё покатилось под откос, а если бы мы в правительстве были, всё бы было отлично. И наоборот: когда начнётся кризис и немного поплохеет, можно будет со спокойной совестью сказать что это из-за либералов, и выгнать их поганой метлой, как раз незадолго до улучшения ситуации, чтобы выглядело как будто улучшение наступило после смены правительства.
|
|
Без заголовка |

Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство | Back in the USSR
Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство
Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство, и кто спекулирует на продовольственной безопасности
Константин Бабкин, президент ассоциации «Росагромаш», председатель Федерального совета ВПП «Партия дела» — об экономическом конфликте в России, аграрной политике правительства, налоговых маневрах и о том, как и где заработать российскому крестьянину.
Ростислав Ищенко: Гость «Открытой студии» — Константин Бабкин, президент ассоциации «Росагромаш», председатель Федерального совета ВПП «Партия дела».
Константин Анатольевич, на Валдайском форуме президент Путин констатировал пребывание России в состоянии экономического конфликта с западными партнерами. Следовательно, можно ожидать, что будет продолжаться политика импортозамещения и в аграрном секторе тоже. Если в ближайшем будущем политическая ситуация не изменится, то мы реально можем ожидать расцвета каких-то отраслей собственной экономики, помимо аграрного сектора? Или нам следует готовиться к серьезным трудностям?
Константин Бабкин: Сложно сказать, к чему надо готовиться. Действительно, аграрный сектор выиграл от нынешней экономической, политической обстановки. Мы как сельхозмашиностроители ощущаем это: например, продали на 20% машин больше, чем в прошлом году, а по ощущениям маркетологов в 2016 ожидается такой же рост. Это тем более впечатляет, что наш рост происходит на фоне общемирового спада сельхозмашиностроения. В Европе уже второй год продажи машин падают на 10%, в Америке на 25%. Два года назад в Северной Америке сельхозмашин продавалось вдвое больше, чем сегодня.
Российский подъем объясняется отчасти тем, что у крестьян есть оптимизм, есть деньги, они вкладываются, готовятся наращивать производство. С одной стороны, да, сельское хозяйство, настроенное на развитие, на импортозамещение, выигрывает. Речь на Валдае — взвешенная, грамотная, предлагает: давайте производить. Но за несколько дней до этого Центробанк половину бюджета России за октябрь послал в Америку на сохранение в Стабфонд, накупив облигаций США. С одной стороны, декларируется, что давайте вкладывать деньги в развитие, а левая рука посылает их в Америку, забирает у крестьян, у промышленности, как это уже делается 2,5 десятилетия. Потом говорят, что мы защищаем наших крестьян, давайте производить «мраморную говядину», молоко, сыры. Кстати, когда Путин на Валдае призывал к расширению импортозамещения, с нескольких предприятий в Швейцарии были сняты санкции, им открыты двери для импорта сыров в Россию.
Потенциал сельского хозяйства, российской экономики большой, он начинает реализоваться, но политики, внятной стратегии, нацеленной на его реализацию, нет. Прочитал новость, что через пару лет пошлина на экспорт нефти будет сокращена на 30%. Это значит, что с еще большим свистом сырая нефть будет улетать из страны: не перерабатываться здесь, не идти на поддержку несырьевого сектора. Риторика есть, но последовательных действий нет, скорее, отдельные шаги. Продолжается чубайсо-гайдаровская политика, направленная на то, чтобы встроить Россию в общемировую экономику на правах сырьевого придатка.
Р.И.: За последние пять лет на 40% выросла внутренняя переработка нефти. Если эти заводы построены, то понятно, что они будут наполняться. Если динамика сохраняется, то еще через 5 лет, к тому времени, как пошлина опустится, можно ожидать, что и на 80% увеличится переработка нефти внутри страны.
К.Б.: А зачем пошлину снижать, в чем логика?
Р.И.: Насколько я понимаю, если пошлины повышались, то это делалось для того, чтобы создать условия для переработки у себя в стране. Если переработка уже есть, то очевидно, что пошлину можно снизить.
К.Б.: А зачем ее снижать?
Р.И.: Потому что она нужна, если есть переработка?
К.Б.: Чтобы был перепад, чтобы здесь энергоресурсы в России стоили дешево. У нас налоговый маневр постоянно проводится последовательно уже лет 15. В чем его смысл? Повышаются налоги на производство энергоресурсов, на добычу полезных ископаемых, акциз на производство бензина и других нефтепродуктов. С повышением этих налогов повышается внутренняя цена на нефтепродукты, на электричество, на энергию, на все несырьевые товары, соответственно, которые потребляют энергию. При этом последовательно снижается экспортная пошлина на нефть. Нам делают энергоресурсы все дороже, при этом подгоняют внутренние цены на нефть, на наши природные богатства к мировым, лишая наш несырьевой сектор естественного конкурентного преимущества.
Р.И.: Если переработка увеличивается, и пошлина снижается, значит, нефть выгодно перерабатывать здесь.
К.Б.: Почему? Не факт. Мощности — это не значит, что ее выгодно перерабатывать. Построили мощности и написали на бумажке, что построили.
Р.И.: Если бы снижение пошлины приводило к вымыванию нефти с внутреннего рынка, что происходило в 90-е годы, то тогда было бы понятно, что надо пошлину повышать. Если нефть на внутреннем рынке остается и перерабатывается…
К.Б.: Но при этом энергоресурсы стоят дорого.
Р.И.: То логика запретительной пошлины исчезает…
К.Б.: Пошлина для этого большая нужна, чтобы здесь они стоили дешево, чтобы несырьевой сектор использовал эти ресурсы, производил мебель, книги, телевизоры в более комфортных условиях, чем там, «за речкой». Тогда мы сможем использовать наши преимущества. А если мы будем говорить, нет, вывозите, пожалуйста, а покупайте по мировым ценам, а лучше даже дороже, как это сегодня происходит, естественно, здесь никто производить телевизоры не будет.
Р.И.: Нефть у нас дешевле мировых цен.
К.Б.: Бензин у нас дороже, чем в Америке. Электричество вдвое дороже, чем в Канаде.
Р.И.: Бензин в Америке всегда был дешевле, если мы будем сравнивать с Европой.
К.Б.: Что значит всегда? Америка импортирует нефть, а мы экспортируем все больше и больше. А если сравнивать с нефтедобывающими странами, которые грамотно используют свое преимущество, то у нас бензин стоит гораздо дороже.
Р.И.: На Валдае было сказано, что в структуре нашей экономики сырьевые ресурсы в ВВП занимают около 20%. А в Саудовской Аравии 80%. Следовательно, мы не можем строить нашу экономику, пошлины и прочее по тем же принципам, по которым строят нефтедобывающие страны Залива.
К.Б.: У меня есть недопонимание с правительством, и с вами, очевидно. Вы считаете, что нефть у нас, якобы, составляет маленькую долю, а на самом деле большую, далеко не 20%, поэтому давайте сюда продавать ее подороже и побольше экспортировать. Мне кажется, что эта логика ведет к деградации промышленности и сельского хозяйства. Поэтому потенциал будем реализовывать попозже.
Р.И.: Давайте поговорим о том, что у нас общее, а не о том, что у нас различное.
К.Б.: Нет, о различиях тоже надо говорить.
Р.И.: Вы говорите, что в этом году увеличились продажи сельскохозяйственных машин. Насколько я понимаю, если увеличивается продажа, то увеличиваются производственные мощность или они более полно загружаются.
К.Б.: Более полно загружаются.
Р.И.: Вы же говорите, что мы не знаем, как будет на следующий год, через год и т. д. Получается, что нельзя реально планировать, будет ли у нас дальше позитивная динамика или негативная по той же динамике продаж? Я почему спрашиваю. Сельское хозяйство не резиновое, количество крестьянских хозяйств не увеличится. Т.е. на каком-то этапе они купят столько машин, сколько им надо, и перестанут покупать. Кроме того, у вас конкуренты из Белоруссии.
К.Б.: Есть.
Р.И.: Они тоже будут стараться увеличить свою долю на этом рынке. Например, раньше они активно работали на Украине, а сейчас в связи с кризисом они там ничего продавать не могут. Там просто никто не будет покупать, денег нет. Поскольку производить они меньше не будут и в США тоже продавать не будут, значит, они повернутся сюда и будут продавать здесь. Тем более, если появляется спрос в сельском хозяйстве. А если мы ничего не планируем, не знаем, как будет на следующий год…
К.Б.: Мы планируем работу заводов. Сейчас «Россельмаш» закладывает рост производства на 20%, исходя из конъюнктуры. Но при этом мы должны быть готовы к серьезному падению. Мы зависим от многих факторов, которые сложно предсказать. К этим факторам не относятся ни цена на нефть, ни погодные условия, ни санкции. На 90% неопределенность сеют решения нашего правительства и регулирующего банка. В этом году рост был благодаря программе, по которой субсидируется четверть стоимости техники для наших крестьян. Будет эта программа в следующем году, сколько на нее будет выделено денег, какая будет скидка — мы не знаем. А от этого очень много зависит, соответственно, если денег не выделят, то будет большое падение. Включат ли в эту программу белорусскую технику, а такие желающие есть, если да, то у нас будет падение и сокращение. Центробанк может поднять учетную ставку, мне его логика непонятна, могу представить, что он опять в 2 или 3 раза поднимет свою ключевую ставку. Если он это сделают, то у крестьян не будет кредита, произойдет очередной этап падения. Пока мы живем в условиях неопределенности, но что поделать. Все равно мы можем оценивать мотивы, которыми руководствуется наше правительство, и мы надеемся, что будет рост. Хотя нет стратегии, но есть такие раздражающие факторы: если с нашими руководителями холодно разговаривают на Западе, значит, наверное, они наши контрсанкции снимать не будут, поэтому, наверное, это будет хорошо для нашего производства.
В отношении Украины вы правы, там сейчас рынок практически не существует: только 3% сельхозтехники от того, что покупалось в мирное время. Белорусы конкуренты, но вы упомянули, что они в Америку технику продавать не будут. Знаете, комбайны не будут, а трактор «Беларусь» в Америке и Канаде известен. У канадцев есть шутка, что мы всегда знали трактор «Беларусь», а страну не знали. У нас такое ощущение, что когда страна Беларусь появилась, ее назвали в честь трактора. Такая шутка. Т.е. в Белоруссии тракторы продаются, весь мир их знает. Может быть, если какая-то девальвация произойдет, или будут предприняты какие-то субсидии Белоруссией, Таможенным союзом, то можно увеличить продажи белорусской и российской техники в Америку, в том числе.
Р.И.: Есть потенциал выхода не только на внутренний, но и на внешний рынок?
К.Б.: В этом году экспорт сельхозтехники из России вырос в 2 раза, и я не удивлюсь, если на следующий год он еще подрастет вдвое. Потому что, действительно, потенциал есть, технику все больше и больше вновь признают на внешних рынках. Поэтому в отношении планирования, да, все такое сложное, неопределенное, но планировать надо все равно.
Р.И.: Чтобы правительство принимало решения, которые удовлетворяли бы сельхозпроизводителей, надо их, как минимум, лоббировать. А для того, чтобы их лоббировать, надо при построении стратегии своего развития понимать, мы рассчитываем больше на внутренний рынок, или, как вы говорите, есть потенциал значительного присутствия на внешнем рынке. Все-таки, это разные решения.
К.Б.: Почему? Это взаимодополняющие решения. Мы должны доминировать на внутреннем рынке как производители, и наше сельское хозяйство должно здесь зарабатывать деньги. Сельхозмашиностроение имеет здесь надежную базу, и при этом постоянно проводить экспансию на внешние рынки.
Р.И.: Когда я прихожу в правительство, я ему говорю, что я собираюсь увеличить продажи сельхозмашин на внутреннем рынке, поэтому мне надо, чтобы наши крестьяне получали кредиты. А если я собираюсь продавать американским крестьянам, то мне все равно, получают наши крестьяне кредиты или нет.
К.Б.: Ну не правда. Надо и здесь стремиться побольше продавать, постоянно заботиться об экспорте. Эти вещи друг друга усиливают. Чем больше ты продаешь здесь, тем конкурентоспособнее становишься там, потому что крупное производство делается более дешевым, ты можешь больше вкладывать в развитие своего продукта и становишься сильнее на внешних рынках.
Р.И.: Некоторые политические, экономические, финансовые решения правительства, направленные на поддержку экспорта, могут автоматически работать против увеличения продаж на внутреннем рынке?
К.Б.: Нет, не могут.
Р.И.: А как вы только что про нефть рассказывали?
К.Б.: Секундочку, есть нефть, а есть несырьевые товары. Экспорт исчерпаемых ресурсов стимулировать не надо, а максимально их использовать здесь, сделать так, чтобы они стоили дешево. Грубое сырье должно оставаться в России, а переработанная продукция, возобновляемая, должна доминировать здесь, и мы должны стремиться завалить ею весь мир.
Р.И.: На днях Владимир Владимирович Путин заявил, что надо окончательно выходить из долларовых внутренних расчетов. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что значит выходить из долларовых внутренних расчетов, по-моему, в России давным-давно все расчеты производятся в рублях.
К.Б.: Это у нефтяников свой мир, они в долларах меряются. Сельхозтехника, конечно, за рубли продается.
Р.И.: Но, насколько я понимаю, если российская экономика продолжает отрываться от доллара, то она суверенизируется, становится более самостоятельной. В вашем секторе это дает позитивные ожидания или все равно?
К.Б.: Все равно. Это сам по себе правильный шаг, который ничего не даст. В нашей отрасли никто долларами между собой внутри России не рассчитывается, поэтому никакого эффекта мы не ожидаем. Другое дело, что строить свою независимую финансовую систему, перестать посылать свои деньги в зарубежные облигации — это правильно. Если нефтяники перейдут на расчеты в рублях, то, наверное, тоже будет позитивно. Если мы с вами, два нефтяника, торгуем нефтью за доллары — это значит, что у нас есть счета в американских банках, т.е. мы когда-то вывезли нефть туда, нам записали нолики на счета, и мы этими ноликами друг с другом перекидываемся. Фактически мы дали кредит нашим заокеанским друзьям, и теперь этим кредитом между собой обмениваемся. Давайте вернем нефть, которую мы ранее вывезли, обнулим наши счета и будем торговать, когда наши счета будут здесь, в Центробанке, в рублях. Наверное, это шаг, направленный на независимость, на поддержание собственной валюты, возвращение ценностей сюда. Это правильно. Но этот шаг должен сопровождаться и многими другими изменениями налоговой системы, политики регулирующего банка, поддержкой экспорта.
Р.И.: Существующий системный кризис приводит к постепенному размыванию США как политического и экономического гегемона. Резкий крах американской экономики бумерангом бьет по всему миру. Сейчас, когда отношения ухудшаются, Россия начинает предпринимать активные контршаги. В частности, снижение роли доллара в российской экономике приводит и к снижению доллара как единой мировой резервной валюты. Особенно, если мы начнем еще нефтью за рубли торговать. Следовательно, мы выходим на этап, когда мягкое приземление может не получиться в США, а все это рухнет с большим грохотом и треском, и камни нам в окна тоже полетят. Нам как лучше? Соломку подстелить там, где США будут падать, или падающих толкнуть?
К.Б.: Я не верю в крах США. У нас же там заводы в Канаде и в Америки. Там грамотные ребята сидят и политики грамотные, предприниматели. Там дух, направленный на позитив и на созидание производства. Не грохнется Америка, там гораздо более комфортные условия для производства, занятий бизнесом. Очень сильная страна, способная к обновлению. За Америку я бы не переживал. А на вопрос, бояться ли нам дедолларизации, бояться ли слишком резких шагов, я бы не стал, а просто спокойно реализовывал наш потенциал. Создавал бы здесь комфортные условия для производства, сделал бы страну сильнее в технологическом, экономическом плане. Забота об Америке нас не должна никак трогать: о себе надо заботиться.
Америку слушаться не надо, не надо воевать, но можно и повоевать, если о принципиальных вещах стоит вопрос. Надо строить нормальные условия здесь, чтобы у них все было хорошо, а у нас еще лучше. Не надо задирать, например, ключевую ставку, а сделать ее крайне низкой, как в Америке, 0,5% годовых.
Р.И.: Очень низкая ключевая ставка привела к росту в США пузырей, которые погрузили их в кризис.
К.Б.:Нам бы здесь такой кризис. Сравните уровень жизни, развития, промышленности.
Р.И.: Но, по их мнению, они находятся в кризисе потому, что ключевая ставка снижена. Федеральная система последние 5 лет работает над ее повышением. Хотели хотя бы до 5% ее довести. Не получается, не могут. Потому что американская экономика находится в таком состоянии, когда повышение резервной ставки потенциально могло бы ее вылечить, но с прохождением очень серьезных кризисных явлений.
К.Б.: Давайте Набиуллину им пошлем, она 25% влупит, 50%… А мы же не боимся кризисных явлений, нас лечат через убийство промышленности.
Р.И.: Не слишком ли быстро мы из доллара бежим?
К.Б.: Если Америка быстро рухнет, и на нас упадут обломки — не страшно.
Но выход из доллара — это важный, но далеко не единственный шаг, который надо сделать. Стержнем экономической политики сегодня должно служить несырьевое производство в сельском хозяйстве и в промышленности. Все, что нужно сегодня для этого, нужно делать. Выходить из доллара, обнулить или сделать отрицательной ставку Центробанка, поддерживать экспорт, защищать рынок от неравной конкуренции из-за рубежа. Налоговый маневр сделать в обратную сторону, чтобы здесь энергоресурсы стоили дешево, и была большая пошлина на экспорт нефти, чтобы был перепад стоимости сырья на внутреннем и внешнем рынке. Эти вещи дадут уже толчок к серьезным инвестициям, к серьезному росту.
Нужно изменять систему образования, не магистров и бакалавров, не знающих конкретики, а поближе к советской системе подготовки специалистов возвращаться. Готовить специалистов по изготовлению коробок передач, агрономов, специалистов в генетике, ориентированных на реальный сектор. Связь науки с производством надо наладить. Академия наук отходит все дальше и дальше от интересов реального производства.
У сельхозмашиностроения примерно 10 институтов, завязанных на нашу отрасль. Они должны разрабатывать какие-то новые движители, новые методы ремонта машин, опробовать новые материалы в сельхозтехнике. В этих институтах до сих пор работают тысячи людей, эти институты получают, по-моему, 600 миллионов дотаций, не так много, живут небогато, но получают из бюджета серьезную поддержку. Они имеют имущество, здания. Так вот, эти институты живут своей жизнью, что-то вырабатывают, но реальное производство не потребляет результаты их труда. Мы говорим, разработайте нам систему электронного управления комбайнов. Они говорят, что за ваши деньги — любой каприз. Мы говорим, нет, за наши деньги мы у себя это сделаем, это будет легче и надежнее. Они говорят, извините, мы не можем для вас что-то делать, нам государство дает деньги, ставит задачи выпустить столько-то килограммов научных трудов, а ваша электронная система нам не повышает показатели отчетности перед ФАНО: мы не будем с вами работать.
Все логично, типа, вы не хотите платить, вы ничего и не получите. В либерально-гайдаровском понимании все правильно. Но в итоге мы имеем то, что научные учреждения живут сами по себе и постепенно деградируют, промышленность не вкладывает в научные разработки тех денег, которые должно вкладывать.
Р.И.: Так вы же сами сказали, что не хотите вкладывать? Мы к ним приходим, они говорят, платите деньги, мы не даем.
К.Б.: Мы у себя внутри производства вкладываем. Но в результате наше машиностроение отстает от западного, потому что там государство не содержит ничего не делающие научные учреждения. Оно дает деньги университетам, говорит, идите, ищите сельхозмашиностроительный завод и совместно с ним разрабатывайте новую форму капота трактора, новую раму трактора. Если найдете такой контракт, то его половину мы вам оплатим. Т.е. государство стимулирует создание альянсов между производством и наукой, и сверху дает примерно половину затрат на эти работы. В России государство дает одним, ничего не дает другим, в итоге там тракторы более производительны.
Р.И.: Чтобы просто платить институту, государство должно создать условия, в которых институт будет заинтересован найти себе партнеров в производстве, тогда он получит какие-то деньги в виде грантов, прямой помощи и т. д. Соответственно, есть какой-то проект решения. Дальше нам остается найти депутата, группу депутатов, политическую партию, политическую силу, которая этот проект решения оформит в законопроект, внесет его в Думу. Либо же пролоббирует принятие правительством соответствующего постановления, если это не требует отдельного закона и может регулироваться подзаконными актами. В результате, мы получим нужную нам систему, объединяющую усилия науки, промышленности, сельского хозяйства, помогающую всем зарабатывать деньги в условиях родной экономики. Дальше вы пытаетесь найти политическую силу, которая создаст лоббистский пар для принятия нужных вам решений в Думе, в правительстве, где угодно. Понимаете, если мы будем друг другу рассказывать, как плохо, от этого лучше не станет.
К.Б.: Мы не просто рассказываем, как плохо, мы предлагаем какие-то конструктивные вещи. Да, пытались, но тут нельзя обойтись такой задачей, что надо найти группу существующих депутатов. Современная структура в Думе, система партийной власти не заточена на поддержку таких идей, на принесение их извне. У партии «Единая Россия» есть свой взгляд, им спускается из правительства правильный взгляд, и они его реализуют. Правильный взгляд заключается в том, что есть ФАНО, есть Академия наук, деньги осваиваются вовремя, значит, все хорошо. Что мы пытались сделать? У нас есть «Партия дела», которая как раз говорит, что надо заниматься делом, производить в России и, в частности, налаживать связь науки с производством. Мы участвуем в выборах в Брянске, в Ярославле, на Дальнем Востоке. В Костромской области мы выставили список 54 кандидатов. Обратились к избирателям, говорим, посмотрите, заброшенные поля, наука не востребована, предприятия простаивают. У нас есть решения, поддержите нас, и мы будем их реализовывать. Нас обвинили за такие взгляды в экстремизме, сняли с выборов за, якобы, 30 «нарисованных» подписей.
Р.И.: Если мы ждем, что правительство вернет нам научные институты, которые будут нами заниматься, тогда оно и нас вернет в колхозы. А если мы хотим, чтобы мы в колхозы не вернулись, а продолжали заниматься самостоятельным и интересным бизнесом, то тогда мы эти институты должны каким-то образом привлекать. Хотя бы, как вы говорили, правительство может их простимулировать. Может сказать, что даст деньги, но только в том случае, если они найдут партнеров. Давайте подскажем правительству.
К.Б.: Подсказать-то без проблем, мы уже много лет подсказывали. У них другие приоритеты. Вы говорите, либо вертикаль власти четкая, сталинский режим, либо полная анархия. Нет, есть другая разумная середина. Опять же, посмотрите, как Америка действует. Там как раз стимулируют связи между производством и наукой. Там, правда, немного отличается, там не отдельная Академия наук, наука сосредоточена в университетах, но если университет делает для компании какую-то разработку, обязательна гарантия государственная. Чиновник, конгрессмен там не говорит, покрасьте тракторы в такой цвет. Нашли общий язык — верю, вот вам денежка. Чиновники это не решают. Если 10 проектов у чиновника не срабатывают, значит, он теряет деньги, авторитет, у власти к нему вопросы. А если это развивается, как в большинстве случаев и происходит — все довольны.
Р.И.: Вы же сами произнесли ключевую фразу — нашли общий язык.
К.Б.: Вот вам денежка — этого шага нет у нас в России. Без финансирования ничего не будет.
Я встречался с первым замначальника ФАНО. Он говорит, все понятно, но мы можем денег на проекты давать, а совместно не можем, у нас нет такого механизма. Платите ваши деньги. Максимум, что мы можем сделать — организовать выставку проектов отраслевых институтов, и вы выберете, что вам нравится. Ходим мы на выставки, все это знаем.
Знаете, я бы за полгода все перестроил и исправил. Важно приоритеты правильно расставить. К несырьевому производству у чиновников, да и в обществе, у журналистов враждебное отношение. Сталинская система, в колхозы нас хотят загнать. Зачем это производство — это грязь, в фуфайки и сапоги хочешь нас одеть. Нет, мы в офисах будем сидеть, «пилить» деньги бюджетные, на компьютерах что-то стучать. Вот это современная экономика. И этими представлениями руководствуется правительство. Зачем вам трактор, в Америке прекрасные тракторы, привезем, купим. Нефть продадим, пошлину снизим, вывезем побольше, привезем тракторы. У нас разница в приоритетах. Если неправильные приоритеты стоят, то невозможно уговорить ученых делать правильно.
Р.И.: Опять же, знаете, я склонен обращать внимание на цифры. Несырьевой экспорт, в том числе машиностроение, в прошлом году по общему объему был больше, чем весь экспорт, включая сырьевой, в 1999 году. Это значит, что количество продукции, в том числе машиностроения, поставляемой за рубеж, увеличилось в разы. А это значит, что производство внутри страны увеличилось, правда?
К.Б.: 1999 год был поганым. После дефолта, там же ужас был.
Р.И.: Но все равно было лучше, чем в 1992 или 1994. Причем, этот рост идет от года к году. Сейчас несырьевого экспорта больше, чем в 2006, чем в 2007 и т. д. Были у нас серьезные сложности до того, когда мы поссорились с западными друзьями и партнерами и начали импортозамещение. Потому что, реально, их продукция была дешевле, и трудно было с ними конкурировать. Невозможно было защитить интересы только одной отрасли экономики, плюнуть на все остальное, надо было и бюджет балансировать и т. д. Сейчас у нас появилось окно возможностей, и как долго оно будет открыто — мы не знаем. Но надо им пользоваться.
К.Б.: Окно у нас в голове, и надо им пользоваться. Я надеюсь, что политическая ситуация, пример Украины, которая убила свое несырьевое производство и скатилась в хаос, пример многих стран, очевидный факт того, что если бы будем слабы экономически, технологически, то нас задавят, с нами действительно ведут войну в какой-то степени. И если будет возможность, то нас просто уничтожат. Вся эта логика происходящих политических событий должна нас толкать, чтобы правильно поставить приоритеты, заниматься технологическим развитием, производством в сельском хозяйстве, в промышленности. Есть риторика, но реальных решений нет, изменение стратегии я пока не вижу. Надо пользоваться этой возможностью, надо добиваться того, чтобы стратегия изменилась. Пока этого нет.
Полный текст беседы — в видеоматериале «Открытой студии».
|
|
Без заголовка |

Жесть российской деревни - туземцы Архангельской области | Back in the USSR
Жесть российской деревни - туземцы Архангельской области

Жителей трех российских поселков связывает с миром узкоколейка с ржавым одновагонным поездом.
Питерский фотограф Алексей Лощилов сфотографировал и поезд, и местных жителей. Липаково, Лужма и Сеза в Архангельской области, недалеко от космодрома Плесецк.
Никаких дорог, кроме старой узкоколейки, там нет. Вагон приходит три раза в неделю.
Россия как она есть.
1.

2.

3. Современный интерьер кабины машиниста оттеняют календарь "Газпрома" и колорадская ленточка. А на фотке из газеты, похоже, Путин с рыбой.

4. В вагоне привозят все, чем живет поселок - продукты, почту, пенсии. Так как автомобильных дорог нет, без ржавого поезда местные жители превратятся в полностью изолированных от мира туземцев.

5.

6.

7. Нищая деревня, окруженная невероятными природными богатствами. За последние 500 лет ничего не изменилось.

8.

9.

10.

11.

12. Мужики сидят без работы и страдают от нищеты. Поэтому наемничество для них неплохой вариант. Этот товарищ рассказывает как отстреливается от волков.

13. Местный олигарх на единственно возможном здесь личном транспорте, способном достичь внешнего мира.

14. Здесь все еще живут люди.

15. Молодежь.

16.

17. Из окна магазина.

18.

19.

20.

21.

22. Занавесочки и отделка под мрамор.
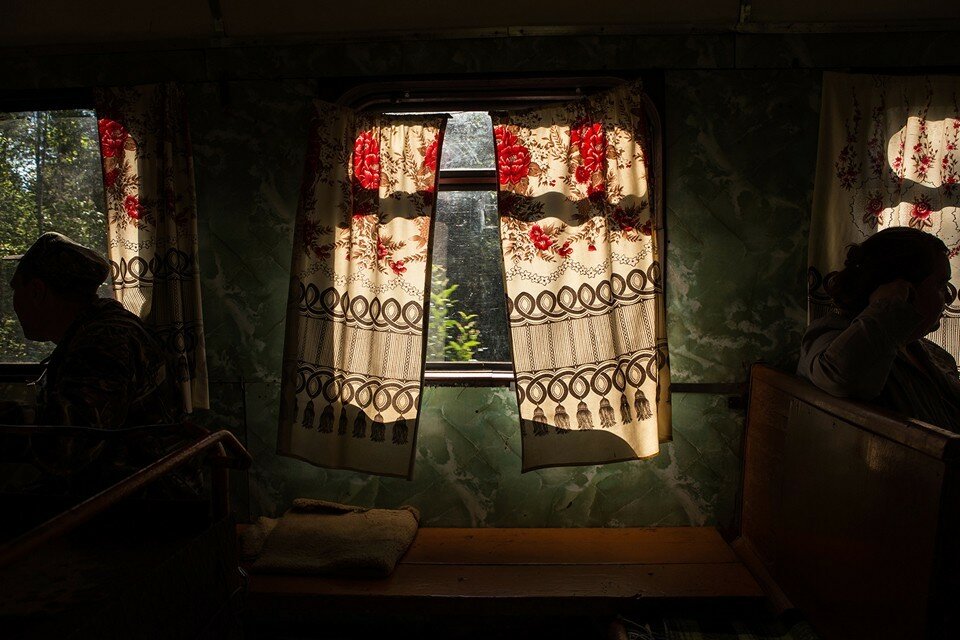
23. Посреди вагона буржуйка.

24.

25.

26.

Фото изданияBird In Flight.
Вот где настоящая Руина и безнадега.
|
|
Без заголовка |

Нищета стратегии – главная дыра нынешней России | Политика
Нищета стратегии – главная дыра нынешней России
 Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.
Коммунисты (и те, кого по привычке именуют левыми) оказались на обочине, потому что даже лучшие из них погружены в прошлое: кто-то достраивает сталинский «социализм», кто-то до сих пор сражается с буржуями в цилиндрах.
Все свои способности (иногда немалые) эти музейные революционеры обращают на то, чтобы доказать: за 150 лет в обществе ничего принципиально не изменилось.
С точки зрения марксизма – это вопиющая нелепость, ведь грандиозные изменения производительных сил в ХХ столетии просто обязаны были преобразовать классовую структуру и все отношения между людьми.
Но и прочие (некоммунистические и условно правые) движения не спешат давать ответы на фундаментальные вопросы современности, не выдают внятных программ развития основных отраслей.
Как должны быть устроены финансовые учреждения, чтобы обеспечивать прогресс высоких технологий, а не только роскошные интерьеры для чиновников?
Что делать с образованием? В ожидании ответа руководители отрасли развлекают народ взаимоисключающими заявлениями: один зовёт назад в СССР, другой вперед к «индивидуальным траекториям».
Как организовать транспорт на наших бескрайних просторах? Ясно, что американский подход (по отдельному авто для дедки, бабки, внучки и жучки ) – тупиковый. Надо разрабатывать свой, соответствующий географии, экологии и здравому смыслу.
Как вообще должны складываться у России отношения с её родной природой? Через бухгалтерию, как велят переводные учебники «Экономикс»? Или более предусмотрительно, с учетом того, что деньги нельзя есть, пить – и дышать ими тоже почему-то не получается?
С весны прошлого года предпринимались титанические попытки сформулировать «Основы государственной культурной политики». Смысл очевиден: чтобы в любом городе России мэр имел перед глазами ориентир, на что следует тратить деньги налогоплательщиков, а на что нет – и в конкретной ситуации мог повторить слова из классики:
«Мы, конечно, были бы рады материально поддержать ярких молодых художников Бендера с Воробьяниновым, тем более, за них ходатайствуют такие знаменитые люди из Москвы. Но извините: закон не позволяет!»
Понятно, что знаменитые люди из Москвы (по привычке именуемые «творческой интеллигенцией») будут стараться не допустить такого и сознательно топить документ в пустой болтовне «за всё хорошее, против всего плохого». Именно для того, чтобы сделать его непригодным к практическому применению – и чтобы они могли дальше самовыражаться за счёт бюджета, не неся никакой ответственности за результат.
Примерно так и получилось.
Вот Кирилл Серебренников успешно освоил помещение б. драматического театра имени Гоголя, подаренное ему правительством Москвы, и средства из городского бюджета. А2015 г. радостно переключился на бюджет федеральный: в балете Большого театра «Герой нашего времени», как видно из афиши, он числится одновременно режиссером-постановщиком, художником, писателем (автором либретто) и художником по костюмам. Странно, что еще не дирижирует оркестром и не исполняет главные партии – то есть, часть денег всё-таки миновала карман разностороннего дарования. Там же, в Большом театре РФ, будет развивать оперное искусство непрошеный соавтор Р. Вагнера: своего рода премия, выписанная из казны Т. Кулябину за его скандальное представление в Новосибирске.
Вот такая культурная политика. Распишитесь в получении, дорогие налогоплательщики.
Отраслевые руководители боятся конкретного разговора по делу. А страну тем временем заливают потоки самодовольного пафоса на тему «великой России», «русского мира» и «национального духа». Конечно, это лучше, чем потоки помоев, характерные для недавнего прошлого. (Не только для 90-х, но и для нулевых, когда тот же Серебренников поздравил ветеранов с 60-летием Победы посредством шоу «Голая пионерка» – и ни в одном СМИ нельзя было даже попенять на это).
Но голый пафос уместен разве в спортивных кричалках: «Спартак чемпион, и в таблице первый он!» К сожалению, в похожем стиле составляются заявления официальных лиц, интервью, аналитические статьи. Читаю труд уважаемого профессор В.А. Никонова под заголовком «Россия готова к стратегическому рывку». К внешнеполитической части, в которой Никонов критикует политику НАТО, претензий нет. Но только речь заходит о делах внутренних, содержание вступает в явное (местами анекдотическое) противоречие с заголовком.
Что за стратегический рывок? По каким направлениям? В чём конкретно он должен состоять? Неужели в ускорении юридической процедуры по ликвидации «Рогов и копыт», торговавших среди бела дня фальшивыми дипломами о высшем образовании? То есть, не в ликвидации даже, а только в ускорении процедуры. Или в том, что «на Западе public administration – это только магистратура, а у нас еще и бакалавриат»?
Эти кричалки: «Хей, хей, наше племя всех сильней!» – именно та музыка, которую международная олигархия хотела бы слышать из лагеря своих противников. Ведь с самовосхвалением и у Саддама Хусейна, и у Каддафи, и у Милошевича всё было в полном порядке, даже лучше, чем у нас. Но не помогло.
Под такую музыку легко активизируются не только услужливые льстецы (готовые в любой момент переметнуться на другую сторону), но и обычные провокаторы. Вот двое из таких, чьи фамилии не хотелось бы произносить лишний раз. Один прославился тем, что объявил 22 июня «днём отмщения» русским хамам и азиатам со стороны «белых европейцев». Другой (совсем недавно) требовал разрешить в Москве гей-парады и однополые «браки» с усыновлением детей. Обоснования похожие: раз в цивилизованной Европе так принято, кто мы такие, чтобы возражать?
Но после освобождения Крыма оба внезапно стали суперпатриотами, минуя стадию прямохождения. И атакуют Путина уже с другой стороны. Почему Россия до сих пор не вмешалась открыто в украинский конфликт? Слабо Президент повоевать с Евросоюзом и НАТО? Поскольку соотношение сил общеизвестно, провокаторы надуютс, что если их призыв будет услышан, то развалины русских городов скоро станут площадкой для вполне легальных гей-парадов. Другим путем – но к той же цели. Механизм провокации довольно примитивный: «Слабо тебе, Васек, ограбить табачный ларек?»
Безусловно, князь Пожарский, маршал Жуков и космонавт Гагарин – герои. Следует воздавать им всяческие почести и торжественно отмечать юбилеи их исторических подвигов. Но не прятаться в эти юбилеи от себя самих и не драпировать знамёнами из музея нынешнюю леность и трусость! Мы-то что делаем в Космосе такого, что давало бы основания проходить мимо памятника Гагарину без стыда? Ах, как быстро Пожарский восстановил полностью разрушенное государство! Слава Пожарскому!
Но мы годами не можем решить элементарные проблемы – например, прекратить «озеленение» и «благоустройство» под формат американского кладбища. Причем, с моей точки зрения, главная беда не в чиновниках, которые на этом наживаются, а в тех тысячах граждан, которые имеют дипломы биологов-экологов и спокойно ходят на работу мимо вредителя с триммером и бульдозера, зачищающего парк. Если бы хоть один из трёх вмешался в происходящее с использованием своего служебного положения, мы жили бы в зелёных городах, комфортных в любую погоду, дышали чистым воздухом даже в центре столицы. А сэкономленные деньги пошли бы на что-то полезное (на роддома сельской местности или мост в Крым). Но такой скучной конкретикой озабочены лишь одинокие чудаки отщепенцы.
Ибо куда интереснее – возвышенно-отвлечённые, ни к чему не обязывающие и не угрожающие никакими конфликтами (особенно по месту работы) рассуждения об экологии планеты, высокой духовности или об исторических судьбах России.
Что в итоге? Ручное управление без стратегического планирования и профессиональной экспертизы, причём это руки одного человека, вынужденного решать как частные, так и общие проблемы в самых разных сферах.
Если бы Путин не посетил Санкт-Петербург и не разобрался в делах тамошнего Дома ветеранов сцены им. Савиной, то территория памятника истории и культуры федерального значения была бы радостно сдана под элитную застройку. Не только при полном равнодушии, но даже активном соучастии соответствующего творческого союза. Если бы тот же Путин не приказал выводить предприятия из оффшоров, права собственности на наши заводы и полезные ископаемые по-прежнему регистрировались бы через Крокодиловы острова по утерянным паспортам бомжей. А тысячи, с позволения сказать, учёных экономистов (и международных юристов) доказывали бы друг другу, что это нормально.
Самое смешное – когда подобная публика предъявляет Путину претензии, с одной стороны, за нерешительность, с другой – за авторитарные и диктаторские замашки. Больше всего возмущаются коррупцией в верхах те, кто у себя на работе уже продал всё, что можно, а то, что нельзя было вынести на продажу, привёл в негодность (таковы на сегодня основные достижения столичного «креативного класса»).
Нам в самом деле очень повезло, что на рубеже веков во главе государства оказался человек с уникальными способностями к одновременной игре на 10 досках против намного более сильных внешних «партнёров» и собственного ненадёжного окружения.
Однако он всё-таки человек, а не суперкомпьютер и не тысячерукое божество. Он не успевает решать за других все их проблемы. Не может знать всего на свете и в результате, конечно, ошибается. Особенно в таких ситуациях, когда насквозь прогнившее профессиональное сообщество упорно подсказывает неверные решения (как это, на мой взгляд, имело место в образовании).
Представьте себе, что вы мэр города, в котором надо построить мост. Как? Будучи ответственным руководителем, вы не берете на себя смелость судить о том, чему специально не учились. Вы собираете десять самых авторитетных профессоров по мостам согласно табели о рангах, принятой в соответствующей науке. Пять специалистов вам лгут. Трое в ответ на конкретный вопрос произносят нечто заумное, что вообще нельзя понять, тем более, применить к делу. Двое самых честных просто не приходят на совещание. В результате мост трещит и разваливается. Кто виноват?
Вот положение, в котором постоянно оказывается руководство России. Огромная страна не может полностью зависеть от личности (и даже от нескольких личностей). Нужно перспективное планирование (а не пассивное реагирование) и такие цели (как когда-то космическая программа), которые могли бы вдохновить людей, ради которых стоило бы рисковать, вступая в противоборство с предательским болотом. Но для выработки таких целей, как вы понимаете, одних кричалок мало.
Илья Смирнов
|
|
Без заголовка |

Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры? | Back in the USSR
Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры?
Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры?

Термин «великая шахматная доска», используемый в настоящей статье, напомню, был впервые употреблен З. Бжезинским в 1998 году в фундаментальной работе по геополитике с аналогичным названием. Подразумевалось, что сил, способных сдержать распространение влияния Соединенных Штатов Америки, во всем мире больше не осталось, планета превратилась в их и только их поле деятельности. Евразия рассматривается как та самая «великая шахматная доска», на которой разыгрывается американская, заведомо выигрышная, партия. Разумеется, повышенное внимание в аналитической работе З. Бжезинского уделяется России и постсоветскому пространству – как самому лакомому куску территориально-политического пирога. Социалистический лагерь рухнул, Россия слаба и беспомощна – соответственно, Соединенным Штатам Америки остается только прийти «к столу» и вдоволь и, главное, беспрепятственно насытиться этим самым лакомым куском.
По состоянию на сегодняшний день можно уверенно заявить, что нахально-оптимистические прогнозы североамериканских политтехнологов (и З. Бжезинского в частности – может быть, даже в первую очередь) не сбываются, и не просто не сбываются, а все чаще и чаще с треском проваливаются. Впрочем, сам З. Бжезинский, человек с, безусловно, гибким и адаптивным мышлением, значительно скорректировал свои прогнозы по ходу процесса видоизменения политической ситуации в мире, и особенно в благоприятных в ресурсном отношении регионах. В частности, в своей последней знаковой работе 2013 года под названием «Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис» великий американский политолог предрекает уже глобальную переполюсовку мира в пользу Индии, Китая и частично России, причем в общем виде эта переполюсовка должна состояться, по прогнозам З. Бжезинского, к 2025 году.
Прогнозы – вещь неблагодарная. Каким бы гениальным ни был интеллект исследователя, вряд ли он способен охватить десятки и сотни частностей, ежедневно сталкивающихся друг с другом, а ведь именно эти частности, собственно, и составляют ход истории. Пытаться предсказать все до мелочей – значит заведомо обречь себя на провал. Поэтому в выигрыше всегда оказываются те исследователи, которые не зацикливаются на краткосрочных проявлениях, а подмечают очевидные и хотя бы относительно устойчивые глобальные процессы.
В этом смысле пророком можно назвать С. Хантингтона, который в 1993 году, когда, казалось бы, ничего не предвещало какой-либо альтернативы американской гегемонии, заявил о грядущей многополярности. Причем полюса, как совершенно справедливо предрек С. Хантингтон, будут выстраиваться по цивилизационному, а не по территориальному принципу. Кстати говоря, С. Хантингтон же предсказал рост и чрезвычайное усиление религиозно ориентированного терроризма, что, собственно, весь мир сейчас вынужден расхлебывать сполна.
Сегодня мы видим мир, выстроенный по С. Хантингтону, а не по З. Бжезинскому (образца 1998-2010 годов). Как мы сейчас наблюдаем, во всем мире действительно происходят столкновения самых разных государств и финансово-политических сил, формально прикрывающихся самыми разными идеологиями, и «великая шахматная доска», как видим, стала несколько шире Евразии.
Ни о каком единоличном американском господстве, предрекаемом в свое время З. Бжезинским, Ф. Фукуямой и прочими американскими и проамериканскими исследователями, сейчас не идет и речи. Что бы ни говорили, с другой стороны, некоторые любители конспирологии о едином «мировом правительстве» («Комитете трехсот» и прочем подобном), - ясно, что единство подразумевает слаженность и скоординированность действий, а также наличия идейного согласия как минимум по большинству основополагающих пунктов совместной деятельности. Мы же сегодня видим мир, полыхающий в межэтнических, межрасовых, межнациональных и межконфессиональных рознях; мир, почти что целиком поделенный между финансово-политическими кланами, находящимися в острейшем и практически бескомпромиссном противостоянии друг с другом. Совершенно очевидно, что американская доктрина «всеединства» под началом доллара и идеологии потребления не сработала и с каждым годом срабатывает все меньше и меньше.
По состоянию на сегодняшний день американская политика разжигает три основных мировых пожара, полыхание которых она не в силах организовать нужным для себя образом и направить в нужное для себя русло. Это африканский пожар, ближневосточный пожар и украинский пожар. И так уж сложилось исторически, что Россия, просто по факту своего территориального местоположения, не может оставаться изолированной ни от одного из этих процессов. А политический и экономический курс, взятый Владимиром Путиным, и подразумевающий полноценный государственный суверенитет и укрепление экономики страны, не может вызывать одобрение у геополитических сил, представляющих интересы крупнейшего, в целом проамерикански настроенного, транснационального капитала. Каждый шаг России по усилению собственной мощи на внутриполитическом и уж тем более внешнеполитическом уровнях неизбежно провоцирует новую волну конфликтов во всем мире. Но через волну этих конфликтов необходимо пройти достойно, чтобы пресечь таковые в будущем!
Сценарии раздувания каждого из вышеназванных «пожаров» практически идентичны друг другу. Для начала запускаются «пробные» локальные конфликты, основанные либо на псевдонациональной или псевдорелигиозной псевдоидентичности, либо на якобы демократических свободах. Затем эти локальные конфликты перерастают в локальные стычки, из стычек – в крупные и радикально (как правило, даже кроваво) настроенные оппозиционные течения. Следующим этапом является гражданская война, охватывающая практически весь благоприятный в сырьевом и/или территориальном отношении регион. И, наконец, в финале происходят хаос и распад государства – с последующим захватом лакомой территории силами, проводящими интересы транснационального капитала.
Такая сюжетная линия сработала в бывшей Югославии, в Ираке, Ливии и Тунисе, но провалилась в Египте, буксует в Сирии, Йемене и на Украине, тотально и разгромно провалилась в Китае и Белоруссии. Выработанный «универсальный» сценарий порабощения, с его «универсальными» штампами, все чаще распознается еще в зародыше, поэтому Америка, с ее грандиозными и нагловатыми амбициями, все чаще оказывается неспособной удовлетворить таковые, при этом продолжая все чаще и чаще разжигать международные конфликты – по самым разным формальным основаниям.
В последние годы Соединенные Штаты Америки, вступая в глобальные и рисковые партии, не в силах довести до конца ни одной из них. Более того, раздутые «пожары» начинают полыхать инерционно, зачастую уже без непосредственного вмешательства властей Соединенных Штатов Америки и в значительной степени уже вне их контроля (хотя не исключено, что при явной заинтересованности некоторых представителей американского финансового истеблишмента). В частности, регионы, где посеян хаос и взамен хаоса не установлен порядок, выступают лакомым куском для транснационального криминала – преимущественно террористической и наркотической направленности.
Известно, что практически все террористические организации неразрывно связаны с торговлей оружием, наркотиками и людьми, эта деятельность приносит как минимум десятки миллиардов долларов криминальной прибыли ежегодно, и таким образом при попустительстве Соединенных Штатов Америки активно обозначена крайне опасная тенденция: замена государственного административно-территориального управления на управление криминальное. Поясню: к криминальному типу управления я отношу управление наркотически-террористических кланов на территории Афганистана, а также в очень значительной степени на территории ряда стран Ближнего Востока. Уже достоверно известно, что и Талибан, и оппозиционные по отношению к нему течения на территории Афганистана и Вазиристана, и Аль-Каида, и ИГИЛ, и десятки других квазирелигиозных вооруженных формирований финансируются за счет наркотической преступности, незаконного оборота оружия и работорговли.
Начав грандиозные геополитические мероприятия, Соединенные Штаты Америки оказались неспособными обеспечить даже собственный суверенитет и безопасность. Известно, в частности, что Соединенные Штаты Америки являются абсолютным мировым рекордсменом по размеру государственного долга, превышающего 70% собственного годового ВВП, причем держателями более половины этого космического по размерам долга являются Китай (главным образом, он) и Япония. Большая часть деятельности в Америке сегодня остается в значительной степени теневой: 87% американской экономики носит частный характер, причем господствующая доктрина американского бизнеса сводится к минимизации роли государства в экономических процессах.
Все большее количество исследователей, в том числе на Американском континенте, отмечают исключительную зависимость интересов американской политики и американской государственной машины от интересов американского и транснационального капиталов. Иными словами, Соединенные Штаты Америки, хамски посягнув на глобальное и великое, забыли про собственную защищенность, из-за чего их нынешние геополитические амбиции обречены на провал.
Параллельно с ослаблением влияния Соединенных Штатов Америки происходит усиление России и стран азиатского блока. Свыше 50% мировой рабочей силы имеет китайское и индийское происхождение, крупнейший банк планеты находится в Китае (речь идет, разумеется, Индустриальном и коммерческом Банке Китая), да и по численности населения Китай и Индия выигрывают у любого блока (сейчас каждый 2.5-й человек на планете – либо житель Китая, либо житель Индии).
Более 25% мирового ВВП приходится сегодня суммарно на Китай, Индию и Россию. Я говорю «суммарно», потому что взаимодействие этих стран становится все более тесным. Россия в настоящее время все больше ориентируется на крупнейшие страны азиатского блока, и об этом прямо заявляет наш Президент. Владимир Владимирович Путин с сентября этого года не устает подчеркивать, что взаимодействие со странами азиатского блока необходимо осуществлять как в части экспорта энергоресурсов, так и в части научно-технического взаимодействия, которое с нашей стороны планируется претворять в жизнь, главным образом, путем создания совместных научно-исследовательских центров. Россия сделала правильный выбор: она хочет сотрудничать с перспективными и сильными партнерами, а не с геополитическими неудачниками, не способными самостоятельно, без указания финансовых кланов, определить свою политику! Другой вопрос: какое место сегодня занимает Россия в выбранном ей блоке?
В настоящее время Россия пока объективно не может претендовать на роль лидера, ни экономически, ни демографически - разве что только территориально. Однако именно Россия, а не Китай и Индия, обозначила решимость противостоять творящемуся в мире произволу. Понятное дело, что вмешательство России обусловлено необходимостью защиты от криминальных поползновений на ее собственную территорию. Но именно геополитически активная роль государства и обеспечивает, в конечном счете, его глобальное лидерство. Так было всегда в мировой истории – и в эпоху Греции, и в эпоху Рима, и в эпоху Карфагена, и, кстати говоря, в российской истории. Активность по отстаиванию интересов собственной безопасности, в том числе на отдаленных рубежах, неизбежно повлечет за собой необходимость развития и последующий выход на лидирующие позиции. Повторюсь: так было всегда в истории, и я уверен, что российская история XXI века не станет исключением!
Итак, на «великой шахматной доске» Соединенные Штаты Америки играют все менее существенную и все более блеклую роль. Еще менее существенную и еще более блеклую роль играет Европейский Союз. Мы являемся свидетелями глобальной трансформации мира: переходу от многополярного мира фактически к трехполярности, и полюсами выступают Китай, Индия и Россия. Причем на данном историческом этапе, в чем его принципиальная уникальность, каждый из этих полюсов-гигантов действует «в связке» с двумя другими.
Трудно сказать, сколь долго это продлится, но очевидно одно: Россия, с ее темпом развития за последние несколько лет, при продолжительном сохранении позитивной динамики такового, имеет все шансы стать полюсом № 1! Не исключительным, не противопоставляющим себя всем другим странам полюсом, не государством с замашками могучего горделивого изгоя, а первым среди равных, всегда готовым к дружбе и взаимодействию на началах искренности и равноправия! Как бы тому ни противилась проамерикански настроенная пропаганда, спонсор которой год от года теряет свое мировое влияние!
Пожидаев Илья Евгеньевич
|
|
Без заголовка |

Ужасный недостаток мужчин, о котором редко говорят вслух | Ольга Марченко
Ужасный недостаток мужчин, о котором редко говорят вслух
А ведь есть одна такая мужская особенность, которая способна отравить женщине жизнь. Капля за каплей. День за днём. Но только в самых откровенных разговорах и на закрытых женских форумах можно узнать об этом. Интересно, что у женщин как раз нет такого недостатка, нет и быть не может!
Я предлагаю вашему вниманию несколько реальных и виртуальных реплик женщин о том, что действительно мучит их. Все реплики подлинные, все очень серьёзно, потому что речь пойдёт
о мужских НОСКАХ.
Муж всегда кладёт носки под подушку! Всегда! И ругается, когда не находит их там под утро :(
Мой муж занимается со мной любовью в носках.
Когда муж смотрит телевизор на кровати, он кладёт свои вытянутые ноги в носках на диванную подушечку и шевелит пальцами ног. И мне всегда кажется, что он не на экран смотрит, а на свой пальчиковый театр. И я тоже тогда смотрю на его ноги и теряю нить сюжета.
Мой муж нашёл свой носок в какашке нашей овчарки на улице. Хорошо, что домой не принёс.
У моего начальника коротенькие носки и такие же коротенькие брюки. И когда он сидит, его волосики на ногах лежат практически на ботинках.
Самое мерзкое в мужчине - это носки с босоножками. А если это белые носки, то можно его сразу убить, и любой суд присяжных оправдает тебя, потому что гаже ничего нет.
Мужчины снимают в поезде ботинки, сидят в носках и шевелят пальцами, чтобы вонь быстрее по вагону распространялась.
Из 15 лет супружеской жизни 10 лет я каждое утро слышала "Где мои носки??!!", хотя они всегда были в одном и том же месте!!
Я стала менять их месторасположение. Например, завешивала ими экран телевизора, который включался в момент вставания Персоны с кровати.
Развешивала на зеркале, у которого он чистил зубы.
Но через минут 15-20, когда он начинал одеваться, "Где мои носки?"
звучало вновь!! ))) А потом я купила такой милый пластиковый тазик с цветочками, сложила туда пар 60 носков, вручила благоверному с угрозой, что если возникнет интерес по поводу местонахождения вышеозначенных предметов, то тазик будет раздолбан о его голову!!!
Теперь я время от времени слышу: "Где тазик?!"
Мой муж носки все время кладет на стол или на книжную полку. Так как всю жизнь у него была маленькая, но чрезвычайно вредная собака, которая эти носки вечно тырила, если их опрометчиво клали на стул, диван или на пол.
Живу с мужем пять лет и изо дня в день наблюдаю одну и ту же картину. Снимая носки, он каждый раз (!!) осторожно их нюхает и с отвращением, но аккуратно (!!) откладывает в сторону.
Есть хороший способ стирать носки. В бутыль из под воды (5 литров) заливается горячая вода и пару ложек порошка, а затем закрытая бутыль кидается в багажник. Вечером вынимаете бутылку с идеально простиранными носками.
Блин! Но это же жесть пихать пальцем в бутылку грязные носки. Хуже - только пытаться их вытащить.
Я знаю, почему мужья разбрасывают носки по квартире: так они метят свою территорию, потому что они все же цивилизованные и не могут описать все углы. Или ленятся.
Что после всего этого я могу сказать женщинам в утешение? Знаете, мы тоже не ангелы:
"Блин, ее ночные маски. Вы когда-то видели женщину с зеленой коркой на лице и черными дырками для ноздрей? Как вы думаете, я могу спать, зная, что со мной рядом лежит такое чудище. Третий день пью снотворное..."
Так что будем терпеть и дальше маленькие недостатки друг друга. Надеюсь, вы читали этот текст не за завтраком :))))
Девочки, честно,а есть здесь и про ваших мужей? :)
|
|
Без заголовка |

Россия в свете прогнозов на будущее | Жизнь и Политика России
Россия в свете прогнозов на будущее
 Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

"Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет".
(Из песни "ГАДАЛКА").
Парацельс (1493-1541). Его Книга “Оракулы”:
“Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа - Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет... В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет Великий Крест”.
В соответствии с предсказанием Парацельса это произойдет спустя 500 лет после его кончины, то есть в 2041г
Макс Гендель, “Космогоническая Концепция Розенкрейцеров” (издание 1911 года), Т. 2, стр. 62.:
Со вступлением Солнца в знак Водолея, Русский народ и Славянская Раса в целом достигнут степени духовного развития, КОТОРАЯ ПРОДВИНЕТ ИХ МНОГО ВЫШЕ ИХ НЫНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ. Музыка будет основным фактором в осуществлении этого, ибо на крыльях музыки гармоничная душа может лететь к самому трону Божьему, чего обыкновенный интеллект достичь не может. Славянская цивилизация будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных страданий, а закон компенсации приведет в свое время к противоположному.
Иоанн Кронштадский:
“Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Престола Господня”.
Великий писатель, критик и патриот России В.Г. Белинский писал: “В будущем, мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни и русскую мысль”.
“Миссия славянских народов, состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда - не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду”, - писал великий пророк нашего времени Эдгар Кейси. “Воспоминания”.
“Русский дух, - уверяет Освальд Шпенглер, - знаменует собою обетование грядущей культуры”… Шпенглер провидит даже, что русский народ даст миру новую религию. Это естественный процесс эволюции".
Алиса Анна Бейли: Духовный девиз русского народа: “Я соединяю два пути”. Задача русского народа заключается в создании связи между Востоком и Западом. Россия будущего выявит все добрые черты духовности - и тогда мир без всякого навязывания с её стороны будет учиться на её примере. Так РОССИЯ, идя своим ТРУДНЫМ ПУТЕМ, ПРОСВЕТИТ себя СВЕТОМ, КОТОРЫЙ ОЗАРИТ ВЕСЬ МИР”.
Святой старец Серафим Саровский еще в начале XIX века предсказал расстрел царской семьи, революцию и войны, миллионы жертв, но говорил, что Россию ждет великая слава. “Славяне же любимы Богом за то, что до конца сохраняют истинную веру в Господа. И удостоятся великого благодеяния Божия: будет всемогущественный язык на земле, и другого царства более всемогущественного, чем Русско-Славянского не будет на земле”.
То есть, Россия будет стремительно становится мировым лидером. Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых:
“Грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское - Гога Магога, пред которым в трепете все народы будут”. И все это, все верно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею".
Святитель Феофан Полтавский, духовник Царской семьи сделал пророчество в 30-м году прошлого века:
“Произойдёт то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мёртвых и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет...
А вот слова преподобного Лаврентия Черниговского (конец 1940-х гг.):
“Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. В России исчезнут все расколы и ереси. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово время".
По материалам http://www.veda.siteedit.ru/page37/
|
|
Без заголовка |

Фалуджа.Американский след. Внимание: шокирующие кадры! | Back in the USSR
Фалуджа.Американский след. Внимание: шокирующие кадры!
1. История
Фаллуджа является очень древним городом. Существуют свидетельства, что этот район был населён ещё во времена Вавилонского государства. Известно, что город под названием Мисихе уже существовал во времена Сасанидской империи. В эпоху Оттоманской империи Фаллуджа была незначительным населённым пунктом на дороге западнее Багдада.
После Первой мировой войны контроль над территорией современного Ирака перешёл к Великобритании. В 1920 году в Фаллудже вспыхнуло антибританское восстание, в ходе которого возле города погиб высокопоставленный британский офицер подполковник Жерар Личмэн. Восстание было подавлено, при этом погибло более 10 тыс. иракцев и 1 тыс. британских солдат.
В 1941 году во время короткой войны между Великобританией и прогерманским правительством Ирака возле Фаллуджи произошло сражение, завершившееся победой британцев.
На 1947 год население Фаллуджи составляло всего около 10 тыс. человек. По мере развития экономики Ирака Фаллуджа стала стремительно расти, чему способствовало её расположение на одной из главных дорог страны. Во время правления Саддама Хусейна город был одним из оплотов правящего режима. Многие выходцы из Фаллуджи занимали высокие посты в партии Баас. В этот период в городе был построен ряд индустриальных предприятий.
2. «Буря в пустыне»
В феврале 1991 года во время операции «Буря в пустыне» удары авиации Многонациональных сил по Фаллудже дважды приводили к жертвам среди местного населения. Обе атаки были предприняты против моста через Евфрат. В первом случае британские «Торнадо» по ошибке сбросили две бомбы на главный городской рынок. Во втором случае американской авиации удалось поразить мост, но одна из бомб упала на ещё один городской рынок. В результате двух атак погибло около 200 и было ранено 500 мирных жителей[1].
3. Война в Ираке
Во время вторжения войск международной коалиции в Ирак в марте—апреле 2003 года Фаллуджа почти не пострадала, так как дислоцировавшиеся в ней иракские подразделения покинули свои позиции без боя. После завершения активной фазы боевых действий город подвергся массовым мародёрствам, что частично объясняется его близостью к багдадской тюрьме Абу-Грейб, из которой Саддам Хусейн перед своим свержением отпустил всех заключённых, в том числе уголовников.
В Фаллуджу вступили подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии США, что вызвало недовольство местных жителей, надеявшихся, что американские войска расположатся вне городской черты. 28 апреля 2003 года[2] произошёл трагический инцидент. В этот день возле местной школы, занятой американскими солдатами, собралась демонстрация, требовавшая восстановить работу учебного заведения. По неизвестной причине американские войска открыли огонь по толпе, убив 17 и ранив более 50 мирных жителей. Ещё одна демонстрация, собравшаяся для протеста против расстрела предыдущей, также была обстреляна, погибло 2 человека.
После событий конца апреля население Фаллуджи окончательно было настроено против войск США. В мае—июне начались нападения на отдельные американские патрули. Уже к концу лета 2003 года город считался главным оплотом развернувшегося в Центральном Ираке (в районе «Суннитского треугольника») партизанского движения. В конце 2003 и начале 2004 года возле Фаллуджи были сбиты три американских вертолёта (погибли около 25 военнослужащих). В самом городе сложилась напряжённая ситуация. Формально он по-прежнему находился под контролем войск США, однако здесь действовало большое число боевиков, располагавших значительным количеством оружия.
В марте 2004 года 82-я воздушно-десантная дивизия передала контроль в провинции Аль-Анбар подразделениям морской пехоты США. Попытка морских пехотинцев подавить повстанческое движение привела в конце месяца к вооружённым столкновениям в центре Фаллуджи, поставившим под сомнение степень контроля американских сил над городом. 31 марта в засаду попал конвой американской частной охранной фирмы «Блэкуотер». Четверо охранников были убиты, их тела пронесены через город и повешены на мосту. Видеозапись события была показана по всем мировым телеканалам. После этого эпизода стало очевидно, что Фаллуджа полностью контролируется партизанским движением.
К городу были переброшены бригада морской пехоты и танковый батальон, 5 апреля начавшие операцию «Vigilant Resolve» при поддержке частных военных компаний— первый штурм Фаллуджи. Американское командование недооценило силы боевиков, находившиеся в городе. Наступавшое войско было остановлено и увязло в уличных боях. Одновременно по всему Ираку началось шиитское восстание, и перебросить в Фаллуджу подкрепления стало невозможно. В конце месяца между морской пехотой и боевиками было заключено соглашение о перемирии, в целом продержавшееся до осени, несмотря на отдельные стычки. После подавления шиитского восстания и передачи власти иракской администрации силы США осенью начали наступление с целью окончательной ликвидации опорных баз партизан. В октябре начались переговоры со старейшинами Фаллуджи о мирном выходе боевиков из города. После провала переговоров 8 ноября 2004 года началась американо-иракская операция «Phantom Fury» — второй штурм города. В ней участвовали четыре американских бригады и войска частных военных компаний и Иракские правительственные войска при массированной поддержке авиации и артиллерии. После ожесточённых боёв к концу месяца силы боевиков были выбиты из города. Как и в ходе первого штурма, имелись значительные жертвы среди мирного населения, а город подвергся большим разрушениям. Сообщалось, что в только во время ноябрьского сражения в городе было полностью разрушено около 9 тысяч домов, то есть примерно четверть всего жилого фонда.
После взятия Фаллуджи ситуация в городе на некоторое время стабилизировалась, однако уже во второй половине 2005 года боевики начали возвращаться сюда, свидетельством чему стали вновь участившиеся нападения на американских солдат. По состоянию на начало 2007 года партизанская активность в Фаллудже продолжается, хотя и не достигает уровня 2003—2004 годов.
Детский ад
Если девять лет назад СМИ называли Фаллуджу «иракским Сталинградом», то сегодня ее справедливей сравнивать с Хиросимой или Нагасаки.
В результате применения войсками США оружия массового поражения Фаллуджа занимает первое место в мире по количеству детей с врожденным заболеванием раком, малокровием и инвалидностью…Стрингерское бюро международных расследований – специально для Lifenews.
Анатомический театр
Эти кадры заставят содрогнуться любого человека – бесконечная череда крохотных уродцев, в мешанине которых невозможно распознать ни рук, ни ног. Маленькие монстры, порождённые бездушием и жестокостью военных. «Всё это началось уже в 2005 году, – рассказывает один из руководящих работников городского госпиталя в Фаллудже Садум Аль-Зибари, – патология внутренних органов, лейкемия, врождённая онкология у 15% новорождённых. Более того, это данные далеко не полные, так как 40% женщин рожают дома».

К нашей беседе присоединяется доктор Нури: «Мы исследовали частоту и характер онкологических заболеваний у пациентов в возрасте от 10 лет. Заболеваемость раком в Фаллудже на 2011 год составила 96 на 100,000, что втрое превышает показатели 2002 года (до оккупации Ирака эта цифра равнялась 34,5 на 100 000 человек). Картина заболевания имеет различный характер у мужчин и женщин. У женщин рак поражает преимущественно грудь, яичники, матку. У мужчин – легкие, желудок и мочевой пузырь.
Резко возросло количество случаев врожденных аномалий. За 11 месяцев исследования был зарегистрирован 291 новорожденный с пороками различных органов: сердца, нервной, мочеполовой, пищеварительной и других систем. Мы полагаем, что это напрямую связано с результатами войны. Соседние регионы тоже пострадали, однако Фаллуджа на настоящий момент занимает печальное лидирующее место – резкий всплеск заболеваемости отмечен в 2005 году и до сих пор держится на том же уровне. Кстати наиболее высок уровень заболеваний у жителей центра города – в тех местах, где шли ожесточенные бои».
Разговорить работников больницы оказалось очень непросто – официальные власти не особенно стремятся афишировать проблему. В конце концов, чашу весов в нашу пользу перевесили религиозные мотивы – местные сунниты не особенно любят "шиитских прихвостней" в Багдаде, прогнувшихся под американцев ради власти.
В течение всего разговора на мониторе мелькают кошмарные фотографии больных детей, а на столе рассыпаны графики с бездушными диаграммами. Все это производит крайне гнетущее впечатление. Благодарю докторов за разговор, откланиваюсь, но Садум просит не спешить. Узнав о моем визите, в госпиталь приехал лично начальник службы безопасности провинции. Так сказать «познакомиться».
Изучив и скопировав паспорт, полицейский начинает задавать вопросы. Ответы тщательно записывает в книжечку. Наконец жмёт мне руку: «Фаллуджа – самый безопасный город Ирака. Вы можете спокойно гулять здесь хоть днем, хоть ночью. Но не сегодня… Приезжайте в любое время, смотрите город, но сейчас вам лучше уехать». Нас под конвоем выводят из госпиталя и в сопровождении полицейских машин доставляют до границы провинции Анбар.
Белая смерть
На обратном пути слушаю рассказ водителя. Саади родом из Фаллуджи – здесь родился, здесь пережил американскую оккупацию, принимал участие в сопротивлении, здесь живет и сейчас. На его плечах содержание жены, двух сыновей и дочки.

Уже через год после оккупации и развала саддамовской армии здесь, в суннитском треугольнике, началась полномасштабная война – американцы применяли против партизан авиацию и танки, в Фаллудже не осталось ни одного неповрежденного здания, четверть домов была разрушена полностью. «Тогда был ад. Людей убивали сотнями. Огонь вели по жилым кварталам. Город обстреливался со всех сторон – с земли и воздуха. Это была настоящая бойня. Кому-то удалось вырваться из огненного кольца, но большинство оказалось в ловушке. Небо вспыхивало целыми фонтанами света. Было похоже, что нас просто хотят стереть с лица земли. Мы с женой старались держаться внизу, прятались по подвалам. Мой друг во время одной из бомбардировок потерял всю семью – они будто сгорели заживо. Было страшно», – рассказывает Саади. Мы пылим по дороге, и я замечаю, как дрожат у него руки после этих воспоминаний. Молчим.
«Целые фонтаны света» – это белый фосфор. Огнеопасное и чрезвычайно ядовитое вещество, которое воспламеняется при контакте с кислородом. Температура горения – 1200°С. При попадании на кожу мягкие ткани сгорают до кости. Применение белого фосфора в ходе операции «Разгневанный призрак» в Эль-Фаллудже это уже не легенды – факт подтверждён не только экспертами, но и официально признан американской стороной.
При этом Пентагон просто отмахивается от обвинений в военных преступлениях – использование зажигательного оружия в местах сосредоточения гражданского населения запрещено Протоколом III к Конвенции ООН об обычном вооружении, а США этот документ не ратифицировали и формально не связаны обязательствами по его выполнению. То есть совершенно законно могут творить то, что во всем цивилизованном мире считается применением оружия массового поражения.
Однако тысячи невинных жертв фосфорных бомбардировок – это только начало. Самое страшное – последствия применения запрещенного оружия (помимо белого фосфора американцы использовали боеприпасы с обедненным ураном) растянутся на десятки лет. По результатам последнего исследования, средний показатель заболевания раком среди новорожденных в Фаллудже намного превышает таковой среди выживших после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Однако про два японских города знает каждый ребёнок, они стали овеществленным символом жестокости ослеплённых войной людей, а про Фаллуджу не слышал почти никто.
В Багдаде все спокойно

По возвращении в Багдад отправляемся в Министерство здравоохранения. Пройдя десяток досмотров и оставив на входе телефоны и камеры, подходим, наконец, непосредственно к зданию, где меня просят сдать... сигареты и зажигалку. Это в Ираке-то? В этом раю для курильщиков? Сдаю и первое, что вижу в холле министерства, – стайку молодых врачей, смолящих в уголке. Они отправляют меня на третий этаж к Касиму Эль Судани, начальнику информационного центра.
Отмечая про себя, что это самое курящее министерство здравоохранения из всех мною виденных – курят везде, поднимаюсь на третий этаж. В приемной информационного центра нас услужливо встречает секретарь и, вежливо выяснив, с чем пожаловали, скрывается за дверями кабинета. Через пять минут нас приглашают. После традиционного обмена любезностями перехожу к главным вопросам: что происходит в Фаллудже? Почему, начиная с 2005 года в городе аномальное количество новорожденных с тяжелыми заболеваниями?
Вместо ответа получаю штампованную оптимистическую картинку про высокий уровень развития медицины, повсеместную вакцинацию, здоровых младенцев и светлые перспективы на будущее.
Пробую нажать сильнее:
– А как насчёт последствий военных действий 2003-2004 годов?
– Мне об этом ничего не известно.
– Но есть же статистика!
– У меня такой статистики нет.
– Нет? Тогда меня к вам послал Аллах. Вот, посмотрите на эти распечатки.
Повисает пауза, Касим шуршит листами и, не желая отвечать на неудобные вопросы, отсылает меня к доктору Нахиде, главному онкологу Ирака.
На десятом этаже повторяется процедура чая, кофе и приветствий, после чего следует та же сказка о здоровом поколении. Здесь явно предпочитают придерживаться заранее установленной программы.

«В таком случае мне есть, чем вас удивить», – говорю я и протягиваю цифры из Фаллуджи. «У нас нет этих сведений. И вообще, чтобы продолжить дальнейший разговор, вам надо получить разрешение министра». Пробить эту бюрократическую стену невозможно.
Тем временем эксперты отмечают, что количество детей-калек в Фаллудже в 13 раз превышает среднестатистический европейский уровень. Каждый день в городе рождается 2-3 ребёнка с врождёнными дефектами. В 38 раз увеличилось число заболеваний лейкемией. Ситуация настолько серьёзная, что местные власти призвали женщин воздержаться от беременности. Последствия войны 2003-2004 года здесь уже назвали «Невидимым Чернобылем». Невидимым – потому что до сих пор, несмотря на вопиющие факты, последствия стараются замалчивать. Превращая тем самым еще не родившихся младенцев в разменную монету бесчеловечных преступлений, совершенных 10 лет назад сильными мира сего.
Документальные подтверждения: http://dx.doi.org/10.5915/44-1-10463
|
|
Без заголовка |

Валентин Катасонов. Смерть капитализма: впереди — «новый рабовладельческий строй». | Back in the USSR
Валентин Катасонов. Смерть капитализма: впереди — «новый рабовладельческий строй».

Мне уже не раз приходилось писать о том, что мировой капитализм вошел в новую и последнюю фазу своего развития. Почти 100 лет назад (в 1916 году) В. Ленин (Ульянов) написал книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма». В ней он констатировал, что в конце XIX — начале XX века капитализм стал монополистическим, и что такой капитализм является последней стадией развития этой общественно-экономической формации. Классик несколько поспешил с вынесением смертного приговора капитализму.
Человечеству пришлось ждать еще целый век, пока, наконец, мы воочию не стали свидетелями смертных конвульсий капитализма. Внешне все выглядит пока прозаично. Мир капитала вошел в фазу нулевых и отрицательных процентных ставок. И это не какие-то «временные трудности», а устойчивое новое качество экономики. Капитализм — такая модель, при которой высшей, конечной целью участников экономической деятельности является прибыль. В виде промышленного или торгового дохода, ссудного процента. Прибыль обеспечивает прирост капитала, он становится, как говорил классик марксизма, «самовозрастающей стоимостью». Так вот «самовозрастание» капитала закончилось. Началось его «убывание».
Ядром капиталистической модели являются банки с их ссудным процентом. В банковском секторе можно проследить уникальные метаморфозы процента. Современный банк — депозитно-кредитная организация. Она привлекает денежные средства на депозиты под определенный процент и выдает кредиты под процент. После финансового кризиса 2007−2009 гг. в мире стало наблюдаться массовое явление по снижению депозитных процентов. Тенденция зашла так далеко, что в некоторых странах и в некоторых банках депозитные проценты (не только реальные, но и номинальные) ушли в отрицательную зону.
Прежде всего, отрицательные проценты по депозитам стали устанавливать центральные банки. Первым это сделал ЦБ Швеции. За ним последовало еще несколько европейских ЦБ. В июне прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил депозитную ставку с 0 до значения минус 0,10. Подобные действия центральных банков объяснялись тем, что денежные власти старались преодолеть экономическую стагнацию, заставить коммерческие банки кредитовать экономику, а не отсиживаться в «тихой депозитной гавани».
Через некоторое время эпидемия отрицательных процентных ставок по депозитам стала захватывать и частные коммерческие банки. Сначала это были банки Швейцарии. Справедливости ради следует признать, что и раньше некоторые из них брали деньги с клиентов за размещение денег на депозитах. Это была плата за «услугу» по сохранению конфиденциальности. Очень востребованная «услуга», учитывая, что в Швейцарию стекались деньги с очень сомнительным происхождением. Сегодня банковская тайна в Швейцарии почти полностью ликвидирована. Поэтому сегодня отрицательные ставки по депозитам не представляют собой плату за деликатную «услугу» банка клиенту. Они продиктованы экономическими условиями банковского бизнеса.
Следует подчеркнуть, что денежные власти Швейцарии поощряют подобную процентную политику своих банков, т.к. она сдерживает приток свободных капиталов в эту страну из всей Европы. Финансовая и экономическая нестабильность в Европейском союзе повышает инвестиционную привлекательность Швейцарии (даже несмотря на то, что там ликвидирована банковская тайна). Но мощный приток денег в Швейцарию резко повышает курс швейцарского франка, а это создает большие проблемы для экономики страны. В Швейцарии сложилась парадоксальная ситуация, когда банки защищаются от наплыва клиентов с помощью отрицательных процентов по депозитам.
Да, это швейцарская специфика. Но вот в соседней Германии ряд банков также объявил об отрицательных депозитных процентах. Это как можно объяснить? — Отрицательные проценты по депозитам — вынужденная мера, поскольку у банков резко «просели» доходы по активным операциям. Особенно по кредитным. Пока еще по кредитам до отрицательных процентных ставок не дошло, но положительные значения в некоторых случаях снизились до 2−3%. Деньги стали почти бесплатными. А в некоторых странах, где имеет место хотя бы небольшая инфляция, реальные процентные ставки (номинальные ставки, скорректированные с учетом изменения покупательной способности денег) ушли в отрицательную зону.
В этой непростой ситуации банкам невыгодно уже заниматься своим традиционным депозитно-кредитным промыслом. Они уходят на финансовые рынки, перенося центр тяжести своих активных операций с кредитов на инвестиции. Но под «инвестициями» на самом деле скрываются банальные спекуляции с разного рода финансовыми инструментами. Впрочем, и на финансовых рынках для спекулянтов наступают тяжелые времена. В Европе за последние два-три года появилось большое количество государственных долговых бумаг с отрицательным процентом. Спекулянты, конечно, пытаются играть и с такими «картами», но эта игра крайне непривычна и не приносит баснословных прибылей. А убытки случаются все чаще.
Впрочем, феномен нулевых и отрицательных процентных ставок пока в основном наблюдается в странах «золотого миллиарда». Там снижению процентных ставок по депозитам, кредитам и финансовым инструментам очень способствуют денежные власти, которые проводят политику «количественных смягчений». Проще говоря, центральные банки включили «печатные станки», непрерывно вбрасывая в экономику громадные количества денег. Происходит «перепроизводство» денег. А при «перепроизводстве» любого товара цена на него падает. Деньги в этом смысле исключением не являются.
А вот на периферии мирового капитализма центральным банкам строго-настрого запрещено заниматься «количественными смягчениями». Им приказано заниматься прямо противоположным — «количественным ужесточением». Проще говоря, сжатием денежной массы. Поэтому на периферии мирового капитализма процентные ставки остаются (пока) на высоком уровне. Для мировых ростовщиков Уолл-стрит, лондонского Сити и других банковских центров страны периферии мирового капитализма являются «спасательным кругом». Здесь они продолжают себя чувствовать как классические денежные капиталисты. Впрочем, рано или поздно эпидемия отрицательного процента доберется и до периферии мирового капитализма. Есть признаки, что уже добралась.
В 2015 году капитал начал уходить из периферии мирового капитализма в страны «золотого миллиарда». В первую очередь в США. Согласно данным Института международных финансов, в III квартале 2015 г. инвесторы продали активов в развивающихся странах на сумму 40 млрд долларов и вывели их в зону «золотого миллиарда». Это худший квартальный показатель оттока капитала с 2008 г. Акулы капиталистического бизнеса обглодали изрядно страны «третьего мира» и возвращаются в свои тихие гавани. Новейшие опросы компаний периферии мирового капитализма, как сообщил нам последний номер журнала The Economist, показывают, что у более чем 20% компаний процентные платежи превышают их доходы до уплаты налогов.
Согласно другим источникам, во многих странах «третьего мира» чистые прибыли (т.е. прибыли после уплаты налогов) корпоративного сектора сопоставимы с расходами на обслуживание внешних долгов. Корпоративный долг в развивающихся странах вырос в пять раз за последнее десятилетие и сегодня составляет $18 трлн долл., или более 70% ВВП, отмечает британский журнал The Economist. Как объяснить этот феномен чистого оттока капитала из стран периферии мирового капитализма? — Судя по всему, база в виде корпоративной прибыли для поддержания высоких процентных ставок в этой зоне стремительно размывается.
Отчасти феномен движения капитала в зону «золотого миллиарда», в тихие гавани с нулевыми или даже отрицательными процентными ставками можно объяснить тем, что эпоха так называемых пассионарных капиталистов уже прошла. Мы имеем дело с очень странными капиталистами, которые выбирают безопасность и жертвуют прибылью. В свое время классик марксизма писал: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе шею, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Эти слова принадлежат не Марксу, а Томасу Джозефу Даннину, классик его лишь цитировал. Но в любом случае дух капитализма эти слова передавали очень точно.
Сегодняшний капитализм уже иной. В начале текущего года Яков Ротшильд, президент и основной акционер инвестиционного фонда RIT Capital Partners, опубликовал ежегодный доклад об итогах деятельности фонда в 2014 г. В нем он признал, что в ближайшие годы главной целью бизнеса будет не приращение капитала, а его сохранение. Смысл его высказывания таков: мол, надо пережить тяжелые времена, а потом вернемся вновь к своему привычному и любимому делу (наращиванию капитала).
Боюсь разочаровать Ротшильда: возврата к прошлому не будет. И порекомендую перечитать «Капитал», в котором классик формулирует закон — тенденцию нормы прибыли к понижению. Все полтора столетия норма прибыли действительно понижалась, сегодня она уже на уровне «плинтуса». Совокупный капитал увеличиваться не будет, поскольку реальный рост ВВП уже закончился. Начнется жестокое время «черного передела» остатков капитала. Большинство капиталистов, лишенных былой «пассионарности», будут искать убежища где угодно. Даже в финансовых инструментах с отрицательным процентом.
В середине сентября прошло заседание совета управляющих Федерального резерва США. Все напряженно ждали этого заседания, поскольку на нем должен был решаться судьбоносный вопрос: поднимать или не поднимать учетную ставку ФРС? Иначе говоря: возвращаться к временам классического капитализма с ссудным процентом или продлить «процентные каникулы»? Федеральный резерв постановил: «процентные каникулы» продлить. Чиновникам ФРС пришлось выбирать между «плохим» и «совсем плохим». Судя по принятому решению, «плохим» они посчитали сохранение процентной ставки, близкой к нулю. А «совсем плохим» — ее повышение. Ибо деньги перестанут быть бесплатными, а это может ввести американскую экономику в «штопор» с непрогнозируемыми экономическими, социальными и политическими последствиями.
Страны периферии мирового капитализма также облегченно вздохнули. Ибо даже установление учетной ставки ФРС на уровне 1−2% стало бы для них катастрофой: началось бы массовое бегство капитала в «страну обетованную»,т. е.в финансово-банковскую систему США. Мы знаем поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем что-то временное». Программы «количественных смягчений» в США (а позднее и в других странах Запада) были запущены как «временные». Однако отказаться от них Запад уже не сможет. На днях министерство финансов объявило, что процентная ставка по казначейским бумагам США установлена на нулевой отметке. Это знаковое событие, свидетельствующее о том, что возврата к прежнему капитализму уже не будет.
Классики марксизма-ленинизма говорили, что в процессе капиталистического накопления норма прибыли (и ссудный процент как основная форма прибыли) будет неумолимо понижаться. И это неизбежно приведет к «смерти» капитализма. С этим можно согласиться. Правда, при этом добавим, что у классиков не хватило воображения представить себе, что ссудный процент может опуститься ниже нуля. Отрицательные процентные ставки подсказывают нам: капитализм превратился в труп. Но при этом почему-то ни у кого не хватает смелости зафиксировать факт смерти.
Говоря об антагонистических противоречиях капитализма, классики делали «железный» вывод о том, что на смену капитализму придет социализм. А вот с этим полностью согласиться нельзя. Никакого «железного» детерминизма в истории нет и быть не может. «Хозяева денег» осознают, что существовавшая в течение нескольких веков капиталистическая модель экономики и общества себя изжила. И в «плановом порядке» готовят человечество к переходу к другой модели, где они могли бы оставаться хозяевами, но уже не денег, а всего мира как совокупности природных ресурсов, материальных производительных сил и всех людей на планете.
Причем власть над людьми должна распространяться на их сознание. Без понимания этих тектонических процессов в мировом капитализме трудно понять многие сегодняшние события в мире: появление ИГИЛ, войну на Ближнем и Среднем Востоке, «переселение народов» в Европу, «демократическую революцию» на Украине и т.п. Все это элементы гигантского проекта по трансформации обреченного капитализма в иную социально-экономическую формацию, которую можно условно назвать «новым рабовладельческим строем». Противостоять новому рабству можно лишь в том случае, если понимаешь, в чем состоят планы нынешних «хозяев денег».
|
|
Без заголовка |

Сеанс рихтовки шаблона 2.0 или Россия, вперёд... но уже без Путина? | Back in the USSR
Сеанс рихтовки шаблона 2.0 или Россия, вперёд... но уже без Путина?
Степан Степанович Сулакшин — генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии, д.полит.н., д.физ.-мат.н., профессор
Каждый день к любому из нас, и ко мне тоже, приходит кусочек информации, который рождает мысль, возмущает или возбуждает эмоции, и вызывает к жизни ответ на вызов. И так уж складывается текущая история нашей страны, что главный генератор решений и новостей, а также планов и безмерного удивления — это Президент страны, В. Путин.
Кто-то возводит его в ранг «солнцеподобного», неподотчетного для оценки и критики «божества»,кто-то разогревает свою эмоцию до ненависти, — но мне кажется очень важным сохранять объективность, справедливость оценок и аналитическую их нацеленность.
Раз так получилось, что страна, ее государственный механизм, механика принятия государственно-управленческих решений стянулись до одного кабинета, одного человека, то именно в этой точке и возможно находить ответы. Критерии для оценок тоже нужно отчётливо и рационально выработать. Мои критерии — это национальные интересы и национальная безопасность России. Они вполне объективны и вполне профессиональны, мы располагаем методиками оценки успешности страны после тех или иных государственно-управленческих решений. Если решение слабое, ошибочное — то стрелка курса успешности страны отклоняется налево, в негативную область. Если решение правильное, перспективное, сильное — стрелка прибора отклоняется направо. Вот таким «амперметром», интеллектуальной машиной я и работаю.
На чем основываются наши размышления и умозаключения? Конечно, на входящей информации. Откуда она берется? Закрытая информация, естественно, недоступна — «свечку», что называется, мы не держим, в банях вместе не паримся. Информация приходит, как и каждому, через средства массовой информации. Они, конечно, разные, часто информация там мутирует в пропаганду обеих полярностей — апологетической,казенно-бездумной — хвалим всегда, хвалим все, хвалим по любому поводу, хвалим, как только можем. Но даже из такой некачественной информации можно вычерпывать исходники — факты, прямые цитаты, прямые картинки. Они ценны, с ними можно работать.
Есть информация и противоположного толка, ненавистническая, вражеская, манипулятивная, и она задает вторую точку отсчета, балансируя между которыми можно реконструировать истинную действительность и ее уже оценивать. Бесценны такие источники, как прямая речь Президента, но она бывает тоже двух типов. С одной стороны, зачитываются бумажки, невесть кем написанные — забавно, но иногда в этих бумажках мы находим отголоски даже наших собственных разработок. То есть где-то референтура изучает множество источников, в том числе попадаются, видимо, и наши, и что-то туда просачивается.
С другой стороны, более важная информация для размышлений — это прямая речь. Она всегда показывает настроение говорящего, уровень его информированности, его отношение к тем или иным предметам и, наконец, его официальную позицию, поскольку он является высшим должностным лицом в нашей стране — главой государства, верховным главнокомандующим. Надо очень внимательно слушать, что говорят руководители страны. Мы уже на эту тему писали.
Так вот,кто-то пытается меня укалывать, упрекать за то, что работаю с цитатами Президента. Мол, выдёргиваете из контекста, мол, не так вы это понимаете… Конечно, есть издержки такой аналитической методики, и их можно либо усугубить, либо, наоборот, понимая угрозу точности реконструкции, стремиться снизить. Я работаю, конечно, со стремлением понизить издержки. А повышаются они достаточно просто: когда выдергивается цитата не как носитель самозначимых сигналов, самодостаточные информационные блоки, а как подтверждение той или иной заданной заранее мысли.
Есть в русском культурном опыте такая формула — «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Особенно, если это слово руководителя ядерной державы, которому ничего не стоит послать войска в другую страну. Или наоборот, их не посылать. Именно от него зависит такого рода решение. Последствия такого рода решения — это тысячи и десятки тысяч могил, это — наоборот — спасенные надежды и будущее целых регионов. Цена высока. Поэтому и оценка таких императивных кусочков информации ответственна и конструктивна.
Аналитики гадают, зачем Россия зашла в Сирию? Мы еще опубликуем специальный методически выстроенный ситуационный анализ, концентрат из которого говорит, что главная цель, поставленная на российском верху, имела вид политического трюка, политической интриги. Звучит примерно так:после провала американо- и западноцентричной российской внешней политики с целью раствориться в западной цивилизации последовали жесткие, не компенсируемые в рамках либеральной, космополитической, монетаристской российской модели финансово-экономические санкции.
Нежизнеспособная страна, выстроенная по либеральной модели, посыпалась. Исчезают финансы, растет безработица, закрываются предприятия, бизнес впадает в кому, бюджет сокращается, уже государственный аппарат начинают резать, доходы и уровень жизни населения падают, пенсионеров лишают индексаций, внешнеторговый оборот падает — в общем, взрывается та мина, которую создавали с помощью американских стратегов российские руководители от Ельцина до Путина и вся местная пятая колонна. Страна попросту гибнет, дым повалил уже и из-под золочёного трона. Руководителя страны, как и саму Россию, политически изолируют, делают нерукопожатным, прислали, как говорят журналисты, «чёрную метку», и это главный пункт озабоченности. На главный пункт следует и попытка главного ответа:надо как-то подружиться с Западом, при этом сохранить лицо по поводу Крыма и лишённого с путинской помощью будущего Востока Украины.
Как подружиться с Западом? Надо войти в поле его интересов, прикинуться незаменимым партнёром, убедить Запад с трибуны Генеральной Ассамблеи <acronym title="Организация Объединённых Наций" lang="ru">ООН</acronym>, в информационном пространстве и-де-факто, что Россия является незаменимым партнёром, находится в том же поле глобальных интересов, и надо не ссориться, а опять рукопожатно задружиться. На политико-технологическом языке это означает, что нужно разделить с американцами их очередную полувыдуманную доктрину мирового терроризма, угрозы от Исламского государства, которые в основном, на самом деле, в перспективе нацелены против государства Израиль. Согласиться с тем, что это действительно главная мировая угроза, а вовсе, скажем, не американский гегемонизм и американоцентричная глобализация, паразитарный долларовый механизм ограбления всего мира в свою пользу и так далее. Об этом мы много раз писали.
Прикинувшись союзниками Америки в борьбе с Исламским государством, убедить её в том, что Россия паритетна в военно-техническоми ресурсном отношении и может внести решающий вклад в эту борьбу. Для этого два года назад вывели войска из Сирии, оголили базу в Тартусе, разоружили Башара Асада, изъяв оружие стратегического сдерживания Израиля и американцев и развязав им руки. А теперь прямо противоположным образом заводим авиационную группировку, подразделения поддержки, по слухам (подчёркиваю) — уже и сухопутные подразделения странного статуса, с государственным обеспечением и вооружением, но негосударственной пропиской (с.и. ЧВК). И демонстрируем американцам, что «очень можем». Странная, нерациональная аранжировка, конечно, подорвала попытку этого политически детского трюка на корню. Двух дней не прошло, настолько глупа была затея.
Если американцы многие годы тратят деньги и разрабатывают политическую стратегию устранения режима Башара Асада как антагониста государства Израиль, то Россия вдруг, сдав Башара Асада два года назад, сегодня воспылала к нему уважением и пиитетом и объявила, что это единственная легитимная власть, и её надо поддерживать с целью сохранения государственной целостности Сирии. Но достаточно ясно, что Соединённым Штатам Америки ни Башар Асад, ни государственная целостность Сирии не нужны. Им нужно, прежде всего, обеспечить развал арабской солидарности и безопасность государства Израиль. Для этого реализуется стратегия пояса управляемого хаоса, в котором, конечно, есть и издержки, а именно: выращивание радикальных исламистских, экстремистских и террористических групп, стратегий и действий.Это плата за большое достижение, большой успех — безопасность государства Израиль.
Россия в этот сложный сценарий въехала с простой идеей, повторю её: «купить» американцев на их интересе и задружиться. Такие однолинейные идеи в сложных сценариях не приживаются, что мгновенно и получил российский руководитель — ноль внимания и фунт презрения. Американцы тут же заявили — стратегия России ошибочна, сотрудничать не будем, никакой «торговли» по санкциям и давлению на Россию не будет. И, действительно, не зря же «чёрную метку» присылали, не зря перешли к сценариям финиша российской государственности, не зря накинули экономическую и финансовую петлю и начали её затягивать. Детские театральные трюки такие стратегии не перебивают.
Но остановиться российскому руководству уже трудно. Трудно поверить в то, что их «блестящие, лидерские, всепобеждающие, умнейшие» стратегии оказываются не таковыми, не перебивают американскую фундаментальную стратегию. Остановиться трудно. Ну, тогда давайте попробуем хотя бы договориться о военном сотрудничестве. Американцы и тут говорят: «Вы бомбите наших союзников, повстанческие силы, о каком сотрудничестве может идти речь? Наоборот, мы сейчас усиливаем их военную поддержку». Давно, ещё в первом классе геополитической школы был пройден поучительный сценарий — Афганистан. В мини-Афганистан сегодня руководитель страны и ввергает Россию. Но остановиться,опять-таки, трудно: «да нет, ведь есть угроза, что в воздухе столкнутся наши самолёты…» Пентагон: «Ну давайте об этом и поговорим». Это было во втором классе геополитической школы, когда Советский Союз и Америка делили мировое воздушное пространство, океанское пространство и договаривались о протоколах, исключающих случайные пуски и случайный фактор военных действий.
Ничего нового, ничего особенного — что называется, левой рукой усилить опасность для России, а правой рукой стараться её хоть как-то компенсировать. Но и тут остановиться трудно, никак не удаётся поверить, что наша третьесортная внешняя политика — это не то же самое, что игра второразрядника с гроссмейстером.
Теперь новая идея: а давайте поедем в Америку и будем там масштабно договариваться. Сначала еле упросили о встрече на полях Генеральной Ассамблеи <acronym title="Организация Объединённых Наций" lang="ru">ООН</acronym>, теперь стали просить принять в Овальном кабинете Белого Дома. Обычно просят аудиенции у начальника. И часто начальник отказывает в такой аудиенции, потому что он — хозяин положения. Вот эту мизансцену мы и видим. «Ну хорошо, — задумываются наши стратеги над возникающими трудностями, — если Президента страны Обама не хочет принимать (а ведь в наших СМИ написано, что «Обаму переиграли, Обаму унизили, у Обамы отняли мировое лидерство») — ну тогда пошлём хотя бы Медведева. Это как в «Сказке о попе и работнике его Балде»: «Попробуй посоревноваться с моим меньшим братом, бесёнком». Но и «бесёнка» американцы не принимают. Такие трюки не проходят.
Тут бы понять, в какое положение заведена страна и её политика. Но понимания не наблюдаем. Так, в прямой речи опять слышим: «Это у американцев каша в голове, это они ничего не понимают, это им, вероятно, не о чем разговаривать».
Да, конечно, им с «партнёром», которого они чётко обозначили как угрозу себе, как врага — обсуждать нечего. При таком соотношении ресурсов — экономических, геополитических и политических — обсуждать тоже нечего. 25 лет обсуждали (с Ельциным, Путиным, Медведевым и снова Путиным) — что? Как сворачивать геополитический потенциал России. Россия с удовольствием занималась этим сворачиванием, и продолжает заниматься этим же за небольшим исключением: военная компонента, попытка самостоятельного поведения в геополитическом пространстве, что раздражило американцев, почему начальник и перестал принимать подчинённого в своём кабинете. Так бывает часто — когда начальник собрался уволить своего сотрудника, то он его больше в своём кабинете не принимает.
Это печальная констатация, потому что касается нашей страны, нашего Президента. Другого президента у нас нет, и мысль работает в направлении поиска ответа на вопрос «что же делать?». А делать остаётся единственное: понять, в какую задницу заведена страна либерально-космополитической монетаристской доктриной, менять её, начинать не просто торговать чужими товарами, а работать, производить материальные ценности и блага, запускать экономику, восстанавливать финансы в стране, восстанавливать её экономический и геополитический потенциал, восстанавливать её смысловую, ценностную базу. Ведь что не поделил, с каким ценностным месседжем Путин шёл на Восток Украины?Украина хотела в Европу. Так ведь и Россия туда стремилась все 25 лет. Какая разница, в чем разногласие? Какой особый ценностно-идеологический месседж Россия декларирует миру? В чём её расхождение с Западом?
Почему она нарвалась на санкции, изоляцию и стремление её задушить? Сейчас ответа нет, потому что ни экономическая, ни финансовая, ни социальная, ни гуманитарная, ни внутри- или внешнеполитическая линии России так и не поменялись, кроме нескольких декоративных заплаток.
Восстановить смыслы жизни страны, понять, что её онтологически разделяет с Западом, и за чтокогда-то в истории наш народ и лидеры бились не на жизнь, а не смерть. Восстановить те ценности, которые, как иногда говорят, дороже, чем мир.
Вот что нужно делать, а не шестерить в приёмных у Обамы, выпрашивая там прощение и индульгенцию. Ни прощения, ни индульгенции России в нынешнем виде дано не будет, а вот иная стратегия, которую мы коротко описали — это, пожалуй, единственный исторический путь реанимации страны. Все остальные пути ведут на геополитическое и историческое кладбище.
Кто поведет иным путем? — Все больше признаков, что не Путин.
|
|
Без заголовка |

"Пальмы и субпродукты" | Back in the USSR
"Пальмы и субпродукты"
Затем конфетами постепенно начали засыпать ящики с фруктами, которые тоже стояли у входе. Ассортимент фруктов сужается, логистические проблемы компенсируют проверенным средством. Не желаете ли, граждане, кстати, сладких конфеток?
Вчера я в первый раз увидел на полке легендарный "ромовый напиток" Shark Tooth, в котором нет рома и который сделан из дерьма. Компания, которая его производит, сначала опробовала этот "ром" на жителях Забайкалья, которых, надо полагать, не жалко. А теперь этот, так сказать, продукт, вышел и на рынок Москвы: значит, есть спрос.
Если затем перейти к тому, что осталось от сыров, то этот отдел теперь должен носить название "Пальмы и субпродукты". По статистике, из каждых десяти отечественных сыров, семь является подделкой, импорт пальмового масла вырос в нынешнем году на 64%, и мы употребим все это внутрь.
Что ж, здравствуй, импортозамещение. Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично. И хватит уже ныть о сырах. Человек должен думать о геополитике, чтобы быть личностью.
Кирилл Мартынов
Уровень фальсификации молочной продукции, особенно сыров и сливочного масла ужасает экспертов. Но изготовители шоколада, похоже, превзошли своих коллег. Как следует из доклада Центра исследований кондитерского рынка, доля какао в отечественной шоколадной продукции упала до неприличия.
Кондитеры стали активно использовать заменители какао-сырья, применяя более дешевые растительные жиры, например — рафинированное пальмовое масло вместо дорогого какао-масла
|
|
Без заголовка |

Закон,закон | Новостная Лента Макспарка
Закон есть закон рассказ
Следователь, прокурор, адвокат, судья ---- если отбросить заказной характер дела, а таких процентов 80 если не больше, то остальные и за низкой квалификации организаторов процесса (следователь, прокурор, судья)просто прекращались, за ни имением состава ,за недоказанностью и даже убийца спокойно выходит на свободу на законных основаниях ,а судья с прокурором делят барыши полученные от подсудимого которого развели на бабки, с потерпевших не берут они и так обижены и врядли что подкинут продажному судье, прокурору , ну если только пулю, гранату . Да и пуля для судьи стоит дешевле, чем взятка. Я не беру во внимание мелкие ,очевидные бытовые преступления. Митька дал в физиономию Ваське. А утром они померились, но для галочки их отправили на три года. Другой спер чего то - там тысяч на десять ,то же на три года и государство тратит на него в десять раз больше чем на пенсионера. А не полезней ли было чтобы они свой город в порядок приводили ,помимо своей работы вечерами эти три года. Но дело не в этом, а в другом.
Анализируя одно дело .Видя как бледнел и зеленел прокурор, как судья нервно теребил свою мантию после речи адвоката я вспомнил что где-то уже это видел - этак лет 120 назад. И предлагаю Вам прочитать очень интересный рассказ Чехова. Есть еще рассказ на эту же тему- автор Званцев Сергей . Ну а кто заинтересуется в подлинности данного случая записки и воспоминания судьи Кони. Кто захочет, найдет полную версию данного произведения у указанных авторов.
При всей анекдотичности и явной критической направленности рассказа авторы четко показали положительные стороны судебной системы Российской Империи.
И именно - реальную независимость суда и главенство закона , что уже невозможно в нашей России.
Похождения таганрогского миллионера-контрабандиста Вальяно попали в поле зрения молодого Чехова. В его раннем рассказе «Тайна ста сорока четырех катастроф, или русский Рокамболь» есть упоминание о нашумевшем в русской и заграничной прессе деле Вальяно. Вот какая история легла в основу этого чеховского рассказа. В восьмидесятых годах прошлого столетия Таганрог бойко торговал с заморскими странами. Вывозилась главным образом пшеница, ввозились вина, шелка, кофе в зернах, прованское масло. В долгий период навигации таможенным чиновникам некогда было вздохнуть: то и дело приходилось спешно плыть в баркасе на рейд, за двадцать верст от берега, на глубокую воду, где только что бросил якорь заграничный пароход, и проверять, считать, мерить и взвешивать драгоценный груз, начислять пошлины и сборы…Частенько чиновники, услышав призывный гудок парохода, встречали в порту скромного молодого человека с черными усиками и изящной курчавившейся бородкой. Молодой человек угодливо раскланивался, снимая за несколько шагов соломенную шляпу-панаму, и любезно откликался на любую речь: французскую, итальянскую, греческую, турецкую. Это был Вальяно, портовый маклер, рыскающий с утра до вечера по накаленным от летнего жара плитам набережной в поисках покупателя, товара и продавца – все равно! – лишь бы заработать «комиссию». Потом, как-то вдруг, неожиданно и загадочно, Вальяно превратился из суетливого комиссионера а солидного купца. В его адрес стали приходить морем небольшие партии духов из Франции, маслин и прованского масла из Греции («барабанского», как его здесь называли). Вальяно потолстел и стал медлителен в речи и в походке.
При встрече с ним таможенные кланялись первыми. А еще немного позже получилось так, что имя Вальяно стало значиться чаще других в морских коносаментах. Поставщики слали ему грузы уже целыми пароходами и баржами. Вальяно сказочно быстро богател, но никто очень долго не мог понять, каков источник его богатства. А когда это стало ясным, Вальяно был так богат, что уже не боялся разоблачений. И до Вальяно были крупные контрабандисты. Они ввозили шелка и пряности в чемоданах с двойным дном, в бутылях с фальшивым ярлыком, даже в головных уборах. Но Вальяно был контрабандистом особого рода: он ввозил запрещенные товары целыми пароходами вовсе не для того, чтобы их продать, обойдя запрет, а для того, чтобы потопить на самом законном основании. Существовало таможенное правило: после того как чиновники проверят груз и исчислят пошлину, грузовладелец был вправе или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или же, отказавшись от оплаты, потопить весь груз на рейде. Акт о потоплении груза подшивался к: делу, и пароход, погудев на прощание, уходил в обратный рейс. Каждый раз, когда хлопотливые таможенные чиновники, проверив груз, адресованный Вальяно, объявляли ему сумму пошлин и сборов, Вальяно неизменно заявлял об отказе выкупать груз. - Топить?-деловито спрашивал ко всему готовый капитан. - Топите, – равнодушно отвечал Вальяно. Тотчас заполнялся «бланк отказа грузовладельца от принятия груза». А ночью производилось потопление. Ночью, а не днем: в благоразумно составленной инструкции топить в море ценные грузы рекомендовалось «затемно, дабы местные рыбаки не покусились на потопляемые товары». Надо ли пояснять, что в действительности никакого потопления не было и что, сэкономив на каждом пароходе тридцать-сорок тысяч рублей пошлины, Вальяно уделял две-три тысячи загребущим таможенным, а груз извлекал не со дна Азовского моря, но получал сполна с борта парохода! У Вальяно была зафрахтована целая флотилия турецких фелюг – плоскодонных вместительных лодок, незаменимых на этот случай. По ночам бесшумно скользили они по морской глади с рейда, а потом – по мелководью в тихую заводь, где глубоко сидящему судну не пройти, как раз к тому месту у берега, откуда начинался подкоп – туннель, ведущий в гулкие подвалы особняка Вальяно на Приморской улице. Товар в подвалах не залеживался: оборотистый негоциант сбывал его с прибылью оптом местным крупным бакалейщикам Кулакову, Лысикову, Кумани…
От каждого «потопления» Вальяно опускал в карман полсотни тысяч рублей. Далеко ли было от нищеты до двенадцатимиллионного капитала, скопленного им к моменту разразившейся катастрофы? В Таганрог прибыл новый прокурор окружного суда, снедаемый жаждой быстрой, головокружительной карьеры. Очень скоро прокурор узнал все подробности о самом богатом таганрогском купце и о том, как он разбогател. Для этого прокурору вовсе не требовались особые таланты: любой мальчишка в городе отлично знал всю историю ночных потоплении и с закрытыми глазами мог указать место на берегу, где начинается подкоп в дом Вальяно. Летом, отправляясь на рыбную ловлю, загорелые полуголые сорванцы звонко перекликались: - Ванька, сыпь до вальяновского подкопа! Не заботился об особой конспирации и сам Вальяно: кто из купленного и перекупленного местного начальства подымет на него руку? Руку, которая столько раз протягивалась к его руке за «барашком в бумажке»? А тут явился прокурор, неподкупный, как статуя Командора. Неподкупность его, как вскоре убедился Вальяно, была самого зловредного свойства. Не из бескорыстия и равнодушия к благам земным решительно отклонил прокурор разговор о «займе на ремонт дома», затеянный посланцем Вальяно. его адъютантом и телохранителем Жорой Скарамангой, а из расчетливой надежды «громким процессом» быстро добиться служебного преуспевания. - Не берет?-задумчиво спросил Вальяно у смущенного Жоры. - Не берет, капитане,-вздохнул Жора. Вальяно выругался по-курдски и с силой дернул свою черную курчавую бородку. Дело «о контрабандном привозе на турецких фелюгах заграничных товаров купцом Вальяно» двигалось с необычайной для тех времен быстротой.
Страстное честолюбие прокурора опрокидывало все препятствия. Уже заговорили столичные газеты о «таганрогской панаме», уже были допрошены с десяток матросов и рыбаков, перевозивших контрабанду, уже пришлось припертому к стене очными ставками Вальяно признать всю фелюжную эпопею, уже наложен был впредь до суда арест на товары, текущие счета и даже на самый особняк Вальяно. Наступил день суда… Приехал и остановился в лучшем номере гостиницы выписанный Вальяно из Петербурга известный адвокат Александр Яковлевич Пассовер. В судейских кругах города удивлялись выбору Вальяно. Пассовер? Почему, собственно, Пассовер? Среди столичных уголовных защитников гремели Андреевский, Спасович, начинал свой блистательный взлет Плевако. Да, конечно, присяжный поверенный Пассовер пользовался широкой известностью, но как специалист по гражданским искам, а вовсе не как уголовный защитник! Почему же именно Пассовер приглашен участвовать в этом уголовном деле по обвинению в контрабанде?! Однако Вальяно отлично знал, что делал. По той статье «Уложения о наказаниях», по которой он должен был предстать перед судом присяжных, ему угрожало три месяца тюрьмы -велико ли дело!
Но одновременно с признанием его виновным в контрабанде с него автоматически взыскивались двенадцать миллионов рублей штрафа за контрабанду: точный расчет был уже составлен неумолимым прокурором. Двенадцать миллионов – как раз все вальяновское состояние! Тут должен был помочь великий казуист и крючкотвор Пассовер или никто и ничто уже не поможет… кроме прямого подкупа присяжных, конечно. Накануне слушания дела Жора с ног сбился, выведывая засекреченный список присяжных заседателей на завтра. Присяжных должно было быть двенадцать, но приятели и маклеры перестарались, и, по добытым сведениям, получился фантастический список в сто фамилий. Однако тончайший нюх, свойственный Жоре, направил его по двум-трем правильным адресам, где разговор состоялся с глазу на глаз, не без пользы для обеих сторон. К вечеру Вальяно выслушал доклад «адъютанта» и чуть воспрянул духом. Но только чуть: два-три присяжных, а судьбу его будут решать двенадцать. У большого здания окружного суда с раннего погожего сентябрьского утра собралась толпа. В восемь часов прискакал конный отряд полиции и, наезжая храпящими мордами взмыленных лошадей на толпу, оттеснил любопытствующих от главного входа, с Петровской улицы. Ровно в девять в здание суда вошел высокий, сухопарый прокурор с бритым невыразительным лицом. Подъехал в собственном экипаже председатель, пешочком пришли члены суда, за ними потянулись присяжные заседатели – местные купцы и мещане, бородатые, каменнолицые. Не здороваясь со знакомыми, в сознании своего особого положения, как бы отделяющего или даже отрешающего их от всего остального человечества невидимой преградой, они протискивались в узкую дверь. Потом, провожаемые завистливыми взглядами, чинно, не толпясь, стали заходить счастливые обладатели входных билетов, розданных вчера канцелярией председателя.
Последним вошел сухонький, хилый старичок в цилиндре-петербургская знаменитость, присяжный поверенный Пассовер. В правой руке у него была тросточка с серебряной рукояткой в виде женской головки с распущенными волосами, а в левой он держал огромный, не по росту портфель. Его провожал почтительный шепот толпы. Обвиняемый важно сидел на монументальной скамье подсудимых, рассчитанной, судя по ее размерам, на многолюдную шайку преступников. Напротив, на специальных скамьях с видом жрецов восседали присяжные, числом двенадцать: три известные и девять, не известных еще вчера и сегодня – узы, слишком поздно! – ставших известными подсудимому. По правую и левую сторону судейского стола высились пюпитры прокурора и защитника. Усатый судебный пристав в белых перчатках строго посматривал на притихший зал, заполненный до отказа. Пока длился допрос свидетелей, суетливость проявлял один лишь прокурор. Он спрашивал и переспрашивал, с аффектацией просил председателя занести в протокол полученные ответы, бросал на защитника победоносные взгляды. И в самом деле, свидетели-рыбаки, напуганные непривычной обстановкой и строгим председателем, в один голос признавали, что Вальяно много раз нанимал их перевозить контрабанду на турецких фелюгах.
- Да, на фелюгах, – подтверждал, вздыхая, и сам Вальяно. Что касается Пассовера, то, к удивлению всех присутствующих, ожидавших, что приезжая знаменитость станет сбивать и путать свидетелей, он упорно молчал. С равнодушным видом откинувшись на спинку стула, адвокат скучающе посматривал по сторонам; моментами казалось, что он вот-вот заснет. На вопросы председателя: «Не имеете ли, господин защитник, спросить свидетеля?», он, вежливо приподнимаясь, неизменно отвечал: - Нет, не имею. Раз или два в публике перехватили при этом недоумевающие взгляды председателя, которыми он обменивался с членами суда. Однако дело шло своим чередом, судебная машина катилась по рельсам без толчков и остановок. Вот уже начал обвинительную речь прокурор. - Господа судьи, господа присяжные заседатели,- заметно волнуясь, сказал он,-доказано ли, что подсудимый Вальяно систематически перевозил на турецких фелюгах ценную контрабанду? Да, доказано! В дальнейшем прокурор исчерпывающе обосновал этот решающий тезис обвинения. Надо было отдать ему справедливость – его трехчасовая речь выглядела, как хорошо построенная теорема: а) груз прибывал в адрес Вальяно; б) неоплаченный сборами груз перегружался на фелюги; в) груз на фелюгах подвозился к, подкопу в дом Вальяно. Значит, Вальяно-контрабандист. Теорема доказана, садитесь, подсудимый, на три месяца в тюрьму и выкладывайте на стол двенадцать миллионов рублей. Присяжные внимательно и с явным сочувствием слушали обвинителя.
А трое подкупленных являли вид неподкупности. Зритель, напрактиковавшийся в предугадывании решений присяжных, мог бы на этот раз не слишком напрягать свой талант: будущий обвинительный вердикт был написан на посуровевших лицах заседателей. - Слово предоставляется защитнику подсудимого Вальяно, господину присяжному поверенному Пассоверу! Председатель с опаской покосился на «этого выжившего из ума старичка»: может быть, он и на этот раз смолчит?! Но нет! Пассовер поднялся, едва видимый за высоким пюпитром. Фалдочки фрака смешно свисали с его чересчур низкой талии. У «старичка» неожиданно оказался звучный, хорошо, как у певца, поставленный голос, сразу заставлявший слушателей насторожиться. Впрочем, по сравнению с прокурором, защитник был необычайно краток. Говорил он минут пять-шесть, не больше: - Вальяно ввозил товары, не оплаченные сборами, на турецких фелюгах?
Да, господин прокурор это блистательно доказал, и я, защитник, опровергать эти действия подсудимого не собираюсь. Но составляют ли эти действия преступление контрабанды, вот в чем вопрос, господа судьи и господа присяжные! Тут Пассовер сделал чисто сценическую паузу «торможения», и все, затаив дыхание, замерли. Прокурор заметно побледнел. Пассовер поднял глаза к потолку и, точно читая на пыльной лепке ему одному видимые письмена, процитировал наизусть разъяснение судебного департамента сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды: лодки, баркасы, плоты, шлюпки, яхты, спасательные катера. Упоминались в качестве средств для перевозки контрабанды даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-под рома, но о турецких плоскодонных фелюгах не упоминалось!
- Между тем, господа судьи и господа присяжные, – с вежливым вздохом по адресу обомлевшего прокурора сказал затем Пассовер, – вам хорошо известно, что разъяснения правительствующего сената носят исчерпывающий, да, именно исчерпывающий характер и распространительному толкованию не подлежат. А поэтому… Он чуть-чуть повысил голос: – …поскольку подсудимый Вальяно перевозил свои грузы, на чем особенно настаивал господин прокурор, именно на турецких фелюгах, а не в бочках из-под рома, например, в его действиях нет, с точки зрения разъяснения сената, признаков преступления морской контрабанды, и он подлежит оправданию.
Перед тем как сесть, Пассовер в наступившей мертвой тишине добавил совсем смиренно: – А если бы вы, господа, – чего я не могу допустить – его не оправдали, ваш приговор все равно будет отменен сенатом, как незаконный и впавший в противоречие с сенатским разъяснением. - Вам угодно реплику?-спросил прокурора ошеломленный председатель («Он чертовски прав, как я мог забыть это разъяснение?!»). Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом: - Вальяно – контрабандист! Если бы он им не был, он бы не мог заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту! В зале ахнули. Миллион рублей? Неслыханная цифра! Пятьдесят тысяч за уголовную защиту считались огромным, рекордным гонораром. Но миллион… Никто никогда и не слыхивал о подобном куше.
Миллион рублей! Эта цифра оглушила, загипнотизировала весь зал. Председатель суда, уже готовивший в уме «краткое напутственное резюме» присяжным о неизбежности и даже, так сказать, неотвратимости оправдания, вдруг заколебался. Его малоподвижное воображение было захвачено волнующим словом «миллион».
«Интересно, если золотом, сколько это будет пудов? Ах каналья!..» – Теперь адвокату – крышка, – свистящим шепотом сказал соседу сидевший в первом ряду отставной генерал с багровым лицом. Но видавший виды адвокат держался бодро. Он еще не признал себя побежденным, он уже снова у пюпитра. Позвольте, но что он говорит?- …Тут прокурор заявил, что я получил за свою защиту миллион рублей, – раздался звонкий, молодой голос адвоката. – По этому поводу я должен сказать… И – снова пауза. Черт возьми, можно ли так играть на нервах! - …я должен сказать, что это-сущая правда. Я действительно получил за свою защиту миллион рублей. В зале пронесся вздох. Многим показалось – они потом клялись в этом друг другу,-что маленький, сухонький старичок, стоявший у пюпитра защиты, вдруг стал расти, расти, и седая голова его с жидкой бороденкой уже упиралась в потолок. И не голос, а звериный рык потрясал своды судебного зала:
- Да, я получил миллион. Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора.
Тут Пассовер заговорил ласковой скороговоркой, как добрый учитель, задающий нарочито легкую задачу, и все вновь увидели, что у пюпитра и в самом деле лишь небольшого роста пожилой человек, кажется, очень добродушный, и вздохнули свободнее. - В год прокурор получает три тысячи шестьсот рублей, – высчитывал вслух «добродушный» адвокат,- в месяц-триста, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день, – рублей десять. Произносил прокурор свою речь сегодня три часа, сказал за свои десять рублей сорок пять тысяч слов – сколько же стоит слово прокурора? Пассовер вытянулся и крикнул:
- Грош цена слову прокурора!
От оглушительного хохота, казалось, сейчас обрушится потолок. На скамьях люди корчились от смеха, все более усиливающегося из-за комичных попыток прокурора: он яростно жестикулировал, открывал и закрывал рот, видимо, произносил горячую речь, но ни одного слова в общем шуме не было слышно. Казалось, прокурор беззвучно пародировал мимикой и жестами какого-то неудачливого оратора. Председатель, давясь от смеха, тщетно звонил в колокольчик. Пассовер сидел с безучастным видом, поглядывая на часы. Какой-то даме стало дурно, судебный пристав выводил ее из зала, держа за талию растопыренной пятерней в белой перчатке. Когда порядок был наконец восстановлен, прокурор, сбиваясь,
С трясущимися губами, потребовал занесения в протокол «циничной выходки» адвоката. Однако председатель решил, что если уж сам Пассовер признал получение миллиона, цифры гомерической, то значит, все враки. - Не вижу никакого цинизма, господин прокурор, в приведенной справке о получаемом вами окладе содержания. Прошу быть осторожнее в выражениях! - Но…-нервничая, запротестовал прокурор.
- И прошу не вступать со мной в пререкания! – прикрикнул на него председатель и подумал со злорадством: «Профукали вы дело, молодой человек. Выше разъяснения сената не прыгайте! Да, не прыгайте-с».…Через час из зала суда Вальяно уходил оправданным.
- На фелюге выплыл, – едко сказал молодой человек в форме преподавателя гимназии.
|
|
Без заголовка |

Великий траур русофобов | Back in the USSR
Великий траур русофобов

Впервые за всю новейшую историю, за все годы, прошедшие после распада СССР - российская авиация наносит удары по противнику, который находится не только за пределами России, но и вообще за пределами бывшего СССР.
Это означает, что Россия вернула себе статус Сверхдержавы.
Ведь даже Китай - никогда не бомбил никого за пределами своей территории.
Потому что в военном отношении, Китай - это достаточно сильная страна. Но не сверхдержава.
В свою очередь, это означает, что Россия выкарабкалась из той ямы, в которой оказалась после разрушения СССР.
Страна, которая, как казалось, была обречена на уничтожение, которой оставалось существовать, догнивая, считанные годы - встала со смертного одра.
То поражение, которое было нанесено России в результате Холодной войны, и которое обошлось ей ГОРАЗДО дороже гитлеровской агрессии - всё-таки Россию не убило.
Теперь это уже факт.
И этот факт - доводит до исступления всю русофобскую мразь, которая мечтала бы сплясать на костях России.
Читаю сейчас то, что пишут в интернете - и порой невольно начинаю смеяться.
Скачущее быдло из Нэзалэжной и подхрюкивающие ему дети юристов из числа россиянской либерастической тусовки - буквально исходят на дерьмо, бьются от стенку и дрыгают ножками, под нос пузыри пуская.
Такое впечатление, что у них сердце кровью обливается, от страдания за исламских боевиков, которых бомбят русские самолёты.
Правда для самих исламистов, бандеровские обезьяны, равно как обезьяны белоленточные - это шлак, пыль на обочине.
Но эта простая мысль не приходит в башку скачущим и подхрюкивающим.
У них вообще клинит только на одном - Путин негодяй и Рашка плохая.
Весь их мыслительный процесс укладывается в примитивнейшую кричалку, типа: "Внатури млять кьявавая гэбня всех мочит, караул млять как стгашно жить, Рашка ужас, Путен всех убил и съел!.."
Я не обольщаюсь насчёт российской власти в целом и Путина в частности.
В России проблем и недостатков - вагон и маленькая тележка.
Но когда я читаю те бандеровско-либерастические говновысеры, которыми интернет нынче переполнен как выгребная яма - меня прям начинает гордость распирать. Это ж просто охренеть - какие мы оказывается могущественные беспредельщики, захватившие половину мира, и собирающиеся захватить другую половину!
Оказывается, наш президент - это прямо-таки мировое воплощение зла, наделённое сверхчеловеческими качествами и возможностями. То есть, по сути - божество (доброе или злое - это уже дело вкуса).
Иногда говно пытается умничать, пробует изображать из себя великих экспертов.
Пишут, мол - а вы знаете, во сколько обходится война против Сирии?..
Вы уж не беспокойтесь, беспокойные вы наши, за российский карман - вы неизмеримо больше украли у России. И мечтали бы воровать дальше - да только по рукам вас бьют. От того вас и клинит.
А в Сирии, со стороны России - войны нет. России без надобности, воевать там. Русская авиация просто мочит ваших друзей - а сирийская армия пройдёт и соберёт трупы.
А представляете что будет, если вы допиздитесь и однажды Россия наебнёт вашу сраную Хохляндию?..
Вы ведь всё время кричите о том, что в Донбассе против вас воюют русские войска.
Хотя, когда вы в Крыму увидели русских солдат - вы усрались от ужаса и не осмелились сделать ни одного выстрела.
Но вам ведь ни в жизнь не признаться, что в Донбассе вам надавали по башке работяги и колхозники...
Спустя 24 года после тяжелейшего поражения - русские мочат своих врагов. Мочат внушительно и по-умному.
А усравшаяся от горя и ужаса поганая нерусь - лезет на стенку, завывая и подёргиваясь.
И это только начало.
Смотрите бляди - мы ещё вспомним прошедшие годы. Вспомним весь беспредел, вспомним геноцид и массовое уничтожение русского народа, в период русофобско-фашистской диктатуры Ельцина.
Вспомним миллионы бездомных русских людей, умиравших от голода и холода на свалках; миллионы бездомных русских детей; резню и продажу в рабство русских по всем окраинам.
Вспомним тотальное ограбление русского народа.
Вспомним как русские матери пекли лепёшки из комбикорма, чтобы накормить своих детей. Как русские колхозники ели в деревнях собак - потому что зарплату им не платили годами. И как в эти же годы из России выкачивались чудовищные по размерам ресурсы, делались сказочные состояния, а наиболее мразотные слизняки становились олигархами.
У нас с памятью всё в порядке.
И паникующая мразь - очень хорошо это понимает.
От того и рвутся пуканы, с треском и грохотом. От того и срут кирпичами - и шлакоблоками.
Давайте суки, заворачивайтесь в простыню и ползите на кладбище. Там вам самое место...
olegmatvey
.
Центральное информационное агентство Новороссии
Novorus.info
|
|






