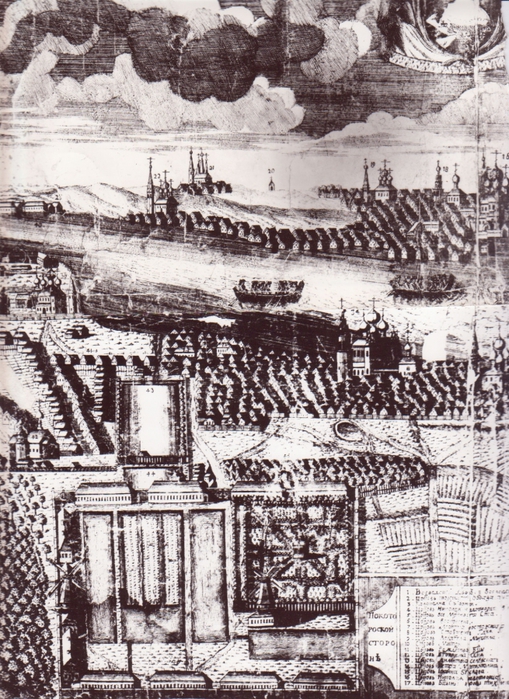Екатеринбургский синдром |
Все. забыли понятия: градостроительная политика, земельная политика. Ходят вокруг, да около, рассуждают, надо или не надо согласовывать с населением строительство "храма в сквере". Вообще наплевали на Градостроитедльный кодекс и его реализацию. Поистине Господь лишил разума и вверг в бесконечные споры по поводу строительства Вавилонской башни. Проекты межевания и правила застройки, которые надо согласовывать с населением (тоже по отработанной в развитых странах и известной нашим архитекторам процедуре) никто не вспоминает. А это совсем другая земельная политика и совсем другая экономика городов. Поистине - грехопадение аналитического мышления в архитектуре.
|
|
Понравилось: 13 пользователям
Ярославская Большая Мануфактура |
Ярославская Большая Мануфактура. История, случившаяся со старинным парком или чего же в действительности хочет Бог. |
|
 Для меня это история началась в 1992 году, когда я, приехав из Ташкента в Ярославль, пришла работать в Областную архитектуру (точное название уже не помню, слишком много раз оно менялось). Мастерская по охране памятников, в которой я оказалась, занималась в это время проектом реконструкции исторического парка, который носил тогда вполне советское название – какого-то партсъезда. Мне как архитектору (единственному в этой мастерской) было предложено подключиться к работе и попробовать разработать общую концепцию реконструкции парка.
Для меня это история началась в 1992 году, когда я, приехав из Ташкента в Ярославль, пришла работать в Областную архитектуру (точное название уже не помню, слишком много раз оно менялось). Мастерская по охране памятников, в которой я оказалась, занималась в это время проектом реконструкции исторического парка, который носил тогда вполне советское название – какого-то партсъезда. Мне как архитектору (единственному в этой мастерской) было предложено подключиться к работе и попробовать разработать общую концепцию реконструкции парка.
Начальник мастерской Светлана Андреева – была выходцем из реставрационных мастерских, и выполнила по классическим канонам все, что требовало в парке реставрации. Заказчик же – Администрация Красноперекопского района города Ярославля, совершенно правильно считал, что этого недостаточно, и у парка помимо чисто музейной роли (затратной, по сути), должны быть, и уже в советское время прочно установились, иные функции, созвучные современным задачам.
Теперь надо рассказать об истории парка, которая, когда я с ней познакомилась, поразила меня своей значимостью для города. Если коротко, то парк – это территория бывшего старинного производства – Ярославской Большой Мануфактуры (ЯБМ), одного из нескольких, созданных по стране в петровские и послепетровские времена. Строительство фабрики, начатое в 1722 году мастерами из Голландии, заключалось в создании в русле ручья под названием Кавардаковский системы прудов, которые выполняли производственные функции по технологии тех времен: промывки и отбеливания льняных холстов. В состав фабричного комплекса входили так же производственные корпуса, сгруппированные вокруг прудов, жилые здания – дома и бараки для рабочих, склады, мельницы и гидротехнические сооружения.
Территория для размещения фабрики была выбрана очень продуманно. Производство, требующее большого количества воды, купцы Затрапезновы (Максим и сыновья) вместе с голландским партнером Яном Тамесом расположили на берегу реки Которосль (в то время судоходной), в русле полноводного ручья и за пределами города. Это были свободные территории, не занятые слободским жильем, что позволяло вести крупномасштабное строительство. К тому же на ручье уже стояли три мельницы (пильная, масляная и мукомольная), которые Затрапезнов выкупил вместе с запрудами и хозяйственными постройками.
Фрагмент гравюры А.Ростовцева, 1731 г.
Ярославская Большая мануфактура в первой пол. Х1Х в. (акварель 1 пол. Х1Х в., находится в экспозиции ЯМЗ)
За несколько лет здесь был создан каскад прудов, ставших основой полотняного и белильного дворов, система каналов, обеспечивающая функционирование этих прудов и снабжающая водой «господскую» жилую зону с разбитым здесь регулярным парком по примеру столичных. В построенных корпусах и собственно на территориях производственных дворов было развернуто производство льняной мануфактуры, из которой изготовлялась рабочая одежда. «Затрапезный вид» – это про вид человека, одетого в одежду из этой ткани*.
Здесь же около фабрики вниз по течению ручья была построена мануфактурная слобода для крепостных рабочих. Церкви близлежащих пригородных слобод Донская и на Меленках расширили свои приходы, а на территории производственного комплекса в 1744 году было завершено строительство домовой церкви Петра и Павла, скопировавшей архитектуру Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Подробную историю создания ЯБМ можно прочитать в имеющейся литературе: в книге Грязнова, в архивных справках и отдельных многочисленных исследованиях, выжимки из которых теперь зафиксированы в Википедии. Для нас же важно другое, то, что в исторических работах просто не могло быть отражено. Это аспекты градостроительной трансформации городских территорий под влиянием сформировавшегося промышленного комплекса.
*Затрапез или затрапезник - льняная или пеньковая полосушка, б.ч. синеполосая.
Название от купца Затрапезнова (В.Даль, Толковый словарь, изд. 1955г.)
Один из производственных корпусов, сохранившийся к началу ХХ века под названием "светлица".
По сути, в 18 веке на противоположном от основного города берегу р. Которосль появился новый район, который положил начало формированию всей, так называемой Закоторостной его части. С развитием мануфактуры и сопутствующих производств стали застраиваться территории между прежде загородными слободами: Мельницкой, Толчковской, Бутырской и Новофедоровской, которые, соединившись со слободами вдоль Московского тракта: Тропинской, Шиловской и Коровницкой, официально вошли в состав города в начале ХIХ века.
Собственно история ЯБМ пережила свои периоды, как расцвета, так и упадка. После продажи мануфактурного производства известному фабриканту С. Яковлеву, оно устойчиво деградировало, как экономически малоэффективное. И практически перестало функционировать к началу ХIХ века, что, несомненно, отразилось на социальном положении жителей соседних, теперь уже городских территорий, но мало заметно в развитии самих территорий.
А вот в середине 19 века, когда пришедшее в упадок производство ЯБМ выкупил для устройства бумагопрядильной фабрики известный в России фабрикант И.А. Карзинкин, позже переведя его на новое сырье – хлопок, район получил новый толчок к развитию. Было развернуто крупномасштабное строительство в новом месте на берегу р. Которосль новой фабрики и целого городка с жильем для рабочих и служащих, больницей, ремесленным училищем, баней, двумя парками, ломбардом и трактиром.


Сад для служащих фабрики летом и зимой в нач. ХХ в. (кроме этого сада на территории комплекса функционировал отдельный сад для рабочих с танцплощадкой - "топтальней" и пивной).
Последним объектом стала территория бывшего полотняного двора, которая была реконструирована и превращена еще в один парк с прудами, каналами, оранжереями и малыми формами. Была сохранена прежняя планировочная структура с участком регулярного парка, жилой зоной для управляющего со своим парком-садом. Был обустроен новый парковый участок по живописному принципу, на территории которого стояли две большие оранжереи. В оранжереях выращивали экзотические для России цветы и фрукты: апельсины, мандарины и ананасы, в прудах – разные виды рыб. Весь парковый комплекс состоял из участков с разными оградами, которые обеспечивали различную степень замкнутости и доступности пространств, ими организуемых.
Так регулярный парк и зона с церковью Петра и Павла открывалась для всеобщего посещения по большим праздникам. А территория с двумя центральными прудами и липовой аллеей между ними была вообще всегда проходной для жителей рабочего городка и всего района. Внутренней и закрытой для посторонних оставалась усадебная зона с домиком управляющего фабрикой и зона живописного парка с южным прудом и оранжереями на его берегу.
Вид на бывшую территорию полотняного двора ЯБМ в 1910 году (фото с крыши собора Петра и Павла).
В начале ХХ века историк ЯБМ и последний ее управляющий А.Ф. Грязнов написал и издал книгу об этом уникальном для Ярославля комплексе. (Некоторые результаты наших исследований, сделанных, в том числе и с помощью материалов этой книги можно посмотреть в отдельных статьях о Ярославской Большой Мануфактуре.)
Вид на промышленный комплекс в нач. ХХ в. (художественная реконструкция)
Следует констатировать, что анализ фактического развития городских территорий в этом месте дает нам гораздо более объективную историческую картину, чем любые научные исследования историков, изучающих жизнь фабрики. Никуда не уйти от простого вывода: доходы вновь созданного предприятия позволяли хозяину ЯБМ активно и полноценно развивать городскую среду, обеспечивая рабочих фабрики, их семьи и просто жителей района всей необходимой социальной инфраструктурой, вплоть до мест отдыха и рекреационных зон. Были даже выполнены дорогостоящие работы по устройству обводного канала на р. Которосль, который решал проблему судоходства после строительства здесь производственной плотины.
Второе рождение ЯБМ и ее расцвет, как это было со многими промышленными предприятиями в России, закончился в 1917 -1918 годах. Получив после белогвардейского мятежа 1918 года название Красный Перекоп, фабрика стала центром городского Красноперекопского района. А после неудачного с планировочной точки зрения размещения в 1924 году домов-бараков для рабочих поселок прекратил свое развитие и окончательно приобрел статус неблагополучной рабочей окраины, прирастая лишь неблагоустроенной частной застройкой.
Как выстраиваются жизненные линии тех или иных людей, городов, территорий? Но у этой явно появился шанс на еще одно возрождение в начале 90х. Администрация района и руководство фабрики, вдохновленные надеждами экономических свобод, которые обещала перестройка, нацелились на крупномасштабную реконструкцию Петропавловского парка, естественно рассчитывая сделать его доходным для района объектом.
К этому времени парк, оставаясь центральным парком Красно-Перекопского района, очень сильно зарос, особенно в своей регулярной части. Южная живописная часть парка, поднятая в свое время по голландским методикам из болот, уже стала заболачиваться из-за постепенной деградации дренажной системы (все-таки - без должного ухода более 100 лет). Оставались еще неизменно чистыми с родниковой водой пруды, в которых массово купались, катались на лодках и рыбачили жители района. Но и здесь уже стали возникать проблемы. Из-за того, что не чистилась и не ремонтировалась гидросистема, перепускные каналы заросли и замусорились настолько, что во время весенних паводков вода из переполненных прудов стала заливать подвалы церкви (в ней после революции размещался заводской клуб), стали возникать просадки стен и фундаментов, а концу 90х возникла угроза обрушения шпиля.
В 1992 году были сделаны серьезные административные шаги: парк был передан на баланс одному из первых крупных коммерческих предприятий города - Торговому дому «Апостол». Из здания церкви был выведен клуб, а из «домика управляющего» - судебно-медицинская экспертиза. Содержание этих построек взяли на себя коммерсанты. Требовали больших средств работы, связанные с реставрацией регулярного парка и реконструкцией гидросистемы, и глава района И.М. Никонов рассчитывал привлечь в качестве инвестора Ярославский НПЗ (нефтеперегонный завод) - по данным экологов главного загрязнителя почвы и воздуха в районе. Нужен был бизнес-план или технико-экономическое обоснование, а для него осознанная концепция использования территорий парка.
Наша планировочная идея выросла из долгой и устойчивой истории парка. Главное было максимально сохранить архитектурно-планировочную структуру парка, как стабильный и неизменный пространственный его каркас, наполнив его отдельные части – зоны новым бережно выверенным с исторической точки зрения содержанием. За основной принцип был принят принцип системы, когда общее не состоит из отдельных частей, а определяет жизнь и развитие каждой части (по Н. Бердяеву). В отношении к пространственно-планировочной структуре парка его можно было назвать принципом «матрешки». В общий план последовательно «вкладывались» одна за другой функциональные зоны.
Планировочная концепция возрождения Петропавловского парка (так его стали называть после выполненной нами работы), 1993 г.
С самого начала было ясно, что, нарушив этот принцип, можно только уничтожить комплекс – так прочно, глубоко и основательно он был создан. И еще, он «прочно сидел» на каркасе гидросистемы, и рассматривать какие-то участки в отрыве от нее было просто невозможно. Что и подтвердили все последующие действия людей, которые «возились» на этой территории или что-то делают на ней сейчас.
Я там не была давно. Мне больно и страшно, говорят, парк практически вырубили. Но через всю последовательность действий я прошла. И могу рассказать как человеческая зависть и жадность и компромиссы тех, кто считал себя защитниками парка, послужили его гибели.
Было принято решение создавать на территории парка ассоциацию из пользователей разных его участков, и концепция, предложенная нашей мастерской, выявила эти, достаточно самостоятельные участки парка, предложив некоторые формы их функционирования, близкие к историческим. Так, на территорию сада с домиком управляющего очень быстро нашелся пользователь – детский городской экологический центр, который выселяли из центра города со всеми его учебными теплицами. Это было очень заманчиво, так как рядом с парком находятся две школы: общеобразовательная и для слабослышащих детей. Два центральных пруда и прилегающую к ним территорию хотел взять на себя для разведения рыбы Ярославглавснаб – выходец из советской системы кооперации. Это было вполне естественно, так как рыба в прудах водилась еще с хозяйских времен и рыбной ловлей увлекались многие жители района. Были желающие построить на месте двух старых производственных корпусов на южной границе парка гостиницы, уж очень подходящим для туризма в будущем воспринимался тогда парковый ансамбль. Что же касается здания церкви, рядом находящегося здания богодельни и регулярного парка, то их оставлял за собой Торговый дом «Апостол» для реставрации и реконструкции. На восстановление гидросистемы предполагалось искать спонсоров, исходя из возможностей и вложений каждого пользователя. Схема действий вырисовывалась ясная и четкая.
Но как только стало видно, какова внутренняя структура парка, и стало ясно, как парк можно использовать, так появились какие-то «подводные течения». Ушел на пенсию глава Администрации района, а новый глава, по причинам нам неведомым, расторг все договорные отношения с коммерсантами. В результате те ушли вместе со своими деньгами, содержанием построек и всеми финансовыми идеями. Директора детского экологического центра замотали хождением по кабинетам, и уже не помню, то ли просто отказали в использовании участка, то ли «временно» выселили на другой конец города, и те со временем потеряли всякую надежду обрести здесь такое нужное всем пристанище.
Администрация назначила директора парка. Это был бывший военный, который все время шел в атаку, несмотря на все наши крики, что с этим парком так поступать нельзя. Он пригнал экскаватор и без проекта стал копать канавы в заболоченной живописной части парка. Нарушил все водобалансовые законы, остатки исторической системы водоотводящих канав и, в результате, превратил эту часть парка в грязную перекопанную строительную площадку.
Пока этот человек директорствовал, здания, которые после ухода коммерсантов никто не содержал, разрушались, раскрадывались, теряли свою инфраструктуру и окончательно превращались в развалины. Домик управляющего, в котором еще в 1992 году работали люди, в 1995 превратился в руины, и стоял уже как после бомбежки без крыши, без окон и с ободранными, покореженными стенами. То же стало со зданием богадельни, а у церкви, все время подмываемой из нижнего пруда, покосился шпиль, грозя однажды рухнуть на головы идущим через парк людям.
Тут, используя ситуацию со шпилем, подсуетились реставрационные мастерские, и чтобы получить госзаказ, «выбили» из Департамента культуры области приличные деньги, которые те, конечно, могли потратить только на памятник истории и культуры. Поэтому началась эпопея с присвоением парку (дополнительно к зданию церкви) статуса памятника федерального значения. Можно было предположить, что повлечет за собой эта мера – бесконечное «хождение с протянутой рукой» в Москву и всякого рода запреты: на использование объектов, на любые виды деятельности в парке, и при этом без особых надежд на реальную поддержку.
Это поняли в мэрии и на выездном, прямо в парке, совещании, которое мэр проводил в расширенном составе (строительные организации, потенциальные инвесторы, разные заинтерисованные лица), было оглашено «отчаянное» решение - передать парк со всем, что в нем находится муниципальному предприятию «Новоселки».
Здесь придется остановиться на «Новоселках». Достаточно крупное предприятие по выращиванию посадочного материала для «Горзеленстроя», занимающегося ландшафтным благоустройством города. Специализировалось, в основном, на цветах и очень незначительно – на садовом посадочном материале – саженцах, декоративных растениях. Несмотря на большие тепличные площади, «Новоселки» обладали всеми слабостями и недостатками старого советского монополиста, и не способны уже были конкурировать с мелкими, но активными и подвижными ландшафтными фирмами. Взять на себя такое многотрудное и многогранное хозяйство, как Петропавловский парк, для них было просто нереально. Поэтому распоряжение мэра осталось только на бумаге. Я видела страх в глазах директора «Новоселок» и, думаю, он сделал все от него зависящее, чтобы это решение не состоялось.
Не исключено так же, что борьба просто была неравной, и областной Департамент культуры, в лице его директора Т.Л. Васильевой, сделал шаг, который и «поставил крест» (в прямом и переносном смысле) на всем комплексе. В 1999 году по уже установившейся традиции и связям церковь Петра и Павла была передана РПЦ. Этому предложению она – РПЦ очень долго сопротивлялась, прекрасно понимая обременительность подарка. Поэтому здание было передано в результате без всего комплекса. Без земли. Без парка. Без домика управляющего. Без гидросистемы и прудов. И учитывая характер действий РПЦ – без всяких надежд на плодотворное сотрудничество с потенциальными хозяевами этих частей.
В годы Советской власти парк оставался центром культуры и отдыха всего Красноперекопского района. Я задавала риторические вопросы: «Как люди будут купаться в прудах, кататься на лодках и ловить рыбу? Ведь они это делали в своем районном парке всегда. Кто будет ухаживать за прудами и каналами? И где церковь будет сажать свой огород, чтобы кормить себя и прихожан, как это поощряется во всех храмах РПЦ? Не станут же они делать исключений для какого-то там памятника паркового искусства.
Исторически церковь Петра и Павла была, в первую очередь, усыпальницей, потом - домовой церковью, в которой по большим праздникам проводились открытые службы. Она никогда не имела и не вела своего хозяйства, как все приходские церкви. Поэтому в структуре парка площади под хозяйственную деятельность церкви просто отсутствовали. Было ясно, что новые владельцы будут ломать устоявшуюся планировочную структуру. И обязательно спровоцируют конфликт с населением, которое продолжает использовать парк для отдыха и развлечений.
Здание церкви в планировочной системе вообще было поставлено как главная парадная доминанта в едином комплексе с регулярным парком, выполненным по петровским образцам. Реконструкция парка в ХIХ веке, проводимая при фабриканте Карзинкине, бережно сохранила эту зону. Потому и мы в своей концепции придавали особое значение этой связке, и предполагали использовать ее для театральных представлений, например, балетов петровских времен на выносной сцене над гладью главного пруда.
Уже тогда в конце 90х можно было предположить, что первым падет именно регулярный парк, который вплотную примыкает к храму и пруду перед ним.
Сегодня меня интерисует только один вопрос. Почему? Когда-то в процессе наших попыток предотвратить развал в парке ко мне обратился один из его радетелей и сообщил, что есть идея водрузить на шпиль Петропавловской церкви крест (которого там, в соответствии с петербургским аналогом, никогда не было). В ответ на его предсказания, что шпиль не выдержит и рухнет, я сама, того не ожидая, произнесла: «Ну что ж, если ему суждено упасть, то он упадет». Уже тогда сказала - «суждено». А теперь задумалась «почему суждено?». Ведь устойчивая пространственно-планировочная система в течение 200 лет сохраняла парк от подобных разрушений, и теперь сама готова исчезнуть за какие-то 10 – 15 ничтожных лет. Кто осудил и обрек ее на разрушение?
Слова «суждено» и «судьба» на самом деле содержат в себе не только корень - суд, но и смысл этого слова. Судить кого-то или что-то значит определять не только и не столько меру наказания за совершенное преступление, но и меру, вес, значение объекта, явления или человека. И эти две ипостаси прочно взаимосвязаны. Город развивается и приобретает значение с ростом благополучия его жителей и несет потери вместе с деградацией человеческого материала.
Народная мудрость гласит: «Если Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума». Похоже, Бог лишил разума целую страну.
Домик управляющего фабрики, 1985 г, (в это время здание судебно-медицинской экспертизы)
Домик управляющего фабрики, 1995 г.
В каком-то популярном издании прочла статью о приоритете моральных обязательств над законами, писанными человеком. О том, что человеческие законы всегда можно было нарушить, так как они могли быть просто не совершенны, не попадали под текущие обстоятельства, да и просто нарушались в рамках преступлений. Внутренние же законы чести были незыблемы, по крайней мере, «в идеале», у тех, кто относился к элите, у тех, кого называли «князьями», кто имел власть и деньги. Так в большинстве своем работал естественный отбор в условиях общественного мироустройства, как его понимали представители европейской цивилизации. Поэтому, решая свои частные задачи, например, в нашем случае строительство фабрики, хозяева (или власть придержащие) неизбежно решали задачи общие, городские и, соответственно, многих людей, проживающих там, где они строили. И подчиняясь этим внутренним законам, сохраняли и поднимали свой статус. Ничего не было крепче «купеческого слова» и публичным позором было его нарушить.
Этот же принцип сохранялся в советское время. Заводы создавали свою собственную инфраструктуру и социальную, и коммунальную, так как строили также жилье для своих рабочих. Этому активно способствовало и помогало государство.
Что случилось с людьми к концу ХХ века? Почему стало возможно не обременять себя моральными обязательствами при решении своих частных задач? И процесс такой моральной деградации человеческого материала усиливается. Государство (как субъект) теперь тоже никаких условий таким частным интересам не ставит. А осужденный и лишенный разума человек (субъект), несет неизбежные, в первую очередь, материальные потери. И в этом водовороте гибнут уже целые города.
Внешне это выглядит так. Те, кто строил и содержал города на доходы от своей деятельности, бросили их на произвол судьбы. Доходы теперь уходят только в частные руки. Никто не несет моральных обязательств перед территорией, на которой делает деньги, перед землей, на которой живет, перед людьми, являющимися согражданами. Разрушаются или уже разрушены внутренние связи системы, на которых держится общество, государство, город. Здесь кроются причины деградации и комплекса ЯБМ тоже.
Грустно, но, видимо, суждено потерять исторические города Ярославль, Ростов, Углич. Потому что, строя на месте снесенных памятников «облизанный» новодел или пряча фасады разрушающихся старинных зданий под евроремонтами, люди с истонченным душевным устройством не видят дальше «собственного носа» и не чувствуют тяжесть исторических утрат. Они слепы и, действительно, лишены разума. А вот зачем? Это знает только Бог. По крайней мере, вырубленные леса и изуродованные человеком ландшафты, по мнению экологов, восстановятся всего лишь за 25 лет. БЕЗ ЧЕЛОВЕКА..
Исторические иллюстрации взяты автором из книги Грязнова А.Ф. Ярославская Большая Мануфактура, М., 1910 г.
|
Метки: Исторический комплекс ЯБМ гоадостроительный генезис планировочная концепция |
Все равно на каком ухе шапка |
«Все равно, на каком ухе шапка». Этот лозунг социальных паразитов всех стран произнес один тип, который сменил меня на посту директора предприятия, когда я ушла из бизнеса на чиновничью работу. Узнав о том, что он распродает имущество предприятия, я попыталась как-то остановить процесс целенаправленного «банкротства», наивно мотивируя свои требования ценностью труда, вложенного в создание единственного в Ярославской области предприятия подобного профиля. И в ответ на свои упреки по поводу использования в личных интересах того, что создано другими людьми, услышала эту потрясающую фразу, взятую, как мне кажется, из фольклора хитроумного пошехонского мужика: «Все равно, на каком ухе шапка».
Я всегда была человеком мирным, и считала, что «незаинтересованное деяние» – главный двигатель прогресса. Но, многократно сталкиваясь с явлениями паразитирования в действиях, например, собственного начальства, когда на результатах сделанной мной работы начальник получал поощрения, награды, а иногда и деньги, я окончательно разочаровалась в идеалах всеобъемлющего бескорыстия.
Когда-то, еще в 80х я задавала вопрос своим, умудренным опытом родителям - убежденным членам КПСС, почему они и те, кто был в нашем ближнем окружении, так много и честно работают, а страна при этом живет все хуже и хуже. Я знала про условный экономический «пирог», который при действующей тогда в стране системе уменьшается по мере отрезания от него в пользу госсектора все больших и больших кусков, вместо общего роста этого пирога и роста вместе с ним госсектора, как это выглядело в развитых экономических системах. Но только сегодня, проработав в государственном управлении, я увидела процесс деградации этой системы в действии.
Сегодня все говорят о коррупции, как о чиновничьем взяточничестве и бюджетном воровстве. Но на самом деле, это только результат государственной стратегии иждивенчества, о которой уже не раз так точно писала Ю.Латынина. Превысив безопасный уровень паразитирования на теле общества, чиновники, стараются защитить свои места, зарплаты, соцпакеты, будущие пенсии и вырабатывают правила, регламенты и законы, устанавливающие и закрепляющие порядок чиновничьей диктатуры. Теперь можно точно сказать, что выросшая за ширмой диктатуры пролетариата советская номенклатура и бюрократия, создала себе новую форму существования, став классом «захребетников» (по определению А. Нуйкина). И ее (бюрократию) хоть режь, хоть жги, хоть руби мечом, она только расползется аморфной массой, и соберется обратно, став только сильнее и монолитнее (мысль из статьи того же А.Нуйкина с названием «Письмо бюрократа», опубликованной в каком-то из номеров журнала "Огонк" конца 80х годов).
Способствует коррупции и постоянно растущая профессиональная безграмотность чиновников, которые иногда просто не знают, как решить ту или иную профильную задачу, и вынуждены «делать вид» и «напускать туман» при ее решении. Любые профессиональные знания требуют долгой учебы и практического опыта. Учебу теперь заменило ускоренное освоение неких универсальных методов управления в специально созданных для этого академиях управления. Что касается профессионального практического опыта, то сегодняшние чиновники его, как правило, не имеют, так как начинают свой трудовой путь, за небольшим исключением, можно сказать «с пеленок», как это принято в хороших династиях или кастовых системах. К тому же, теперь считается и почти открыто говорится, что чиновник – это отдельная профессия, и для того, чтобы быть им, никаких специальных знаний не требуется. А для защиты чиновничьих рубежей вполне достаточно силовых методов, мелкого жульничества и вранья. По принципу: «сила есть, ума не надо».
Чиновниками или определенного вида бюджетниками сегодня стремятся стать практически все. Так как, что-то получая от населения (бюджета), можно ничего не отдавать, не нести никакой ответственности, а при определенной изворотливости, еще и получать дивиденды в виде взяток и откатов. Благодаря этому иждивенческому стремлению к безответственности в обществе законодательно оформляется правовой беспредел. И теперь вместе с нашей государственной формой местного самоуправления окончательно сформировалась правовая система, в которой «до Бога высоко, а до царя далеко».
В результате, если корпоративное сообщество с бесконтрольным ростом в нем количества иждивенцев, просто распадается, то в масштабах страны формируется государство – паразит. Которое постепенно выпивает все соки из собственного населения непомерными ли поборами, бюрократическими ли процедурами или очередями за любыми социальными благами, будь то жилье, медицинское обслуживание или образование.
«Все равно, на каком ухе шапка» - главный лозунг нашей управленческой вертикали. Вряд ли это можно назвать социальным государством. Скорее оформившейся раковой опухолью на теле нашей родной страны.
|
|
Один вывод из двух статей |
В «Новой газете», которая уже стала моим настольным публицистическим изданием, появилось две статьи, в одном номере. Это статья Юлии Латыниной «Мини-империя зла» и статья Артемия Троицкого «Билет в Абсурдистан» (номер от 26 сентября). Написаны они авторами на абсолютно разные темы, но выводы из этих статей можно сделать одни, и очень далеко идущие.
О том, как Саакашвили выступил на генассамблее ООН, обозвав Россию мини-империей зла, можно было бы и не говорить (с этого начинает свои рассуждения Латынина) . И не потому, что российская делегация совершила ответный демарш и покинула зал заседаний. Просто поведение нашей страны на международной арене, уже ни для кого не секрет, похоже на поведения обиженного злого и мстительного ребенка. Своими внутренними акциями – многими законопроектами, поведением судебной системы и откровенными подлостями в отношении граждан, она тоже все чаще вызывает отвращение со стороны тех, кто ценит дух совести, нравственности и хорошего воспитания.
Для европейского мироощущения – это правовая аксиома – быть благородным по отношению ко всем, кто находится рядом с тобой. Это чувствуют люди (способные оценить благородство) в простых человеческих взаимоотношениях, бывая зарубежом в странах Западной и не очень западной Европы. Их государственные системы просто построены на этом фундаменте, сложенном из христианских ценностей в тяжелой многовековой внутренней борьбе. Поэтому западный менталитет «морщится» от неприязни акций, типа закона Димы Яковлева или антигейского законодательства, и от такой же неприязни в целях защиты детей делает выбор в сторону нарушения дипломатической неприкосновенности, как это произошло в Нидерландах.
Кто делает Россию страной-изгоем, которая пыжится всеми своими «мыльными пузырями», чтобы выглядеть экономически сильной и цивилизованной? Латынина отвечает коротко – избиратели.
Не Путин скатился до акций по запрету картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына» или сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде». Не Путин сажает в тюрьму общественников Гринпис по статье «пиратство» за акцию, которая юридически пиратством не является. Это делают люди, которые выросли и живут в этой стране, говорят на русском языке и составляют значительную часть ее населения. Они так мыслят и так чувствуют. И очень часто называют себя верующими.
О реформе РАН, как о поддержке со стороны государства национальной стратегии «веры» в противовес стратегии «знания» написана вторая статья Троицкого. О том, как государство, которому в принципе не нужна наука, так как у нее есть нефть и газ, разваливает свою национальную академию наук и поддерживает любые «начинания» РПЦ, включая передачу недвижимости и защиту чувств верующих.
Но хочется спросить, кто сегодня составляет цвет нашей науки? Те, кто прятал свою гражданскую позицию по поводу «инквизиторского процесса» по делу PussyRiot, если они вообще ее имели. «Пусть посидят, раз славы захотели!», - сказала со злобой в голосе в порыве «справедливого гнева» моя подруга, работающая в сфере культуры. Она не задумывается о ужасах такого сидения для молодых девочек из интеллигентных семей. Но ученый – он же мыслитель. Это его основное качество – глубокая мыслительная деятельность. И совесть, какая должна быть у великих мыслителей мира.
Когда-то в начале своего правления Путин встречался с учеными Новосибирского Академгородка. Встреча шла в прямом эфире, и мы могли наблюдать этот позор. В ответ на вопрос президента о том, куда, по мнению ученых, должна стратегически двигаться страна, престарелые профессора стали отчитываться о проделанной работе. Как на партийном собрании во времена КПСС. Президент даже не смог скрыть своего раздражения, резко оборвав унизительный отчет одного из присутствовавших профессоров.
Я 14 лет проработала в науке, и знаю точно – то, что произошло с Академией наук – закономерно. Еще в позднее советское время наука на 80% была продажной. Мой начальник в 80х докторскую диссертацию перепечатывал из чужих книг, другим их писали за должности, за подарки, за услуги, да и за деньги. А сколько стоила подготовка защиты диссертации, написание рецензий и прочие бессмысленные требования ВАК, доверительно расскажет любой кандидат любых наук, защищавшийся в 80х. В 90е годы процесс пополнения круга ученых вообще был поставлен на коммерческий поток, и о качестве такого научного материала говорить не приходится, не говоря уже о нравственной стороне вопроса.
Все правильно. «…а сидели тихо – разбудили Лихо». И не просто потому, что молчали. «…ты взвешен на весах и найден очень легким; …разделено царство твое…» (Книга пророка Даниила, гл.5). Совокупный «вес» такой ученой массы слишком низок, чтобы с ней считались в обществе, государстве, да и в мире. Так и хочется сказать: «Заслужили!». Но не говориться... Потому что страшно.
Избиратели, о которых пишет Латынина, признающие, что можно остервенело бить на улице гея или наркомана, что за неприличные действия в здании, называемом храмом, нужно сажать в тюрьму, что детскими судьбами можно играть в политические игры – это люди, не чувствующие чужой боли, не считающиеся с интересами других людей. Это люди, не знающие нравственных ограничений. И их сегодня в стране большинство... Наверное, в каждой стране. Но далеко не в каждой стране они определяют государственную стратегию. В странах, которые мы называем цивилизованными, такие чувства, как месть, злоба, ненависть и злорадство, неприлично показывать, даже, если человек не может совладать с ними. Потому что такие качества присущи людям, обитающим на нижних общественных этажах и ступенях, и которые являются питательной средой для преступлений в обществе.
«По определению Григория Померанца, демон – это ангел с пеной, закипающей на губах. Святобесие или святозлобие – хорошо знакомое нам по русской истории явление» (Михаил Эпштейн из кн. «Религия после атеизма»).
В словаре Даля читаем, что нрав – это характер. Однако нравы – это свойства народа, нации, не столько зависящие от личности каждого индивидуума, сколько, от условно принятых в данном обществе житейских правил, привычек, обычаев. Нравится – быть приятным, угодным, желанным; прийтись по нраву, по вкусу, по желанию; соответствовать обычаям, традициям и представлениям о том, что хорошо в данном обществе. Нравственность же – это духовность; «противопоставляется умственному; к умственному относится «истина и ложь», к нравственному – «добро и зло»; добронравный, то есть добродетельный».
Даль пишет: «Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской; первая требует только строгого исполнения законов, вторая же ставит судьею совесть и Бога».
И те ученые, которые сегодня составляют научное сообщество страны, молчат о несправедливостях не из-за страха быть посаженными и расстрелянными. Просто они те же «избиратели». Избиратели, которые купили себе звания, украли чужие мысли, предали своих коллег, обманули всех и теперь пишут законы, которые защищают эти их «завоевания». Плоть от плоти – электорат. И они же – элита, определяющая стратегию государства. Ничем не лучше РПЦ, которая тоже молчит, когда ее апологеты избивают на улицах женщин с непонравившимися плакатами.
Потому и государственная стратегия такая – безнравственная по существу и бесчестная по форме, в общем, «поднятая» с нижних слоев общества.
.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
"Планета нас переживет - и не такое переживала. Это мы себя в пыль обращаем". А. Тарасов |
У нас перед окном вырубили березы. Для строительства очередного многоэтажного жилого дома. Скажите: «Ну, подумаешь, березы». У нас в стране целые леса с реликтовыми соснами вырубают ради чьей-то частной выгоды. Но эти 20 роскошных здоровых берез были единственным островком зелени среди панельных девятиэтажек, на лысых проплешинах насыпных грунтов в нашем типичном спальном микрорайоне. Каждый год на протяжении 20 лет Горзеленстрой втыкает в жалкое подобие газонов хилые саженцы каких-то деревьев, породы которых распознать невозможно из-за их неизбежной последующей гибели.
Эти березы выросли только потому, что росли на одной из небольших возвышенностей среди болот и красивых прудов, некогда окружающих маленькие деревеньки на левом берегу Волги за пределами основного города Ярославля.
Когда в начале 90х болота осушали и строили микрорайон, березы бережно сохранили, так как по проекту застройки они после переноса забора трикотажной фабрики должны были оказаться во дворе нашего дома.
Теперь березы стонали и падали, роняя на землю свои обширные зеленые кроны, а люди в рабочих комбинезонах торопливо пилили и пилили их широкие стволы и обрубали им ветки-руки.
По проекту застройки, по которому застраивался 3-й микрорайон, на месте фабрики должна была остаться фабрика. Но резерв фабричной территории для развития теперешний хозяин продал под жилищное строительство. Какие он и кому платил взятки, чтобы сменить функциональное назначение земельного участка теперь никто не узнает И не так важно, что на новый жилой дом, уже пятый из построенных здесь в нашем квартале сверх предусмотренных проектом застройки, не рассчитана ни инфраструктура, ни транспортная сетка микрорайона. Что превышение плотности застройки уже создало нам жителям проблемы с перебоями водоснабжения, с парковками автомобилей, со школами, детскими садами и другими социальными объектами. Растворимся в общей массе российских проблем ЖКХ под убаюкивающие рассказы о трудностях управляющих компаний и об изношенности сетей, под искренние заверения о честности тарифов, начислений и под мантры об информационной открытости.
Только березы жалко. Особенно когда знаешь, что по действующим российским законам они должны были жить. Стоять в нашем дворе в границах линий регулирования застройки, закоординированных, как и положено по Градостроительному кодексу, в официальной системе координат, и утвержденных, то есть узаконенных, между прочим, муниципальными властями. Ею же и нарушенных.
|
|
Понравилось: 1 пользователю
"Лажа блещет". Об архитектуре Мариинки, о правде и лжи. |

Господи, что же происходит в этой жизни! Почему так яростно побеждает ложь? Почему нигде в оценках явлений, событий, вещей и объектов, в ответах на животрепещущие вопросы, которые носятся в воздухе, волнуют людей, делают жизнь все более и более невыносимой, звучит неправда, в лучшем случае полуправда. А чаще всего нелепые оправдания или, что еще хуже, ответ по принципу – «ну что ж сделаешь, если мы такие…?». Почему не слышно голоса здравого смысла, истинного значения того или иного события? Почему никто не стремиться к истине?
В последней «Новой газете» (№18 от 1102.2013) такая расплывчатая, бесхребетная статья о Мариинском театре с комментариями разных официальных лиц (тоже «ни о чем») и фотографией, которая иллюстрирует ВСЁ. Думаю, если бы газета опубликовала одну фотографию с тем названием, которым названа статья – «Лажа блещет», но без оной, в представленной информации было бы больше смысла и правды. Там столько словоблудий, хождений «около», оправдательных размышлений и снисходительных оценок.
А, по сути, – абсурд, такой же как «тоннель от Бомбея до Лондона» в фильме «Покаяние», только уже не субъективный, придуманный героем от отчаяния. А вполне такой объективный абсурд – результат наших окончательно обвалившихся ценностей.
Где наши отечественные архитекторы, почему их не слышно и не видно, ни раньше, ни сейчас? Что они делали и делают на стажировках в странах Западной Европы?
Кто-нибудь интерисовался, как в центре Парижа бережно сохраняется Монмартр со своими двухэтажными особнячками, плющем и фонтанчиками. Почему по желанию какого-нибудь французского «гергиева» на их месте не построили небоскребы?
У нас не работают правовые и юридические аспекты градостроительства даже в рамках принятых нашей страной на себя международных обязательств. Нам плевать на ЮНЕСКО. Не выполняется даже в самых конкретных своих статьях собственный Градостроительный кодекс, не говоря уже о тех его разделах, которые содержат общие нормы, требующие последующей конкретизации.
Надо же, мэр Парижа отклонил проект православного центра на набережной Сены! Какое он имел право? Да самое непосредственное, закрепленное во французском градостроительном законодательстве и подкрепленное мнением общественности, в том числе, профессиональной.
Во французском городе Рошфоре, в котором я была в составе группы российских специалистов, по государственной программе сохранения исторических городов был восстановлен из руин исторический центр. Главными предметами сохранения, как исторической ценности объекта – исторический город – по логике здравого смысла и по французскому законодательству об охране памятников признаются: фасады, объемы и тип застройки. В составе исторической застройки в Рошфоре восстанавливался городской театр. Никому не пришло в голову громоздить на его месте новый объект с современными технологиями и новыми сценами. Его сохранили, как провинциальный театр с маленькой гордской труппой и некоммерческим репертуаром ради того, чтобы не нарушать архитектурно-градостроительный ансамбль, признанный историческим наследием города Росшфора.
В Санкт-Петербурге удалось сделать то, что в уже пытались сделать в Ростове Великом в конце 90х. Там собирались снести целый исторический квартал с памятниками архитектуры, чтобы удовлетворить амбиции директора городского театра и размахнуть современные сценические технологии на месте маленького провинциального театра. Не градостроительные ограничения по охране исторического наследия, тоже установленные на международном уровне, остановили стройку. Не смогли выбить большой федеральный бюджет на маленький в масштабах нашей страны город Ростов. А в Санкт-Петербурге смогли. Снесли исторические памятники, наплевали на методики по сохранению градостроительного наследия, рекомендуемые Советом Европы, и на жесткие требования ЮНЕСКО к строительству в исторической среде.
Не хочется «тыкать пальцем», тем более автор статьи это откровенно сделал, назвав поименно всех крупных руководителей, имевших отношение к этому строительству. Можно было бы назвать еще несколько исполнителей – инженеров и архитекторов, работавших в разных министерских структурах в течение этих 10 лет, и которые были проводниками грандиозных замыслов директора Мариинки и других сильных мира сего. Но в моей статье не о них речь. Сегодня мне неинтересны их личности. Я размышляю о тенденциях, о правде и лжи.
Замечательный рассказ Алексея Поликовского «В начале света». Объемный слепок человеческого общества. Где ложь плодит ложь, где люди обманывают сами себя, причисляя себя к праведникам или лжецам на основании каких-то сомнительных тестов, оправдывают свою ложь необходимостью кормить семью и уходят «праведной» толпой к такой же ложной перспективе под руководством лжеца, обманывающего всех, что он праведник ради амбиции выполнения некого высшего предназначения.
Есть ли вообще путь к истине? Или есть только путь в поле мерцающей лжи и самообмана? Но ведь одна из заповедей гласит – «не лжесвидетельствуй» (от слова видеть), то есть не лги, в первую очередь самому себе. И еще – «блажен, кто ведает, что творит» (ведать, значит знать). Не значит ли это, что «видение» и «ведание» - путь к совершенствованию, путь к правде? И как низко пали в глазах общества архитекторы со своим видением и ведением со времен Микеланджело Буонаротти?
Сегодня все чаще и чаще побеждают непрофессионализм и агрессивные амбиции, граничащие с хамством. Ведь история с Маринкой ничем не лучше всех тех историй, в которых чиновники давят своими автомобилями простых граждан, или историй с неправомерными действиями полицейских в отношении задержанных. Это все тоже пренебрежение к людям, к стране, в которой они живут, к правилам поведения и общежития, наконец, к праву. Только под маркой высокой «культуры». В кавычках, потому что к культурному поведению такое отношение к городу – памятнику архитектуры отнести нельзя, только в значении отрасли народного хозяйства. Можно оправдать все это незнанием или «неведением», ведь прекрасный музыкант может не знать правил построения архитектурных объектов. Но там, в процессе строительства были архитекторы, и не один, и опытные, и знаменитые. Вывод одного из них Гари Мак Класки: «Людям надо подождать, привыкнут».
Да, наверное, можно наплевать на внешнюю красоту архитектурных объектов. Можно не замечать социальных последствий ущербной градостроительной среды, формирующейся в погоне уже не за квадратными метрами, как в СССР, а откровенно за деньгами. Можно застраивать сельхозземли и леса уродливыми поселками без инфраструктуры, издали похожими на кладбищенские надгробья. Но зачем обвинять население в правовом нигилизме, если государство, которое опекает это население, живет во лжи, и не выполняет тех международных норм, под которыми само же и подписалось?
Да, человек может привыкнуть к чему угодно: и жить в шалаше, и питаться с помойки. Только при этом он не останется «гергиевым», он превратиться в обыкновенного бомжа. В этом ли смысл развития человечества?
|
Метки: архитектура градостроительство Мариинка ЮНЕСКО |
Идеология градостроительства (продолжение) |
Генпланы, как инструмент административного регулирования, позволяющий решать правовыми методами задачи преобразования городов, в России использовались, так же как и в Европе. В процессе екатерининской градостроительной реформы конца XVIII века были перепланированы все 11 городов Ярославской губернии. Целью таких масштабных изменений было не только создание регулярных планировочных систем из функционально хаотичной средневековой городской застройки. Они преследовали так же цели, например, выноса за пределы жилой застройки скотобоен, кузниц, пивоварен и других «грязных» ремесленных заведений, или размещения новых социально значимых и необходимых городских объектов.
В г. Ростове план регулярной перепланировки 1779 года «декоративно оформил» естественную структуру сложившейся застройки, сгруппировавшейся на берегу оз. Неро в нижней точке водосбора Ростовской котловины. На протяжении 7 веков город и его предместья – слободы и концы «сидели», как на островах, на возвышенностях вдоль естественных водотоков и затапливаемых в паводки территорий, используемых населением под пойменные луга, сенокосы и огороды. Таким образом, спланированная радиально-кольцевая регулярная структура города, включившая в его состав и бывшие предместья, идеально отразила общий рисунок природно сложившегося дорегулярного плана, но жестко сломала саму систему планировки и спровоцировала все последующие гидрогеологические проблемы города, создав барьеры естественному водосбору кольцевыми направлениями насыпных дорог.
Надо отдать должное столичным планировщикам, интуитивно угадавшим такую специфику формируемой городской застройки. Генеральным планом было предписано - не застраивать пространства внутри кварталов, а создавать там сады – регулярные и плодовые, на территориях, приближенных к центру и огороды, в периферийных кварталах. Такие открытые внутриквартальные пространства, как правило, с прудами в центре, создавали систему локальных водосборов, защищая дома, поставленные по периметрам кварталов, от подтопления поверхностными стоками. Пруды использовались и как пожарные водоемы.
К задачам градорегулирования следует отнести и стимулирование губернскими властями застройки образовавшихся в результате перепланировки пустых кварталов (площади нового города оказались избыточными по отношению к проживающему населению). Порожние места раздавались зажиточным купцам для строительства домов «с торговыми и гостиными местами». К этой же категории вопросов относилось требование строительства домов по образцовым проектам, разработанным в стиле провинциального классицизма.
Не очень эффективно в Ростове, но работало и установленное «право города на земли». Одной из задач регулярного плана была задача организации новых площадей для проведения ростовской ярмарки, которая переживала к этому времени свой второй расцвет, в связи с отменой Екатериной II внутренних таможен, и уже не вмещалась на территории соборной площади в валах. Вокруг крепости было запланировано освободить от дорегулярной застройки широкое пространство в форме полукольца для размещения 14 специализированных торговых площадей «от озера до озера». Однако реализовать это решение полностью удалось только более, чем через 100 лет, в конце XIX века, когда потребности в ярмарочной торговле практически сошли на нет и площади стали занимать: городским парком и отдельными штучными объектами, плохо вписывающимися в структуру регулярной планировки. Остальные территории ярмарочного кольца зарастали самосевом, спровоцировав сегодняшнее назначение их, как зеленых зон, требующих значительных объемов благоустройства и потому для города затратных. Произошло это из-за функциональной обоснованности решения, принесенной в жертву красивому рисунку плана, но и «право города на земли» оказалось реализованным далеко не полностью.
Городу Ярославлю повезло, наверное, больше, чем Ростову. Секрет его неуловимого своеобразия и привлекательности – в личности первого наместника, генерал-губернатора А.П. Мельгунова. Репутация авторитетного администратора позволила ему отклонить от утверждения регулярный план города, разработанный в Санкт-Петербурге в 1769 году, как жестко ломающий сложившуюся дорегулярную планировочную структуру города. После он лично возглавил работу по созданию нового регулярного плана, который был утвержден императрицей в 1778 году. Задачами, поставленными в плане, было не просто регулирование застройки, как во многих других городах, но и задачи функционального переустройства, реконструкции и благоустройства городской среды. По свидетельствам современников, город преобразился за 9 лет. Причем осуществлялись преобразования, судя по историческим источникам, «без насилия и гордости», методами «убеждения и соблюдения интересов горожан», за что губернатор А.П. Мельгунов «заслужил всеобщее почтение в среде Ярославского населения». То есть, создав более обоснованные административные рычаги градостроительных преобразований, и получив поддержку общественности, он более жестко воспользовался «правом города на земли» и добился результата в гораздо более короткие сроки, чем это смогли сделать в Ростове.
Теперь в начале XXI века наше градостроительство должно вернуться к тому, что существовало в дореволюционной России – к целенаправленной градостроительной политике. Это деятельность органов власти по правовому регулированию градостроительного развития территорий с максимально эффективным использованием их пространственных ресурсов и четко поставленными целями, способными обеспечить гумманизацию среды обитания.
Любая городская территория – это ресурсы (ценности), как естественные (природные), так и накопленные искусственные (созданные человеком). Это своеобразный генетический код, который как программа определяет основные направления ее дальнейшего существования. Пренебрежение этим кодом сродни нарушению закона природы – не только ничего не даст, но и погибнуть можно. Поэтому обоснованность предполагаемых изменений городской среды таким хранящимся «в памяти» каждого города градостроительным кодом – очень важный аспект реализации любых планов и главная гарантия жизнеспособности города в будущем.
Обидно, но в 20х годах идеи и разработки наших советских архитекторов не только соответствовали мировому уровню, но даже в чем-то опережали их. Тогда на смену землеустроительным планам, планировочно закрепляющим систему частных землевладений, пришла новая политика развития городов. В Советской России лет на 20 раньше, чем в цивилизованной Англии или Франции, стали появляться генеральные планы в их сегодняшнем понимании - с функциональным зонированием, транспортной и инженерной инфраструктурой, системой ландшафтной организации города и т.д. Необходимость такого комплексного подхода к планированию города была предопределена революционными идеями социального переустройства жизни в новой России, но и совпадала по времени с общемировыми архитектурными идеями социального обустройства городов. Идеи Э. Ховарда, К. Перри, Ф-Л. Райта о «социально интеграции целей» при управлении городами и главные градостроительные концепции о «городах садах» П. Геддеса и Л. Корбюзье находили отражение в замыслах известных советских архитекторов, таких как М. Гинзбург и братья Веснины. Реализовывали такие идеи и широко неизвестные советские архитекторы и инженеры, которые разрабатывали генеральные планы провинциальных городов.
В генплане г. Ярославля 1921 года авторы: С.В. Домбровский, Н.А. Бойко-Родзевич, А.И. Зарецкий разработали живую, развивающуюся планировочную систему, предполагающую реконструкцию и благоустройство существующей застройки с максимальным использованием внутренних пространственных ресурсов города и естественных направлений роста. Город, продолжая свою генетическую традицию, сложившуюся после строительства в XVIII веке Ярославской Большой Мануфактуры, развивался вдоль р. Которосль, а внутренние территории, по замыслу авторов, подлежали реконструкции в духе тех самых идей «города-сада». Ярославские планировщики как будто уже в те далекие годы знали, что «качественное благоустройство и социальная реконструкция существующей среды на деле оказывается гораздо более эффективной, по сравнению с простым количественным ростом территорий города. Она не просто формирует комфортную среду, а является реальным стимулом экономического роста города, как инвестиционного, жилищно-коммунального и социального организма». (С.Д. Митягин «Экономическая реформа и градостроительство», ж. Промышленное и гражданское строительство, №3, 1997). А впрочем, просто талантливо развивали «генетический код» города и формировали новую городскую среду, создающую социальные условия для ландшафтного обустройства на любой территории, в разных типах жилой застройки.
Сегодняшний проспект Ленина и Бутусовский поселок с парком – маленькие осколки системы внутреннего саморазвития города, тех самых идей «города-сада» - являются самыми престижными на вторичном рынке жилья благодаря сочетанию потребительских качеств самих жилых домов и пространственной среды, организуемой ими. В 30х годах разработчики были репрессированы, а более поздние генпланы пренебрегли этими идеями в угоду гигантомании роста промышленных территорий. В результате, например, районы за р. Которосль, максимально приближенные к центру города, остановлены в развитии на уровне своего состояния начала ХХ века и сегодня имеют устойчивый имидж неблагополучных рабочих окраин.
В современных российских условиях, когда еще не сложились новые параметры и даже общие направления экономического развития территорий, когда приходится пересматривать понятия – «градообразующие факторы», «градостроительное развитие» и в целом содержание таких прежде «экономических» документов, как генеральный план города или проект районной планировки, стало практически невозможно осуществлять физическое планирование только сверху – вниз. Динамика времени требует и динамики действия планировочных систем. При этом главными задачами становятся:
1. Восстановление правового поля, которое раньше создавал законодательный статус градостроительной документации, но в новых формах, когда администрирование каждого верхнего уровня планирования, поддержанное системой общественного согласия, выражается в конкретных гражданско-правовых актах и регламентах, установленных в документации о планировании застройки. Почему работают виды зонирования, связанные с охраной окружающей среды. В Законе об ООПТ прописаны возможные рычаги экономического стимулирования тех или иных категорий этих зон. Теперь представители Минприроды заинтерисованы, чтобы на землях с правовым статусом ООПТ появились правовые и, соответственно, экономические отношения между собственником земель – государством, владельцем объекта недвижимости – частным инвестором и муниципалитетом, который по Закону о местном самоуправлении осуществляет контроль за эффективностью землепользования и выдает разрешения на строительство. Они заинтерисованы, чтобы градостроительные регламенты, сервитуты и ограничения приняли юридическую форму, необходимую при регистрации прав. И потому оценивают градостроительные обоснования размещения объектов (уровень планировки и застройки) с необходимыми разделами исследований, как градостроительную документацию, являющуюся основанием для разработки и утверждения соответствующих регламентов землепользования. И весьма продуктивно применяют свои рычаги административного контроля за их нарушением.
2. Создание информационных кадастровых систем, которые на муниципальном уровне содержат полный объем сведений о земельных участках и объектах недвижимости, необходимый для управления городами и регулирования правоотношений субъектов градостроительства. Такие муниципальные системы необходимы для реализации полномочий органов самоуправления по распоряжению земельными ресурсами, для будущего налогообложения недвижимости и просто для повышения компетентности, быстроты и точности в принятии управленческих решений местными властями. Являясь точным отражением на местности объектов недвижимости и особенностей правоотношений их собственников, владельцев и арендаторов, такие кадастровые системы «снизу-вверх» как раз и станут основой новых генеральных планов городов и схем землепользования муниципальных территорий в регионе, позволяющих через систему технико-экономических показателей оценивать эффективность использования земельных ресурсов.
Надо, чтобы ремонт водопроводной магистрали в городе со сроками и затратами планировался на основе той же геоинформационной системы, что и некая муниципальная программа, например по развитию туризма. Последняя потребует больше времени на реализацию и будет зафиксирована в системе специальных показателей, в том числе, планируемых к строительству туристских объектов. Уже отремонтированная магистраль повлияет на цену инвестиционных предложений по ним, а еще не отремонтированная гарантированно и достаточно точно учтет в системе плановых показателей увеличение потребностей будущей туристской инфраструктуры.
3. Возвращение в практику градостроительного планирования социально ориентированных целей, например, таких как жилищная обеспеченность городского населения или удовлетворение общественных потребностей в организации досуга детей в отдаленном от центра районе города, или целевая реконструкция исторического квартала для увеличения доходности от использования муниципальной земли и недвижимости. Однако делать это надо сегодня не в универсальной системе показателей для типового проектирования и обязательного бюджетного финансирования строительства, а удовлетворяя конкретные социальные потребности конкретных территорий и методом регулирования соотношения административных и рыночных механизмов.
Соотношение строительства муниципального и рыночного жилья должно быть сбалансировано возможно ценами на землю в разных частях города, возможно в рамках специальных государственных и муниципальных жилищных программ и обязательно как можно более разнообразными типами в ответ на общественные запросы. Без участия населения и общественности уже невозможно решать вопросы функционирования коммунального хозяйства, озеленения дворов, утилизации отходов. Только постановка локальных социально выверенных задач на уровне, максимально приближенном к реальным правам и потребностям, позволит раскрыть во вновь складывающейся системе градостроительного планирования реальные возможности рынка недвижимости. И использовать их для реализации «прав города на земли», улучшения условий жизни населения, а, следовательно, для повышения эффективности экономики муниципального образования и региона.
4. Муниципалитетам надо срочно разрабатывать правила застройки для отдельных территорий и регламенты для отдельных участков. Может не по всему городу, а по тем кварталам, в которых намечается строительство. Проекты межевания по Градостроительному кодексу – это документы с совершенно иным содержанием и иными выводами, чем те, которые готовят земельщики. Их межевание – «драный халат», прикрывающий все погрешности решений о «точечной застройке». Только градостроительные проекты межевания могут установить и закрепить в правовой форме публичные сервитуты: необходимые разрывы, расстояния между домами, проезды, проходы, площадки и т.д.
Надо заглянуть в бюджеты и вспомнить, что по Земельному кодексу распоряжаться, то есть предоставлять или продавать, муниципалитет может только оформленные земельные участки, имеющие кадастровый план и градостроительные регламенты, определяющие существование объекта в среде, за качества которой сегодня отвечают только местные власти. Можно для аккумулирования на эти цели средств использовать, например, статью НИОКР, так как разработка регламентов требует специальных исследований (ландшафтных, геологических, социальных и т.д.). Ведь не на оборону же, как в федеральном бюджете, направлять эти средства муниципальным властям. Их «линия обороны» – коммунальные и инженерные системы, эффективность функционирования которых не может не зависеть от обременений прав собственников и вообще от договорных отношений с ними.
Рано или поздно, но будет введено налогообложение недвижимости. Без условий застройки земельных участков и их рыночной оценки мы получим нищие муниципальные бюджеты. Необходимо стремиться к эффективной застройке, то есть к той, в которую могут пойти инвестиции, достаточно плотной без возможности образования пустырей, и максимально экономически выгодной для города, то есть доходной. В составе проектов межевания можно определять долю инвесторов в инженерном обустройстве и благоустройстве каждого квартала, чтобы получать кадастровые планы по каждому участку с условиями его застройки (обременениями, сервитутами), например, для выставления на торги. Это позволит администрации по-рыночному оценивать земельные участки, включая в их стоимость оценку условий инженерного обустройства и благоустройства и получать в бюджете дополнительные доходы от инвестиций в земельные участки.
И надо работать с населением и ставить простые, необходимые в первую очередь, и ясные для него цели, чтобы не делать планировочных ошибок и социально ориентировать градостроительный рост, который теперь осуществляется, в основном, за счет частных инвестиций. С уровня государственной власти этот рост может только законодательно направляться, методически поддерживаться и административно контролироваться в системе общих показателей развития региона или страны.
В этой властной вертикали заложена суть нового градостроительного планирования с его инструментами: экономикой и правом. А вот как у нас она будет устанавливаться и реализовываться - административными или гражданско-правовыми методами, законодательно сверху или в процессе осуществления судебно-правовой практики, покажут время, экономика и взаимоотношения власти и общества. Уроки, извлекаемые из этого опыта, будут соизмеримы с общественными потребностями в сфере планирования, развития и безопасности.
|
Метки: градостроительство нгенпланы историческте города градорегулирование градостроительное право |
Идеология градостроительства |
В нашей прежней социально-экономической системе популярно считалось, что градостроительство – это строительство городов. Все иные планировочные стратегии были уделом очень узкого круга специалистов, имели ь ограниченное применение и предназначались исключительно для внутреннего потребления Госплана. Собственно и само градостроительное развитие понималось только как количественный рост квадратных метров жилой площади и городских территорий для ее возведения.
Именно в этой простоте понятия заложена главная причина нашего сегодняшнего неблагоустроенного существования. Ведь и сегодня любой управленец, от которого зависит экономическая политика региона или города, не видит в генеральном плане ничего, кроме картинок, иллюстрирующих места для будущих объемов строительства. Хотя в новых экономических условиях, когда массовое жилищное строительство уже государством не финансируется, и объемы строительства зависят исключительно от инвестиционной активности, такие цели не просто устарели. Они формируют те самые «двойные стандарты» из частных интересов тех, кто принимает решения о строительстве, и общественных интересов, оформленных в современном законодательстве в соответствии уже с европейскими образцами.
В развитых странах с рыночной экономикой к идеям градостроительного планирования пришли в период экономической депрессии 30 – 40х годов ХХ века. Этому предшествовало накопление социальных проблем, связанных с активным разрастанием городов в период Промышленной революции второй половины ХIХ века, которые власти пытались решать отдельными законами о санитарном благополучии или массовом строительстве дешевого жилья. Позже технические возможности создания новых транспортных систем в начале ХХ века увеличили возможности целенаправленной децентрализации перенаселенных крупных городов Западной Европы, но появились опасения по поводу их «расползания» и потери сельхозземель. В результате возникло мощное общественное движение за ограничение роста городов с помощью планирования, которое со временем переросло в государственное регулирование процессов урбанизации.
В советские годы не принято было аппелировать к зарубежному опыту градостроительного планирования. Поэтому даже из специалистов мало кто знал, что наша система градостроительного планирования – это их «физическое планирование», первый опыт градорегулирования в рыночных условиях, когда планируемые результаты – землепользование, виды деятельности и развитие территорий прорабатывались и фиксировались очень точно и детально, вплоть до отдельных зданий.
В странах Западной Европы «эра генеральных планов» закончилась к 60ым годам, как система быстро устаревающих и социально неточных прогнозов. У нас же к этому времени такое детальное планирование как раз хорошо встроилось в пирамиду централизованного распределения бюджетных средств на развитие панельного домостроения, на массовое жилищное строительство и соответствующие объемы социальных благ. О слабой обоснованности таких градостроительных планов и перспектив писали отдельные советские ученые, о прогнозировании вообще не думал никто, главными целями было просто наращивание объемов: строительства и финансирования быстро возводимых городов.
Генплан г. Ярославля, 1933, 1968, 1985 годы. Планы индустриализации и социальной реконструкции городской среды послужили основой амбициозного проекта, в котором территории города увеличены втрое, к существующим довоенным, через р. Которосль запланировано строительство пяти мостов, а «тело» города прорезано с севера на юг многочисленными проспектами – транспортными магистралями. В результате сегодня более половины территорий города – промзоны и пустыри, разделяющие исторический центр города и отдаленные жилые районы Брагино, Нефтестрой, Резинотехнику, проспекты заканчиваются мостами «в никуда», а город захлебывается от транспортных проблем. О неэффективности работы инженерных коммуникаций, запланированных не там, где сегодня требуется, и растянутых на десятки километров, сегодня уже можно и не говорить.
Генплан г. Гаврилов-Ям, 1987 год. Среди причин нереализованности генплана - гипертрофированные для малого города планировочные подходы, которые отразились в игнорировании частного жилого сектора, в принципах формирования систем общественного обслуживания и самих типах застройки. Например, в составе общественных зданий планировалось размещение 880 мест в домах культуры и от 600 до 800 мест в кинотеатрах, гостиниц и ресторанов в общей сложности на 400 мест, универмага 200 кв. м торговой площади (плюсом к двум колхозным рынкам), не говоря уже об административных излишествах типа «Дом Советов» или «Дом торжеств». В городе, в котором 80% жилого фонда составляли усадебные дома, строительство 5 – 9ти этажных жилых районов, отдаленных от центра, не могло не привести к тому, что именно центр оказался инженерно не обустроен, а исторический жилой комплекс Локаловской мануфактуры с архитектурой деревянного модерна обречен на вымирание».
Генплан г. Ростова, 1965, 1971, 1975, 1991 годы. Массированная и необоснованная мелиорация сельхозземель в Ростовской котловине усилила процессы заболачивания окружающих город Ростов территорий уже в 50х. В 70х годах в погоне за объемами бюджетных средств на строительство территории города были увеличены более, чем в 2 раза, выстроен новый микрорайон на окраине города, проложен третий по счету барьер в системе водосбора оз. Неро в виде окружной автомобильной дороги и в рамках реконструкции стали застраиваться пространства внутри исторических кварталов, которые веками были заняты садами и огородами именно в целях защиты от подтопления. При фактическом отсутствии, как в любом малом городе, рассчитанного в генпланах прироста населения, все это привело к стагнации исторического ядра города, с разрушением исторических зданий в результате подъема уровня грунтовых вод и с «вымыванием» из него населения.
В Западной Европе отказались от «физического» детального планирования одновременно с развитием кибернетики и маркетинга, как науки, с помощью которых были сформированы в результате автоматизированные геоинформационные системы для мобильного планирования – быстрого моделирования вариантов развития территорий при действии тех или иных потенциальных условий и обстоятельств. Однако произошло это, в первую очередь, из-за осознания целей и методов планирования, как управления процессами территориально-пространственного развития. Традиционное понимание слова «план» чаще всего ассоциируется с физическим представлением о чем-либо или с проектом (пространственной репрезентацией). Одновременно с планированием, как подготовкой такого проекта, существует планирование, как формулирование последовательности действий, ведущих к достижению поставленной цели или целей. Главные трудности возникают, когда мы пытаемся применить вышесказанное к явлению, которое у нас именуется градостроительное планирование (можно сформулировать как «планирование в рамках города, региона или страны», соответственно городское, региональное или национальное планирование). В общем своем смысле оно означает планирование с географическими компонентами, направленное на создание пространственной структуры различного рода человеческой деятельности (землепользования), и его невозможно представить без какой-либо пространственной репрезентации, т.е. плана или чертежа. А вот содержание пространственной структуры и собственно методы градостроительного планирования оказываются абсолютно разными в странах с разным общественным и экономическим устройством, определяются своими специфическими целями, связанными, в первую очередь с социальной географией и способами решения социальных проблем.
Переход от физического планирования по схеме: исследование – анализ -план – детальный проект, к непрерывному процессу планирования и мониторинга состояния среды произошел в странах Западной Европы в результате расширения социальных ориентиров, что выражалось, в первую очередь, в постановке социально интегрированных целей планирования городских и региональных систем. Пространственная детальная репрезентация экономического планирования разных отраслей была заменена обобщенной картиной социально-пространственных взаимосвязей или, точнее, пространственной координацией многих интересов в целях общественного развития.
Если раньше план, например, городской канализации разрабатывался только с точки зрения эффективности работы самой коммунальной системы, а планирование системы образования было направлено на строительство определенного количества типовых школ, то новая система планирования начала ставить интегрированные цели. Например, сбалансировать преимущества сохранения установившегося образа жизни в старом городе с преимуществами строительства более комфортабельных жилых домов в удаленных от старого города районах. Следовательно, именно в этом направлении развивать городские коммунальные системы или строить определенные престижные учебные заведения. Такие и многие другие специфические цели стали смыслом работы городского и регионального планировщика, а сложность его задач обернулась индивидуальными свободами для общества.
«Процесс планирования жизнедеятельности стал более четким, логичным и открытым для общества. Он должен начинаться со всеобъемлющего обсуждения целей, которых желательно достигнуть. Преимуществом такого планирования является и то, что должны разрабатываться альтернативные варианты будущего развития, которые открыто обсуждаются и оцениваются. Имея дело с большим количеством информации, такое планирование стало более гибким и более рациональным, как минимум в потенции». (П. Холл «Городское и региональное планирование», М., Стройиздат, 1993 г.)
Тем не менее, новая система создала много новых проблем и, прежде всего, связанных с объемом необходимой информации. Компьютеризация в условиях больших объемов информации может упростить, например, подробные расчеты, но не может уменьшить ответственность людей за принятие решений в технологически усложняющейся системе отношений. Поэтому новое планирование стало требовать создания института специальных экспертиз, разделения меры ответственности между уровнями власти и формирования самостоятельного вида права – градостроительного, с градостроительной документацией в качестве правового основания для принятия решений.
Когда в начале 90х годов из перечня вопросов, которые начала решать новая российская земельная политика, был выброшен по умолчанию инструмент системы советского планирования – градостроительная документация, все были уверены, что отказались от устаревшей, бесполезной в рыночных условиях системы экономического планирования. «Забудьте слова – генеральный план», - провозглашали из Москвы идеологи новой земельной политики. И говорили о создании «многофункционального земельного кадастра, как единой интегрированной системы сведений о правовом, природном и экономическом положении земель», то есть о системе градостроительного планировании в его новом понимании, но без цели и инструмента планирования, которым должна стать новая градостроительная документация. Поэтому уже десятилетия вроде развиваются системы программирования, в разных ведомствах собирается огромное количество информации об объектах и территориях, а в результате – все меньше интеграции, и мы все дальше от задач планирования развития территорий и градостроительных систем.
Но самым главным заложником оказалось местное самоуправление. Прежняя градостроительная документация безнадежно устарела по сути, новая, если ее разрабатывать по старой схеме - сверху-вниз требует больших средств и много времени, а проблемы коммунального хозяйства и проблемы горожан надо решать сейчас. Распоряжение земельными ресурсами даже инвестиционно привлекательными пока приносит больше проблем, чем действительных выгод, так как непосильное для муниципальных бюджетов бремя воспроизводства городской земельной недвижимости власти пытаются переложить на инвесторов. И делается это без элементов того же планирования - анализа экономической ситуации, специфики источников финансирования, системы отношений собственности, в том числе вновь создаваемой, что делает, в свою очередь, новое строительство невыгодным и все чаще, социально конфликтным. Вместе с тем новый Земельный кодекс прописал обязательность наличия при операциях с землей и недвижимостью градостроительных регламентов, утверждаемых правовым основанием – градостроительной документацией. Ясно, что это нужно уже сейчас, а не после 10 лет, необходимых для разработки последовательно генплана, ПДП, и проектов застройки.
Программа Совета Европы в г. Ростове была рассчитана на 4 года (1997 – 2001 г.г.), и консультанты подтверждали, что для малого города, каким является Ростов, для разработки локальных программ совсем не обязательно разрабатывать новый генеральный план города. Достаточно иметь обязательные его части и нарабатывать схемы планировки и застройки необходимых для инвесторов территориях города. А вот что является этим обязательным из градостроительной документации для такого города, как Ростов – дело российского законодательства. Французские специалисты планировщики очень поддерживали работы по созданию электронных карт и формированию на их основе муниципальных информационных систем, а из всех частей документации уровня генерального плана требовали от города только проект охранных зон памятников истории и культуры. Потому, что это необходимые элементы динамичного планирования в условиях рыночной экономики в городе с утвержденным федеральным статусом исторического.
Сегодня в странах с развитой системой градостроительного планирования градостроительная документация любого уровня – это форма общественного договора с властью и главные рычаги управления и правового регулирования пространственного развития территорий. В странах Западной Европы, например, градостроительное планирование и управление ресурсами стоит в одном ряду через запятую, как институциональные формы работы с разными территориями. И градостроительная документация, продолжая оставаться основой экономического анализа, является главным административно-правовым рычагом для принятия управленческих решений по развитию территорий. Законодательное требование наличия градостроительной документации может, например, сопровождать сделки с объектами недвижимости на территориях, выделенных как зоны особого регулирования градостроительной деятельности с соответствующим статусом. Если бы представители нашей государственной власти так понимали градостроительное планирование, то вслед за утверждением исторического статуса города должно последовать целевое финансирование разработки обязательного проекта охранных зон для него. Главным же для развитых систем градостроительного планирования является то, что согласованная с населением и утвержденная градостроительная документация – это социальная гарантия эффективности принимаемых властью решений, залог реализуемости планируемых пространственных преобразований, их экономической целесообразности и общественной поддержки. (Продолжение следует).
|
Метки: градостроительство генпланы исторические города градорегулирование |
Узаконенный обман или откуда "растут ноги" у национального вопроса |
Вчера по ТV показали сюжет по очередному сносу самовольно построенного объекта, на сей раз, в Нижнем Новгороде. Снесли двухэтажный ресторан, капитально возведенный на земельном участка, оформленном в аренду на 5 лет. Надо было видеть лица хозяев объекта - кавказцев по национальности. Злоба, ненависть, решимость отомстить тем, кто их обманул, это отчаяние разоренных предпринимателей, с которых сначала тянули деньги, а потом бросили "на произвол судьбы". Это не национальный вопрос - это вопрос нравственности вообще, нравственности наших властей, устанавливаемых ими законов и ущербной градостроительной политики, в частности.
Для чего по нашему законодательству власти оформляют аренду земли в центре города на такой небольшой срок? Подо что можно оформить землю на пять лет? На время строительства. Вопрос лишь - строительства чего? И вот тут начинается футбол между службами: земельщики, архитектура, СЭС, пожарники... Всего около 18-ти инстанций: служб, комитетов, департаментов, как у кого составлена система управления. И везде за деньги официальные - за согласование сначала идеи, потом проекта. И неофициальные за обещания узаконить то, что будет построено.
Двадцать лет у нас в стране действует безнравственная система, система обмана, сводящая на нет статью Конституции о праве инвестора на результаты от своих инвестиций. Пять лет человек оплачивает аренду земли, на которой неизвестно, что должно быть построено. Ходит по инстанциям разрабатывает проекты, оплачивает, так называемые технические условия, но никто не гарантирует ему положительный результат.
На любом этапе у него может возникнуть тормоз в виде непомерных требований чего угодно (например, фонарей для освещения улиц, новой трансформаторной подстанции или километровой ветки водопровода для тушения возможных пожаров). А может и вообще появиться запрет на строительство, потому что кто-то кому-то среди этой массы разномастных чиновников захотел помешать. А повод для такого запрета в условиях абсолютной свободы (то есть, когда нет никаких правил) найти не так уж и сложно. И ни у кого нет никакой ответственности.
Те, кто строит свой бизнес, если его бизнес не строительство (в котором все схвачено), видя всю эту разорванную правовую ткань, платит взятки, в надежде на совесть того, кто ему обещает "положительное решение вопроса". А это в прогрессии могут быть все 18 или 25 служб. И когда, при построенном объекте выясняется, что: объект не соответствует функциональному назначению земельного участка, земельный участок не предназначен для такого строительства, построенный объект опасен с пожарной точки зрения, к объекту невозможно подвести водопровод (газ, канализацию, электричество) и далее список причин можно продолжить в прогрессии (насколько хватит фантазии), срок аренды заканчивается. Как правило, разрешения на строительство нет (не получено, отказ, вышли сроки, предназначенные на строительство). Формально процесс завершен и никакое обращение в суд не гарантирует инвестору возврат ему вложенных средств.
И если наш русский предприниматель, по большей части полезет в петлю, человек с Кавказа с его темпераментом будет мстить. Вот вам и национальный вопрос.
|
|
Н. Бердяев "Самопознание" |
Люди очень легко объявляют наступление конца мира на том основании, что переживает агонию и кончается историческая эпоха, с которой они связаны своими чувствами, привязаностями и интересами. В основании такого рода идеологии лежит бессилие, подавленность и страх. Но от состояния подавленности и страха ничего хорошего произойти не может. Мне близок не Вл. Соловьев и не К. Леонтьев, а Н.Федоров. Его сознание, связанное с активностью человека и с победой над смертью, мне представляется самым высоким в истории христианства… Гениально у Федорова то, что он, может быть первый сделал опыт активного понимания Апокалипсиса и признал, что конец мира зависит и от активности человека. Апокалиптические пророчества условны, а не фатальны, и человечество, вступив на путь христианского «общего дела», может избежать разрушения мира…
Понимание Бога и Богочеловека-Христа как судьи и карателя есть лишь выражение человеческого состояния, человеческой тьмы и ограниченности… Переход в подлинно творческое состояние освобождает от этого унижающего человека состояния… Конец есть дело Бого-человеческое, которое не может совершаться без человеческой свободы, есть «общее дело», к которому призван человек… Переход от исторического христианства, которое отходит в прошлое, к христианству эсхатологическому, которому только и принадлежит будущее, должен означать не возрастание пассивности, а возрастание активности, не возрастание страха, а возрастание дерзновения. (стр. 308)
|
Метки: Апокалипсис христианское "общее дело" дерзновение человека |
Три кризиса архитектуры нашей страны |
Статья опубликована в журнале "Зодчий" (№1, 2001 г., Санкт-Петербург)
Хрущевские реформы оказались бедой для советской архитектуры, поставив её в положение служанки при строительном процессе. С этим распространенным в архитектурных кругах мнением можно было бы согласиться, не зная истории нашей советской архитектуры, наполненной внутренними противоречиями и борьбой. Борьбой самой беспощадной внутрицеховой, борьбой архитекторов с архитекторами, мало отличающейся от борьбы ученых с учеными, писателей с писателями, художников с художниками, о результатах которой мы теперь узнаем из нескончаемых перечней репрессированных в 30-х – 50-х годах. Только теперешний «плач» по случаю отсталости нашей науки ничто по сравнению с до сих пор не прозревшим и не покаявшимся перед преданной и творческой архитектурой, архитектурным цехом.
Итак, «Архитектурные итоги тысячелетия» подведены. Плакать или смеяться по поводу того, что представила к съезду Союза архитекторов архитектурная общественность на выставке с этим названием? Трудно сказать. Пожалуй, следует задать иной вопрос: «Кто ей – этой архитектуре – теперь поверит после таких итогов?» Может, все-таки надо остановиться и задуматься – что мы, как архитекторы, сделали для наших городов? Может, надо для этого посмотреть на самих себя и оглянуться назад? Может, настало время покаяться перед народом, которому мы служим?
Наши предки обладали пониманием «города» на уровне интуиции. В результате, сравнительно несложный по своим потребностям древнерусский город развивался как организм, выросший из природы и конкретных условий жизни человека. Екатерининская строительная реформа с большей или меньшей революционностью упорядочила эту органичность, сделав большинство провинциальных русских городов заложниками (и в плохом, и в хорошем смысле) замкнутых систем.
Серьезный институциональный шаг в российском градостроительстве сделан в 20-е годы, когда на смену землеустроительным планам, планировочно закрепляющим систему частных землевладений, пришла новая политика развития города. Появился генеральный план в его сегодняшнем понимании с функциональным зонированием, транспортной и инженерной инфраструктурой, системой ландшафтной организации города и т.д. Необходимость комплексного подхода к планированию города была предопределена революционными идеями социального переустройства жизни в новой России и совпадала по времени с общемировыми архитектурными идеями социального переобустройства городов. Идеи англоамериканцев Э.Ховарда, К.Перри, Ф.Л.Райта и родоначальников современной европейской градостроительной традиции П.Геддеса и Л.Корбюзье находили отражение в замыслах известных советских архитекторов, таких как М.Гинзбург и братья Веснины. Идеи «города-сада» и «социальной интеграции» реализовали и неизвестные советские архитекторы-ученые, разрабатывающие генеральные планы провинциальных городов. Но за их спинами стояла другая архитектура.
В 3 0-х г о д а х и д е я м социально-пространственного преобразования среды была противопоставлена идеология интернационального стиля в архитектуре. Вычеркнув все, что было уже пройдено в мировой практике и собственной стране, все эти «модерны», «конструктивизмы» и «функционализмы», уже другие советские архитекторы встали на борьбу за чистоту формы и идеи. В результате лучшее украшение объемов классическими ордерами стало главным предметом творческих достижений советской архитектуры. И в то время, когда мировое архитектурное мышление, опережая общественные потребности, искало опору в китайской философии о пространстве и в практике пространственной организации среды азиатских городов, когда на Западе отрабатывались методы градостроительного планирования, наши архитекторы спорили о том, должен ли быть дом для железнодорожников похож на поезд и как употребить в этом случае классический ордер.
В начале 60-х архитекторы признали свои ошибки, назвав их «украшательством» и «излишествами в архитектуре», делавшими строительство дорогим и неэффективным, но скромно умолчали об этой своей очень специфической роли в острейшем жилищном кризисе страны. А потом очень обиделись на власть за ликвидацию Академии архитектуры и индустриализацию строительства. Позже, в 70-х, когда шла застройка городов, гнались миллионы квадратных метров панельно-спальных районов, архитекторы-ученые послушно подводили под планы ДСК нормы жилищной обеспеченности, а архитекторы-проектировщики сидели на конвейерах привязок «типовухи».

За это время сформировался класс мэтров–объемщиков, которые могли себе позволить проектировать дорогостоящие штучные объекты и экспериментировать с новыми формами или вести целевую реконструкцию исторических объектов под туристические комплексы. Оттуда, с высоты архитектурного Олимпа, они сформулировали новую политическую идею советской архитектуры – благосостояние советского народа в новых городах и микрорайонах. Архитекторы получили право организовать человеческую жизнь в соответствии с установками на всеобщее равенство гармонично развитых личностей. Отсюда и направленность работы архитектора на усредненную человеко-единицу с определенным минимумом общественных благ и окончательная потеря интереса к потребностям личности реальной. Чем это закончилось, теперь уже видно всем. Архитекторы, назвавшиеся «градостроителями», всего лишь красиво расставляли пластинки, змейки, кубики – типовые дома и обосновывали в генеральных планах объемы массового строительства по затратным схемам ведомственных «заказов». Теперь все наши провинциальные города состоят из разрушающихся центров и отдаленных, безликих, неблагоустроенных микрорайонов с панельными и отнюдь не дешевыми домами. К пыльным пустырям микрорайонов прибавляются пустыри и болота, постепенно образующиеся на месте исторических парков и иных рекреационных пространств. Кроме этого – узел экологических, инженерных и транспортных проблем, растянутые коммунальные сети, которые города уже не в состоянии содержать, и навсегда потерянные природные леса и сельхозугодья, а в целом кризис экономики городов.
Конечно, помимо градостроительства, пробивающего проспекты московских масштабов в малых городах, было и градостроительство здравого смысла. Но что стоила апологетам «популяризация идеи»? Плотная малоэтажная застройка, многочисленные виды которой строят уже более полувека по всему миру с запада на восток и с севера на юг, как самый эффективный тип массового жилья, с 60-х годов целых 20 лет рассматривалась нашей официальной наукой только как эксперимент.
Казалось, в начале 90-х наступило прозрение. В сборниках научных трудов ВНИИТАГа появились откровения и мысли о наболевшем наших ученых-теоретиков: А.В.Иконникова, А.Г.Раппопорта и др. Заговорили о сути терминологии, о пагубности проектирования «объема» без «пространства». Метко окрестили приемы советского градостроительного проектирования «макетным мышлением», когда гармония композиции объемов «с птичьего полета» с того уровня, где обитают люди, выглядит лишь случайным нагромождением домов-коробов вдоль «беспринципно» положенных коммуникаций – проездов. А дальше, как в плохом, повторяющемся детском сне...
В законе об архитектурной деятельности слегка запутались в определении «архитектуры», называя ее архитектурным искусством (!), охраной памятников истории и культуры(?) и природных ландшафтов (?!), очень грозно написали про авторское право, забыв написать об авторской ответственности, в первую очередь экономической. И вроде приближаемся к пониманию роли градостроительства для новых экономических условий, кажется, теперь знаем, как у них там на Западе, вроде пишем правильные вещи о необходимости тотальной реконструкции наших городов (С.Д.Митягин «Экономическая реформа и градостроительство», ж. «Промышленное и гражданское строительство», 3/1997) и об ответственности архитектора за результаты своего творчества (В.М.Сидорин «Архитектура здравого смысла», ж. «Архитектура и строительство России», 7/97). А в п р а к т и к е – д е с я т ь л е т архитектурно-объемного экстремизма со слепым следованием деньгам и заказчикам, ненавистью к населению, по досадной случайности проживающему рядом с местом строительства, в общем, ко всему тому, что в мировой практике называется градостроительством.
Сегодня наши города «замусорены» архитектурой. Новая застройка центров – это запихивание объемов в любое свободное место в квартале с полным пренебрежением, как и историческим пространством, так и к современным транспортным и инженерным проблемам. Под маркой реконструкции – косметика фасадов и тротуаров, прикрывающая исторические развалины, инженерные и социальные проблемы. А они никуда не деваются, они накапливаются, и, возможно, коммунальные катастрофы будут именно той ценой, которую заплатит общество за выплеснувшиеся архитектурные амбиции и свободу творчества «архитектурного искусства».

«Земля и деньги – основные материалы градостроительства. Экономика и право – основные нструменты градостроительства»– так обозначают французские специалисты суть предмета «градостроительства». В системе управления развитых стран генеральный план – это документ гражданского права, узаконивающий план развития города (района, квартала), согласующийся с обществом и населением. А в целом градостроительство в развитых странах – это сфера, неотделимая от экономических проблем, от вопросов социальной и инженерной инфраструктуры, это метод управления.

Качество среды современных городов в развитых странах – это результат деятельности власти и творчества инженеров, ландшафтников, дизайнеров, работающих для решения единых градостроительных задач в целях изменения и совершенствования среды. Вместе с архитектором, способным взять на себе ответственность за градостроительные последствия своих проектных решений, а не только за рисунок решетки, нарисованного им забора. Хуже, если без архитектора, как это все чаще происходит у нас. Тогда главным в градостроительстве страны действительно может стать «этакое глобальное МЧС», расхлебывающее, по определению А.Г. Раппопорта, результаты «грехопадения аналитического мышления в архитектуре».
Фото 1. Центр города Ярославля. Благоустройство двора у набережной р. Волги.
Фото 2, 3. Благоустройство восстановленного исторического центра города Рошфора, Франция.
|
Метки: архитектура градостроительство украшательство индустриализация малоэтажная застройка |
"Блаженны миротворцы..." - размышления о сути конкуренции. |
К статье Александра Мелехова «Можно ли умываться после Освенцима» («Новая газета» № 69 25.06.2012 г.)
О разочаровании в «просвещении» в статье деятеля школьного образования Евгения Ямбурга и о том, что, похоже, к концу ХХ века «просвещенческая парадигма себя исчерпала». Суть проблемы сводится к вопросу: «способно ли образование в широком смысле этого слова облагородить природу человека, привить ему нравственные устои, позволяющие сохранить основы нормальной социальной жизни?»
Образование – как сфера деятельности в развитом государстве (всеобщее образование) – нет. Образование – как глубокое познание природы вещей отдельными ищущими людьми – да. При этом без среды – обычной массы индивидуумов со средненормальными образовательными запросами такой рост (или развитие) себе трудно представить. Для того, чтобы родились и выросли великие гуманитарии, просветители, апостолы, праведники нужны условия становления, трудности и страдания, которые создаются в социуме другими более или менее просвещенными людьми. При этом у каждого своя роль в силу данных и полученных в процессе жизни качеств.
«Покуда у человека сохранятся индивидуальные потребности(?), до тех пор у него останутся и мотивы преступать общественные нормы, в чем бы эти нормы не заключались. Пока сохранится конкуренция социальных и национальных групп, до тех пор сохранится их раздражение друг против друга… Ибо нравственность есть ничто иное, как идеализация групповых интересов, возведение интересов – как материальных, так и психологических – в ранг священных прав».
Интересы – это цели? Автор опустил понятие «нравственность» до уровня понятия « нравы» (народа, населения, племени). Правда, если слово «интересы» заменить словом «цели» (?), то получится скорее идеология, чем нравственность.
Нрав – характер. Нравы - свойства народа, нации, не столько зависящие от личности каждого индивидуума, сколько, от условно принятых в данном обществе житейских правил, привычек, обычаев. Нравится – быть приятным, угодным, желанным; прийтись по нраву, по вкусу, по желанию; соответствовать обычаям, традициям и представлениям о том, что хорошо в данном обществе.
Нравственность – духовность; противопоставляется умственному; к умственному относится «истина и ложь», к нравственному – «добро и зло»; добронравный, добродетельный, добронравный. Даль пишет: «Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской; первая требует только строгого исполнения законов, вторая же ставит судьею совесть и Бога».
Вот тут обратная парадигма – понимание совести и Бога, то есть нравственность, определяет нравы и, соответственно, законы того или иного общества, народа. «Доколь Коран будет основою всего быта мусульман, дотоль зверские нравы их неизменимы» - О. Даль. И нравы – это не суммы характеров отдельных представителей народа. Скорее нравы, как некие рационально-интегральные качества народа, влияют на формирование части черт характера, общих для данной нации.
По мнению автора, индивидуализм, конкуренция и законопослушность в одном обществе несовместимы. …для человека, доверяющего только наблюдениям, вполне очевидно, что любые нравственные ограничения ослабляют его конкурентные возможности: всегда удобнее бороться, имея раскованные руки и только имитировать их скованность для обмана дураков.
Очень тонкая вещь - конкуренция. Если речь идет о борьбе «воина света» (человек, ведущий Духовный Поиск) с силами, которые противостоят ему, то надо признать, что противник действительно сильнее его, обремененного нравственными ограничениями. В этом случае (если он действительно «воин света», то есть, силен духовно и обладает мудростью) «…он использует методы, именуемые «дипломатией». Когда противник ведет себя как неразумное дитя, он поступает так же. Когда тот вызывает его на бой, воин прикидывается непонимающим. …воину нет дела до мнений тех, кто считает, что он струсил, ибо он знает: отвага и ярость птички не спасут от когтей кошки. В таких обстоятельствах воин запасается терпением – враг скорее уйдет искать другую добычу, чем дождется открытой схватки с ним.» (Пауло Коэльо «Книга воина света»). То, что описано у автора рассматриваемой статьи имеет отношение к драке хама и еще большего хама, подлеца и еще большего подлеца, то есть тех, для кого нравственность (совесть и Бог) – это пустой звук. Например, в спорте такая конкуренция недопустима! Там искусственно убирают все условия подобной конкуренции.
«…это как раз рациональность предпочла не притеснять, а уничтожать конкурентов, как реальных, так и кажущихся: нет человека, нет проблем. И единственная сила, не позволяющая нам всем относиться друг к другу, так же рационально как в Освенциме, это поэзия* в широком смысле этого слова – подсознательная уверенность в том, что есть что-то более важное, чем победа над конкурентом в борьбе за приятные ощущения. …понимая, впрочем, что нравственной панацеей может быть лишь уничтожение всех индивидуальных интересов».
«…наука ослабляет желание человека рвать у других матценности лишь в той степени, в какой обеспечивает его более увлекательным занятием. Цель образования – распространение знаний, а улыбка – лишь приятный побочный продукт. Преподаватель физики должен именно физику считать самостоятельной профессиональной ценностью, а не как хитроумный путь к нравственности, понимаемой как самоограничение во имя неизвестно чего». (Точка зрения человека, который не верит в Бога, в Духовный Поиск, в необходимость совершенствоваться как человеку, так и человечеству).
«Что вменяет человечеству в священный долг рационалистическая теория модернизации, отрицающая понятие священного, – совмещать культ материального успеха с трепетным отношением к чужой собственности».
* поэзия – с гр. творчество; в переносном смысле – очарование, обаяние, что-то прекрасное, волнующее.
Поэтому, по мнению автора статьи, мир старается избавиться от всего того, что снижает конкурентный потенциал ее носителей, от всего, тормозящего освоение инноваций. В этот разряд попадает все, что рассказывает о чудесах (например, сказки, где, по сути, нет борьбы) или об идейно-нравственных переживаниях интеллигенции 1ХХ века (например, русская классическая литература, в которой тоже нет места для драки).
«Если бы мир мечты был бы так же подл, как мир экономической конкуренции, то отпали бы последние тормоза, еще мешающие устроить новый Освенцим для человеческого балласта, не сумевшего с комфортом «вписаться в рынок». Считается, что «модернизация» - это соответствие «современным» стандартам, которые устанавливают победители. Следовательно – это уподобление победителям, то есть сильнейшим. Но в природе жизнь давно бы прекратилась, если бы, например, весь животный мир уподоблялся бы саблезубым тиграм или мамонтам. И на самом деле оказывается, что «к новым вызовам лучше готовы не те, кто блистает на авансцене, а те, кто вроде бы влачит на заднем плане незавидное на первый взгляд существование».
«И драгоценно не только разнообразие доблестей, но и того, что сегодня представляется слабостями, ибо они, возможно, тоже доблести, только еще не дождавшиеся своего вызова. …может оказаться, что именно захолустная архаика, а не торжествующая современность (со всеми ее пороками, возведенными в ранг добродетелей – мое), когда-нибудь вытащит человечество из очередного экзистенционального болота, в котором его обитатели утратят такой пустячок, без которого жизнь в болоте невозможна, как азарт или готовность к смертельному риску. Словом, уверенность, что жизнь вообще не тягомотина, но захватывающая драма, участие в которой стоит тех страданий, которые она причиняет».
Итак, оправившись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. (Послание к римлянам святого апостола Павла, гл.5, 1-5)
«Трагическое мироощущение в принципе не знает, что такое единственно правильная позиция. В трагедии каждый из соперников по-своему красив и по-своему прав. ... И тогда эта архаика заставит непримиримых соперников уважать и видеть красоту убеждений друг друга, а там, глядишь, еще и убьет их страсть к окончательным решениям серьезных вопросов».
«Таких идиотов, которые возжелали бы заменить упорство и расчет верой в чудеса, в современном мире нет и не предвидится: реальность дает слишком жестокие уроки. Однако жить одним расчетом тоже почти невозможно, ибо та же реальность столь же безжалостно демонстрирует бессилие всех расчетов».
|
Метки: обоазование конкуренция |
Правила землепользования как конституционный фундамент |
К статье Владимира Пастухова "Конституционная реформа".
Здравствуйте Владимир Борисович. Прочитала вашу статью и решила поразмышлять вместе с Вами по поводу рассматриваемой Вами темы. Вы абсолютно правы, показывая процесс деградации европейского конституционализма в условиях российского государства и замены любых видов субкультур субкультурой криминальной, правовых отношений отношениями, принятыми в криминальной среде. Однако не могу согласиться, что выход – это переписывание Конституции. Так же, как не вижу смысла в митинговых шоу – они в нашей ложью разъеденной стране носят столь же декоративный характер, как и все конституционные инструменты, которые эффективно действуют в правовом государстве.
Откуда такой безнравственный итог функционирования конституционного поля в России, Вы в своей статье показали, но позволю себе привести один пример. Кирилл Рогов в «Новой газете» (№12 от 06.02.2012) сравнивает сегодняшние митинговые требования чистых выборов с покупкой куска мяса в магазине, когда покупатель, оплатив установленную цену в 400 рублей, не может получить сдачу со своей кровной 1000 рублей. С него требуют доказательство, что эта тысяча у него была, пытаются предложить дополнительные услуги (например, лучшее освещение магазина) или договорится о присвоении более высокого качества уже купленному куску мяса или, просто, о более высокой его цене.
На первый взгляд так и хочется сказать: политика потому и не называется торговлей, а торговля политикой, потому что это разные формы (уровни, методы) отношений. С другой стороны – не такая уж невероятная в условиях сложившегося у нас в стране экономического климата ситуация. И почему бы и не представить себе, что цену (тарифы) в магазине установили сверху (по вертикали с государственного уровня) через систему трестов – главков – департаментов, как чаще всего и поступают со всякими тарифами. И эта цена не покрывает затрат на качественную продукцию, тот же ремонт и переделку помещений (по требованию опять же государственных надзорных органов). Что остается делать продавцу (директору) частного магазина. Только всеми силами доказывать, что «…это не я, и лошадь не моя», и любыми путями отобрать эти деньги у кого-то другого, в данном случае, у потребителя.
Вот так, на любом уровне отношения, будь то простые отношения между покупателем и продавцом, или сложные, которые должны формироваться между обществом и властью, подчиняются экономике, и если в ней отсутствует логика обоснований, то рано или поздно возникнет конфликт. Сейчас уже на всех уровнях и со способами решения, все больше уголовно-криминальными.
Наша Конституция, в отличии от европейских образцов, не выросла снизу из правил землепользования и совместного проживания, подкрепленных практикой выстраивания финансово-экономических отношений. К своему дореволюционному опыту земского управления мы не хотим обращаться. Почему-то не восприняли европейский опыт местного самоуправления, хотя Совет Европы проводил для нас специальные программы обучения (в Ярославской области – г. Ростов). Вы не хуже меня знаете, что мы выстроили по вертикали на нижнем уровне и чем это отличается от европейских моделей.
Да, принял Конституционный суд справедливое решение о праве человека на регистрацию его в дачном (?) доме. Но под этим решением ничего нет – пустота. Дачные кооперативы формировались в советское время только для ведения подсобного хозяйства. Размер земельного участка даже не предполагал возможности строительства на нем жилого дома (в свое время был прямой запрет). О новых нормативах (правилах) такого строительства никто не озаботился. Продукты жизнедеятельности теперь в прямом смысле под боком у соседа. В результате - населенного пункта нет, элементарной инфраструктуры (минимальной, хотя бы как для деревни) нет, нет школы, детского сада, поликлиники и много чего другого, что образует более или менее современную среду для жизни. Я не говорю об отдельном конкретном случае, в нем, может, эти вопросы и решались. Но следом потянется тенденция, и встанет вопрос о системе. Поэтому и вся «дачная амнистия» не пошла, для нее нет «конституционного фундамента». В цивилизованных странах это называется планированием и является правовым основанием тех самых гражданско-правовых отношений, о которых Вы пишете. У нас же сфера градостроительства, раздерганная архитекторами, строителями, земельщиками на отдельные составляющие ее части превратилась лишь в бесконечный ряд конфликтов по поводу строящихся или, наоборот, нестроящихся объектов.
Убеждена, начинать решать проблему надо на низовом уровне, уровне местного самоуправления, правил землепользования и совместного проживания. Это единственное, что может снять напряжение, например, в системе ЖКХ (обоснование тарифов), сдвинуть с места вопросы землеустройства и конфликтов в этой области права. Наконец, правильно составленные мобильные генпланы (в зарубежной трактовке «up-doun-up») – это муниципальные информационные системы – открытые, понятные людям и достоверные для более высоких уровней управления.
Я более 20 лет работала в сфере нормативно-правового регулирования застройки и в практике градостроительного планирования в Ярославской области. Статистика сегодня не объективна, она не связана с целями, что обязательно для задач планирования. Поэтому она – плохая «обратная связь» между народом и властью. Надо «опуститься на землю» и решать вопросы частной собственности на нее не как вопросы купли-продажи, а как вопросы ответственности (обязанностей) по отношению к ней. Тогда земля приобретет не цену (как правило дутую), а ценность (реальную). По-другому заработает залоговая система кредитования. А для этого нужны содержательные генеральные планы (не картинки, которые сегодня рисуют для строительства), проекты межевания и правила землепользования к ним. Они по своей сути должны стать правовым началом процесса наполнения того, что сегодня еще не заработало в Российской Конституции.
|
Метки: гражданственность гражданско-правовые нормы и правила правила землепользования конституционный фундамент |
Остановите модернизацию |
Вообще не бежать, не хватать, не торопиться даже одному человеку (индивиду) крайне сложно научиться (но поверьте - очень полезно и, главное, продуктивно; начинаешь везде успевать) . К сожалению с человеком это происходит вынужденно только в старости, когда уже просто не остается сил на "очень хочется". Что уж говорить об общей мировой тенденции - вперед к развитию экономики! И никто не отдает себе отчета - куда? К еще большим самолетам, небоскребам и мегаполисам? Недаром люди все больше и больше погружаются в стрессы и страхи. И конечно задумываются, особенно в такой стране, как Китай. Ведь конфуцианство, как идеология и философия, продолжает составлять внутренний костяк этой цивилизации. Кто увидел и понял представление на закрытии пекинской Олимпиады, тот поймет, как эта общность двигается к своей внутренней органике, к осознанию бесконечности жизни и ее главных принципов – равновесия и гармонии.
Да, мир будет совсем не таким, как его рисуют сегодня в "ящике" разные эксперты - специалисты. Он будет либо последствием катастроф (или какой-нибудь глобальной катастрофы), либо замеченная в статье тенденция получит развитие. И на смену отдельным прогрессивным властителям (король Бутана Джигме Сингье Вангчук, который сказал: «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта») придет здравый смысл. И нечего гадать, надо начинать с общей стратегии и переводить вектор экономической системы на всех ее уровнях с количества на качество.
Например, эксперты ООН "Хабитат" давно призывают изменить отношение к земле (вполне конкретное правовое действие), как к объекту права на отношение, как к субъекту права. Я не претендую на знание, но предполагаю, что точкой роста должно стать местное самоуправление и градостроительное право (земля), как, например, во Франции. Вам нравится среда, в которой там живут люди? А нам надоело жить в спальных блок-секционных резервациях без дорог, дворов и в помойках. И без права что-нибудь изменить даже не в общей системе, а в собственном доме или городе. Потому что кто-то гонится за количеством (власти, денег, вещей) и макроэкономическими показателями в масштабах всей страны.
|
Метки: экономическое развитие больше не значит лучше новая стратегия развития - право |
От земельного права к публичной политике |
Я градостроитель и городскими системами занималась профессионально. И сегодня, я окончательно пришла к выводу, что все исследования, анализы и рассуждения на тему общества, общественности и публичности лишены гравитации, а точнее привязки к земле. (Кстати, в организованной «Новой газетой» рубрике ближе всех к моим выводам оказалась статья «От общего места к общему делу».)
В советское время о частной собственности на землю и речи быть не могло, но именно жители районов частной застройки сохраняли традиционный уклад жизни и формы самоуправления, например, такие как махалля в Средней Азии (я там проработала в градостроительной науке более десяти лет). Да и в России, насколько я смогла понять за двадцать лет наблюдений, жители такой застройки даже после переселения в новые блок-секционные микрорайоны еще долго сохраняли дух и форму соседских общностей. Которые в исторических районах, например, г.Ярославля (пос. Норское) совпадали по границам с территориями достаточно коротко существовавших земств.
Да, да. Не удивляйтесь. Очень долго (в масштабах человеческой жизни) исторические города сохраняли еще дореволюционную планировочную структуру и собственно характер землевладений. Этому немало способствовало и то, что советская власть считала экономически невыгодным заниматься сносом старой застройки и, начиная с 60х годов, активно застраивала пригородные сельхозземли. Архитекторы очень хорошо знают, как такое невнимание к историческим центрам привело к 80м годам к их физической деградации, с одной стороны. Но позволило сохранить их как памятники истории и культуры, с другой.
Социологи, которые работали в советской архитектурной науке, уже в 70х годах били тревогу по поводу социума в новой блок-секционной застройке. В этой массово-безликой среде, в советские годы создаваемой по единому госзаказу, плохо формируются соседские связи, возникают условия для конфликта интересов по принципам той самой коммуналки (цветники, машины, собаки), очень ограничены возможности для молодежного общения и, как следствие, неизбежна деградация личности. Этому способствует плохо организованная пространственная дифференциация. По сути мы имеем только два пространства: индивидуальное – квартира и общее междомовое, которое должно совмещать в себе абсолютно все придомовые функции, но по сути остается только транзитным пространством – путем в свою квартиру.
И что очень важно для той темы, обсуждение которой ведет «Новая газета» (от 21.03, 4.04, 18.04.2011), так это то, что сегодня уже можно сказать и по-другому: мы имеем дело с крайне неэффективным использованием земель. Благоустройство междомовых территорий, которые к тому же плохо выполняют необходимые бытовые и рекреационные функции, в общегородских объемах сегодня легло непосильным финансовым бременем на экономику городов (кстати – один из побудительных мотивов, так называемой уплотнительной застройки). И пока без всяких обнадеживающих перспектив на экономическое чудо.
Переход к рыночной экономике, возникновение частной собственности на землю должно было изменить многое в вопросах градостроительства, землепользования и формирования земельного права и земельных отношений. Не место в этой статье писать почему, но этого не произошло. Более того, стало еще хуже, так как ущербная земельная политика, возврат к старым системам градостроительного планирования в их самой усеченной по задачам, «куцей» форме, абсолютно корявая реформа ЖКХ практически не оставляют надежд на изменение вектора деградации. Но пока еще оставляют надежду на то, что вы все называете общим делом.
Вы знаете что такое «публичный сервитут»? Действенный правовой механизм в странах с развитой системой права. Понятие, кстати записанное в Земельном кодексе, но абсолютно не используемое в нашей российской практике земельных отношений. А ведь действие таких правовых механизмов - это один из наивысших критериев соединения (или совпадения) общественных интересов. Во Франции я была потрясена открытием, что кондоминиум – это объект недвижимости, сформированный почти всегда на основе каких-то общих интересов. Например, поселок цветоводов из десятка домов с общим двором – потрясающим цветником. Аналогии с нашими садово-огородными кооперативами не пройдут, так как их возникновение имело совсем другие побудительные мотивы, и так же, как в ситуации с массовой жилой застройкой, сегодня это огромная, по масштабам страны, застывшая проблема, никакими усредненными нормами и правилами не решаемая. (Когда летишь над Францией, то внизу видишь компактные, аккуратные поселения и очень много ухоженной, благоустроенной природы. Когда подлетаешь к Москве, то земля вокруг нее утыкана садово-огородными трущебами - как курицами закакана.) Хотя место для системных решений все же пока еще есть.
Развитие ситуации с реформой ЖКХ все-таки дает надежду на формирование новых общественных групп. Не в воздухе на основе неких «общих слов и их понимания», хотя это тоже важно. А на основе общего дела на общей территории. Не просто на земельном участке (сегодня, благодаря земельщикам его трактуют как участок почвы под домом), а именно на территории, которая у каждого дома (комплекса, квартала, поселка) должна быть своя. Очень важно, что к принудительным ТСЖ, которые откровенно не состоялись, теперь добавляются советы домов (аналоги прежних КОС – комитетов самоуправления). Но все опять «выйдет пуком», если не будет привязано к территориям, определяемым если не по общим интересам-хобби, то хотя бы по общим жизненно необходимым целям. Сейчас пока те немногие граждане, которые поверили в реформу ЖКХ, борются с гнилыми трубами, а также поставщиками коммунальных услуг и городскими властями, которые пытаются проблемы со старыми и неэффективными сетями переложить на плечи населения. И это бесперспективно, потому что не решает общих проблем.
Проекты межевания (градостроительный кодекс) – вот, что сегодня нужно делать по всей стране одновременно с формированием систем ЖКХ. (Земельщики не знают что это такое.) Таким образом формировать почву для общих интересов в общем деле. Тогда может быть появится и общественная инициатива по изменению среды и качества жизни, ответственность власти за это перед населением, а со временем и публичная политика. Для этого сначала надо «встать на землю» и сформировать уровень земельных отношений (земельное право), что гораздо выше, чем просто отношения в коммунальной квартире.
[quote]
|
Метки: общественные интересы земельное право публичный сервитут |
градостроительство и правовая пустота |
Кто-нибудь всерьез задумывался, почему градостроительная политика называется политикой? За последние 10 лет, пожалуй, только в Москве не побоялись открыто называть так сферу деятельности, за которой стоит прожорливая строительная отрасль. Да и то, потому что в погоне за деньгами потеряли политическое чутье и «выпятили» на всеобщее обсуждение Генеральный план города, который и призван был, по мнению заказчиков, эти коммерческие интересы законодательно декорировать.
В других городах, где денег на строительство неизмеримо меньше, и они «падают», в основном, из верхних бюджетов, генеральные планы разрабатываются и утверждаются исключительно в тиши кабинетов. Потому что – политика. Политика, как отражение «общественных интересов», выраженных прибылями строительных монополий, интересами узкого круга представителей власти и амбициями отдельных представителей, так называемой, городской общественности.
Пресловутые нулевые годы принесли в нашу жизнь очень много из советского времени. Но не секрет, что история имеет обыкновение повторяться как фарс. И советская система планирования развития городов, взятая на вооружение нашими капиталистами от строительства, не исключение. А вернее начало всех проблем. Ведь нехватка детских садов и школ, транспортные и коммунальные проблемы только «маскируются» некими внешними причинами. На самом деле, это полное отсутствие градостроительного планирования, которое в советской системе Госплана лежало в основе экономики любой территории – области, района или города. Без действующего Генплана города невозможно было ни сформировать его бюджет, ни получить средства на текущие расходы.
Другое дело, что даже в старой системе планирования, где источник финансирования был только один – государство, генпланы, как физические планы строительства отдельных объектов не поспевали за временем. Об этом писали специалисты-градостроители 80х. Но в городах – крупных, средних и части малых, были все-таки созданы коммунальные системы, на которых до сегодняшнего дня, спасибо, они еще пока выживают. А вместе с ними и все постсоветские власти.
Рыночные отношения более динамичные во времени должны были в принципе изменить систему градостроительного планирования. У нас даже литература по рыночным формам градостроительного планирования в развитых западных странах была издана на русском языке (о коих наши макроэкономисты по-видимому не знают). И в 90х годах что-то подобное начиналось. С земельной реформой и кадастром, с заменой старой нормативной базы проектирования и строительства на систему технического регулирования, с формированием частной собственности на недвижимость и новых принципов организации финансирования и строительства автотранспортных систем. А потом все это стало политикой, так как «общественные интересы», закрепленные в нормах права – неизбежная сторона рыночной экономики, предполагающей свободу выбора. И гражданские права – это не только право на митинги, но, в первую очередь, право на качественную среду обитания: воду, свет, тепло, чистоту. Однако для кого-то все это оказалось слишком сложно, а для кого-то просто выгодно, чтобы осталось лишь игрой в правильные слова.
В конце 80х годов в одном из номеров журнала «Огонек» было опубликовано письмо за подписью «Бюрократ». Среди прочих аргументов в пользу живучести этого класса, его представитель писал: «Нам не нужно, чтобы экономика умерла. Но нам и не нужно, чтобы она выздоровела. Нам нужно, что бы она лежала на смертном одре, а мы бы суетились вокруг нее в чистых белых халатах». Или еще: «Вы, демократы, выписываете экономике рецепты, а мы даем ей лекарства в строго нам необходимых дозах». Вот и все.
И если в советское время в Москве в Госстрое СССР и в центральных архитектурно-градостроительных НИИ сидели, в основном, «ученые тетки», формирующие для всей огромной страны единые СНиПы, то все-таки они учитывали материалы исследований целой системы региональных научно-исследовательских и проектных институтов, отражающих специфику очень разных ее территорий. Поэтому типология жилья, типология застройки и ее плотность непременно отражались на экономической эффективности предложений по застройке и функционированию территорий города, которые ложились в основу его Генерального плана - зонирования, транспортных и инженерных систем. Теперь такой науки нет. НИИ – лишь площади, которые кто-то сдает в аренду. И мы с удивлением узнаем что, оказывается, в Москве плотность уличной сети мала по сравнению с другими мегаполисами (или, может быть, плотность застройки велика?). А во многих средних и малых городах только еще выжившие старые специалисты знают, где лежат иные трубы, и иногда разрывы ищут «методом тыка» по нескольку дней.
В советское время, когда отсутствовали институты частной собственности, не так нужны были вопросы права, с ней связанные. Однако генплан города с его зонированием был законодательным документом. И были архитекторы и инженеры, которые, обладая пространственным видением, занимались не фасадами и башнями, а организацией городской среды. Именно пространственное чутье позволяло им находить оптимальные объемно-пространственные решения для сложных социально-экономических задач. Мир знает немало архитекторов, которые проектировали целые города (тот же Ле Корбюзье или небезызвестный у нас теперь Норманн Фостер). Где были наши архитекторы, когда в 90х вместе с водой советского планирования выплескивали ребенка – планы землепользования и застройки (генпланы) как основу «общественного договора»? Что, разве непонятно, что «план» - это не только перечень мероприятий с деньгами, но и иллюстрация (в виде схемы или чертежа) результата этих мероприятий, который должен быть получен к определенному сроку? Может именно этот результат больше всего и не нужен вышеупомянутому Бюрократу?
В градостроительстве сегодня провален правовой блок – землеустройство. Потому что фиксирование на бумаге существующих заборов – это не земельное право, которое призвано устанавливать отношения (правила) жизнедеятельности в среде. Без установления границ в зависимости от типа застройки (площади участков, разрывы, линии регулирования и т.д.), без сервитутов (частных и публичных), без обременений и ограничений прав собственности на объект недвижимости – это изоляционизм, вырывание объекта из среды, «замыливание» отношений и начало всеобщего конфликта. Все сегодняшние проблемы поселений (в том числе и дачных поселков) это отсутствие регулирования застройки. Общие территории должны фиксироваться не по понятиям («как договоримся»), а по закону, тогда их никто просто так не скупит.
В немецком законе «О стимулировании жилищного строительства» прописано, что является собственной квартирой - «квартира, находящаяся в собственности физического лица с обязательной долевой собственностью на землю». Были бы у нас случаи потерь своих квартир в престижных центральных районах городов, если бы у нас действовала такая норма, и дома не были бы оторваны от того, на чем стоят, от земли? Выросла бы у нас проблема дольщиков, если бы объектом собственности признавался единый объект недвижимости?
Вопросы права, не учитывающие в законодательстве типологию, например, жилья, превратили нашу рыночную систему в настоящий «волчий капитализм». Меняем кусок общего стояка в своей приватизированной квартире и никого не пускаем в свою частную собственность, когда пришло время ремонтировать весь стояк в доме. Теперь уже договорились до того, что водопроводные и канализационные стояки в многоэтажном доме не являются общедомовым имуществом, и в передаче 5 канала «Открытая студия»
г-н Починок абсолютно уверенно заявляет, что для того, чтобы установить в квартире счетчики на воду, ее собственник должен самостоятельно переделать участок общего стояка (!?).
В развитых системах права основой отношения к недвижимости является та же физическая система координат – трехмерное пространство и фактор времени. Поэтому специалисту-проектировщику в страшном сне не приснится в многоквартирном доме стояк, например, отопления, составленный из отдельных кусков и разных материалов. А фактор времени в системах права стран Западной Европы никому не позволит просто так в любое время навешивать собственнику объекта недвижимости новые обременения – ту же установку счетчика и принудительную замену труб. Потому что действует более общая правовая норма – изменение условий владения, распоряжения и пользования можно менять только в момент смены собственника.
И уж тем более никто не разобрался, насколько эффективна сама система, например, центрального отопления. Ведь решения принимались в абсолютно другой экономической реальности, когда строительство и содержание сетей финансировалось из одного государственного кармана. И теперь эти старые на десятки километров растянутые сети должно содержать население и безо всяких альтернатив (?!).
Что касается генеральных планов, то в Градостроительном и Земельном кодексах заявлено «правовое зонирование» территорий или, например, «проекты межевания», что крайне важно для определения границ прав и ответственности (частных и общественных) на территориях (землях). Только вместо них в любом новом генеральном плане города – содержательная пустота при большом количестве бумаг, общих слов и деклараций. Поэтому во всех городах до сих пор, например, существуют целые улицы, которые физически не обслуживаются десятки лет, а в микрорайонах «торчат » в окружении замусоренных пустырей поставленные «точечным» образом дома в эксклюзивных заборах. Зато слова про «генеральный план» теперь, после заявлений нового мэра Москвы говорят тоже очень правильные и гладкие. Только нет общего понимания, что должно стоять за этими словами, как они должны формировать правое поле, и как в блок-секционной застройке проводить заявленное обязательным межевание земель? Так же как в частной застройке без проектов межевания? Жаль заборов маловато!
С 1992 года (начало земельной реформы) денег на кадастры, оценки, инвентаризации и прочие операции потрачено немерено. И конечно, если инвестор вкладывает деньги в земельный участок, на котором оказывается скотомогильник - это правовой скандал, о котором скоро можно и забыть. Но если информацию об условиях использования земельного участка надо собирать годами, за большие деньги и без всяких гарантий на положительный результат – это уже неблагоприятный инвестиционный климат в стране.
Во Франции реформа местного самоуправления началась в 1983 году и до сегодняшнего дня не завершена. То есть не все территории низшего административного уровня получили, например, полномочия по распоряжению земельными участками для строительства. Для этого они должны разработать определенную градостроительную (планировочную) документацию по строго определенной (!), утвержденной на государственном уровне (!) методике. Для контроля со стороны государства за соблюдением на местах общественных интересов и гражданских прав. Это и есть государственная стратегия в вопросах градостроительства или государственная градостроительная политика. У нас никаких, тем более новых, нацеленных на рыночные условия методик нет. А есть бесконечные, разрастающиеся конфликты между гражданами, бизнесом, властью и обществом во всех вопросах, связанных с организацией территорий, городской среды и жизни в ней. Неужели это и есть наша государственная градостроительная политика?
Хорошо бы вспомнить одну из заповедей: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея.
Tags:
градостроительство, правовое зонирование, проекты межевания
|
Метки: градостроительство правовое зонирование проекты межевания |
О нормативно-правовой базе и технических регламентах |
Очень удивляет такая короткая память у системы управления. Может быть, сказывается обще-политическая линия, которую проповедуют наши макро-экономисты с примитивным бухгалтерским подходом? А может быть, просто действует принцип пены, когда все отжившее должно исчезнуть, испариться с поверхности, и не важно кто и какими средствами это сделает.
В конце 80х годов мы с моими коллегами из регионального научно-исследовательского института, работающего на территории Средней Азии, привезли в Москву работу, выполненную по заказу Госстроя России. Многолетняя практика разработки и составления СНиПов в Советском Союзе была выстроена и осуществлялась следующим образом. Региональные подразделения Госстроя выполняли комплексные исследования по единым заданиям на территориях разных регионов. Затем работы принимались в Москве и их обрабатывали и объединяли в центральных институтах, специализирующихся: по жилью, общественно-бытовым, медицинским и образовательным объектам, культурно-зрелищным зданиям и по градостроительству.
К исходу 80х общая атмосфера в стране уже способствовала малопривычной для науки смелости и открытости, и мы молодые ученые не побоялись представить нашим заказчикам исследование, которое на практических примерах доказывало, что действующая система нормативов, построенная на наборе пусть и гибких, но цифровых показателей, пришла в тупик. Дойдя до детализации типа ориентации здания по сторонам света в зависимости от высоты стояния солнца, она перестала быть неким универсальным инструментом проектирования, а стала просто информационной системой для индивидуальной разработки проектов и учета в каждом конкретном случае конкретных условий.
На удивление наши заказчики – специалисты Госстороя, сначала возмутившись жесткости наших выводов и оценок, весьма благосклонно приняли нашу работу. Она даже впоследствии получила какую-то премию на ежегодном всесоюзном конкурсе научных работ системы Госстроя. Оказалось, что наши выводы о переходе на более гибкую систему представления нормативов, которую мы тогда назвали нормативной теорией, показались кому-то интересными или просто шагали в ногу со временем.
С приходом капитализма в нашу страну нам планировщикам стало ясно, что наша нормативная теория как нельзя ближе всего соответствует многообразию явлений, типов и объектов, которое следует за демократическими преобразованиями и политическими свободами. Более того, изучая опыт градостроительного и регионального планирования стран Европы, мы стали понимать, что новому праву (в первую очередь земельному) соответствуют и новые экономические модели управления. И наоборот новым принципам экономической организации хозяйства должна соответствовать и развитая система права, которая способна защищать собственность и инвестиции в недвижимость.
Позже, бывая за границей, изучая опыт градостроительного планирования стран Европы и конкретно Германии и Франции, я поняла, как должно измениться содержание генерального плана города в условиях, которые диктует динамика и мобильность рыночной экономики. И конечно же отчаянно приветствовала Закон «О техническом регулировании в Российской Федерации», который зафиксировал, что прежняя нормативная база (в том числе проектирования и строительства) не вправе выступать аргументацией в судебных спорах. Для меня стало ясно, что должна последовать разработка системы технических регламентов, максимально привязанных через генеральные планы, проекты планировок и проекты межевания к местным условиям.
Вместо этого наши разработчики продолжили уточнять и детализировать уже устаревшую, советскую нормативную базу для строительства в ее самом неприемлемом варианте.
Например, ну как может действовать нормирование по высоте изгородей между участками для дачных и садово-огородных кооперативов. Один метр и шестьдесят сантиметров, и на это на всю страну. Где и при каких условиях будут выполнять это требование? Кто будет контролировать его выполнение? Какие судебные приставы?
Вот если такое требование записано в правилах застройки и землепользования того же дачного кооператива, и человек, покупая дом или земельный участок для строительства принял это обременение, то да, в суде он однозначно проиграет, если не выполнит это условие.
Другая крайность в такой системе неизбежна - расплывчатость. Например, требование технических регламентов к ресторанам – изысканность блюд. При этом нигде и никак не прописано такое понятие, как изысканность. Подобные нормативы выполняться не будут.
И выиграют те люди или группы людей, которые, пригласив хорошего планировщика, вместо мертвых нормативов составят и применят подробные правила (корень – прав, право) застройки. И тогда вместо частных споров и конфликтов на конкретной территории все-таки будут действовать «правила игры».
|
Метки: нормативы технические регламенты правовые нормы |
Дневник helen_gardarika |
|
|
| Страницы: [1] Календарь |