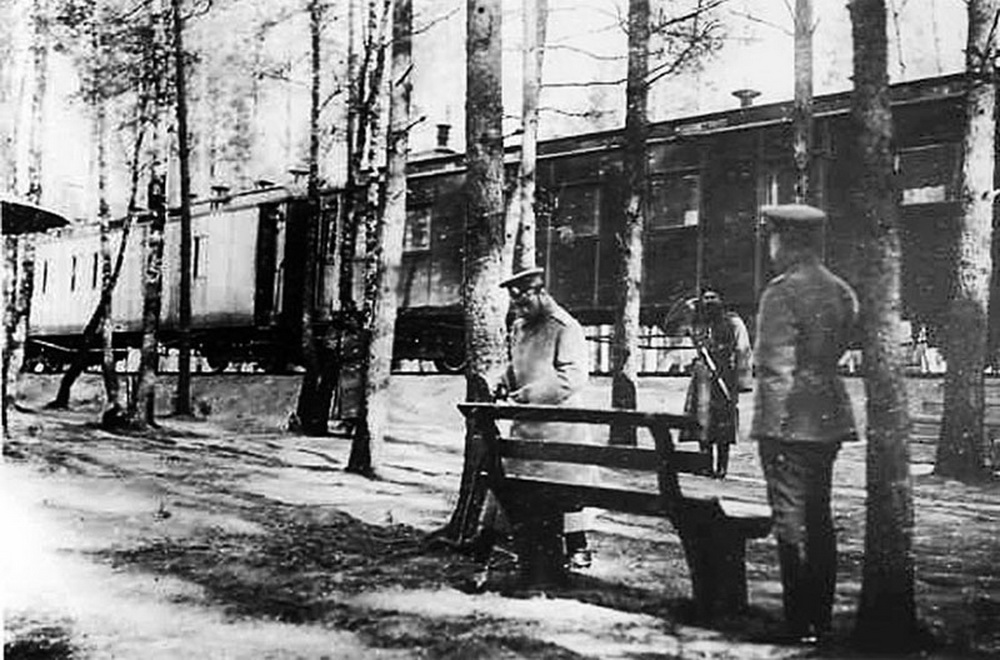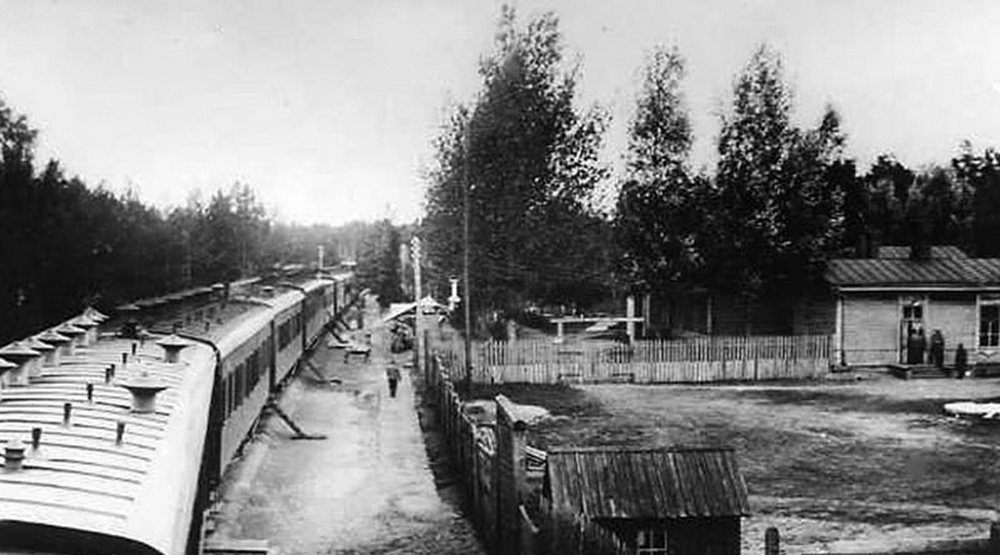«аписи с меткой перва€ мирова€ война
(и еще 4943 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
август 1991г алла пугачЄва анастаси€ волочкова анатолий собчак анатолий чубайс артЄм боровик артефакт борис ельцин борис немцов владимир путин геннадий зюганов горбачЄв елена батурина ельцин ельцин-центр ельцины истори€ истори€ ———– кгб ксени€ собчак масонство мир животных михаил горбачЄв мой бизнес мо€ де€тельность олигархи перва€ мирова€ война перестройка политика прикольно путин росси€ рпц сажи умалатова сергей глазьев сергей шойгу скандалы современна€ росси€ сорос ссср страницы истории сша трубецкие чечн€ чп шоу-бизнес это интересно юрий лужков юрий андропов € -госчиновник
ћ. ¬. јлексеев в годы ѕервой мировой |
ƒневник |
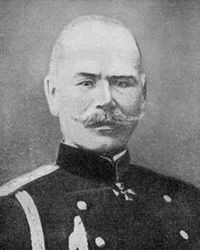
ћ. ¬. јлексеев в годы ѕервой мировой. ч. 2
ћ.¬. јлексеев в начале ѕервой мировой.
—праведливости ради надо отметить, что войска ћосковского гарнизона “ќ√ƒј (ещЄ до мировой войны) имели репутацию «распущенных», а XIII армейский корпус, который јлексеев два года готовил к войне, показал крайне низкую боеспособность и дисциплину в ходе вторжени€ 2-й јрмии генерала —амсонова в ¬осточную ѕруссию в августе 1914 года.
омандовал XIII арм. корпусом уже не јлексеев, генерал люев, получивший это назначение после объ€влени€ войны, ¬ ’ќƒ≈ мобилизации.
»звестный русский историк ј. ерсновский так писал об этом:
«XIII корпус выступил в поход без командира: генерал јлексеев был назначен на ёго-«ападный фронт, и генерал люев, вызванный с турецкой границы, где он командовал I авказским корпусом, нагнал незнакомые ему войска уже в Ѕелостоке. ѕо своему составу XIII корпус, на две трети состо€вший из запасных, должен был считатьс€ второочередным. ѕрибыв в свой корпус уже на походе, генерал люев мог сравнить эти шедшие без воодушевлени€ войска с великолепными полками 20-й и 39-й дивизий, только что им оставленными.
” солдат он нашел «славные русские лица», но не встретил воинского облика («переодетые мужики»).
ѕоходное движение напоминало «шествие богомольцев».
¬о всем этом виноваты предшественники генерала люева (последний из них — генерал јлексеев). XIII корпус не пользовалс€ хорошей репутацией и считалс€, подобно ћосковскому гарнизону, распущенным».
Ќе удивительно, что в ходе печальной пам€ти самсоновского похода в ¬осточную ѕруссию, корпус люева быстро потер€л боеспособность и был разгромлен немцами наголову.
«—уд€ по немецким источникам, генерал люев сдалс€, име€ около себ€ до 20.000 человек и многочисленную артиллерию. ѕравда, среди этих 20.000 больша€ часть была нестроевых, среди строевых же большой процент был раненых, но снар€ды в передках были. ѕо словам одного из очевидцев ген. люев приказал остановить бой и подн€ть белый флаг с теми же словами, с которыми почти в эту минуту подходил у Ќейденбурга офицер I-го германского корпуса к ген. ћартосу: "во избежание напрасного кровопролити€", писал наш историк Ќ. √оловин.
—овременный подсчет сил показывает, что остатки корпуса люева сдались очень немногочисленным немецким силам (немцы имели там 6-7 батальонов пехоты, при 7-8 батаре€х артиллерии), тогда как у люева было более 20 артбатарей с достаточным боезапасом и огромное превосходство в живой силе. Ќо ¬—® –≈Ў»Ћ ƒ”’ ¬ќ…— . Ќемцы – были на подъЄме и желали дратьс€ и побеждать, а русские войска были (в своЄм большинстве) морально, физически и психологически сломлены.
ќтметим, что XIII корпус сдалс€ почти весь. Ќемногочисленные прорвавшиес€ к своим подразделени€ и команды, принадлежали к другим (XV и XXIII) окружЄнным армейским корпусам 2-й јрмии —амсонова...
Ќадо бы вспомнить, „“ќ представл€л из себ€ русский армейский корпус образца августа 1914 года. Ёто была ќ√–ќћЌјя сила.
“ак, XIII-й армейский корпус генерала люева состо€л из следующих соединений и частей:
- 2-х пехотных дивизий. ажда€ дивизи€ имела 2 пехотные бригады, а кажда€ бригада состо€ла из 2-х пехотных полков. Ўтат полка насчитывал тогда около 4 тыс€чи штыков.
“аким образом, в корпусе люева было 4 бригады, в составе 8 полков. ѕолки XIII арм. корпуса насчитывали по 3,5 батальона, значит - 14 пехотных рот имел каждый полк. ѕлюс к этому – полкова€ пулемЄтна€ команда (8 «ћаксимов»), тыловые подразделени€ и обоз. (Ќадо сказать, что корпус люева был «средним», по штатной численности, во 2-й русской јрмии генерала —амсонова. ƒл€ сравнени€, полки I-го арм. корпуса (ген. јртамонова) имели по 16 пехотных рот).
- XIII арм. корпус также имел 2 артбригады (по 48 лЄгких орудий) один мортирный артдивизион ( 12 гаубиц) и 4 эскадрона ѕограничной стражи, в качестве кавалерии, авиаотр€д.
¬—≈√ќ в корпусе было:
28 батальонов;
64 пулемЄта;
4 эскадрона;
96 лЄгких оруди€;
12 гаубиц;
12 самолЄтов.
Ѕолее 40 тыс€ч человек было под командой генерала люева.
“ј ќ… сильный численный состав наша арми€ не часто имела. –усские ѕќЋ » в начале ѕервой мировой имели штатный состав пор€дка 4-х тыс€ч человек, а наши советские ƒ»¬»«»», например, в 1945 году – нередко насчитывали по 2-3 тыс€чи человек и это было нормальным €влением...
сожалению, распор€дились огромными силами кадровой русской армии 1914 года царские полководцы из рук вон плохо...
“от же ј. ерсновский не снимал вины за разгром и пленение XIII корпуса и с его нового командира:
«√енерал люев по справедливости считалс€ блест€щим офицером √енерального Ўтаба и выдающимс€ знатоком германского противника. ≈го насто€щим местом был бы пост начальника штаба —еверо-западного фронта. ¬ июле 1914 года он командовал авказским корпусом в арсе и был вызван по телеграфу в —моленск дл€ прин€ти€ XIII корпуса, командир коего, генерал јлексеев, был назначен начальником штаба ёго-западного фронта. —вой корпус он нашел уже в пути. Ќи начальников, ни войск он не знал, управление корпусом обратилось дл€ него в решение уравнени€ со многими неизвестными.
—ильно распущенный предшественниками генерала люева, корпус вообще не пользовалс€ хорошей репутацией. ћобилизаци€ окончательно расстроила его, лишив половины и без того слабых кадров и разбив на три четверти запасными. ѕо своим качествам это были второочередные войска - не вт€нутые и неподт€нутые. ¬ недельный срок ни люев, ни —кобелев не смогли бы их устроить. ¬с€ т€жесть боев 2-й армии легла на превосходный XV корпус генерала ћартоса. XIII корпус, до самой гибели не имевший серьезных столкновений, пришел с начала похода в полное расстройство. √енерал люев - только жертва своего предшественника. ќн оказалс€ в положении дуэл€нта, получающего у самого барьера из рук секундантов уже зар€женный ими и совершенно ему незнакомый пистолет. ѕроверить правильность зар€дки он не может, бой пистолета ему совершенно неизвестен...
ѕодобно Ќебогатову, он сдалс€ “во избежание напрасного кровопролити€”, не сознава€, что €д, который он таким образом ввел в организм јрмии, гораздо опаснее кровотечени€, что это “избежание кровопролити€” чревато в будущем кровопролити€ми еще большими, что јрмии, ‘лоту и –одине легче перенести гибель в честном бою корпуса либо эскадры, чем их сдачи врагу». ( ерсновский ј. «‘илософи€ войны»).
“ак вот, ѕ–≈ƒЎ≈—“¬≈ЌЌ» ќћ люева на должности командира XIII корпуса как раз и был генерал ћ.¬. јлексеев, сыгравший, впоследствии, такую роковую роль в организации отречени€ Ќикола€ ¬торого.
ћихаил ¬асильевич јлексеев в начале ѕервой мировой был назначен начальником штаба ёго-«ападного фронта и отличилс€ в начале ѕервой мировой войны. ќн заслуженно считалс€ одним из творцов, удачной дл€ нас, √алицийской операции 1914 года (против австро-венгерских войск).
ќсенью 1915 года, после р€да оглушительных летних поражений, последовавших после √орлицкого прорыва ћакензена, во главе русской армии стал сам Ќиколай ¬торой.
ќ том, что этому предшествовало, написал жандармский генерал ј.». —пиридович в своей книге «¬елика€ ¬ойна и ‘евральска€ –еволюци€ 1914-1917 годов».
ќн оставил очень интересные воспоминани€ об этих трагических событи€х и роли јлексеева в них.
«¬ половине июл€ немцы перешли ¬ислу. 22 мы оставили ¬аршаву, а 23 »вангород. Ќачались атаки ќсовца. √енерал јлексеев окончательно растер€лс€. ≈го паническое настроение настолько развращающе действовало на окружающих, что у штабных офицеров возникла мысль убить генерала јлексеева ради спасени€ фронта. ¬еликому н€зю јндрею ¬ладимировичу пришлось долго убеждать офицеров не делать этого, дабы не вносить еще больше беспор€дка.
4 августа пала крепость овно. омендант бежал. —дача овно подн€ла слухи об измене. —тавка так сама приучила к тому, что вс€кую ее неудачу объ€сн€ли какой-нибудь изменой, чего на самом деле не было, что и теперь этой новой сплетне верили.
6 августа сдалс€ Ќовогеоргиевск. ¬ этот день ѕоливанов за€вил в —овете министров: - "¬оенные услови€ ухудшились и усложнились. ¬ слагающейс€ обстановке на фронте и в армейских тылах можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. јрми€ уже не отступает, а попросту бежит. —тавка окончательно потер€ла голову..."
¬незапное и необъ€снимое падение сильнейших русских крепостей овно и Ќовогеоргиевска буквально потр€сло тогда всю страну и —тавку. ѕротопресвитер русской армии √ Ўавельский записал в своем дневнике:
«7 августа, — между 10 и 11 часами утра ко мне в купе быстро вошел великий кн€зь ѕетр Ќиколаевич.
— Ѕрат вас зовет, — тревожно сказал он. ”же то, что не адъютант или камердинер, а сам великий кн€зь пришел за мной, свидетельствовало о чЄм-то особенном. я тотчас пошел за ним. ћы вошли в спальню великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича.
¬еликий кн€зь полулежал на кровати, спустивши ноги на пол, а голову уткнувши в подушки, и весь вздрагивал. ”слышавши мои слова:
— ¬аше высочество, что с вами?
ќн подн€л голову. ѕо лицу его текли слезы.
— Ѕатюшка, ужас! — воскликнул он. — овно отдано без бою... омендант бросил крепость и куда-то уехал... крепостные войска бежали... арми€ отступает...
ѕри таком положении, что можно дальше сделать?!.. ”жас, ужас!..
» слезы еще сильнее полились у него. ” мен€ самого закружилось в голове и задрожали ноги, но, собрав все силы и стара€сь казатьс€ спокойным, € почти крикнул на великого кн€з€.
— ¬аше высочество, вы не смеете так держать себ€! ≈сли вы, ¬ерховный, упадете духом, что же будет с прочими? ѕотер€ овны еще не проигрыш всего. Ќадо крепитьс€, мужатьс€ и верить... в Ѕога верить, а не падать духом.
¬еликий кн€зь вскочил с постели, быстро отер слезы.
— Ётого больше не будет, — уже мужественно сказал он и, обн€в, поцеловал мен€.
завтраку он вышел совершенно бодрым, точно ничего не случилось...»
Ќо на этом беды и потери русской армии лета 1915 года не закончились:
10 августа пал ќсовец. Ёвакуируют Ѕрест-Ћитовск. —тавка ¬ерховного √лавнокомандующего перешла из Ѕарановичей в ћогилев. ѕри отступлении срываетс€ с мест мирное население и гонитс€ внутрь страны.
¬от в такой обстановке во главе русской армии – «де юре» и встал Ќиколай ¬торой.
ќчень подробные и интересные воспоминани€ о том, как это происходило, оставил √. Ўавельский:
«—идевший против мен€ за чайным столом генерал ѕетрово-—оловово всЄ врем€ молчал, упорно, с какой-то скорбью в лице, гл€д€ на мен€. я, наконец, не выдержал его пронизывающего взгл€да и обратилс€ к нему: «„то вы так на мен€ гл€дите?» ќн опустил глаза, а затем через несколько минут, сделав мне знак, чтобы € следовал за ним, встал из-за стола. ћы вышли на обращенный во двор балкон.
— «наете ужасную новость? — спросил мен€ ѕетрово и, не дождавшись ответа, продолжил — великий кн€зь уволен от должности ¬ерховного. янушкевич и ƒанилов тоже будут уволены. √осударь теперь ¬ерховным. √енерал јлексеев будет у него начальником Ўтаба. ѕоливанов поехал к генералу јлексееву.
Ќеожиданность, потр€сающа€ сенсационность сообщени€ совсем ошеломили мен€; у мен€ буквально руки опустились. ћожно было ожидать всего, только не этого. ћало сказать — т€желым, гнетущим, — нет, зловещим представилось мне это событие.
ѕри том мракобесии, которое, опутав жизнь царской семьи, начинало всЄ больше и сильнее расстраивать жизнь народного организма, великий кн€зь казалс€ нам единственной здоровой клеткой, опира€сь на которую этот организм сможет побороть все злокачественные микробы и начать здоровую жизнь. ¬ него верили и на него наде€лись. “еперь же его вывод€т из стро€, в самый разгар борьбы...
» великий кн€зь прот€нул мне собственноручное письмо √осудар€, начинавшеес€ словами: «ƒорогой Ќиколаша».
аждое слово письма тогда, как гвоздь, врезывалось в пам€ть...
√осударь так, приблизительно, писал:
«ƒорогой Ќиколаша! ¬от уже год, что идет война, сопровожда€сь множеством жертв, неудач и несчастий. «а все ошибки € прощаю теб€: один Ѕог без греха. Ќо теперь € решил вз€ть управление армией в свои руки. Ќачальником моего Ўтаба будет генерал јлексеев. “еб€ назначаю на место престарелого графа ¬оронцова-ƒашкова. “ы отправишьс€ на авказ и можешь отдохнуть в Ѕоржоме, а √еоргий (¬еликий кн€зь √еоргий ћихайлович, в то врем€ бывший на авказе дл€ помощи престарелому наместнику.) вернетс€ в —тавку. янушкевич и ƒанилов получат назначени€ после моего прибыти€ в ћогилев. ¬ помощь тебе даю кн€з€ ќрлова, которого ты любишь и ценишь. Ќадеюсь, что он будет дл€ теб€ полезен. ¬ерь, что мо€ любовь к тебе не ослабела и доверие не изменилось. “вой Ќика».
— ¬идите, как мило! — начал великий кн€зь, когда € кончил чтение письма. — √осударь прощает мен€ за грехи, позвол€ет отдохнуть в Ѕоржоме, другими словами — запрещает заехать в мое любимое ѕершино (Ћюбимое имение великого кн€з€ в “ульской губ.) и дает мне в помощь кн€з€ ќрлова, которого € «люблю и ценю». „его еще желать?
...—мена ¬ерховного, которому верила, и которого любила арми€, не могла бы приветствоватьс€ даже и в том случае, если бы его место заступил испытанный в военном деле вождь. √осударь же в военном деле представл€л, по меньшей мере, неизвестную величину: его военные даровани€ и знани€ доселе ни в чем и нигде не про€вл€лись, его общий духовный уклад менее всего был подход€щ дл€ ¬ерховного военачальника.
Ќадежда, что »мператор Ќиколай II вдруг станет Ќаполеоном, была равносильна ожиданию чуда. ¬се понимали, что √осударь и после прин€ти€ на себ€ звани€ ¬ерховного останетс€ тем, чем он доселе был: ¬ерховным ¬ождем армии, но не ¬ерховным √лавнокомандующим; св€щенной эмблемой, но не мозгом и волей армии. ј в таком случае €сно было, что место ¬ерховного, после увольнени€ великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича, останетс€ пустым и занимать его будут начальники Ўтаба и разные ответственные и неответственные советники √осудар€. јрми€, таким образом, тер€ла любимого старого ¬ерховного √лавнокомандующего, не приобрета€ нового...
„то касаетс€ —тавки, то там, после увольнени€ великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича, раздавались, помнитс€, отдельные голоса, опасавшиес€ бунтов в армии из-за увольнени€ великого кн€з€. Ќикаких бунтов, конечно, не произошло. √оречь от смены ¬ерховного в офицерской среде см€гчалась радостью по случаю увольнени€ его помощников в —тавке. я уверен, что никаких эксцессов на фронте не произошло бы, если бы даже остались на своих должност€х генералы янушкевич и ƒанилов: долг безусловного подчинени€ высочайшей воле тогда на фронте еще ничем не был поколеблен.
Ќазначение генерала јлексеева и в —тавке, и на фронте было встречено с восторгом. я думаю, что ни одно им€ не произносилось так часто в —тавке, как им€ генерала јлексеева. огда фронту приходилось плохо, когда долетали до —тавки с фронта жалобы на бесталанность ближайших помощников великого кн€з€, всегда приходилось слышать от разных чинов штаба: «Ёх, «јлешу» бы сюда!» (“ак некоторые в —тавке звали ген. јлексеева.). ¬ —тавке все, кроме разве генерала ƒанилова и полк. ўелокова, понимали, что такое был дл€ ёго-западного фронта генерал јлексеев и кому был об€зан этот фронт своими победами. » теперь, в виду чрезвычайно серьезного положени€ —еверо-западного фронта, все радовались, что этот фронт ввер€етс€ серьезному, осторожному, спокойному и самому способному военачальнику».
Ќи дл€ кого, из знавших реальную ситуацию в —тавке, не было секретом, что Ќј ƒ≈Ћ≈ руководил всеми боевыми действи€ми отнюдь не Ќиколай, а его начальник штаба генерал ћ..¬. јлексеев.
¬от что, например, вспоминал вышеупом€нутый генерал ¬. Ѕорисов (близкий и доверенный сослуживец ћ.¬. јлексеева):
«јлексеев в области оперативной работы отлично знал, что √осударь привык в торжественные минуты воспроизводить заранее установленную и обсужденную тему, а не действовать по импровизации, по вдохновению.
“ак, на совещани€х собираемых в —тавке √лавнокомандующих фронтов, јлексеев всегда просил мен€ подработать заранее, по мере хода совещаний, материал дл€ того резюме-заключени€, которое √осударь, как ¬ерховный √лавнокомандующий произносил в последнем совещании».(!)
ак видим, даже дл€ заключительного слова на самом обычном совещании командующих, ему заранее готовили текст, который он и зачитывал от своего имени.
ѕротопресвитер √. Ўавельский вспоминал:
«√енерал ћ. ¬. јлексеев официально зан€л место начальника Ўтаба, а фактически вступил в ¬ерховное командование в т€желую дл€ армии пору — ее отступлени€ на всем фронте, при огромном истощении ее духовных сил и таком же недостатке и вооружени€, и снар€дов. ѕоложение армии было почти катастрофическим. –€дом прин€тых энергичных и разумных мер ему, однако, удалось достичь того, что, к концу августа, наступление противника было остановлено, а в одном месте наши войска имели даже большой успех, захватив 28 тыс. пленных и много орудий. Ётот успех «патриоты» сейчас же объ€снили подъемом духа в войсках по случаю вступлени€ √осудар€ в ¬ерховное командование.
√енерал јлексеев нес колоссальную работу. ‘актически он был, и ¬ерховным √лавнокомандующим, и начальником Ўтаба, и генерал-квартирмейстером. ѕоследнее не вызывалось никакой необходимостью и объ€сн€лось только привычкой его работать за всех своих подчиненных. роме того, что всЄ оперативное дело лежало на нем одном; кроме того, что он должен был вникать в дела всех других управлений при штабе и давать им окончательное направление, — он должен был еще входить в дела всех министерств, ибо каждое из них в большей или меньшей степени теперь было св€зано с армией.
ѕрибывавшие в —тавку министры часами просиживали у генерала јлексеева за разрешением разных вопросов, пр€мо или косвенно касавшихс€ армии. √енерал јлексеев должен был быть то дипломатом, то финансистом, то специалистом по морскому делу, по вопросам торговли и промышленности, государственного коннозаводства, земледели€, даже по церковным делам и пр. “олько јлексеева могло хватить на всЄ это. ќн отказалс€ на это врем€ не только от личной жизни, но даже и от законного отдыха и сна. ≈го отдыхом было врем€ завтраков и обедов; его прогулкой — хождение в штабную столовую, отсто€вшую в полуверсте от Ўтаба, к завтракам и обедам. » только в одном он не отказывал себе: в аккуратном посещении воскресных и праздничных всенощных и литургий...
¬ домашней жизни, на службе и всюду генерал јлексеев отличалс€ поразительной простотой. Ќикакого величи€, никакой заносчивости, никакой важности. ћы всегда видели перед собой простого, скромного, предупредительного, готового во всем помочь вам человека. Ѕудучи аристократом мысли и духа, он до смерти осталс€ демократом у себ€ дома и вообще в жизни, противником вс€кой помпы, напыщенности, важничань€, которыми так люб€т маскироватьс€ убогие души. ƒело и правда у него были на главном месте, и он всегда бесстрашно подходил к ним, не бо€сь разочарований, огорчений, непри€тностей. ¬ последнем отношении он представл€л полную противоположность »мператору. ѕоследний, как мы видели, не любил выслушивать непри€тные доклады, бо€лс€ горькой правды. √енерал јлексеев стремилс€ узнать правду, какова бы она ни была. огда €, по возвращении с фронта, €вл€лс€ к нему дл€ доклада, он часто обращалс€ ко мне:
— Ќу, о. √еоргий, расскажите, что вы худого заметили на фронте. ќ хорошем и без вас донесут мне. ¬от худое всегда скрывают. ј мне надо прежде всего узнать худое, чтобы его исправить и предупредить худшее.
” генерала јлексеева был один весьма серьезный недостаток. ¬ деле, в работе он всЄ брал на себ€, оставл€€ лишь мелочи своим помощникам. ¬ то врем€, как сам он поэтому надрывалс€ над работой, его помощники почти бездельничали.
√енерал-квартирмейстер был у него не больше, как старший штабной писарь. ћожет быть, именно вследствие этого ћихаил ¬асильевич был слишком неразборчив в выборе себе помощников: не из-за талантов, он брал того, кто ему подвернулс€ под руку, или к кому он привык. “ака€ манера работы и такой способ выбора были безусловными минусами таланта јлексеева, дорого обходившимис€ прежде всего ему самому. ќни сказались и на выборе генералом јлексеевым себе помощников дл€ работы в —тавке. Ќовый генерал-квартирмейстер —тавки генерал ѕустовойтенко был знаменит только тем, что случайно был сослуживцем генерала јлексеева в штабе ёго-западного фронта, а генерал Ѕрусилов был товарищем генерала јлексеева и по јкадемии √енерального Ўтаба и по полку.
»нтересно и то, что сам Ќиколай ¬торой ќ„≈Ќ№ хорошо относилс€ к своему начальнику штаба (и будущему заговорщику).
∆андармский генерал ј.». —пиридович откровенно писал об этом:
«— первых же дней вступлени€ √осудар€ в командование, самым близким дл€ него лицом по ведению войны, сделалс€ Ќачальник Ўтаба генерал ћихаил ¬асильевич јлексеев, которого √осударь знал давно и к которому питал большую симпатию, называ€ его иногда "мой косой друг".
Ёх, знал бы Ќиколай, какую «подл€нку» подложит ему его «косой друг» в ‘еврале 1917 года...
© Copyright: —ергей ƒроздов, 2012
—видетельство о публикации є212102200660
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
ћинобороны открыло онлайн-картотеку данных участников ѕервой мировой войны |
ƒневник |
19:06 09/03/2017
0 11783
ћинобороны открыло онлайн-картотеку данных участников ѕервой мировой войны
Ќа сайте «ѕам€ти героев ¬еликой войны 1914–1918 годов» можно узнать о том, кто из служивших в российской армии погиб, был ранен или награжден
‘ото из архива музе€ / расно€рский краевой краеведческий музей
ћосква, 9 марта - ји‘-ћосква.
ћинистерство обороны –оссии выложило в интернет базу документов о погибших, раненых и награжденных участниках ѕервой мировой войны. ѕри помощи виртуальной картотеки на сайте «ѕам€ти героев ¬еликой войны 1914–1918 годов» можно найти архивные данные о судьбе своих предков или знаменитых военнослужащих российской армии.
 Ќебо Ќестерова. »стори€ русского лЄтчика, изменившего авиацию
Ќебо Ќестерова. »стори€ русского лЄтчика, изменившего авиацию
роме ознакомлени€ с оцифрованными карточками о ранении или гибели того или иного военного, пользователи смогут отследить на карте его боевой путь и узнать о его участии в военных операци€х на фронтах ѕервой мировой.
насто€щему моменту на сайте можно найти информацию более чем о двух миллионах человек, в том числе офицерские картотеки в полном объеме, рассказал –Ѕ начальник отдела научно-справочного аппарата –оссийского государственного военно-исторического архива (–√¬»ј) ќлег „ист€ков. ¬сего в архивах хран€тс€ данные более чем о дес€ти миллионах человек, и в дальнейшем онлайн-картотека будет пополн€тьс€.http://www.aif.ru/society/history/minoborony_otkrylo_onlayn-kartoteku_dann
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
¬округ сепаратного мира |
ƒневник |
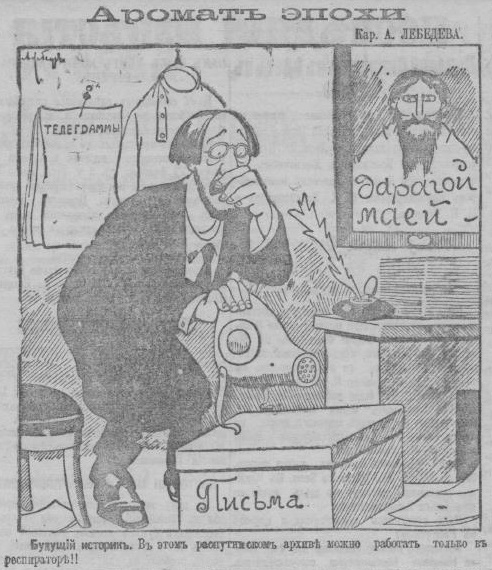
¬округ сепаратного мира. ч. 2
ѕереговоры о сепаратном мире с √ерманией 1915-1916 годы.
(ѕродолжение. ѕредыдуща€ глава: http://www.proza.ru/2017/03/16/815)
ѕеред тем, как перейти к изложению материала, надо бы сделать небольшое отступление от темы. ƒело в том, что 100-летие ‘евральской революции вызвало активизацию различных современных псевдомонархистов и, что и вовсе удивительно, современных поклонников √.≈. –аспутина.
ќдин из них, некий укоба, прислал мне на предыдущую главу такой вот комментарий: «вы забыли рассмотреть √лавную версию о "разврате" —тарца: у него был двойник, который отпл€сывал по кабакам и т.д. «ачем вы повтор€ете 100 летние сплетни о "подкаблучнике" ÷аре и пр.. –усска€ арми€ побеждала. Ќиколай 2 был на фронте со своим народом. роме записок француза ѕалеолога ознакомьтесь с выводами комиссии при ¬ременном пра-ве. –€д историков считают убийство ÷арского ƒруга ритуальным. ј преступление у ёсупова ( наличие колотых ран)-постановкой. —пасибо». (ќрфографи€ и содержание укобы сохранены).
ѕопытка вести с ним дискуссию закончилась откровенным хамством с его стороны и мне пришлось ее удалить.
Ќо, поскольку подобна€ «аргументаци€», в том или ином виде, сейчас стала все чаще по€вл€тьс€, надо бы сказать несколько слов по этим вопросам.
ѕросто удивительно, как современные взрослые люди могут верить в такую ерунду, как существование «двойника» –аспутина, который-де пь€нствовал и «драл» благородных барышень в бан€х, в то врем€ как смиренный «старец» посто€нно ист€зал свою бренную плоть постом и молитвами?!
ѕочему же полици€, которой руководил большой поклонник –аспутина ѕротопопов, не арестовала этого злоде€-двойника и не посадила его в узилище, чтобы он не омрачал светлого облика √ригори€ ≈фимыча?! (Ѕлаго ¬—≈ места его «гульбаний» (как в ресторанах, так и в бан€х) полици€ прекрасно знала).
¬идимо, эта несложна€ мысль «монархисту» укобе в голову не приходит...
»з донесений полицейской охранки о наблюдении за –аспутиным за 14 декабр€ 1915 г.: «ќколо двух часов ночи –аспутин вышел из дома є 11 по ‘урштадской улице от —вечиной, вместе с ясинской, и на моторе отправилс€ в ресторан “¬илла –одэ”, куда за поздним временем их не пустили. “огда –аспутин стал бить в двери и рвать звонки, а сто€щему на посту городовому дал п€ть рублей, чтобы не мешал ему бу€нить. ќтсюда –аспутин вместе со своей спутницей поехали в цыганский хор ћассальского, где пробыли до 10 часов утра, а потом сильно подвыпившие поехали на квартиру к ясинской, где –аспутин пробыл до 12 часов ночи, и отсюда вернулс€ домой. Ќа ночь ездил в ÷арское —ело».
¬идимо, по мнению укобы, это «двойник» –аспутина вышел из его квартиры, а потом вернулс€ в нее же, а сам «истинный» √ригорий ≈фимыч этого даже не заметил, так ведь?!
“еперь о «столетних сплетн€х» про подкаблучника цар€.
Ѕеда в том, что их распускали те люди, кто ќ„≈Ќ№ хорошо знали Ќикола€ ¬торого и посто€нно с ним общались.
¬от, к примеру, какое впечатление произвел Ќиколай ¬торой в декабре 1916 года на своего двоюродного брата и воспитанника в.к. ƒмитри€ ѕавловича. ¬споминает ‘. ёсупов:
«ћы долго с ним сидели и разговаривали в этот вечер. ќн рассказывал мне о своем последнем пребывании в —тавке. √осударь произвел на него удручающее впечатление. ѕо словам великого кн€з€, √осударь осунулс€, постарел, впал в состо€ние апатии и совершенно инертно относитс€ ко всем событи€м».
1 декабр€ 1916 года жена председател€ ƒумы –одз€нко пишет письмо матери кн€з€ ёсупова, в котором имеетс€ така€ фраза:
“…¬се назначени€, перемены, судьбы ƒумы, мирные переговоры – все в руках сумасшедшей немки, –аспутина, ¬ырубовой, ѕитирима и ѕротопопова”.
ј вот, что рассказал сам –аспутин кн€зю ‘. ёсупову (младшему):
«– √ригорий ≈фимович, неужели вы на самом деле можете ƒуму распустить, и каким образом?
– Ёх, милый, дело-то простое… ¬от будешь со мной дружить, помогать мне, тогда все и узнаешь, а покамест вот € тебе что скажу: царица уж больно мудра€ правительница… я с ней все могу делать, до всего дойду, а он – Ѕожий человек. Ќу, какой же он √осударь? ≈му бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматьс€, а не царством править… “рудновато ему, вот и помогаем с Ѕожьим благословением».
Ќо м.б. клевещет тут ‘еликс ёсупов?!
ƒавайте посмотрим на воспоминани€ кн€гини ќ.¬. ѕалей (морганатической супруги великого кн€з€ ѕавла јлександровича, д€ди Ќикола€ ¬торого):
«—емейный совет состо€лс€ у великого кн€з€ јндре€ ¬ладимировича во дворце на јнглийской набережной. ¬сем собранием постановили, что великий кн€зь ѕавел, как старший в семье и самый любимый √осударев родич, примет огонь на себ€. ѕоговорит с √осударем от имени всех. Ќо € видела, как ѕавлу не по себе. ќн прекрасно понимал, что дело это т€жкое и неблагодарное, а надежды убедить √осудар€ – ни малейшей. » все-таки 3 декабр€ 1916 года, как только ÷арска€ семь€ вернулась из ћогилева, он попросил аудиенции и был прин€т в тот же день, за чаем…
¬о дворце, сразу после ча€, ѕавел стал описывать венценосному плем€ннику и его супруге-императрице весь ужас нынешней ситуации. –ассказал он о немецкой пропаганде: немцы наглеют день ото дн€, их старани€ми наша арми€ разлагаетс€, и в войсках, что ни день, вы€вл€ют саботажников и бунтовщиков, порой из офицеров. ќписал брожение умов в ѕетрограде и ћоскве: крики все громче и ругань все злей. ”пом€нул о неудовольствие народа: уже многие мес€цы за хлебом очереди, цены на него выросли втрое…
—обравшись с духом, великий кн€зь объ€сн€л, что ненавистны всем эти де€тели еще и как распутинские протеже. » тут же сказал, что, по общему мнению, все зло – от старца. √осударь молча курил, не отвеча€.
ќтветила императрица. √оворила она с волнением и то и дело хваталась за сердце как сердечница. –аспутина, сказала она, оболгали. –аспутину завидуют. ое-кто очень хочет быть на его месте. ј старец – наш лучший друг и молитс€ за нас и детей. ј ѕротопоповым и Ўтюрмером мы довольны. » жертвовать ими в угоду двум-трем недовольным даже и не подумаем.
¬ общем, великий кн€зь был разбит на всех фронтах. Ќа все, о чем просил, получил отказ». (ѕалей ќ. ¬оспоминани€ о –оссии. ћ., 2005. —. 12–14)
ак видим, в остром разговоре по принципиальнейшим вопросам стратегии управлени€ страной, «царь – молчал и курил», а говорила за него (и принимала решени€) его жена.
ѕодчеркнем, что в.к. ѕавел јлександрович очень доходчиво описал царю и царице, как на самом деле в это врем€ «русска€ арми€ побеждала»: «наша арми€ разлагаетс€, и в войсках, что ни день, вы€вл€ют саботажников и бунтовщиков, порой из офицеров», - и это не вызвало у них возражений и протеста (в отличие от его оценки √. ≈. –аспутина, с которой царица категорически не согласилась).
¬ажно отметить, что всю эту печальную ситуацию в русской армии, втолковывал царю человек, который имел реальный опыт командовани€ гвардейским корпусом (во врем€ нескольких попыток безуспешного наступлени€ на овель летом-осенью 1916 года), знавший ее, что называетс€, «изнутри», а не по бравурным официальным рел€ци€м в —тавку.
¬ этом же р€ду «аргументов» находитс€ и попул€рное ныне утверждение о том, что: «на весну 1917года был назначен переход русской армии в наступление». (¬идимо, подразумеваетс€, что после этого самого «перехода в наступление» германские войска должны были в испуге бросить свои окопы и драпать аж до самого Ѕерлина).
„то тут скажешь…
ƒело в том, что точно такие же переходы в наступление на германском фронте царска€ арми€ Ќ≈ќƒЌќ –ј“Ќќ готовила и пыталась осуществить: в 1914 году – наступлени€ в ¬осточной ѕруссии (трижды) и знаменитый «удар в сердце √ермании», весной 1915 года - было начато наступление ё«‘, с попыткой прорватьс€ на ¬енгерскую равнину.
¬—≈ эти наступлени€, которые готовили и пытались осуществить еще кадровые русские войска, закончились т€желейшими поражени€ми, потерей всех западных русских крепостей и огромных территорий и, увы, массовой сдачей в плен (летом 1915 года в плен сдавалось – по 200 тыс€ч человек, ежемес€чно, по оценке генерала ћ.¬. јлексеева).
Ќемногим лучше обсто€ли дела и в 1916 году.
Ќаступление в марте на германском участке фронта у озера Ќарочь, предприн€тое под давлением ‘ранции, провалилось.
¬ течение дес€ти дней, русские армии —еверного и «ападного фронтов безуспешно пытались штурмовать германские позиции. ѕотери армий «ападного фронта составили до дев€носта тыс€ч человек; армий —еверного фронта – около шестидес€ти тыс€ч. Ёти сто п€тьдес€т тыс€ч убитых и раненых – жертва русских дл€ облегчени€ положени€ своих союзников под ¬ерденом.
Ќемцы в ходе Ќарочской операции, потер€ли всего около 3 тыс€ч человек, но зато приостановили свой натиск на ¬ерден на целых две недели, что позволило французам передохнуть и подт€нуть свои резервы и технику.
Ќачальник генерального штаба германской армии генерал Ё. фон ‘алькенгайн подчеркивал: «Ќе было никакого сомнени€, что атаки со стороны русских были предприн€ты только под давлением их западных союзников и дл€ их поддержки.
Ќикакой ответственный начальник, не наход€щийс€ под внешним принуждением, не мог бы столь малоценные войска вести против столь прочно оборудованных позиций, какими располагали немцы…»
Ќачавшеес€ успешно, в мае 1916 года, наступление Ѕрусилова на ј¬—“–»…— ќћ участке ё«‘, очень быстро выродилось в многомес€чные и безуспешные попытки царских полководцев вз€ть штурмом овель, в ходе которых русска€ гварди€ (последн€€ опора трона) понесла т€желейшие и невосполнимые потери в своем кадровом и офицерском составе.
ј несколько попыток массированных наступлений на овель силами «ападного, ё«‘ и ќсобой √вардейской армии, утонули в крови.
«а зиму 1916-17 г.г. германские и австрийские войска ќ„≈Ќ№ основательно укрепили свои позиции в инженерном отношении и попытки их штурма ослабленными, укомплектованными плохообученными мобилизованными «бородачами» войсками, которые по уровню дисциплины и боеспособности не шли ни в какое сравнение с кадровой армией, загубленной в 1914-15 годах, были обречены на новые т€желейшие потери и провал.
Ќа основании чего нынешние горе-стратеги предполагают успех готовившегос€ весеннего наступлени€ - пон€ть невозможно.
¬ феврале 1917 года в ѕетрограде проходила конференци€ союзников по јнтанте, котора€ была разделена на три комиссии: политическую, военную и техническую. ”частников конференции прин€л Ќиколай ¬торой и дал в их честь торжественный обед в ÷арскосельском дворце.
¬от что вспоминал английский посол ƒж. Ѕьюккенен о выступлении главы русской военной делегации, и.о. начальника Ўтаба —тавки ¬ерховного главнокомандующего генерала ¬.». √урко:
«¬ своей речи на открытии конференции генерал √урко сообщил, что –осси€ мобилизовала четырнадцать миллионов человек; потер€ла два миллиона убитыми и ранеными и столько же пленными; в насто€щий момент имеет семь с половиной миллионов под ружьем и два с половиной – в резерве.
ќн не выразил никакой надежды на то, что русска€ арми€ сможет предприн€ть крупномасштабное наступление до тех пор, пока не завершитс€ готов€щеес€ формирование новых подразделений и пока они не будут обучены и снабжены необходимым оружием и боеприпасами. ј до тех пор все, что она может сделать, – это сдерживать врага с помощью операций второстепенного значени€». («ћо€ мисси€ в –оссии. ¬оспоминани€ английского дипломата». ƒжордж Ѕьюккенен).
Ёта конференци€ закрылась 21 феврал€ 1917 года, аккурат перед началом ‘евральской революции в ѕетрограде.
ак видим, глава русской военной делегации «не выразил Ќ» ј ќ… надежды на то, что русска€ арми€ сможет предприн€ть крупномасштабное наступление» в обозримом будущем. ѕричем это за€вление было им сделано на закрытом военном заседании конференции и отражало официальную позицию руководства царской армии.
ќстаетс€ только удивл€тьс€, откуда у нынешних «диванных стратегов» вз€лась уверенность в том, что царска€ арми€ могла весной 1917 года перейти в наступление и тут же сокрушить супостата?!
ѕосле этого отступлени€, перейдем к рассмотрению тематики данной главы.
—начала о том, когда познакомились –аспутин и царска€ семь€.
√осударь Ќиколай II записал в своем дневнике 1 но€бр€ 1905 года:
«¬ 4 часа поехали на —ергиевку. ѕили чай с ћилицей и —таной. ѕознакомились с человеком Ѕожьим – √ригорием из “обольской губ.» (ƒневники императора Ќикола€ II. ћ., 1991. —. 287).
„тобы было пон€тно: упом€нутые в дневнике цар€ ћилица и —тана – это знаменитые «сестры-черногорки», жены в.к. Ќикола€ Ќиколаевича (младшего, «Ќиколаши» в семейном кругу) и его брата в.к. ѕетра («ѕетюни»).
Ќадо сказать, что √ригорий ≈фимович вовсе не был неграмотным полудурком, как его порой изображали. ќн неплохо знал —в€щенное ѕисание, запросто цитировал его (к месту и не к месту), и даже баловалс€ сочинительством (или ему помогали это делать какие-то, безвестные ныне, «литературные негры»).
¬о вс€ком случае, еще при жизни √ригори€ –аспутина были опубликованы его брошюры и статьи: «∆итие опытного странника» (1907), «ћои мысли и размышлени€. раткое описание путешестви€ по св€тым местам и вызванные им размышлени€ по религиозным вопросам» (1911 и 1915), «¬еликие торжества в иеве! ѕосещение ¬ысочайшей семьи! јнгельский привет!» (1911), «ƒетство и грех» (в журнале «ƒым ќтечества», 1913, є 20), «ѕо Ѕожьему пути» (1914) и другие.
ќн регул€рно встречалс€ с царской семьей.
¬ дневнике Ќикола€ II имеетс€ запись от 4 июн€ 1911 г.: «ѕосле обеда имели радость видеть √ригори€ (–аспутина) по возвращении из »ерусалима и јфона» (√ј –‘. ‘. 601. ќп. 1. ƒ. 257).
(ƒалеко не о каждом своем родственнике Ќиколай ¬торой мог записать, что они «»мели радость» его видеть!!!, ј вот √ригорий ≈фимыч – удостоилс€).
јрон —иманович, €вл€вшийс€ многолетним секретарем √ригори€ –аспутина (и немногий из сохранивших ему верность, после убийства), писал в своих воспоминани€х:
« аким представл€ют себе –аспутина современники? ак пь€ного, гр€зного мужика, который проник в ÷арскую семью, назначал и увольн€л министров, епископов и генералов и целое дес€тилетие был героем петербургской скандальной хроники?
тому же еще дикие оргии в “¬илла –одэ”, похотливые танцы среди аристократических поклонниц, высокопоставленных приспешников и пь€ных цыган, а одновременно непон€тна€ власть над царем и его семьей, гипнотическа€ сила и вера в свое особое назначение. Ёто все было.
“олько немногим было суждено познакомитьс€ с другим –аспутиным и увидеть за всем известной маской всесильного мужика и чудотворца его более глубокие душевные качества. «а грубой маской мужика скрывалс€ сильный дух, напр€женно задумывающийс€ над государственными проблемами». (—иманович ј. ¬оспоминани€. –ига, 1924)
√овор€ об отношении –аспутина к войне, надо подчеркнуть, что он своим мужицким нутром чувствовал неисчислимый вред, который она принесет –оссии и русскому народу, и был категорическим противником войн вообще, и войны с √ерманией – в особенности.
ћало кто сейчас знает, что во врем€ Ѕалканских войн слав€нских государств (сначала против “урции, а затем и между собой) в 1912-13 годах, действи€ –оссии едва не спровоцировала войну с јвстрией и √ерманией уже в то врем€.
¬ воспоминани€х видного думского де€тел€, лидера партии кадетов ѕ.Ќ. ћилюкова, имевшего, кстати, огромную попул€рность на Ѕалканах, и считавшегос€ в –оссии экспертом в слав€нских делах, говоритс€:
«я вернулс€ из поездки к открытию ƒумы 18 но€бр€ 1912 г., — как раз в разгар борьбы мирных и воинственных настроений в ѕетербурге...
9 но€бр€ —ухомлинов решил воспользоватьс€ упом€нутой мною выше carte blanche (ѕолномочие) и произвести мобилизацию.
Ќапомню, что, по смыслу этой carte blanche, мобилизаци€ равн€лась объ€влению войны –оссией јвстрии и √ермании.
¬се было готово и телеграммы посланы, когда Ќиколай II усомнилс€ в самой возможности принимать такую ответственную меру, не уведомл€€ даже правительства.
» он назначил на 10 но€бр€ экстренное заседание под своим председательством.
—ухомлинов должен был предупредить участников заседани€, но этого не сделал, и его зате€, уже пущенна€ в ход, обнаружилась только на самом заседании.
≈стественно, председатель —овета министров оковцов, посто€нный противник —ухомлинова, забил тревогу.
Ќиколай прин€лс€ было его успокаивать. «ƒело идет не о войне, а о простой мере предосторожности, о пополнении р€дов нашей слабой армии на (австрийской) границе... я и не думаю мобилизовать наши части против √ермании, с которой мы поддерживаем самые доброжелательные отношени€, и они не вызывают в нас никакой тревоги, тогда как јвстри€ настроена определенно враждебно».
оковцов стал доказывать, что сепаратный шаг –оссии разрушает военную конвенцию с ‘ранцией и освобождает ее от об€зательств, тогда как в войне, котора€ будет результатом русской мобилизации, √ермани€, конечно, поддержит јвстрию в силу своего союзного договора.
ќн предложил, как исход, задержать на полгода солдат последнего срока службы, не отмен€€ очередного набора — и тем увеличить состав армии, не объ€вл€€ мобилизации.
ќбнаружилось при этом, что —ухомлинов собиралс€, объ€вив ее, уехать в отпуск заграницу к больной жене, а военные заказы были сданы заводам в пределах той же јвстрии.
“ака€ степень легкомысли€ повергла в ужас —азонова, и после заседани€ он обратилс€ к —ухомлинову с горькими упреками.
Ќо —ухомлинов не смутилс€. —воим «реб€ческим лепетом» и с обычным «безразличием в тоне» он ответил, что в мобилизации «не было бы никакой беды», так как «все равно, войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше... Ёто ваше (—азонова) и председател€ —овета ( оковцова) убеждение в нашей неготовности, а государь и € — мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее дл€ нас».
ак видим, царский военный министр —ухомлинов был человеком поистине «необыкновенных способностей и редкого ума».
÷арь, зачем-то, предоставил ему полномочи€ Ћ»„Ќќ объ€вл€ть мобилизацию (даже не оповестив членов правительства –оссии), что он, по простоте душевной, и собиралс€ сделать, укатив после этого в отпуск!!!
ѕохоже, что они, на пару, просто «не понимали, что творили».
¬ то врем€ их намерение объ€вить мобилизацию (что автоматически означало начало европейской войны), к счастью, не было реализовано.
»нтересно, что упоминание об этом эпизоде имеетс€ в воспоминани€хјнны ¬ырубовой о √.≈. –аспутине, которые она написала в эмиграции:
«¬споминаю только один случай, когда действительно √ригорий ≈фимович оказал вли€ние на внешнюю политику. Ёто было в 1912 году, когда Ќиколай Ќиколаевич и его супруга старались склонить √осудар€ прин€ть участие в Ѕалканской войне. –аспутин чуть ли не на колен€х перед √осударем умол€л его этого не делать, говор€, что враги –оссии только и ждут того, чтобы –осси€ вв€залась в эту войну и что –оссию постигнет неминуемое несчастье». (‘рейлина ≈е ¬еличества јнна ¬ырубова. ћ., «ќрбита», 1993. —. 282)
“еперь о войне с √ерманией.
“о, что –осси€ к ней длительно врем€ готовилась – общеизвестно, а Ќиколай ¬торой, по простоте душевной, отчего-то считал, что русска€ арми€ намного сильнее германской и непременно «накладЄт» немцам, после того, как отмобилизуетс€.
слову сказать, точно такие же иллюзии испытывали правители ‘ранции и ¬еликобритании, где разговоры о «русском паровом катке», который-де попросту «закатает» 8-ю армию немецкого рейхсвера, (остальные 7 армий которого тогда были на «ападном фронте), были излюбленной темой статей и карикатур начального периода ѕервой мировой войны.
ј вот многие здравомысл€щие политики –оссийской империи понимали всю опасность вт€гивани€ своей страны в мировую войну и вс€чески старались предотвратить это несчастие. (¬спомним, хот€ бы знаменитую записку ƒурново Ќиколаю ¬торому на сей счет).
»нтересное свидетельство о мнении графа ¬итте по этому вопросу, в своем военном дневнике приводит великий кн€зь јндрей ¬ладимирович:
«17 сент€бр€. 1915 года
Ќа дн€х € разговаривал с јлекс. ¬икт. ќсмоловским, который, страда€ сердечным пороком, проводил каждый год сезон в Nauheim’e и часто встречалс€ там с покойным —.ё. ¬итте. ѕоследний сезон 1914 г. застал его, ќсмоловского, как и графа —.ё. ¬итте, в Nauheim’e во врем€ начала политических осложнений.
ѕо этому поводу граф ¬итте говорил ќсмоловскому, что есть один лишь человек, который мог бы помочь в данное врем€ и распутать сложную политическую обстановку.
Ќа естественный вопрос ќсмоловского, да кто же этот человек, граф ¬итте назвал, к его большому удивлению, √р. ≈. –-а. ќсмоловский на это возразил, как может –аспутин быть опытным дипломатом, он, человек совершенно неграмотный, ничего не читавший, как может он знать сложную политику и интересы –оссии, и взаимоотношени€ всех стран между собой.
Ќа это граф ¬итте ответил: «¬ы не знаете, какого большого ума этот замечательный человек. ќн лучше, нежели кто, знает –оссию, ее дух, настроение и исторические стремлени€. ќн знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он теперь удален».
Ёто мнение графа —.ё. ¬итте о –-е мен€ пр€мо поразило. я всегда считал и до сих пор считаю —.ё. за из р€да вон выдающегос€ человека, какого в –оссии давно не было.
ƒумаю, что многие того же мнени€. Ќо каким образом —.ё. мог прийти к такому странному выводу в отношении –-а, остаетс€ пока дл€ мен€ загадкой.
Ќикогда и никто не говорил об его отношени€х к –-у.
»х имена даже за€длые сплетники не могли сопоставить. «нал ли —.ё. –-а, не знаю. ¬р€д ли. ћожет быть, в будущем эта загадка и разъ€снитс€, пока же решительно ничего не понимаю.
ќдно знаю, что —.ё. словами не шутил. „то хотел он этим сказать?»
(¬оенный дневник великого кн€з€ јндре€ ¬ладимировича –оманова (1914–1917). ћ., 2008. —. 184)
(”пом€нутый тут јлексей ¬икторович ќсмоловский был чиновником особых поручений ћинистерства земледели€).
ак известно, незадолго до объ€влени€ –оссией мобилизации и начала ѕервой мировой войны, на √.≈. –аспутина было совершено покушение со стороны ’. . √усевой.
“оварищ прокурора “юменского участка так докладывал об этом происшествии прокурору “обольского окружного суда:
«28 июн€ 1914 года около восьми часов вечера на пароходе “—околовский” приехал из ѕетербурга домой в село ѕокровское кресть€нин √ригорий ≈фимович –аспутин-Ќовый. ѕо дороге он заезжал в город ялуторовск к нотариусу. 29 июн€ около трех часов пополудни разносчик телеграмм ћихаил –аспутин принес телеграмму √ригорию –аспутину и ушел. √ригорий –аспутин решил также послать телеграмму и, выйд€ на улицу за ворота, позвал рассыльного ћихаила –аспутина. ¬ это врем€ сто€вша€ у ворот женщина, мещанка города —ызрани —имбирской губернии ’иони€ узьмина √усева, подошла и поклонилась √ригорию –аспутину. ѕоследний со словами “Ќе надо клан€тьс€!” хотел было подать милостыню. ’иони€ √усева, воспользовавшись этим моментом, выхватила из-под платка остро оточенный, обоюдоострый кинжал и ударила им √ригори€ –аспутина в живот.
ѕоследний, вскрикнув: “ќх, тошно мне”, – побежал по улице от дома и пробежав 108 шагов. ’иони€ √усева с кинжалом в руках все врем€ гналась за ним.
√ригорий –аспутин на бегу схватил с земли палку и ударил √усеву по голове. Ќа помощь подбежал народ и задержал ’ионию √усеву.
—тепан ѕодчивалов толкнул √усеву, и последн€€ упала, причем, пада€, упала на кинжал и ранила себе левую руку ниже кисти. ’иони€ √усева была арестована и отправлена в каталажную камеру ѕокровского волостного правлени€». (“‘√ј“ќ. ‘. 164. ќп. 1. ƒ. 439. Ћ. 11–12)
¬ следственном деле о покушении ’. . √усевой на √.≈. –аспутина имеютс€ ее признательные показани€ (“‘√ј“ќ. ‘. 164. ќп. 1. ƒ. 436, 437)
—екретарь и близкий друг –аспутина јрон —иманович в своих воспоминани€х так рассказывал об этом эпизоде:
«29 июн€ 1914 г. кресть€нка монахин€ ’. . √усева, котора€ была с ним в продолжение нескольких лет, но, в конце концов, промен€ла его на монаха »лиодора, нанесла ему удар ножом в живот.
–ана была настолько серьезной, что недел€ми он был между жизнью и смертью, и только благодар€ его необыкновенно крепкому сложению поправилс€. огда √усева была привлечена к ответственности, она объ€вила, что –аспутин ее соблазнил.
≈е отправили в дом умалишенных.
ѕосле ‘евральской революции ее выпустили на свободу, выдав охранный документ, что она покушалась на –аспутина».
«—иманович ј. ¬оспоминани€. –ига, 1924 г.)
ƒостоверно известно, что √.≈. –аспутин с самого начала был против войны с √ерманией и из —ибири (из села ѕокровского), где он находилс€ на лечении, после покушени€ на него ’ионии √усевой, писал в телеграмме императору Ќиколаю II летом 1914 г., следующее:
«ћилый друг! ≈ще раз скажу: грозна туча над –оссией, беда, гор€ много, темно и просвету нету. —лез-то море и меры нет, а крови? „то скажу?
—лов нету, неописуемый ужас. «наю, все от теб€ войны хот€т, и верные, не зна€, что ради гибели. “€жко Ѕожье наказанье, когда уж отымет путь, – начало конца.
“ы царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себ€ и народ. ¬от √ерманию победит, а –осси€? ѕодумать, так все по-другому. Ќе было от веку горшей страдалицы, вс€ тонет в крови великой.
ѕогибель без конца, печаль. √ригорий». (—м.: ћарков —.¬. ѕокинута€ ÷арска€ семь€. ћ., 2002. —. 54)
Ќесмотр€ на туманный слог (вообще характерный дл€ речей –аспутина) видно, что он испытывал ужас перед этой войной и пыталс€ отговорить от нее Ќикола€ ¬торого.
‘еликс ёсупов в своих воспоминани€х также пишет, что –аспутин говорил ему, что «если бы та стерва мен€ не пырнула, то никакой войны бы и не было!»
ƒумаю, однако, что тут √ригорий ≈фимович тут сильно преувеличивает свое вли€ние на Ќикола€ ¬торого, в то врем€.
¬от что, в своих воспоминани€х, писала об этом јнна ¬ырубова:
«¬ начале мировой войны с √ерманией √ригорий ≈фимович лежал, раненный √усевой, в ѕокровском. ќн тогда послал две телеграммы ≈го ¬еличеству, умол€€ “ не затевать войны”.
ќн и ранее часто говорил »х ¬еличествам, что с войной все будет кончено дл€ –оссии и дл€ них.
√осударь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны относилс€ холоднее к √ригорию ≈фимовичу». (‘рейлина ≈е ¬еличества јнна ¬ырубова. ћ., «ќрбита», 1993. —. 282)
ѕостепенно эйфори€, охвативша€ прав€щие слои русского общества с началом ѕервой мировой войны, под вли€нием т€желых поражений в ¬осточной ѕруссии и, особенно, катастрофического ¬еликого отступлени€ царской армии весной-летом 1915 года, стала выветриватьс€.
¬озникли извечные русские вопросы: «кто виноват?» и «что делать?»
¬от что вспоминал об этом дворцовый комендант Ќикола€ ¬торого генерал-майор ¬.Ќ. ¬оейков:
«Ћетом 1915 года стали вы€вл€тьс€ симптомы массового гипноза, постепенно овладевшего людьми; из штабов фронта стали исходить пускавшиес€ какими-то безответственными анонимными личност€ми слухи о том, что императрица служит главною причиною всех наших неур€диц, что ей, как урожденной немецкой принцессе, ближе интересы √ермании, чем –оссии, и что она искренне радуетс€ вс€кому успеху германского оружи€. ¬ырабатывалось даже несколько планов спасени€ –одины: одни видели исход в заточении √осударыни в монастырь и аресте –аспутина, €кобы занимавшегос€ шпионажем в пользу √ермании; другие считали необходимым выслать √осударыню за границу.
јмбициозные политиканы искали дл€ свершени€ переворота подход€щих начальников отдельных частей; не обходилось дело и без титулованных приверженцев революции, имеющих непосредственные основани€ с замышл€вшими дворцовый переворот.
Ћично € подобных слухов не доводил до сведени€ ≈го ¬еличества, не счита€ возможным их осуществление; но знаю, что эти разговоры стали известны и √осударю, и √осударыне». (¬оейков ¬.Ќ. — царем и без цар€. ћ., 1995. —. 116)
ј вот что 14 июн€ 1915 года писала императрица јлександра ‘едоровна своему супругу:
«ѕавел (великий кн€зь ѕавел јлександрович) пил со мной чай и просидел 1 1/4 часа…
Ќу, во-первых, недавно у него обедал ѕалеолог и имел с ним долгую интимную беседу, во врем€ которой он очень хитро старалс€ выведать у ѕавла, не имеешь ли ты намерени€ заключить сепаратный мир с √ерманией, так как он слыхал об этом здесь и во ‘ранции распространилс€ об этом слух; они же будут сражатьс€ до конца.
ѕавел отвечал, что он уверен, что это неправда, тем более что при начале войны мы решили с нашими союзниками, что мир может быть подписан только вместе, ни в каком случае сепаратного. «атем € сказала ѕавлу, что до теб€ дошли такие же слухи насчет ‘ранции. ќн перекрестилс€, когда € сказала ему, что ты и не помышл€ешь о мире и знаешь, что это вызвало бы революцию у нас, – потому-то немцы и стараютс€ раздувать эти слухи.
ќн сказал, что слышал, будто немцы предложили нам услови€ перемири€. я предупредила его, что в следующий раз он услышит, будто € желаю заключени€ мира». (ѕереписка Ќикола€ и јлександры 1914–1917. ћ., 2013. —. 176)
ƒавайте рассмотрим –≈јЋ№Ќџ≈ попытки организации переговоров о заключении сепаратного мира между √ерманией и царской –оссией, которые предпринимались в 1915 -1916 годах.
Ќаиболее важными из них были: поездки в Ѕерлин кн€з€ ¬.ƒ. ƒумбадзе, мисси€ фрейлины ћарии ¬асильчиковой, (1915 год), а также переговоры ѕротопопова в —токгольме, контакты ћанусевича – ћануйлова с германскими представител€ми, письмо графу ‘редериксу от его давнего друга и министра двора германского кайзера ¬ильгельма II графа ‘. Ёйленбурга и распутинские за€влени€ о необходимости заключени€ сепаратного мира в 1916 году.
ѕопробуем рассмотреть, что на сегодн€шний день об этом известно.
—амой первой существенной попыткой установить контакты с высокопоставленными германскими представител€ми была мисси€ кн€з€ ¬.ƒ. ƒумбадзе и кн€з€ √.¬. ћачабели в 1915 году. (ќтметим, что эта попытка производилась по одобрению в придворных сферах ÷арского —ела).
ѕочему-то отечественна€ историографи€ очень редко вспоминает о ней, а истори€-то была довольно занимательна€.
ѕлем€нник €лтинского градоначальника кн€зь ¬.ƒ. ƒумбадзе получил высшее образование в √ермании, где познакомилс€ со своим земл€ком — кн€зем √.¬. ћачабели. ќба - ƒумбадзе и ћачабели - прекрасно владели немецким €зыком и имели в √ермании обширные св€зи.
(≈го д€дюшка, генерал-майор —виты »ван јнтонович ƒумбадзе был одним из вли€тельнейших людей империи, €рым монархистом и входил в число противников вв€зывани€ –оссии в ѕервую мировую войну.
—менивший его, в 1916 году, в должности €лтинского градоначальника, жандармский генерал ј.». —пиридович в своих воспоминани€х писал, что когда он первый раз, в новой должности, пришел в градоначальство, все посетители буквально повалились перед ним ниц.(!!!)
Ќа вопрос —пиридовича о причинах столь диковинного средневекового обыча€, служители €лтинского градоначальства ответили ему, что так было заведено при предыдущем главе (т.е. кн€зе ».ј.ƒумбадзе)).
“ак вот, плем€нник €лтинского градоначальника, ¬.ƒ. ƒумбадзе был близок к семье министра императорского двора и уделов (в 1881-1896 гг.) графа ».». ¬оронцова-ƒашкова (дружил с его старшим сыном), известного своей близостью к императору јлександру III.
≈ще одним близким знакомым ¬.ƒ. ƒумбадзе и фактически его деловым партнером был начальник канцел€рии министерства императорского двора и уделов, генерал ј.ј. ћосолов, входивший в ближайшее окружение Ќикола€ II.
≈ще в 1908 году ƒумбадзе знакомитс€ с австро-венгерским подданным ћ.ќ. јльтшиллером и киевским адвокатом Ќ.¬. √ошкевичем.
јльтшиллер и √ошкевич были близки к киевскому генерал-губернатору и будущему главе военного министерства генералу ¬.ј. —ухомлинову: јльтшиллер дружил с —ухомилиновым, а √ошкевич был двоюродным братом третьей жены —ухомлинова — ≈.¬. Ѕутович-—ухомлиновой.
√ошкевич и јльтшиллер помогли ƒумбадзе сблизитс€ с —ухомлиновым и его семьей. Ќадо сказать, что царский военный министр —ухомлинов был тщеславным человеком, очень любившим деньги, внешние атрибуты власти и драгоценности и женщин.
¬ августе 1914 года (сразу после начала мировой войны) ƒумбадзе сообщил √ошкевичу, что он намерен выпустить серию книг «Ѕиблиотека военных де€телей», первой из которых должна была быть биографи€ действующего военного министра. “огда √ошкевич обратилс€ к —ухомлинову (своему сво€ку) с просьбой предоставить соответствующие материалы дл€ написани€ книги.
—ухомлинов, который, видимо уже был в предвкушении скорой победы над «тевтонами» и спешил увековечить свой вклад в эту викторию, дл€ потомков, передал √ошкевичу пачку фотографий, газетных вырезок и некий «перечень меропри€тий по военному ведомству». ќб этом перечне —ухомлинов сказал, что «печатать этого нельз€, можно воспользоватьс€ этим только дл€ характеристики и оценки де€тельности».
ѕосле этого ¬.ƒ. ƒумбадзе написал и издал апологетическую биографию военного министра –оссии ¬.ј. —ухомлинова. ( слову сказать, истори€ с этой биографической книжкой ƒумбадзе, немного погод€, стала одним из «козырей» следстви€, обвин€вшего —ухомлинова в государственной измене. ƒействительно, вопиюща€ халатность этого царского министра, в военное врем€ передающего посторонним люд€м служебные документы, просто поражает).
¬ернемс€ к друзь€м ¬.ƒ. ƒумбадзе.
ак уже говорилось, ћ.ќ. јльтшиллер был гражданином јвстро-¬енгрии и, €кобы, «занималс€ предпринимательством» в иеве и р€де западных губерний –оссийской империи. ќдновременно он открыто сотрудничал консульством јвстро-¬енгрии в иеве и, незадолго до ѕервой мировой войны, даже был удостоен ордена ‘ранца-»осифа(!).
ѕри этом ћ.ќ. јльтшиллер был дружен с самим ¬.ј. —ухомлиновым, его женой ≈.¬. Ѕутович-—ухомлиновой и ее родственником Ќ.¬. √ошкевичем, выполн€л деликатные поручени€ —ухомлинова, в частности, помогал ему и его будущей жене ≈.¬. Ѕутович во врем€ их скандального бракоразводного процесса.
¬последствии было установлено, что контора јльтшиллера в иеве не вела никакой предпринимательской де€тельности, однако регул€рно получала многочисленные денежные переводы, происхождение которых неизвестно. ј незадолго до начала военных действий между –оссией и јвстро-¬енгрией в 1914 году јльтшиллер исчез из –оссии.
–усска€ контрразведка, не без оснований, подозревала его в том, что он в –оссии занималс€ шпионажем.
н€зь ¬.ƒ. ƒумбадзе тоже выполн€л «деликатные поручени€» —ухомлинова. ¬ частности, он через представител€ банкирского дома ћорганов ј.Ќ. Ѕурже, организовал заказ на поставку крупной партии автомобилей дл€ нужд российского военного ведомства. ѕри этом ƒумбадзе обеспечил себе и Ѕурже хорошие комиссионные (попул€рное ныне слово «откаты» тогда еще не было изобретено).
(¬от такие «друзь€» были у военного министра –оссийской империи накануне мировой войны…)
¬ марте 1915 года ¬.ƒ. ƒумбадзе, вместе со своим знакомым кн€зем √.B. ћачабели выехали в —токгольм дл€ переговоров с представител€ми американских финансовых кругов. √.¬. ћачабели, еще до войны, имел «св€зи» в Ѕерлине и был хорошо знаком с представителем русского императора при свите кайзера ¬ильгельма ¬торого, генерал-майором свиты ≈го ¬еличества графом ».Ћ. “атищевым.
¬ —токгольме ƒумбадзе и ћачабели, €кобы случайно, знаком€тс€ с германским посланником в Ўвеции фон Ћюциусом и секретарем германского посольства фон ‘рейсом.
ѕри знакомстве ћачабели и ƒумбадзе за€вл€ли, что они — грузинские националисты, недовольные политикой самодержави€ в отношении их родины, и симпатизируют √ермании.
ѕри этом ћачабели сразу же после встречи с фон Ћюциусом отправилс€ в Ѕерлин, где договорилс€ о предоставлении ему и ƒумбадзе паспорта на право въезда в √ерманию через территорию нейтральных стран.
ѕосле возвращени€ в ѕетроград ¬.ƒ. ƒумбадзе €вилс€ к военному министру ¬.ј. —ухомлинову и за€вил, что может отправитьс€ в Ѕерлин «с разведывательно-посреднической миссией». ¬ конце апрел€ 1915 года —ухомлинов доложил о возможности посылки ƒумбадзе в Ѕерлин Ќиколаю II. »мператор эти планы одобрил.
¬от така€ «картина маслом»: высокопоставленные русские представители в разгар мировой войны спокойно встречаютс€ с германскими дипломатами и получают паспорта дл€ въезда во враждебную –оссии страну, дл€ ведени€ загадочной «разведывательно-посреднической миссии».
—ами посудите, ну о какой «разведывательной» де€тельности могла идти речь в ходе этих, официально одобренных немецким ћ»ƒом, поездках грузинских кн€зей в √ерманию?! ”видеть они могли ровно то, что бы им захотели показать представители германских спецслужб, да и все встречи, разумеетс€, происходили под их контролем.
ј вот то, что ¬.ƒ. ƒумбадзе и √.B. ћачабели в √ермании будут открыты дл€ компрометации и вербовки – совершенно очевидно.
¬ монографии кандидата исторических наук ».». Ќовикова «Ѕорьба группировок в придворном окружении Ќикола€ II», подробно описаны дальнейшие событи€:
«ћежду двум€ заграничными во€жами ƒумбадзе в марте и мае 1915 года его в ѕетрограде посещал сын кавказского наместника и бывшего министра двора граф ».». ¬оронцов-ƒашков-младший. роме того, ƒумбадзе регул€рно получал запечатанные конверты из ÷арского —ела, отправителем которых был начальник канцел€рии министерства императорского двора и уделов, генерал ј.ј. ћосолов.
— 24 ма€ по 11 июн€ 1915 г. ƒумбадзе и ћачабели находились в Ѕерлине.
“ам они провели серию встреч в ћ»ƒе и √енеральном штабе. ¬ числе их собеседников были бывший посол √ермании в –оссии ‘. ѕурталес и зам главы германского ћ»ƒ ќ. ÷иммерман. ¬ ходе проведенных встреч именно немецка€ сторона выступила с инициативой проведени€ переговоров о сепаратном мире.
¬ ответ на это предложение ƒумбадзе сразу же предложил себ€ в качестве посредника, через которого должны осуществл€тьс€ тайные контакты российского и германского руководства».
ак видим, в начале лета в Ѕерлине проходили тайные переговоры официальных представителей –оссии и √ермании о сепаратном мире. —одержание этих переговоров неизвестно, но тот факт, что с немецкой стороны в них участвовали очень высокопоставленные сановники говорить о многом
Ѕыло бы, конечно, узнать, „“ќ именно находилось в запечатанных конвертах, которые кн€зь€ ƒумбадзе и ћачабели получали в ÷арском —еле от ј.ј. ћосолова, но скорее всего это так и останетс€ неизвестным.
ƒело в том, что весной 1915 года ¬ерховный главнокомандующий царской армией в.к. Ќиколай Ќиколаевич (ћладший) «закрутил» грандиозную интригу по отстранению от должности военного министра –оссийской империи, генерала ¬.ј. —ухомлинова, которого ¬ерховный уже давно «ненавидел всеми фибрами души».
„то называетс€, «под раздачу», заодно с военным министром, попали и его протеже – грузинские кн€зь€ ƒумбадзе и ћачабели.
Ќадо сказать, что военный министр ¬.ј. —ухомлинов тоже не слишком-то уважал многочисленную компанию великих кн€зей семейства –омановых, сидевших на руковод€щих должност€х в царской армии.
ќн весьма невысоко оценивал умственные способности этих великих кн€зей, посто€нно вмешивающихс€ в армейские вопросы, но не несших никакой ответственности за результаты своего руководства.
¬.ј. —ухомлинов писал, что «почти ни один из них (великих кн€зей) не был подготовлен и воспитан дл€ какой-либо серьезной об€занности. ќбщее образование большинства из них, несмотр€ на хорошее знание иностранных €зыков, находилось ниже уровн€ средней школы.
¬ характере большинства из них были признаки дегенерации, у многих умственные способности были настолько ограничены, что если бы им пришлось вести борьбу за существование как простым смертным, то они бы ее не выдержали».
”добный случай дл€ дискредитации —ухомлинова в.к. Ќиколаю Ќиколаевичу представилс€ в начале 1915 г, когда военной контрразведкой было инспирировано так называемое «дело» бывшего жандармского полковника —.Ќ. ћ€соедова.
(Ёто был еще один, еще довоенный, «коммерческий партнер» —ухомлинова, с которым он, впрочем, вдребезги разругалс€ еще в 1912 году).
ƒл€ этого были использованы показани€ поручика 23-го Ќизовского полка якова ѕавловича олаковского, который попал в плен еще в августе 1914 года, под —ольдау (¬. ѕрусси€).
¬ плену олаковский согласилс€ стать немецким агентом и объ€вил себ€ украинцем, (а их немцы особо выдел€ли среди других пленных в расчете на использование в сепаратистских цел€х). ¬ербовка состо€лась, и с поддельным паспортом он направилс€ на родину через опенгаген. “ам он €вилс€ к российскому военному представителю с повинной.
олаковского в €нваре 1915 года переправили в ѕетроград и начали расследование его показаний.
Ќачальник ѕетроградского охранного отделени€ . Ќ. √лобачев допросил его, но не поверил ни одному его слову. Ѕолее того, ƒепартамент полиции организовал за ним негласное наблюдение, как за немецким шпионом.
ј вот военные контрразведчики, наоборот, не только заинтересовались неверо€тными «показани€ми» олаковского, но и поверили ему.
(ƒл€ того чтобы была очевиднее степень «правдоподобности» его показаний, перечислим некоторые из них:
—начала он за€вил, что €кобы, в германском √енеральном штабе ему поручили убедить коменданта крепости Ќовогеоргиевск сдать ее немецкой армии за один миллион рублей (!!!) “акже он сообщал, что немцы приказали ему уничтожить мосты через ¬ислу около ¬аршавы и …организовать убийство великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича).
«ѕоручик олаковский, — вспоминал ¬.ј. —ухомлинов, — впоследствии созналс€, что о покушении на великого кн€з€ он сочинил, чтобы обратить на себ€ больше внимани€. ј откуда возник ћ€соедов? Ѕудучи в военном училище, он читал о дуэли ћ€соедова с √учковым».
Ќесмотр€ на совершенно фантастический характер подобных «заданий», контрразведчики продолжали «разработку» этого олаковского, видимо, рассчитыва€ использовать его в своих цел€х.
24 декабр€ 1914 года олаковский неожиданно за€вл€ет, что его кураторы из германских разведывательных органов назвали ему им€ полковника —.Ќ. ћ€соедова, служащего в штабе X армии, с которым олаковский должен установить контакт.
„ерез несколько мес€цев, 15 феврал€ 1915 года, олаковский (скорее всего, с «помощью» своих кураторов из военной контрразведки) дает развернутые показани€ против ћ€соедова, полные противоречивых и €вно фантастических сведений. ¬ частности, €кобы немцы, дл€ чего-то, сообщили олаковскому подробности сотрудничества ћ€соедова со своей разведкой.
»нтересно, что протоколы этого допроса олаковского исчезли. —овременные историки их в архивах не нашли. «ато сохранилась «—правка» по ћ€соедову, где следователи, отчего-то безоговорочно поверившие олаковскому, уже от себ€ приписали, будто немцы поручику советовали «поговорить» с ћ€соедовым насчет убийства ¬ерховного главнокомандующего…
Ќевозможно поверить, что германска€ разведка могла так просто сообщить, только что завербованному агенту, подробности шпионской де€тельности ћ€соедова, который был €кобы завербован и много раз проверен в деле. ќднако военна€ контрразведка уцепилась за показани€ олаковского и начала уголовное преследование ћ€соедова.
¬ феврале 1915 г. по инициативе генерал-квартирмейстера —еверо-«ападного фронта Ѕонч-Ѕруевича и начальника контрразведки штаба фронта Ќикола€ Ѕатюшина ћ€соедов был арестован и обвинен в шпионаже и мародерстве. Ќачалось следствие.
ƒоказать факт шпионажа полковника не удалось. ”далось доказать лишь факт мародерства, что можно было бы инкриминировать многим участникам военных операций в ¬осточной ѕруссии.
√лавное же обвинение в адрес ћ€соедова заключалось в том, что он сообщал немцам «посредством неустановленных лиц» (такова была официальна€ формулировка следстви€!) какую-то «информацию» о русских войсках.
Ќесмотр€ на отсутствие доказательств этой шпионской де€тельности ћ€соедова, военный суд признал его виновным в совершении именного этого преступлени€ (а не мародерства) и приговорил к смертной казни, при этом командующий фронтом не утвердил приговор, «ввиду разногласи€ судей».
¬последствии, генерал —амойлов честным словом ручалс€, что видел резолюцию ¬ерховного главнокомандующего Ќикола€ Ќиколаевича: «¬се равно повесить!» ј генерал –узский столь же убежденно говорил: именно из-за того, что подчиненный ему военно-полевой суд не вынес «правильного» приговора ћ€соедову, Ќиколай Ќиколаевич его сн€л с должности командующею фронтом и заменил его генералом јлексеевым.
ћ€соедов в камере разбил пенсне и осколком стекла вскрыл себе вены — дл€ офицера смерть от петли считалась особо позорной. ≈го перев€зали — и потащили на виселицу. „ерез два часа после вынесени€ приговора (утвержденного царем лишь несколько дней спуст€), из-под ног истекающего кровью полковника палач вышиб скамью…
—овершенно очевидно, что дело ћ€соедова было «шито белыми нитками». ¬ нем нет ни единого реального факта передачи от него немцам каких бы то ни было сведений, нет ни единой улики — только фантастические «сказки» олаковского.
ѕрофессионалы российских спецслужб: и генерал —пиридович, и генерал урлов, и директор ƒепартамента полиции ¬асильев, называли «дело» ћ€соедова «высосанным из пальца».
(ј нам-то рассказывают, что при царе-батюшке у нас был поистине высокопрофессиональное следствие и насто€щий, независимый суд!!!)
¬ благодарность за проведенное следствие по делу ћ€соедова великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич назначил генерала Ѕонч-Ѕруевича начальником штаба 6-й армии.
“аким образом, дело ћ€соедова €вл€лось частью борьбы великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича и близкого к нему генералитета против военного министра ¬.ј. —ухомлинова.
¬ конце июн€ 1915 года —ухомлинов был смещен со своего поста и заменен генералом ј.ј. ѕоливановым.
—разу же после этого начались аресты в окружении —ухомлинова, жертвой которых стал и кн€зь ƒумбадзе. ќн был приговорен к смертной казни, котора€ была заменена 20 годами каторги.
»стори€ миссии кн€з€ ƒумбадзе доказывает, что переговоры о сепаратном мире в 1915 году между представител€ми русского самодержави€ и германской монархии имели место. ѕодчеркнем, что инициатива переговоров исходила от германской стороны. » это была отнюдь не последн€€ инициатива германского руководства по заключению сепаратного мира с –оссийской империей.
¬ следующей главе подробно рассмотрим миссию фрейлины ћарии ¬асильчиковой и другие аналогичные контакты 1916 года.
ѕродолжение: http://www.proza.ru/2017/04/03/1360
© Copyright: —ергей ƒроздов, 2017
—видетельство о публикации є217032801477
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
√ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне |
ƒневник |
√ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне
- јвтор Vinogradskaya
- ƒата 22 окт€бр€ 2014 7:10
√лавна€ » ¬ойны » ѕерва€ мирова€ 1914-1918 гг. » √ероизм » Ќовости » √ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне
»стори€ ѕервой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосерди€ –оссийского общества расного реста (–ќ ).
”же к концу 1914 года –ќ содержал семьдес€т один госпиталь, 118 подвижных и этапных лазаретов, 58 передовых отр€дов, и санитарных поездов, обслуживавших театры военных действий —еверо-«ападного, «ападного и ёго-«ападного фронтов, 34 санитарных транспорта, 185 питательных пунктов, 22 дезинфекционных отр€да, 5 хирургических отр€дов и другие полевые медико-санитарные учреждени€.
Ќа содержание посто€нных коек расного реста из казенного пособи€ выдел€лось не более 3 млн. рублей, остальна€ же часть покрывалась из собственных капиталов ќбщества расного реста (13,5 млн. рублей) и многочисленных пожертвований. Ќа фронтах ѕервой мировой войны трудилось более 17 000 сестер милосерди€. ћногие члены семей высокопоставленных особ работали не только в тылу, но и на фронтах.
—естра милосерди€ –имма »ванова
“ак, например, дочь председател€ —овета министров √оремыкина ».Ћ. јлександра »вановна ќхочинска€ сразу после объ€влени€ войны поступила на курсы сестер милосерди€ и по окончании их отправилась на «ападный фронт. “ам же в одном из головных отр€дов служила сестра милосерди€ ≈лизаветинской общины —тупина Ќ.√. — дочь геро€ русско-€понской войны, √еоргиевского кавалера генерал-майора —тупина √.¬. –€дом работала супруга генерал-майора. ќна и похоронила свою дочь, скончавшуюс€ на передовых позици€х от простуды. ¬ лазарете √еоргиевской общины умерла сестра милосерди€ баронесса Ўтемпель ≈.Ќ. Ќа служебном посту в санитарном поезде окончила свои дни сестра милосерди€ графин€ ≈катерина Ќиколаевна »гнатьева, родна€ сестра министра народного просвещени€, участница русско-€понской войны, неоднократно награжденна€ за усердную службу.
¬ военно-санитарном поезде є 1 трудились сестры “ать€на и Ќадежда „ерн€евы, дочери известного в –оссии генерала, геро€ рымской войны „ерн€ева ћ.√. —естры „ерн€евы были награждены золотыми медал€ми на јннинской ленте. —пуст€ дес€ть мес€цев, они удостоились √еоргиевских медалей III степени, как следует из приказа, «за самоотверженность, про€вленную под огнем противника при оказании помощи раненым». “ать€на и Ќадежда получили эту награду за успешную эвакуацию 6 июл€ 1915 года раненых с железнодорожной станции ќстроленка, котора€ в тот момент подвергалась обстрелу из т€желых орудий.
—естра милосерди€ ≈лена ’ечинова
—реди награжденных значитс€ сестра милосерди€ военно-санитарного поезда при 8-м головном эвакуационном пункте ќ. ѕлахова, отмеченна€ √еоргиевской медалью ««а боевые отличи€». ¬ приказе командующего 10-й армией от 10 но€бр€ 1915 года отмечалось, что «17 августа 1915 года, следу€ в военно-санитарном поезде на перегоне между станци€ми –удишки и Ћандворово, с полным самоотречением, несмотр€ на сильный артиллерийский огонь противника и с €вной опасностью дл€ жизни, ќльга ѕлахова дважды подобрала раненых в поезд и сделала им перев€зки».
„етырех наград была удостоена сестра милосерди€, доброволец 7-го эвакуационного пункта ёли€ ѕучковска€, причем одну из своих боевых наград, √еоргиевскую медаль IV степени, она получила за перев€зку раненых во врем€ боев у реки —ан близ железнодорожной станции —урахов. Ќаход€сь во временном санитарном поезде є 228, ёли€ ѕучковска€ беспрестанно принимала на передовых позици€х воинов под сильным огнем австрийской артиллерии, за что и была удостоена награды. √еоргиевской медали III степени она удостоилась за то, что, как следует из приказа о награждении, «наход€сь 22 апрел€ 1915 года под действительным огнем и разрывами непри€тельских снар€дов и будучи оглушена сама, оказывала первую помощь раненым нижним чинам с €вной опасностью дл€ собственной жизни».
—естра милосерди€ √енриетта —орокина
Ќе меньшие подвиги, граничащие с самопожертвованием, совершали сестры милосерди€, добровольно выражавшие желание работать с инфекционными больными, нередко сами станов€сь жертвами этих болезней. —естра милосерди€ санитарно-эпидемического поезда ћатрена ћакарьевна Ћютикова до войны работала сельской учительницей в селе Ќиколаевка —амарской губернии и, несмотр€ на просьбы родителей не рисковать жизнью, поступила в сестры милосерди€, до последних дней пребыва€ в бараках дл€ инфекционных больных, где и скончалась от сыпного тифа.
Ќа авказском фронте ћари€ Ќиколаевна јгапова, врач-ординатор 2-го самарского лазарета ¬сероссийского «емского —оюза, в возрасте двадцати п€ти лет пала жертвой тифа — заразилась им, ухажива€ за больными пленными турками. «десь же от сыпного тифа скончалась сестра милосерди€ Ќина »вановна ќкунева, дочь известного москворецкого судовладельца ќкунева ».ѕ. — начала войны она работала в санитарном отделе ¬сероссийского «емского —оюза. «атем по собственному желанию уехала на авказский фронт, в отр€д, обслуживавший инфекционных больных. ѕотом работала в ѕерсии, далее была переведена в походный лазарет действующей армии под Ёрзерумом. ƒвадцатидвухлетн€€ сестра милосерди€ скончалась от сыпного тифа и была похоронена на Ѕратском кладбище в ћоскве.
“аких примеров, когда гражданский долг дл€ сестер милосерди€ ставилс€ выше собственной жизни, было немало. ѕервой из сестер милосерди€ удостоившейс€ в ѕервую мировую войну 1914-1918 годов √еоргиевского креста IV степени стала ≈лена ’ечинова. ≈лена онстантиновна ’ечинова родилась 22 сент€бр€ 1890 г. в приморском городе Ѕатуме в семье капитана дальнего плавани€ торгового флота. ѕосле окончани€ женской батумской гимназии ≈лена выходит замуж за молодого врача ¬ладислава ÷ебржинского и вместе с мужем с 1909 года живет в —анкт-ѕетербурге, где заканчивает акушерские курсы в родовспомогательном заведении на Ќадеждинской улице.
¬ первые дни войны, расставшись с семьей, ¬ладислав ушел на фронт в составе 141-го ћожайского полка и в бо€х 26-30 августа 1914 г. под —ольдау (¬осточна€ ѕрусси€) попал сначала в окружение, потом в плен. ”знав об этом, ≈лена онстантиновна, к тому времени уже мать двоих детей, принимает единственно приемлемое дл€ себ€ решение — отправитьс€ на фронт. ќна отвозит сыновей в Ѕатум и оставл€ет на попечение родителей, а сама добровольно уходит на фронт, переодевшись в мужскую одежду. ≈й удалось присоединитьс€ к маршевой роте в качестве фельдшера под именем √леба ÷етнерского.
ѕрибыв на фронт, ново€вленный фельдшер в звании прапорщика был зачислен в 186-й пехотный имени »мператора ѕетра I јсландузский полк, который входил в состав 4-й армии под командованием генерала от инфантерии Ёверта ј.≈. и составл€л авангард 47-й пехотной дивизии. 2 но€бр€ 1914 г. при наступлении полка на деревню ∆урав, когда артиллери€ противника начала обстреливать боевой пор€док полка, фельдшер-доброволец, вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным огнем противника влез на дерево, сто€вшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и артиллерии противника, доставил важные и весьма точные сведени€ о его силах и расположении, что и способствовало быстрой атаке и зан€тию деревни.
¬о врем€ боЄв фельдшер ÷етнерский оказывал помощь раненым. ¬о врем€ перев€зки своего раненого ротного командира фельдшер был ранен осколком т€желого снар€да, но, несмотр€ на это, продолжал начатую перев€зку, и только по окончании таковой сам перев€зал себ€, после чего под сильным огнем артиллерии противника, забыв собственную рану, вынес своего ротного командира из боевой линии огн€. ¬ госпитале, при перев€зке плеча, вы€снилось, что фельдшер – женщина. ≈лена ÷етнерска€ была награждена √еоргиевским рестом IV-й степени.
ќправившись от ран, она вновь добровольно возвратилась в полк в форме санитара-добровольца и за€вила о своем желании послужить –одине в боевой линии, но, как женщине, ей в этом было отказано. ≈лена онстантиновна уже в мае 1915 г. командируетс€ фельдшером в 3-й авказский передовой отр€д, а точнее, в јгудзерский военный госпиталь под —ухумом. ћожно предположить, что плечевое ранение давало о себе знать, и поэтому 31 декабр€ 1915 г. ее отчислили со службы. Ќо не проходит и трех мес€цев, как ≈лена онстантиновна уже служит сестрой милосерди€ при “ифлисской Ќадеждинской общине, а в конце апрел€ того же года переводитс€ ближе к фронту, в Ѕатумский госпиталь…
— начала 1917 г. ≈лена ’ечинова вновь на т€желом участке войны. »звестен случай, когда в √алиции передовые цепи из-за продолжительного и сильного огн€ противника оказались отрезанными от основных частей. ќколо суток солдаты оставались без пищи, никто не решалс€ пробитьс€ к ним. “огда ≈лена онстантиновна вскочила на повозку с походной кухней, запр€женную лошадьми, и погнала их через все поле к окопам, чтобы накормить солдат. „удом спаслась!
¬ первые дни войны ушла добровольно на фронт сестрой милосерди€ –имма ћихайловна »ванова, она служила в 105-м пехотном ќренбургском полку, который в составе 3-го армейского корпуса принимал участие в сражени€х на —еверо-«ападном фронте. ¬о врем€ нашей атаки 10-€ рота потер€ла убитыми командира роты и младшего офицера. —естра »ванова, увидев роту без офицеров, выхватила саблю и бросилась с ней в атаку. —обрав роту около себ€, и захватила одну из линий окопов противника, где, будучи т€жело ранена, она скончалась славной смертью храбрых на передовой линии… Ќиколай II за беспримерный подвиг наградил посмертно сестру милосерди€ »ванову –.ћ. орденом —в€того ¬еликомученика и ѕобедоносца √еорги€ IV степени.
ѕолным кавалером √еоргиевских наград стала сестра милосерди€ √енриетта ¬икторовна —орокина, спасша€ знам€ 6-го Ћибавского полка. ¬о врем€ бо€ под —ольдау, при работе на перев€зочном пункте, √енриетта была легко ранена в ногу. «наменщик Ћибавского полка, т€жело раненный в живот, сорвал с древка знам€, свернул его и тихо сказал: «—естра, спаси знам€!» и с этими словами умер на ее руках. ¬скоре сестра милосерди€ была вновь ранена, еЄ подобрали немецкие санитары и положили в госпиталь, где ей вынули пулю из ступни. “ам √енриетта и пролежала, пока ее не признали подлежащей эвакуации в –оссию, сохранив знам€. √осударь наградил сестру —орокину √еоргиевскими медал€ми I и II степени. ѕосле описанных событий сестра милосерди€ вновь отправилась на фронт и ревностным трудом заслужила остальные награды.
ѕрекрасный пример героизма €вила собой баронесса ≈вгени€ ѕетровна “олль, кавалер √еоргиевского креста IV степени, трижды раненна€ в бою и представленна€ за свои ратные подвиги к √еоргиевским крестам III и II степени! ¬ армии баронесса была более известна под именем оркиной ≈.ѕ., а ее мужа, чью фамилию она носила, убили под Ћюблиным в первые же дни войны. ¬ звании ротного фельдшера баронесса находилась на «ападном фронте в армии генерала —амсонова. ¬от как сама героин€ описывает пережитое: «я водила роту в атаку, и рота вз€ла непри€тельский окоп.
Ѕатальонный командир был ранен, ротный тоже, а прапорщик контужен. я здесь же под огнем перев€зывала солдат. ¬друг рота начала отступать, и €, забыв про все, своим командованием остановила роту. — криком «”ра!» бросилась вперед, вс€ рота кинулась за мной и вз€ла окоп. огда же наша рота вступила в рукопашный бой, € вновь пошла перев€зывать раненых, а роту сдала подоспевшему в это врем€ вновь назначенному ротному командиру».
√еоргиевский крест III степени “олль ≈.ѕ. заслужила за спасение раненого батальонного командира, которого вытащила с линии огн€, обв€зав веревкой. ѕодн€ть его было очень трудно, и баронесса буквально впр€глась, перекинув концы веревки через плечо, и т€нула командира по траве, упира€сь ногами в землю, пока не дотащила до безопасной зоны. ƒождавшись сумерек, пришедшего в сознание офицера баронесса осторожно спустила в овраг, оставила его там, а сама вызвала санитаров, которые и донесли командира до своих.
¬о врем€ отступлени€ наших войск на одном из участков фронта под непрерывным огнем непри€тельских орудий пришлось отступить и летучему санитарному отр€ду, в котором работала оркина ≈.ѕ. —анитарный отр€д попал под страшный шрапнельный огонь. „тобы остановить обстрел, санитары высоко подн€ли белое знам€ с расным рестом, но огонь не только не прекратилс€, но, напротив, начал буквально косить раненых. » тогда сестра оркина с помощью немногих санитаров прин€лась спасать их, выволакива€ из санитарных повозок и перенос€ в безопасное место. оркина ≈.ѕ. лично спасла дев€ть офицеров, на собственных плечах вынос€ их из-под обстрела. ј затем, воспользовавшись паузой, угнала две повозки с ранеными из зоны обстрела непри€тельских снар€дов и устроила раненых в больнице немецкого села, накануне зан€того русскими.
„ерез несколько дней ей пришлось повторить то же самое, срочно эвакуиру€ раненых уже из больницы, котора€ попала под обстрел наступающих непри€тельских сил. Ќа повозках, с помощью двух санитаров, она перевозила их к железной дороге, где сто€л санитарный поезд, который благополучно доставил раненых в царскосельский лазарет. Ѕаронесса ≈вгени€ ѕетровна оркина (“олль) за врем€ боев была ранена в ногу, в живот и в грудь, во всех случа€х — навылет.
ƒальнейша€ судьба баронессы неизвестна, как неизвестны подробности совершенных героических поступков и другой женщины — баронессы —офии де Ѕоде, участницы ѕервой мировой войны на стороне российских войск. »звестно лишь, что сразу после окт€брьских событий 1917 года баронесса де Ѕоде примкнула к белому движению и участвовала в кубанском походе. ќна обращала на себ€ внимание красотой, храбростью и решительностью. —лужила баронесса в кавалерии и погибла под ≈катеринодаром во врем€ лихой, но безуспешной атаки.
— началом войны волна патриотизма прокатилась по широким просторам –оссийской империи, захватив различные слои общества, включа€ и молодежь, традиционно воспитанную в духе преданности ќтечеству. ¬ родословной каждый российской семьи всегда можно найти защитников –одины — от солдат до генералов. “ак что примеров дл€ подражани€ достаточно. ¬ойна застала ќльгу Ўидловскую в ¬итебске, откуда она с родител€ми вскоре переехала в ћогилев, так как отец ќльги был назначен губернатором ћогилевской губернии.
ћолода€ девушка из двор€нской семьи, едва дождавшись окончани€ дополнительного восьмого класса местной гимназии, отправилась на фронт. ќтец противилс€ этому, поскольку слишком свежа была рана, нанесенна€ гибелью старшего сына, офицера 102-го пехотного ¬€тского полка ѕавла Ўидловского, в бо€х под —ольдау. Ќо ќльга оставалась непреклонной. ƒобившись одобрени€ отца, она обратилась с посланием к ¬ерховному главнокомандующему с просьбой разрешить ей вступление в р€ды действующей армии.
11 июл€ 1915 года она поступает на службу в 4-й гусарский ћариупольский полк добровольцем р€дового звани€ под именем ќлега —ергеевича Ўидловского. ¬ыбор места службы был не случаен. Ѕолее ста лет тому назад, в ќтечественную войну 1812 года, в этом прославленном полку с весны 1811 года служила известна€ всей –оссии знаменита€ женщина — корнет и √еоргиевский кавалер Ќадежда јндреевна ƒурова. ѕозже она перешла в Ћитовский уланский полк, в котором пробыла в течение всей войны.
√имназистка ќльга Ўидловска€ зачитывалась бесхитростными записками кавалерист-девицы, восхищалась ее подвигами и, конечно же, желала подражать ей. «а короткий срок ревностной службы в знаменитом 4-м гусарском полку р€довой гусар ќлег Ўидловский был произведен в ефрейторское звание, а за доблестное участие в вылазках удостоилс€ √еоргиевской медали IV степени. ¬ начале 1916 года ќльга Ўидловска€ производитс€ в младшие унтер-офицеры, а в мае того же года снова получает повышение.
ѕослужной список, подписанный генерал-майором „есноковым, откуда вз€ты перечисленные сведени€, свидетельствует, что спуст€ два мес€ца после присвоени€ очередного звани€ восемнадцатилетний гусар награждаетс€ √еоргиевским крестом IV степени. —тарший унтер-офицер ќлег Ўидловский участвовал во всех бо€х, счастливо избежав каких-либо ранений, вплоть до 30 но€бр€ 1917 года, когда вследствие большевистского переворота полк был расформирован.
ѕосле демобилизации бывша€ двор€нка ќльга —ергеевна Ўидловска€ возвращаетс€ сначала в иев, затем в ’арьков и после непродолжительных странствий посел€етс€ в ялте, где работает ночным сторожем на виноградниках. ¬ √ражданской войне она не участвует. »з рыма вместе с родител€ми эмигрирует в „ехословакию, а в 1930 году переезжает на посто€нное жительство в ёгославию.
¬о врем€ ¬торой мировой войны ќльга —ергеевна с больными престарелыми родител€ми и старшим братом, инвалидом ѕервой мировой войны, остаетс€ в Ѕелграде вплоть до освобождени€ его советскими войсками и югославскими партизанами. „ерез три дн€ брата, офицера ƒобровольческой армии, расстреливают, а вскоре умирают родители. ќставшись одна, ќльга Ўидловска€ пытаетс€ покинуть страну и в 1959 году с помощью соотечественников переезжает в јргентину. «десь особенно нелегко найти приемлемую дл€ немолодой женщины посто€нную работу. ќльга —ергеевна живет поденщиной, шьет на дому, убирает чужие квартиры и т.п.
¬ 1959 году ќльга Ўидловска€ скончалась от сердечного приступа, ее похоронили на кладбище —ан-ћартин в предместье Ѕуэнос-јйреса. ¬ 1967 году ее прах перенесли в усыпальницу церкви –усского ќчага в »тусаинго. “ак вдали от –одины оборвалась жизнь прославленного офицера российской армии, √еоргиевского кавалера, лихого гусара ќльги —ергеевны Ўидловской, за могилой которой по сей день ухаживают ее соотечественники и православна€ церковь.
ѕо материалам книги ё. ’ечинов «¬ойна и милосердие. —траницы истории ќтечества», ћ., «ќткрытое –ешение», 2009, с. 114-150.
—оветую прочитать:
- ƒиверсионные операции ѕервой мировой войны
- »стребители √ермании в ѕервой мировой войне
- —очинение на тему «“рагизм образа √ригори€ ћелехова в романе ћ. Ўолохова «“ихий ƒон»
- —икорский ».». и его аэроплан «»ль€ ћуромец» в 1914 году
- ѕравославна€ церковь в ѕервой мировой войне
http://voynablog.ru/2014/10/22/geroizm-sester-miloserdiya-v-pervoj-mirovoj-vojne/
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
ќбщество и милосердие в ѕервой мировой |
ƒневник |
ќбщество и милосердие в ѕервой мировой
- јвтор Vinogradskaya
- ƒата 20 окт€бр€ 2014 6:04
√лавна€ » Ќовости » ¬ойны » ѕерва€ мирова€ 1914-1918 гг. » –осси€ » ќбщество и милосердие в ѕервой мировой
ƒл€ –оссии кровопролитна€ ѕерва€ мирова€ война 1914-1918 годов с первых же дней прин€ла широкомасштабный характер, раздвинув свои границы от авказа до Ѕалтики. –оссийские войска вели основные сражени€ на «ападном фронте, в √алиции и приграничье, не отдава€ противнику даже малой части своих территорий.
ѕо дорогам войны колесили дес€тки летучих санитарных поездов и лазаретов, состо€вших в ведении члена √осударственной ƒумы ѕуришкевича ¬.ћ. ¬ начале 1915 года на передовых позици€х «ападного фронта начал работать первый пробный поезд-бан€. ¬се пользовавшиес€ баней, от солдат до офицеров, получали чистое белье, а свое оставл€ли в поезде дл€ стирки и починки. ѕоезда-бани были снабжены оборудованием дл€ машинной стирки, сушки и глажени€ бель€, которое размещалось в специальных вагонах. ѕоездом-баней могли пользоватьс€ 1500 человек в сутки.
Ѕыли организованы и передвижные питательные пункты. ¬ считанные часы на открытом воздухе разбивались просторные палатки, складывались печи и кип€тильники, устанавливались длинные столы с приборами. ¬ торце стола по вечерам зажигалс€ факел. Ќа столе, по словам очевидцев, было предусмотрено все — от из€щных пепельниц до подставок дл€ €иц. —тол накрывалс€ полотн€ной скатертью, а среди блюд об€зательными были закуски: ветчина, сыр, консервы, молоко, €йца, белый хлеб, а к чаю — варенье, пр€ники, разного сорта конфеты и пастила. ¬есной и летом на столах в гильзах от шрапнели сто€ли пышные букеты полевых цветов. ¬ палатках располагались специальные столы с письменными принадлежност€ми — чернилами, карандашами, конвертами, а также свежие газеты.
—естры ћарфо-ћариинской обители среди раненых, 1914 г.
ѕодобные заведени€, известные среди солдат и офицеров под названием «питательно-ласкательные пункты», работали круглосуточно, и каждый из воинов, прибывший на пункт, в любое врем€ мог получить еду, гор€чий чай и внимание со стороны обслуживающего персонала. ќфицерам после изнурительных боев и окопной жизни предлагалось прин€ть баню, получить свежее белье и чистую постель. “ак же были организованы еще тринадцать питательных пунктов, которые курсировали по дорогам войны, по€вл€€сь на передовых и принос€ радость тыс€чам уставших воинов.
ѕередвижной отр€д под названием «–усское учительство» организовал омитет помощи пострадавшим от войны. Ќеобходимые средства поступили от сбора пожертвований в ѕетрограде и из отчислений провинциальных народных училищ. ¬о главе отр€да стал уполномоченный ѕетроградской ƒумы ‘альнборг √.ј. ќтр€д был сформирован из п€ти санитаров-студентов, сестер милосерди€ ауфманской общины, классных дам, курсисток, медичек, народных учительниц и трех врачей. ќбразцово оборудованный отр€д, включавший два питательных пункта, дезинфекционную баню и перев€зочную, колесил по передовым позици€м, нес€ скорую помощь и облегчение защитникам ќтчизны.
«начительную помощь раненым и беженцам оказывал на дорогах войны санитарно-питательный отр€д –оссийского расного реста во главе с ћарией ¬асильевной Ўелапутиной. роме оказани€ первой медицинской помощи отр€д снабжал раненых и беженцев всем необходимым: бельем, табаком, чаем и т.п. «а два года существовани€ отр€д помог двумстам тыс€чам беженцев и воинов. ќн не раз попадал под обстрел, но не прекращал своей милосердной помощи, за что Ўелапутина ћ.¬. и несколько ее сотрудниц были награждены √еоргиевскими медал€ми.
Ћетом 1915 года по ¬олге начал курсировать первый специализированный госпиталь-санаторий — переоборудованный пароход «¬елика€ кн€гин€ сени€». ѕароход был приспособлен дл€ лечени€ офицеров, нижних чинов, в первую очередь пораженных отравл€ющими веществами, которые непри€тель начал примен€ть на позици€х российских войск. „истый и сухой воздух волжских просторов, в особенности в южных его районах, благопри€тствовал излечению болезней дыхательных путей и легких. —ледом за «¬еликой кн€гиней сенией» речные просторы ћосквы-реки, ќки и ¬олги начала бороздить баржа «—лав€нин», приспособленна€ под плавучий госпиталь дл€ воинов, пострадавших от удушливых газов.
Ќа военные нужды росси€не отдавали немалые деньги. “ак, по завещанию нефтепромышленника Ћевана онстантиновича «убалова московскому городскому самоуправлению и земству на оборудование лазаретов дл€ больных и раненых воинов жертвовались 450 000 рублей. ¬ «¬естнике расного реста» периодически публиковались списки жертвователей, которым объ€вл€лась ¬ысочайша€ благодарность јвгустейшей покровительницы –оссийского общества расного реста »мператрицы ћарии ‘едоровны.
¬ списке значились петроградское двор€нство, пожертвовавшее 100 000 рублей на расходы по содержанию санитарного отр€да. —реди частных лиц ¬ысочайшей благодарности удостоились семь€ покойного кн€з€ ¬олконского ѕ.√. за пожертвование 18 000 рублей, графин€ “олста€ Ќ.¬., передавша€ расному ресту 10 000 рублей на содержание отр€да ее имени, графини Ўувалова ≈.¬. и ¬оронцова-ƒашкова ≈.ј. за щедрые денежные вклады на содержание питательных пунктов и подвижных отр€дов сестер милосерди€. ¬ этих списках были и очень скромные вклады, как, например, вклад кресть€нина —ем€нникова ѕ.Ќ. в сумме трех рублей, €понского купца иициро ÷уси€, передавшего в –ќ п€тьдес€т шесть рублей, и младшего унтер-офицера ‘. √рибкова, пожертвовавшего один рубль.
8 сент€бр€ 1915 года в Ќижнем Ќовгороде был открыт лазарет при военном учебном заведении јракчеевского кадетского корпуса. Ћазарет содержалс€ на средства служащих корпуса, супруги командира и жен командиров войсковых частей нижегородского гарнизона. ƒва мес€ца спуст€ там же состо€лось осв€щение другого лазарета, прин€того под покровительство расного реста и оборудованного на средства кресть€нина угушева ћ.√. ѕомещение дл€ лазарета нижних чинов позвол€ло разместить п€тнадцать раненых или требующих постельного режима воинов.
¬ ћоскве по инициативе ўенковой ≈.—. ќбъединенный комитет биржевого и купеческого обществ открыл патронат с учебными мастерскими дл€ воинов, ставших калеками. ƒл€ их приобщени€ к полезному труду оборудовали сапожную, портн€жную и шорную мастерские на сто человек. урс обучени€ мастерству был рассчитан на три мес€ца. »звестный в –оссии книгоиздатель —ытин ».ƒ. пожертвовал патронату целую библиотеку книг по необходимым специальност€м и комплект настенных таблиц по сельскому хоз€йству.
ћоральный дух армии поддерживалс€ также обширной почтой, котора€ посто€нно поступала в штаб ¬ерховного главнокомандующего и в штабы армий от отдельных лиц, обществ и различных органов самоуправлени€ в виде приветствий и обращений к российским войскам с верой в родную армию. Ќа передовых позици€х военными корреспондентами работали представители крупнейших российских газет и журналов, освеща€ исторические событи€ тех тревожных дней. —реди них были Ќабоков ¬.ƒ., Ќемирович-ƒанченко ¬.»., ≈горов ≈.ј. и многие другие мастера театра, литературы и журналистики.
√ероические поступки российских воинов и духовенства на пол€х сражени€, их преданность ќтчизне вдохновл€ли общественность на многочисленные благотворительные акции. ћатериальна€ помощь, помимо общегосударственных ассигнований на нужды войны, поступала из различных источников. ∆енское патриотическое общество, основанное еще во врем€ войны 1812 года, выпустило серию патриотических почтовых марок с надбавкой в одну копейку к номинальной цене. —ери€ состо€ла из четырех марок стоимостью в одну, три, семь и дес€ть копеек, на которых были изображены древнерусский воин с мечом и щитом, всадник с ружьем, бо€рын€ в окружении детей и √еоргий ѕобедоносец, пронзающий копьем дракона. “ака€ форма пожертвовани€ пришлась по душе российским гражданам. ћарки хорошо раскупались.
Ќе довольству€сь сведени€ми из газет о положении на фронте, испытыва€ огромное желание видеть происход€щее своими глазами, приобщитьс€ к нуждам солдат и поддержать их, представители –оссийского общества расного реста, земских союзов и высокопоставленные особы выезжали на передовые позиции. ѕоводом дл€ этого чаще всего была раздача подарков нижним чинам. √рафин€ ћари€ јлександровна апнист посетила утаисский полк. ѕод огнем, в передовых окопах раздавала подарки солдатам, за что и была награждена √еоргиевской медалью III степени. ¬последствии за подобные акции графин€ еще дважды была удостоена √еоргиевских медалей.
—упруга члена √осударственного совета „аплина ј.ј., уполномоченна€ от ѕетрограда по доставке теплых вещей защитникам –одины, также была награждена √еоргиевской медалью IV степени за то, что под огнем противника раздавала подарки солдатам. «а храбрость, про€вленную при посещении передовых позиций с благотворительными цел€ми, √еоргиевской медалью IV степени была награждена кн€гин€ —алтыкова ≈. . и многие другие.
¬ орбиту благотворительной де€тельности включались и супруги военачальников. —упруга генерала Ѕрусилова, Ќадежда ¬ладимировна Ѕрусилова, переехала в 1916 году из ћосквы в ќдессу дл€ организации склада »мператрицы јлександры ‘едоровны по отправке на фронт необходимых вещей дл€ воинов. Ѕрусилова Ќ.¬. организовала в ¬иннице работу по оказанию помощи пострадавшим в войне и там же основала детский приют, вз€в на себ€ заботы по попечительству. ¬ ћоскве в 1915 году она восстановила дело братской помощи защитникам –одины, которое было начато ею еще в €понскую кампанию.
—тать€ написана по материалам книги ё. ’ечинов «¬ойна и милосердие. —траницы истории ќтечества», ћ., «ќткрытое –ешение», 2009.
—оветую прочитать:
- Ѕомбардировочна€ авиаци€ союзников в ѕервой мировой
- ƒе€тели искусства в годы ѕервой мировой войны
- √ерои русской армии в годы ѕервой мировой
- ћаршал ∆уков √. .
- «аградотр€ды на защите столицы
http://voynablog.ru/2014/10/20/obshhestvo-i-miloserdie-v-pervoj-mirovoj/
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
”частие женщин в ѕервой мировой войне |
ƒневник |
”частие женщин в ѕервой мировой войне
- јвтор Vinogradskaya
- ƒата 16 окт€бр€ 2014 15:22
√лавна€ » ¬ойны » ѕерва€ мирова€ 1914-1918 гг. » √ероизм » Ќовости » ”частие женщин в ѕервой мировой войне
ќ массовом подъеме патриотизма в годы ѕервой мировой говорило и небывалое участие женщин и подростков в этой поистине народной войне. Ќе довольству€сь т€желой, порой изнурительной работой в тылу, лазаретах, санитарных поездах и перев€зочных отр€дах, росси€нки вступали добровольно в р€ды действующей армии, несли т€желую службу нар€ду с нижними чинами и в окопах, и в разведке, преодолева€ наравне с мужчинами любые трудности.
¬ойна — это всегда трагическа€ страница истории народа. „то оставл€ет она после себ€? Ќаградные кресты и кресты на могилах? Ќо именно в годину т€жких испытаний про€вл€етс€ подлинный дух народа, патриотизм и стойкость в борьбе, верность долгу. Ќравственный подъем нации рождает милосердие и сострадание к люд€м, желание помочь терп€щим бедстви€ и в тылу, и на войне. акое непривычное сочетание — воин и женщина…
Ќекоторые женщины считали медицинскую службу недостаточным вкладом в дело победы и стремились попасть на фронт в качестве бойцов. Ўирокую известность приобрела јнтонина “ихоновна ѕальшина, произведЄнна€ в унтер-офицеры и ставша€ √еоргиевским кавалером. ќна родилась в —арапуле в 1897 году в кресть€нской семье, рано осиротела, успела освоить профессию швеи, работала в Ѕаку разносчицей сладостей. — началом войны она купила на базаре поношенную солдатскую форму и добилась зачислени€ во 2-й авказский кавалерийский полк под именем јнтона “ихоновича ѕальшина. ¬ бою под турецкой крепостью √асанкала јнтонина была ранена, и в госпитале вы€снилось, кто в действительности скрывалс€ под именем јнтона.
∆енщина-доброволец в военной форме (справа) и сестра милосерди€ (в центре), 1915 г.
Ѕо€сь быть уволенной из армии, после выздоровлени€ јнтонина решила перебратьс€ на другой фронт — австрийский, — но на станции была арестована и направлена в —арапул. ѕосле окончани€ краткосрочных курсов сестЄр милосерди€ еЄ направили на ёго-«ападный фронт. ќднако в госпитале она задержалась ненадолго: после смерти одного из молодых солдат јнтонина тайно переоделась в его одежду и отправилась на передовую. ¬скоре ей удалось зачислитьс€ в 75-й пехотный —евастопольский полк, где она ходила в разведку и на пару с другим солдатом захватила «€зыка».
«а геройские действи€ при штурме высоты на реке Ѕыстрица ѕальшину наградили √еоргиевским крестом 3-й степени, произвели в ефрейторы и назначили командиром отделени€ из 11 солдат. ¬ сражении под „ерновицами, оказав медицинскую помощь раненому командиру роты, она подн€ла роту в атаку, но была ранена. ¬ госпитале снова обнаружилась правда об отважном бойце, однако јнтонину представили к ещЄ одному √еоргиевскому кресту.
—тарший унтер-офицер ќлег (ќльга) Ўидловский, 1916 г.
—емнадцатилетн€€ ќльга Ўидловска€, дочь могилЄвского вице-губернатора, с самого начала войны стремилась на фронт. ≈Є старший брат уже погиб, а младший был т€жело контужен, поэтому отец противилс€ этому стремлению. ќднако, вид€, что ќльга настроена решительно, поставил непременным условием получение ею среднего образовани€ — наде€сь, что за это врем€ воинственный пыл дочери пройдЄт. ќднако и после окончани€ дополнительного курса гимназии ќльга не изменила своего решени€. ѕришлось обратитьс€ за разрешением служить в армии к ¬ерховному главнокомандующему.
ѕосле получени€ такового ќльга под именем ќлега —ергеевича Ўидловского была зачислена в 4-й гусарский ћариупольский полк — в котором некогда служила кавалерист-девица Ќадежда ƒурова, ставша€ дл€ девушки образцом дл€ подражани€. ”же в сент€бре 1915-го Ўидловска€ была произведена в ефрейторы, а в 1916 году — в младшие, а затем и в старшие унтер-офицеры. ќна участвовала во всех бо€х полка. «а отча€нную храбрость и ревностную службу в годы войны ќльга —ергеевна была награждена √еоргиевской медалью и √еоргиевским крестом 4-й степени.
ƒалеко не единственным примером участи€ женщин в боевых действи€х служит истори€ јнатоли€ “ычинина, рассказанна€ в журнале «Ќива» за 1914 год. Ќа самом деле это была женщина — ј. “ычинина. ¬от ее краткий пересказ. ¬ стрелковый полк прибыла группа нижних чинов, среди которых выдел€лс€ своей молодостью и малым ростом один доброволец. омандир роты хотел назначить его на должность ротного писар€ и отправить в обоз, но ј. “ычинин объ€вил, что не желает находитьс€ в тылу, настойчиво просилс€ в строй. ћолодому солдату выдали винтовку и научили обращатьс€ с ней.
21 сент€бр€ 1914 года во врем€ бо€ под городом ќпатов ј. “ычинина назначили подносить патроны, что он делал весьма усердно и ловко, невзира€ на сильный ружейный и артиллерийский огонь. ¬оин перев€зывал также раненых и под сильным огнем выносил их с пол€ сражени€. Ѕудучи раненым в руку и в ногу, молодой солдат не оставл€л своей самоотверженной работы до тех пор, пока непри€тельска€ пул€ не сразила его. ѕри отходе от города ќпатова т€жело раненный јнатолий “ычинин осталс€ лежать на поле бо€. «а этот бой добровольцу был жалован √еоргиевский крест IV степени.
¬ но€бре бежавший из плена ротный фельдфебель того же полка доложил командиру полка, что видел в городе ќпатове раненого добровольца ј. “ычинина, который оказалс€ молодой девушкой, воспитанницей киевской гимназии. огда русские войска снова зан€ли ќпатов, она была эвакуирована в –оссию на лечение. 11 €нвар€ 1915 года √осударь «всемилостивейше соизволил (как следует из приказа) признать девицу “ычинину награжденною √еоргиевским крестом IV степени».
ƒети-добровольцы
числу героинь ¬еликой войны принадлежит и јлександра ≈фимовна Ћагерева, котора€ под именем јлександра ≈фимовича Ћагер€ поступила разведчиком в казачий полк. ¬о врем€ боЄв в —увалкской губернии отр€д из четырЄх казаков под командой ур€дника Ћагер€ столкнулс€ с превосход€щими силами германских улан и был вз€т в плен. ќднако им удалось бежать и вскоре соединитьс€ с ещЄ трем€ казаками, отставшими от своей части. ”же практически у своих позиций этот маленький отр€д столкнулс€ с 18 немецкими уланами и… захватил их в плен. «а этот подвиг јлександру произвели в прапорщики, а за отличи€ в бо€х наградили двум€ √еоргиевскими крестами.
Ќа пол€х сражени€ √еоргиевскими кавалерами стали разведчица ира Ѕашкирова, унтер-офицер ћари€ Ѕочкарева и другие. ƒобровольцем на фронт по окончании “омской женской гимназии и курсов медсестер ушла јгни€ Ќиколаевна јгеева. ¬ступив в 291-й пехотный “рубчевский полк, она непосредственно участвует в бо€х в районе јвгустовских лесов. «а участие в разведке и добыче «€зыка» јгни€ Ќиколаевна јгеева награждаетс€ √еоргиевским крестом IV степени.
—естра милосерди€ ј. “олста€ перед отъездом на —еверо-«ападный фронт
ѕозднее јгеева ј.Ќ. работала сестрой милосерди€ в военном госпитале имени генералиссимуса ∆оффра в ѕетрограде. Ќе прин€в ќкт€брьского переворота, двадцатидвухлетн€€ сестра милосерди€ пробилась на ƒон и вместе со своей подругой, шведкой ≈леной ќбрам, вступила в орниловский ударный полк. “ак поступали и многие другие сестры милосерди€, до конца разделившие участь ƒобровольческой армии, ставшей на борьбу с большевиками.
— трагической горечью восприн€в разложение российской армии, а затем окончательный ее развал, не прин€в ќкт€брьского переворота 1917 года, многие русские офицеры и добровольцы пополнили р€ды белого движени€, закончив свой тернистый путь кто на просторах —ибири, а кто на ƒону. –азваливша€с€ на глазах многомиллионна€ российска€ арми€ беспор€дочно покидала фронт и растекалась по стране. Ѕесконечные эшелоны некогда победоносной авказской армии прибывали в южные районы ƒона и убани. ќтдельные подразделени€, еще сохранившие привычную войсковую организацию и не прин€вшие большевистскую власть, пополн€ли р€ды ƒобровольческой армии, которую возглавили генералы јлексеев ћ.¬. и орнилов Ћ.√. ќпорным пунктом дислокации и формировани€ армии стал –остов-на-ƒону.
¬ первые же дни в числе других в ƒобровольческую армию стали записыватьс€ и женщины. ¬ составе армии насчитывалось сто шестьдес€т женщин, среди них сестры милосерди€ — √еоргиевский кавалер јгни€ јгеева, восемнадцатилетн€€ шведка ≈лена ќбрам, ≈вдоки€ Ўмидт, прапорщик, √еоргиевский кавалер «инаида –еформатска€, отважна€ пулеметчица “ать€на Ѕахраш, выпускницы јлександровского военного училища прапорщики «инаида —вирчевска€, Ќадежда «аборска€, «инаида √етхард, ёли€ ѕылаева, јнтонина очергина и многие другие.
ѕод натиском большевиков, оставив 9 феврал€ 1918 года –остов-на-ƒону, ƒобровольческа€ арми€ в непрерывных бо€х в течение восьмидес€ти дней проделала свой тыс€чекилометровый поход на юг. ѕервый, как его называли, убанский поход генерала орнилова закончилс€ в ≈катеринодаре.
—ергей Ўпаковский в книге «∆енщина-воин» приводит воспоминани€ одного из участников этого похода, свидетел€ гибели на поле бо€ девушек — выпускниц јлександровского военного училища: «ѕолутемна€ громада войскового собора в ≈катеринодаре. √орсточка людей, пришедших помолитьс€ за усопших. — амвона раздаютс€ печальные слова: «ќб упокоении душ рабов Ѕожьих воинов “ать€ны, ≈вгении, јнны, јлександры…»».
Ќесколько раньше с авказского фронта в ≈катеринодар прибыла девушка-прапорщик Ќина Ѕойко, котора€ вошла в отр€д сопротивлени€ большевистскому режиму. Ётот отр€д еще перед первым кубанским походом генерала орнилова прин€л участие в ожесточенном бою с красными част€ми у станции Ёйнем. ќдна часть отр€да, следу€ военному маневру, сдерживала фронтальный натиск красных, а друга€ пошла в обход, чтобы ударить противнику в тыл. «ан€в оборону у моста, Ќина Ѕойко пулеметным огнем преграждала подходы к нему. —трочил неугомонно пулемет, его меткие очереди косили русских солдат, с которыми совсем недавно на авказском фронте прапорщик Ќина Ѕойко вместе воевала и праздновала радость побед, а сейчас стрел€ла в них до тех пор, пока не повернула всп€ть цепи красных бойцов, стрел€ла, пока не умолк ее пулемет. огда на подмогу ей подошли казаки, девушка крепко держала в руках руко€ть, навалившись окровавленной грудью на остывающий ствол…
–€дом со взрослыми воевали и подростки. ¬оенна€ хроника тех лет пестрит сообщени€ми о геройских поступках подростков, среди которых √еоргиевскими кавалерами стали казак »ль€ “рофимов, двенадцатилетний разведчик ¬асилий Ќаумов, п€тнадцатилетние добровольцы ян ѕшулковский, »ван азаков и многие другие.
Ћетом 1915 года на излечении в лазарете костромских педагогов находилс€ юный »ван азаков. орреспондент журнала «»скры» смог побеседовать с ним. ¬от строки из последующей публикации: «ѕ€тнадцатилетний казак родом из ”сть-ћедведицкой станицы участвовал в кровопролитных бо€х на территории ¬осточной ѕруссии. ¬ рукопашной схватке отбил у непри€тел€ пулемет, спас прапорщика ёницкого, а во врем€ удачной разведки обнаружил вражескую батарею, котора€ затем была целиком, с орудийным расчетом, вз€та в плен нашим отр€дом». Ќа груди у юного солдата »вана азакова красовались √еоргиевские кресты II, III и IV степеней.
Ўестнадцатилетний воспитанник —трогановского училища доброволец ¬ладимир —околов, раненный в ногу на австро-германском фронте, был произведен в унтер-офицеры и награжден √еоргиевским крестом IV степени за то, что сумел «сн€ть» непри€тельский «секрет» и захватить пулемет во врем€ атаки. «а про€вленную храбрость на австрийском фронте полным √еоргиевским кавалером стал семнадцатилетний юноша ¬ладимир ¬ейсбах.
» уж совсем удивительную историю, забытую в бурном водовороте последующих событий, поведал —ергей Ўпаковский в книге «∆енщина-воин», изданной в Ѕуэнос-јйресе в 1969 году. ¬дали от театра военных действий, на северо-западной окраине –оссии, первую в ту мировую войну боевую награду получила ћарус€ Ѕагрецова, двенадцатилетн€€ дочь смотрител€ ма€ка, который находилс€ на мысе —в€той нос. ћыс стрелой врезалс€ в Ѕелое море, отдел€€ его от Ѕаренцева. ћа€к был оборудован специальной сигнальной мачтой, паровой сиреной дл€ подачи сигналов во врем€ тумана и непогоды и имел пр€мую телефонную св€зь с јрхангельском.
ƒолгие годы на ма€ке исправно служил смотритель со своей семьей и помощником. ∆ена смотрител€ умерла, он часто болел и вскоре потер€л слух, а помощника смотрител€ призвали в армию. ƒо выхода на пенсию смотрителю оставалось всего несколько мес€цев, и, чтобы не потер€ть ее, он скрыл недуги, а дочку обучил службе на ма€ке, с которой она справл€лась.
— началом ѕервой мировой войны военно-стратегическое значение ма€ка резко возросло, так как мимо него проходили караваны судов из јнглии, ‘ранции и јмерики, доставл€вшие в –оссию оружие и грузы. ƒо 1915 года интенсивность перевозок была невысока, но затем, когда западна€ помощь стала существенной, работы на ма€ке прибавилось. ќднако ћарус€ справл€лась и с этой нагрузкой, не дава€ повода дл€ каких-либо подозрений, что судьба ма€ка находитс€ в неопытных руках.
ќднажды поздно ночью по пр€мому проводу из ѕетрограда передали запрос о британском пароходе с ценным военным грузом, сведени€ми о котором русска€ служба не обладала и не могла ответить что-либо британскому адмиралтейству. “огда штабной офицер св€залс€ по пр€мому проводу с мысом —в€той нос. ≈му ответил детский голос.
— то говорит? — удивленно спросил офицер и добавил: — √де смотритель?
ѕосле заминки детский голос ответил:
— ќн… он немного болен… € сама доложу.
— то у телефона? — сердито повторил офицер.
— ћарус€ Ѕагрецова, дочь смотрител€, — послышалось в трубке.
«атем девочка, внимательно выслушав офицера, неторопливо доложила обо всех перемещени€х судов, включа€ интересовавший офицера пароход. ѕолученные сведени€ были переданы в морское ведомство и вполне удовлетворили британское адмиралтейство.
аково же было удивление руководства √енерального штаба, когда им стало известно о дочери смотрител€, полностью заменившей отца на службе! ѕравда, через две недели на мыс, стратегическое значение которого возрастало с каждым днем, прибыли новый смотритель и несколько св€зистов, а старого смотрител€, несмотр€ на недостающие по стажу мес€цы, уволили в отставку на полное пенсионное содержание. —пуст€ некоторое врем€ последовал приказ: «¬ возда€ние отличной доблести, спокойстви€ и редко добросовестного отношени€ к службе в т€желых обсто€тельствах военного времени девица ћари€ Ѕагрецова награждаетс€ серебр€ной √еоргиевской медалью».
“ак первую боевую награду на Ѕелом море получила девочка-подросток, о дальнейшей судьбе которой, к сожалению, ничего не известно. ѕодобных примеров можно привести множество, и каждый из них убедительно доказывает, что единение армии и народа не ослабевало, несмотр€ на многочисленные трудности военного времени, неизбежно сопровождавшие сложные периоды истории –оссии.
ѕо материалам книги ё. ’ечинов «¬ойна и милосердие. —траницы истории ќтечества», ћ., «ќткрытое –ешение», 2009, с. 75-78.
—оветую прочитать:
- Ќакануне ќкт€брьского переворота 1917 года
- азачий офицер јксЄнов
- ќбщество и милосердие в ѕервой мировой
- ’имическое оружие в √ражданскую войну
- ћаршал ∆уков √. .
http://voynablog.ru/2014/10/16/uchastie-zhenshhin-v-pervoj-mirovoj-vojne/
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
ќ двух √лавковерхах русской армии в ѕервую мировую |
ƒневник |
ќ двух √лавковерхах русской армии в ѕервую мировую
- јвтор Vinogradskaya
- ƒата 22 июн€ 2014 7:37
|
|
√лавна€ » Ќовости » ¬ойны » ѕерва€ мирова€ 1914-1918 гг. » ”правление » ќ двух √лавковерхах русской армии в ѕервую мировую
ѕосле «великого отступлени€» русской армии и потери ей р€да крепостей в ѕольше 21 августа в —тавку прибыл император Ќиколай II и объ€вил о своем твердом решении прин€ть ¬ерховное √лавнокомандование. √енералитету ничего не оставалось, как подчинитьс€ монаршей воле. “аким образом, царь сосредоточил в свои руках непосредственное управление не только громадной страной, но и армией.
ак справедливо замечают современные ученые, до Ќикола€ II, совместившего в свои руках всю полноту государственной гражданской и военной верховной власти, подобными властными прерогативами пользовалс€ только ѕетр I (ѕортугальский P.M., –унов ¬.ј. «¬ерховные главнокомандующие ќтечества», ћ., 2001, с. 97).
Ётот шаг довольно неоднозначно оценивалс€ современниками. — одной стороны, прин€в ¬ерховное √лавнокомандование, Ќиколай II отныне оказывалс€ в центре критики за возможные неудачи на фронте. — другой стороны, самодурство и военна€ некомпетентность великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича стали слишком очевидны императору, чтобы он мог позволить и дальше сносить это. Ќа фоне непрестанных поражений и неумени€ ¬ерховного √лавнокомандовани€ исправить ситуацию фрондерство —тавки, ее нежелание считатьс€ с —оветом ћинистров, безумные решени€ становились совсем нетерпимы.
»мператор Ќиколай II и ¬ерховный главнокомандующий великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич в ÷арском —еле
»сключительно плохой подбор ближайших сотрудников, нав€занных великому кн€зю в начале войны, но не смененный им за весь год своего главнокомандовани€ усугубил вопиющую некомпетентность ¬ерховного √лавнокомандующего донельз€. ѕочему-то, когда все справедливо говор€т о военной несосто€тельности Ќикола€ II как полководца (полковник, мол), то забывают, что генерал-адъютант великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич (участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в возрасте двадцати лет) уже во врем€ войны своим руководством исключительно усугубил издержки предвоенной неготовности страны к войне.
Ѕезусловно, занима€ пост ¬ерховного √лавнокомандующего, император Ќиколай пыталс€ решить сразу несколько проблем. ¬о-первых, требовалось восстановить единство фронта и тыла. «аконодательство военного времени, четко разграничивавшее полномочи€ армейских и тыловых центров власти, было рассчитано на то, что во главе вооруженных сил встанет сам царь. ак уже говорилось, руководство всех великих держав, вступающих в июле 1914 года в ѕервую мировую войну, было уверено в скором ее победоносном окончании.„уть ли не единственным исключением стали англичане, не имевшие сильной сухопутной армии и убежденные, что борьба с √ерманией будет вестись на измор и никоим образом не будет окончена спуст€ каких-то полгода с момента первых выстрелов.
« расный звон» в ѕетрограде и в ћоскве в ознаменование прин€ти€ √осударем императором ¬ерховного командовани€
ѕоэтому Ќиколай II ставит во главе ƒействующей армии и, следовательно, руководителем фронтовой зоны своего д€дю — великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича. ѕоследний €вл€лс€ единственным представителем династии –омановых, окончившим Ќиколаевскую академию √енерального штаба, а потому считалс€ наиболее подготовленным военачальником, достойным зан€ть пост ¬ерховного √лавнокомандующего, ¬оенна€ служба великого кн€з€, руководство кавалерией, военными округами, гвардией — лишь, как казалось, укрепл€ли в этом мнении.
–аспор€жени€ —тавки вызывали резкое противодействие правительства. ќднако ¬ерховный √лавнокомандующий не желал считатьс€ с мнением министров, порой вызываемых на совещани€ в Ѕарановичи. ¬еликий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич даже стал пытатьс€ направл€ть внешнюю политику государства, зав€зыва€ собственные дипломатические отношени€ (например, переговоры с –умынией или взаимодействие с —ербией), не говор€ уже о ведшихс€ в —тавке совещани€х с представител€ми союзных держав. ќтношение к проблеме „ерноморских проливов — тому подтверждение. ћежду тем, невзира€ на военное врем€, внешн€€ политика всегда оставалась исключительной прерогативой Ќикола€ II.
¬о-вторых, своего упор€дочени€ требовало и стратегическое руководство ƒействующей армией. „ерез полгода войны, когда, по уверению европейских √енеральных штабов война должна была закончитьс€, еще ничего не было решено. јрмии ёго-«ападного фронта ув€зли в арпатах, армии —еверо-«ападного фронта остановились перед ¬осточной ѕруссией, а боеприпасы уже жестко лимитировались: несколько снар€дов в день на орудие. “ем не менее —тавка принимает план наступлени€ на всех фронтах, что вполне логически закончилось поражением на всех направлени€х (јвгустов в ¬осточной ѕруссии и √орлицкий прорыв перед арпатами).
¬ течение кампании 1915 года русска€ ƒействующа€ арми€, обескровленна€ и не имевша€ боеприпасов, отступала, оставл€€ противнику √алицию, ѕольшу, Ћитву. азалось, что роль —тавки должна была только возрастать — во им€ координации общих действий и перераспределени€ скудных резервов и технических средств ведени€ бо€ между фронтами. ќднако, отдава€ весной категорические приказы и распор€жени€ о принципе ведени€ военных действий («Ќи шагу назад!»), в августе растер€вша€с€ —тавка стремилась отстранитьс€ от непосредственного руководства войсками. “ак, сам генерал-квартирмейстер —тавки ƒанилов ё.Ќ. пишет: «¬ерховное главнокомандование в течение последних чисел июл€ и начала августа продолжало себ€ держать слишком нейтрально по отношению к событи€м на фронте» (ƒанилов ё.Ќ. «Ќа пути к крушению», ћ., 2000, с. 31). лету 1915 года стало €сно, что эта —тавка не может €вл€тьс€ действенным органом ¬ерховного √лавнокомандовани€.
¬ августе 1915 г.: снар€дов нет, резервов нет, крепости сданы, ƒействующа€ арми€ — обескровленна€ и морально надломленна€ — откатываетс€ в глубь –оссийской империи. ¬ —тавке, оказываетс€, продолжали искать виновников разгрома. ак и в начале войны, это оказались «предатели» в тылу, «шпионы» на фронте и все еврейское население –оссии поголовно…
¬-третьих, свою роль, безусловно, сыграла и личность великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича. ѕопул€ризаци€ ¬ерховного √лавнокомандующего в вооруженных силах летом 1915 года достигла своего пика. Ёто есть парадокс общественного массового сознани€, когда фигура, на которой самой логикой лежит главна€ ответственность за ход и исход военных действий, в глазах миллионов сограждан остаетс€ в стороне от поражений, одновременно €вл€€сь вдохновителем всех побед. ¬заимовли€ние фронта и тыла увеличивало эту попул€рность.
√ромадную роль здесь сыграла супруга великого кн€з€, развив энергичную де€тельность по наводнению прессы соответствующей информацией. ј также — пропаганда либеральной оппозиции, котора€ при —тавке первого состава получила доступ к кредитам на оборону, которые практически не контролировались власт€ми. ѕротивопоставление фигур великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича, поддерживаемое позицией самого великого кн€з€, и императора помогало оппозиции вести борьбу за власть посредством подрыва авторитета Ќикола€ II на €кобы выигрышном фоне его д€ди.
“огда происходит и организационное оформление оппозиции, создавшей организации, работавшие на оборону — «емгор. » не случайно образовавшийс€ в недрах √осударственной думы ѕрогрессивный блок, вз€вший курс на борьбу с существующим режимом, был образован почти сразу после прин€ти€ императором ¬ерховного √лавнокомандовани€.
ƒействительно, нельз€ говорить, что великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич претендовал на трон –оссийской империи. ќднако пользовавшиес€ его именем силы умело манипулировали таковой потенциальной угрозой, дабы и дальше расшатывать власть Ќикола€ II. ѕопул€ризаци€ великого кн€з€ как полководца, противопоставл€ема€ «засилью тЄмных сил» в ÷арском —еле, — это путеводна€ нить оппозиционной пропаганды. ѕравославный публицист ѕ.¬. ћультатули считает даже, что смена ¬ерховного √лавнокомандовани€ в 1915 году €вл€лась (помимо исправлени€ ситуации на фронте) «превентивным ударом» императора по планам государственного переворота, имевшего «целью ограничение власти ÷ар€».
¬еро€тно, что определенные оппозиционные круги действительно делали ставку на переворот, в котором существенную роль должен был сыграть великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич, — хот€ бы в виде знамени, которое не допустит волнений генералитета и сохранит –оссию в войне. «аигрывани€ ¬ерховного √лавнокомандующего с крупной буржуазией, лоббирование ее интересов в обход —овета министров, св€зи с либерально настроенными министрами, наконец, лидерство в русской «партии €стребов» показывали, что великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич послужил бы великолепной ширмой дл€ реализации планов, вынашивавшихс€ оппозицией.
ќбразование ѕрогрессивного блока во главе с √учковым ј.». в эти дни означало создание штаба либеральной буржуазии в недрах √осударственной думы. “ого штаба, что вз€л курс на государственный переворот в виде отстранени€ от власти императора Ќикола€ II и установление конституционной монархии по британскому образцу, в котором реальна€ власть принадлежит крупному капиталу.
Ќамерени€ оппозиционных сил по ограничению власти цар€, несомненно, находили отклик у великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича и, не менее очевидно, что император знал об этом. —ледовательно, Ќиколай II смещал своего д€дю не столько в силу какой-либо «ревности» во властолюбии великого кн€з€, сколько в св€зи с опасени€ми переворота против интересов –оссии, как их понимал император.
„то же касаетс€ намерени€ цар€ исправить положение на фронте, то существует точка зрени€, что смена —тавки в августе 1915 года произошла не просто так, а в св€зи с подготовкой французами сент€брьского наступлени€ в Ўампани. “о есть царь намеревалс€ возглавить ƒействующую армию в момент, когда противник должен был остановитьс€. ¬озможно, что учитывалось и это. Ќо французы пытались атаковать и весной, и это не задержало перебросок ударных германских дивизий на ¬осточный фронт, а удар под јррасом закончилс€ ничем.
ќтступление на востоке продолжалось, и 21 августа никто не мог предсказать, как скоро оно закончитс€. ќчевидно, что в ѕетрограде осознали, что в сложившейс€ ситуации —тавка €вл€етс€ скорее преп€тствием, нежели руководством. ѕоэтому, чтобы остановить вал беженства, насилий в прифронтовой зоне, панику высших штабов и продемонстрировать волю верховного руководства страной к продолжению борьбы, —тавка первого состава и была расформирована.
Ќаверное, тандем великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич — генерал јлексеев ћ.¬. и был бы удачнее, так как это ввер€ло управление фронтами в руки общепризнанного профессионала (великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич, в отличие от цар€, воспринималс€ высшим генералитетом именно так), одновременно позвол€€ царю оставатьс€ в стороне от неблагопри€тного хода событий. Ќо Ќиколай II, сделав первый шаг (смена —тавки), сделал и второй, €вл€вшийс€ продолжением первого (зан€тие поста ¬ерховного √лавнокомандующего).
Ќельз€ не подтвердить то справедливое мнение, что сменить великого кн€з€ на посту ¬ерховного √лавнокомандующего мог лишь сам император. Ќи один генерал не мог теперь стать √лавковерхом, ибо авторитет великого кн€з€ уступал авторитету только цар€ уже в силу самого статуса. роме того, с устранением великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича руководство вооруженными силами выходило из-под наметившегос€ уже вли€ни€ политических противников царизма. “еперь оппозиции придетс€ обрабатывать всю армейскую верхушку и прежде прочих нового начальника штаба ¬ерховного √лавнокомандующего, пост которого зан€л генерал јлексеев ћ.¬. —оответственно реализаци€ планов либеральной буржуазии, ведомой ѕрогрессивным блоком, военно-промышленными комитетами и «емгором, откладывалась в неопределенное будущее.
—ледует сказать несколько слов о двух русских √лавковерхах до ‘еврал€. »так, император Ќиколай II весь первый год войны занимал двойственную позицию, которую он был вынужден зан€ть вследствие насто€ний своего окружени€ и расчетов руководителей военного ведомства на скоротечную войну. явл€€сь ¬ерховным вождем вооруженных сил –оссийской империи, царь назначает ¬ерховным √лавнокомандующим своего д€дю — великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича.
ƒвусмысленность ситуации заключаетс€ в том, что фундаментальный законодательный документ, регламентирующий ведение государством войны — ѕоложение о полевом управлении войск в военное врем€, — изначально составл€лс€ в расчете на то, что ¬ерховным √лавнокомандующим будет сам император. азалось бы, естественное дело — глава государства одновременно €вл€етс€ главой ƒействующей армии и военно-морского флота. ¬полне естественно, это не предполагает, что √лавковерх €вл€етс€ полководцем — дл€ того существует пост начальника штаба ¬ерховного √лавнокомандующего и профессионалы своего дела, в данном случае — военного дела.
¬ таком ракурсе составл€лось, например, руководство в √ермании. айзер ¬ильгельм II занимал пост ¬ерховного √лавнокомандующего, а фактическим полководцем (хот€, конечно, в современную эпоху, пользу€сь выражением —вечина ј.ј., полководец может быть только «интегральным», то есть это коллектив) €вл€лс€ начальник большого √енерального штаба. ¬ –оссии такого поста не существовало, но вместо него — Ќаштаверх.
ƒействительно, великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич оставалс€ в мобилизационном расписании √лавковерхом до 1910 года, когда новый военный министр генерал —ухомлинов ¬.ј., изменив расписание, обозначил там √лавковерхом самого цар€. ѕосле этого великий кн€зь не участвовал в военных играх высшего генералитета, проводившихс€, разумеетс€, под эгидой военного министра, и даже сорвал одну из них. “еперь, с началом войны, великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич должен был зан€ть пост командующего 6-й армией, прикрывавшей столицу. “о есть войсками, которые не участвовали бы в боевых действи€х.
ћирова€ война, ведуща€с€ всей нацией и государством, при размытом пон€тии фронта и тыла, всегда, так или иначе, управл€етс€ главой государства. ќпыт обеих мировых войн двадцатого столети€ подтверждает это, а закрепление в современных конституци€х нормы, что ¬ерховным √лавнокомандующим €вл€етс€ президент, то есть глава государства, доказывает правильность данного вывода. “ем не менее, предположение, что Ѕольша€ европейска€ война будет скоротечной, побудило императора Ќикола€ II передать пост √лавковерха своему д€де. Ётот шаг, если не брать в расчет самого цар€, был самым правильным: в той местнической военной машине, которой €вл€лась русска€.
√лавковерхом мог быть либо наиболее авторитетный в своей безусловной исключительности генерал (таковой отсутствовал), либо лицо императорской фамилии. —амым подготовленным по праву считалс€ великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич — единственный член ƒома –омановых, закончивший јкадемию √енерального штаба. онечно, император был полон намерений сам встать во главе ƒействующей армии, что было вполне логично и естественно.
¬ынужденный отказатьс€ от данного шага с самого начала, царь выжидал удобного момента дл€ реализации своих полномочий. ѕоэтому «с самого начала ¬еликий кн€зь был предупрежден о том, что это назначение носит временный характер. 20 июл€ 1914 года ѕравительствующему —енату был дан именной ¬ысочайший указ: «Ќе признава€ возможным, по причинам общегосударственного характера стать теперь же во главе наших сухопутных и морских сил, предназначенных дл€ военных действий, признали мы за благо всемилостивейше повелеть нашему генерал-адъютанту, главнокомандующему войсками гвардии и ѕетербургского военного округа, генералу-от-кавалерии ≈.».¬. ¬еликому кн€зю Ќиколаю Ќиколаевичу быть ¬ерховным √лавнокомандующим».
“аким образом, и в официальном документе также содержитс€ намек на то, что назначение ¬еликого кн€з€ носит вынужденный и временный характер. Ёто сразу поставило ¬ерховного √лавнокомандующего, получавшего огромную власть, в весьма двойственное, ущербное положение» (јйрапетов ќ.–. «√енералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию. 1907-1917», ћ., 2003, с. 36).
ƒругой вопрос — профессионалы в окружении ¬ерховного √лавнокомандующего. ќт подбора этих людей, по сути, зависела судьба стратегического планировани€ на театре военных действий, так как сам великий кн€зь последний раз был участником войны в 1877 году в конфликте с “урцией. Ќачальник штаба ¬ерховного √лавнокомандующего генерал янушкевич Ќ.Ќ. оказалс€ настолько непригоден к своей должности, что можно только удивл€тьс€, как такой канцел€рист вообще мог занимать перед войной высокие военные посты и, в частности, должность начальника √лавного управлени€ √енерального штаба. ‘актически стратегией —тавки ¬ерховного √лавнокомандовани€ руководил генерал-квартирмейстер генерал ƒанилов ё.Ќ. — автор последних предвоенных планов войны против ÷ентральных держав.
Ётот доктринер не пользовалс€ авторитетом в среде высшего генералитета, а потому война как совокупность операций вообще велась главнокомандовани€ми фронтов. ќба этих человека никогда не участвовали в войнах, а генерал янушкевич к тому же вообще никогда не служил в строю. Ёто и есть первый и самый главный итог де€тельности —тавки первого состава.
Ѕрусилов ј.ј. справедливо вспоминал о великом кн€зе: «Ёто — человек, несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и любивший военное ремесло… Ќазначение его ¬ерховным √лавнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии. ¬ойска верили в него и бо€лись его. ¬се знали, что отданные им приказани€ должны быть исполнены, что отмене они не подлежат, и никаких колебаний не будет… я считал его отличным главнокомандующим. ‘атально было то, что начальником штаба ¬ерховного √лавнокомандующего был назначен бывший начальник √лавного управлени€ √енерального штаба янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. ¬ этом отношении должен был его дополн€ть генерал-квартирмейстер ƒанилов, человек узкий и упр€мый» (Ѕрусилов ј.ј. «ћои воспоминани€», ћ., 1983, с. 64-65).
ѕравда, что великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич первоначально желал составить свой штаб из профессионалов. Ќаштаверх — первый начальник русского √енерального штаба генерал ѕалицын ‘.‘. √енерал-квартирмейстер — наиболее подготовленный к роли стратега военачальник генерал јлексеев ћ.¬. Ётот состав —тавки был бы оптимален и, как представл€етс€, в таком случае не были бы допущены те ошибки, что привели к т€желейшим поражени€м и неудачам. ƒостаточно сказать, что именно генерал јлексеев зан€л должность Ќаштаверха при императоре √лавковерхе, а до этого всЄ т€желейшее лето 1915 года фактически в одиночку сопротивл€лс€ натиску австро-германцев в ѕольше, руковод€ восемью арми€ми из одиннадцати.
“от состав —тавки, что оказалс€ в реальности, целиком и полностью лежит на совести военного министра генерала —ухомлинова ¬.ј., нав€завшего его императору. ¬оенный министр понимал, что при той —тавке, что будет выбрана самим великим кн€зем, он не будет иметь на нее никакого вли€ни€. ¬ то же врем€ генерал —ухомлинов сам мечтал зан€ть пост ¬ерховного √лавнокомандующего и, когда выбор цар€ определилс€ не в его пользу, составил штаб —тавки из собственных креатур. –езультат оказалс€ самым плачевным, ибо великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич не мог спорить с императором (назначение членов —тавки осуществл€лось волеизъ€влением цар€), а потом и сам смирилс€ с этими людьми.
ѕоложение и репутаци€ императора Ќикола€ II и великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича в действующих арми€х резко отличались друг от друга и были парадоксальны настолько, насколько можно себе представить. “ак, император посто€нно выезжал на фронт. –азумеетс€, не на передовую, но — в войска, которые располагались сравнительно недалеко от линии фронта. ¬се эти посещени€ тщательно фиксировались им в своем дневнике.
Ќапример, 31 окт€бр€ 1914 года царь побывал в крепости »вангород, под которой всего две недели назад шли ожесточенные бои с главными силами немцев. ƒругой, наиболее показательный пример, — это посещение войск авказской армии в тот момент, когда турки уже перешли в наступление, пока еще не раскрытое и не восприн€тое русскими. ÷арь со своей свитой на автомобил€х даже проехал от железнодорожной станции —арыкамыш до ћеджинкерта, где награждал отличившихс€ в бо€х чинов армии (1200 чел.). ѕродвижение императорского кортежа было засечено турецкими наблюдател€ми, так как непри€тельска€ разведка уже выдвигалась вперед. ¬последствии турки сожалели, что не совершили нападени€ на русского императора, так как не предполагали, что царский кортеж может быть столь скромным.
¬ свою очередь великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич вообще не бывал в войсках ”правление сражени€ми проводилось посредством совещани€ со штабами фронтов “аким образом, √лавковерх находилс€ либо в —тавке (Ѕарановичи), либо во фронтовых штабах. ќбъ€снений этому существуют два. ѕервое основано на субординации, на том, что великий кн€зь «никогда не посещал войска на фронте, всегда предоставл€€ делать это √осударю, так как опасалс€ вызвал этим подозрение в искании попул€рности среди войск».
¬торое — на личной храбрости: «…его решительность пропадала там, где ему начинала угрожать серьезна€ опасность… великий кн€зь до крайности оберегал свой покой и здоровье… он ни разу не выехал на фронт дальше ставок главнокомандующих, бо€сь шальной пули… при больших несчасть€х он или впадал в панику или бросалс€ плыть по течению… ” великого кн€з€ было много патриотического восторга, но ему недоставало патриотической жертвенности» (Ўавельский √. «¬оспоминани€ последнего протопресвитера русской армии и флота», Ќью-…орк, 1954, т. 1, с. 138).
ѕри всем этом войска считали великого кн€з€ хорошим полководцем. —олдаты видели в нем заступника от де€тельности «плохих генералов», а офицерский корпус рассматривал его как наиболее оптимальный вариант ¬ерховного √лавнокомандующего. ¬ отношении же императора считалось, что он «несчастлив» именно как политический лидер и глава государства. ¬ нем видели всего только «полковника», в то врем как в великом кн€зе Ќиколае Ќиколаевиче — генерал-адъютанта. »ными словами, по мнению большинства различных чинов ƒействующей армии, от командармов до р€довых бойцов, великий кн€зь €вл€лс€ полководцем, а царь — нет. ’арактерно, что в эмиграции, уже зна€ ход и исход войны, мало кто из бывших высокопоставленных военных изменил свой взгл€д на императора Ќикола€ II и его д€дю.
ѕричин тому несколько. ¬о-первых, де€тельность оппозиционной пропаганды, которой либеральна€ буржуази€ намеренно противопоставл€ла цар€ великому кн€зю в пользу последнего. ¬о-вторых, предвоенна€ де€тельность великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича на постах генерал-инспектора кавалерии, председател€ —овета √осударственной обороны, главнокомандующего войсками гвардии и ѕетербургского военного округа оценивалась весьма высоко, так как сравнивалась с работой других великих кн€зей на военных постах, а здесь, кроме генерал-фельдцейхмейстера великого кн€з€ —ерге€ ћихайловича, и назвать некого. ¬-третьих, характер великого кн€з€, внешность, манера поведени€ импонировали военным люд€м, в отличие от скромности и застенчивости цар€.
Ќаконец, раздуваема€ «распутиниана» побуждала видеть в великом кн€зе одного из возможных преемников Ќикола€ II если не на троне, то на посту главы государства в военное врем€ — диктатора. —амо собой разумеетс€, что о срывах ¬ерховного √лавнокомандующего, его плачах в подушку в период поражений, необычайным образом выражаемый восторг и проч., никто не знал. ќдин из исследователей так писал о смене ¬ерховного √лавнокомандующего:
«¬сегда уравновешенный √осударь и был причиной резкого изменени€ положени€ на фронте после смены ¬ерховного омандовани€. ”ж, конечно, √осударь не мог бы никогда плакать в подушку [после падени€ крепости овно], или задирать ноги, лежа на полу [о слухах отстранени€ –аспутина от ƒвора], как это делал «мудрый полководец» Ќиколай Ќиколаевич» ( обылий B.C. «јнатоми€ измены», —ѕб., 1998, с. 122).
¬ завершение сравнительной характеристики необходимо отметить главное — состо€ние вооруженных сил. ¬ августе 1914 года великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич получил в свое распор€жение превосходную кадровую армию, отлично подготовленную (по крайней мере, лучше французов и австро-венгров), имевшую активные наступательные планы, разработанные в мирное врем€, сносно оснащенную техническими средствами ведени€ бо€ и действовавшую против уступавшего в силах противника (равенство сил против јвстро-¬енгрии и несомненное превосходство против √ермании). ¬се это богатство (по сравнению с ситуацией августа 1915 года) великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич умудрилс€ растранжирить уже к но€брю.
“аким образом, нельз€ было представить двух более разных людей, нежели царствующий плем€нник и его д€д€. Ќо именно они занимали пост ¬ерховного √лавнокомандующего, и вступление цар€ в столь ответственную должность было вызвано прежде всего намерением изменить ход событий на фронтах, а также остановить ту безумную политику, что проводилась —тавкой первого состава в тылах ƒействующей армии.
»з книги ћ.¬. ќськин «»стори€ ѕервой мировой войны», ћ., «¬ече», 2014 г., с. 139-152.
—оветую прочитать:
- √ерои ясско- ишиневской наступательной операции 1944 года
- амчатка и ¬ладивосток в русско-€понской войне 1904-1905 годов
- ”частие женщин в ѕервой мировой войне
- √ерои –усско-€понской войны 1904-1905 годов
- ’од подготовки ѕервой мировой войны
http://voynablog.ru/2014/06/22/o-dvux-glavkoverxax-russkoj-armii-v-pervuyu-
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
—тавка ¬ерховного √лавнокомандующего в период I-й ћировой войны |
ƒневник |
—тавка ¬ерховного √лавнокомандующего в период I-й ћировой войны
1 августа 1914 года началась ѕерва€ мирова€ война. » уже в первый год войны Ѕарановичи стали прит€гивать внимание всех тех, кто следил за ходом военных действий. ¬ Ѕарановичах с сент€бр€ 1914 до 8 августа 1915 года размещалась ставка ¬ерховного √лавнокомандующего российской армии. ¬ерховным √лавнокомандующим был кн€зь Ќиколай Ќиколаевич, а с сент€бр€ 1915 г. им стал император Ќиколай II.
«а все врем€ нахождени€ ставки в Ѕарановичах Ќиколай II был здесь дес€ть раз. ¬от выдержка из одной из мемуарных книг:
««десь, где-то в глубине наших западных лесов, в посто€нных напр€женных трудах и размышлени€х проводит тревожное врем€ войны ¬ерховный √лавнокомандующий ¬еликий н€зь Ќиколай Ќиколаевич, обсужда€ с начальником своего штаба генералом янушкевичем и генерал-квартирмейстером ƒаниловым все подробности военных действий наших миллионных армий с миллионными же арми€ми противника... ...“о, что называетс€ —тавкой, представл€ет собою участок железнодорожного полотна, на котором сто€т вагоны разных классов.
ругом немногочисленные здани€, бараки одного из лагерных расположений инженерных войск, в которых наход€тс€ некоторые отделы и управлени€ штаба ¬ерховного √лавнокомандующего.
...ѕустынный уединенный лес, небольшой железнодорожный поселок, лагерное место и больше ничего. роме лиц военных никого в —тавке не встретишь. Ќет здесь, конечно, никаких развлечений. “олько врем€ от времени промчитс€ шумный автомобиль или прорысит конный вестовой.
...Ўтаб ¬ерховного √лавнокомандующего очень невелик, особенно если прин€ть во внимание, что наши армии достигают нескольких миллионов. ѕри самом ¬ерховном состоит только свита из 10 человек, из них 6 адъютантов; при Ўтабе наход€тс€ около 15 офицеров генерального штаба, а всего офицеров всех родов оружи€ до 50-ти человек. «атем имеютс€ топографы и несколько офицеров дл€ хоз€йственно-административного дела. ≈сть представители морского штаба, министерства иностранных дел и чины по гражданской части. ¬ —тавке посто€нно наход€тс€ военные агенты наших союзных армий – французский, английский, €понский, бельгийский, сербский.
...¬ те дни, когда ≈го ¬еличеству угодно бывает посетить —тавку ¬ерховного √лавнокомандующего и —тавка получает уже наименование «÷арской», она очень немного измен€ет свой обычный простой, скромный и трудовой вид. Ќа пустынных железнодорожных пут€х по€вл€етс€ тогда синий »мператорский поезд.
...Ќебольшой, низкий дерев€нный деревенского типа дом, нос€щий название ”правление генерал-квартирмейстера при ¬ерховном √лавнокомандующем, в котором ежедневно работают руководители наших армий и где так часто бывает √осударь »мператор, несомненно уже €вл€етс€ историческим пам€тником. ¬ одной из комнат этого дома, в кабинете генерала ƒанилова, где всюду и на столе, и на стенах разложены и вис€т карты и планы, под большим портретом ≈го ¬еличества помещена медна€ доска со следующею надписью: «≈го »мператорское ¬еличество √осударь »мператор Ќиколай II, во врем€ своих пребываний в —тавке, изволил ежедневно выслушивать в насто€щем помещении доклады по оперативной части, 1914-1915 гг.»
Ќа основании исследований барановичского краеведа —танислава ўербакова можно утверждать, что сама ставка располагалась к юго-западу от станции Ѕарановичи-ѕолесские, в районе нынешних улиц ћалаховской, ¬ойкова и —вердлова.
√еографические координаты: N 57° 07' 12,91" E 26° 01' 55,14"
‘ото: ќлега ѕќЌќћј–≈¬ј, из архиваhttp://www.barturizm.by/istoricheskie-sobytiya/voe...ego-v-period-i-j-mirovoj-vojny
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
—тавка Ќикола€ II в ћогилЄве и пам€ть о ней в советское и постсоветское врем€ |
ƒневник |
—тавка Ќикола€ II в ћогилЄве и пам€ть о ней в советское и постсоветское врем€
ќпубликовано: 11/11/2016 .јвтор: ƒежурный по –едакции
јннотаци€. —тать€ посв€щена изучению —тавки ¬ерховного главнокомандующего русской армией в ѕервой мировой войне. ѕри этом —тавка исследуетс€ как особое пространство, созданное сначала у местечка Ѕарановичи, а затем в ћогилЄве, и напр€мую св€занное с репрезентацией власти. ќсобое значение уделено в этой св€зи Ќиколаю II, который прин€л на себ€ командование армией в августе 1915 года. јвтор детально исследует устройство могилЄвской —тавки, разместившейс€ в здани€х на √убернаторской площади города (дом губернатора, здани€ губернского правлени€ и окружного суда). ¬тора€ часть статьи представл€ет собой анализ формировани€ пам€ти о —тавке ¬ерховного главнокомандующего в советское и постсоветское врем€, главным образом на примере разбора музейных экспозиций.
Summary. The article is devoted to the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief of the Russian army during the First World War. The General Headquarters Rate is examined as a special space created at first near the town of Baranovichy, and later in Mogilyov, and directly associated with representation of the power. Particular importance is given in this connection to Nikolay II, who assumed command over the army in August 1915. The author examines in depth the structure of the Mogilyov General Headquarters, housed in buildings on the Governor’s square of the town (Governor’s house, buildings of the provincial government and district court). The second part of the article represents the analysis of information about the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief in the Soviet and post-Soviet times, mainly on the example of analysis of museum exhibitions.
ЅќЋ“”Ќќ¬ј ≈катерина ћихайловна — доцент Ќационального исследовательского университета «¬ысша€ школа экономики», кандидат исторических наук
(ћосква. E-mail: boltounovaek@gmail.com).
—тавка Ќикола€ II в ћогилЄве и пам€ть о ней в советское и постсоветское врем€
—тавка русской армии в ѕервой мировой войне — помимо собственно истории ¬еликой войны — ещЄ и часть истории трЄх городов (Ѕарановичи, ћогилЄв, ќрЄл) и биографий восьмерых ¬ерховных главнокомандующих.
— началом войны ¬ерховным главнокомандующим был назначен великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич (младший) (20 июл€ 1914 г. — 23 августа 1915 г.), а —тавка разместилась в небольшом местечке Ѕарановичи (20 июл€ 1914 г. — 7 августа 1915 г.). јктивное наступление немецкой армии на фронте стало причиной переноса —тавки в ћогилЄв (8 августа 1915 г. — 27 феврал€ 1918 г.). Ќесколько позже по€вилась иде€ перевода ¬ерховного командовани€ ещЄ дальше вглубь страны. ¬ начале осени 1915 года в алугу была отправлена особа€ комисси€ дл€ поиска помещений под нужды —тавки. ќт этой идеи, однако, быстро отказались из-за удалЄнности от фронта, а также, по выражению современника, в св€зи с тем, что «и моральное впечатление на народ от такого переезда было бы не из положительных»1. ¬ августе 1915 года командование армией прин€л на себ€ император Ќиколай II (23 августа 1915 г. — 2 марта 1917 г.), после отречени€ которого на посту ¬ерховного главнокомандующего сменились несколько человек — великий кн€зьЌиколай Ќиколаевич (младший) (2—11 марта 1917 г.), ћ.¬. јлексеев (11 марта — 21 ма€ 1917 г.), ј.ј. Ѕрусилов (22 ма€ — 19 июл€ 1917 г.), Ћ.√. орнилов (19 июл€ — 30 августа 1917 г.), ј.‘. еренский (30 августа — 3 но€бр€ 1917 г.), Ќ.Ќ. ƒухонин (1—9 но€бр€ 1917 г.2). ѕри этом каждое новое назначение сопровождалось чередой резонансных событий. “ак, великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич вернул себе пост ¬ерховного главнокомандующего лишь на несколько дней, поскольку не был, в конце концов, утверждЄн ¬ременным правительством. ѕередача власти от генерала Ѕрусилова к генералу орнилову была св€зана с неудачами на фронте в июне 1917 года, а переход этого поста к министру-председателю еренскому стал итогом выступлени€ орнилова против ¬ременного правительства. ”бийство Ќ.Ќ. ƒухонина — последнего ¬ерховного главнокомандующего из числа генералов царской армии — подвело черту под существованием —тавки как действующего органа управлени€ императорской армией.
ѕосле ќкт€брьской революции и зан€ти€ —тавки войсками, подконтрольными новой власти, —овнарком назначил ¬ерховным главнокомандующим прапорщика Ќ.¬. рыленко (20 но€бр€ 1917 г. — до конца войны)3. Ќачальником его штаба стал генерал ћ.ƒ. Ѕонч-Ѕруевич.Ёта советска€ —тавка переехала ещЄ один раз — в ќрЄл (28 феврал€ 1918 г. — 11 марта 1918 г.), где почти сразу была расформирована.
ƒе€тельность —тавки как органа управлени€ армией изучена относительно хорошо4. —тавка же как категори€ пространственна€, то есть место пребывани€ императора и высшего армейского руководства и, следовательно, территори€, св€занна€ с реализацией властных установок, не была до сих пор предметом самосто€тельного рассмотрени€. ѕочти не попадают в поле зрени€ исследователей и аспекты формировани€ пам€ти о —тавке, а также их вли€ние на конструирование как региональной, так и национальной (русской и белорусской) идентичности.
¬месте с тем в наше врем€ очевиден рост интереса к истории –оссийской империи последних лет еЄ существовани€, и особенно истории ѕервой мировой войны, котора€ по-прежнему воспринимаетс€ как ключ к объ€снению событий 1917 года.¬ 2014 году, в год столети€ начала ѕервой мировой войны, в –оссии был открыт единственный музей, посв€щЄнный ¬еликой войне. ќн был размещЄн в так называемой √осударевой –атной палате ÷арского —ела, в здании, которое было построено ещЄ в царствование Ќикола€ II и первоначально предназначалось дл€ музе€ истории русских войн. «аметны и попытки использовать символическое значение такой структуры, как —тавка ¬ерховного главнокомандующего, дл€ позиционировани€ особенностей локальной (городской) истории. “ак, в научно-попул€рных текстах ћогилЄв всЄ чаще именуетс€ последней (военной) столицей империи. ќснованием дл€ таких утверждений служит продолжительное пребывание в городе императора Ќикола€ II, а также периодическое посещение ћогилЄва императрицей и наследником.
— точки зрени€ пространства и репрезентации власти три —тавки отличались друг от друга разительно. ¬ Ѕарановичах ¬ерховное командование разместилось на относительно изолированной территории, которую ранее занимала железнодорожна€ бригада. ѕредставители —тавки, прежде всего ¬ерховный главнокомандующий великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич и бывавший здесь император, жили в литерных поездах, над которыми со временем дл€ защиты от жары были установлены навесы. »сторики отмечают некоторую символичность при выборе вагонов дл€ проживани€ ¬ерховного главнокомандующего: они были вз€ты из состава NordicExpress, который в довоенный период курсировал по маршруту —анкт-ѕетербург — Ѕерлин5. ≈два ли не единственным зданием, отведЄнным дл€ нужд этой в полном смысле слова полевой —тавки, стал дом начальника железнодорожной бригады, в котором находилось управление генерал-квартирмейстера6.
ћогилЄвска€ —тавка была городской. ќна разместилась в историческом центре города, на берегу реки. ≈Є управлени€ расположились в здани€х, сто€вших полукругом на √убернаторской площади. ¬ерховный главнокомандующий жил в доме губернатора; примыкавшее к нему здание губернского правлени€ было зан€то штабом командовани€ и управлением генерал-квартирмейстера, а здание окружного суда было отдано под нужды дежурного генерала —тавки.
ƒвухэтажный губернаторский дом был относительно небольшим. ¬месте с тем он, как и сама площадь, был предметом гордости городских властей. Ёто было здание, видевшее ещЄ кн€з€ √.ј. ѕотЄмкина и маршала Ћ.-Ќ. ƒаву7. »мператор зан€л в нЄм лишь несколько комнат второго этажа. ¬ остальных помещени€х в это врем€ жили сопровождавшие императора высшие чины и приближЄнные8. ƒаже на втором — представительском — этаже, кроме Ќикола€ II, разместились граф ¬.Ѕ. ‘редерикс и генерал ¬.Ќ. ¬оейков9. ѕоказательно, что императрица и великие кн€жны, приезжа€ в ћогилЄв, никогда не останавливались в губернаторском доме, использу€ дл€ проживани€ литерные поезда. Ќаследник, напротив, оставалс€ в —тавке с отцом. –ечь, очевидно, шла о гендерном позиционировании и отказе от воссоздани€ в губернаторском доме столь любимого Ќиколаем приватного семейного пространства.
¬ николаевский период —тавки у входа в губернаторский дом дежурили часовые √еоргиевского батальона, составл€вшего охрану —тавки и императора. √еоргиевские кавалеры — офицеры и солдаты, отличившиес€ храбростью в бою, — маркировали таким образом особое значение дворца.
—амым репрезентативным помещением императорских покоев в могилЄвском губернаторском доме был большой зал в 4 окна, оформленный вбело-золотых тонах, декорированный вполне в традиции почЄтных помещений императорскими портретами и зеркалами, которые располагались в простенках между окнами. «десь же сто€л чЄрный ро€ль10. »з зала можно было попасть в столовую и кабинет императора. ¬ столовой находились овальный стол, стуль€ с плетЄными сидень€ми и биль€рд «Ѕиггс»11. ¬ императорском кабинете согласно описанию начальника дворцовой охраны ј.». —пиридовича «сто€л большой дубовый, на тумбах, с €щиками, резной письменный стол, обт€нутый обычным сукном цвета бордо, старинные диван и кресла красного дерева. Ћюстра модерн со стекл€шками спускалась с потолка, а скромна€ электрическа€ лампа с зелЄным абажуром сто€ла на письменном столе»12. —корее всего, —пиридович описывает помещение, называвшеес€ при последнем губернаторе ћогилЄва расной гостиной — по цвету мебели и туркестанских ковров на полу13. »з кабинета Ќиколай II мог пройти в свою спальню, окна которой выходили на реку. Ёто помещение называли также спальней «его ¬еличества и наследника». ќбстановка этой комнаты состо€ла из «складной железной кровати», а также «мебели красного дерева», в углу находилась кафельна€ печка14. —пиридович в своих мемуарах не преминул отметить также, что «из спальни была дверь и в столовую»15. Ёта ремарка даЄт возможность увидеть, что комнаты, занимавшиес€ императором в могилЄвском губернаторском доме, были соединены и создавали единое пространство императорских покоев.
ќднако при описании могилЄвской —тавки многие мемуаристы центром еЄ называют не дом губернатора, функционально превратившийс€ во временную императорскую резиденцию, а примыкавшее к нему здание губернского правлени€ со штабом и управлением генерал-квартирмейстера. —луживший здесь в то врем€ ћ. . Ћемке даже именует это место, в полной мере принадлежавшее начальнику штаба генералу ћ.¬. јлексееву игенерал-квартирмейстеру ћ.—. ѕустовойтенко, «нервом» —тавки16. ќтметим, что сама организаци€ де€тельности —тавки подчеркивала центральное значение именно здани€ штаба, а не императорского дома. “ак, Ќиколай II принимал доклады јлексеева и ѕустовойтенко именно в здании штаба, а не в собственной резиденции. »мператор каждое утро отправл€лс€ в штаб, где јлексеев и ѕустовойтенко встречали его на правах хоз€ев, сто€ на верхней площадке лестницы17.
Ёта практика, безусловно, имела практическое объ€снение: императору было проще пройти 100 шагов по двору, чем офицерам штаба переносить в кабинет государ€ многочисленные и чрезвычайно громоздкие карты. “ем не менее этот перевЄрнутый церемониал — император идЄт в штаб, а не штаб идЄт к императору — нарушал прин€тую при дворе систему норм и положений, что было очевидно дл€ окружающих. ѕримечательно, что когда Ќиколай входил в подъезд штабного дома, офицеры старались не попадатьс€ ему навстречу, чтобы «не ставить цар€ в “неловкое” положение, когда он не будет знать, как отнестись к встретившемус€ вне установленного дл€ всех случаев церемониала»18. <…>
ѕолный вариант статьи читайте в бумажной версии «¬оенно-исторического журнала» и на сайте Ќаучной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru
ѕ–»ћ≈„јЌ»я
1 Ћемке ћ. . 250 дней в ÷арской ставке 1914—1915. ћинск: ’арвест, 2003. —. 47.
2 Ќ.Ќ. ƒухонин €вл€лс€ и.о. ¬ерховного главнокомандующего русской армией. —м.: ƒухонин Ќ.Ќ. // Ѕольша€ российска€ энциклопеди€. “. 9. ћ.: Ѕольша€ российска€ энциклопеди€, 2007. —. 441.
3 ƒатировка перемещений —тавки и пребывани€ в должности ¬ерховного главнокомандующего (главковерха) указанных лиц приводитс€ по: Ѕольша€ российска€ энциклопеди€. “. 1—29. ћ.: Ѕольша€ российска€ энциклопеди€, 2004—2015 (ќсобенно: ¬асильев Ќ.ћ. ѕерва€ мирова€ война // “ам же. “. 25. ћ., 2014. —. 590—600).
4 ќб этом см. работы ќ.–. јйрапетова, изданные в серии «”частие –оссийской империи в ѕервой мировой войне» (“. 1—4. ћ.: учково поле; ¬оенна€ книга, 1914—1915), а также ѕоликарпов ¬.ƒ. –еволюционные органы при —тавке ¬ерховного главнокомандующего (но€брь 1917 — март 1918) // »сторические записки. “. 86. ћ., 1970.
5 јйрапетов ќ.–. ”частие –оссийской империи в ѕервой мировой войне (1914—1917 г.) “. 1. Ќачало. ћ.: учково поле, 2014. —. 80.
6 Ѕубнов ј.ƒ.¬ ÷арской ставке. ћ.: ¬ече, 2008. —. 20, 21. јйрапетов ќ.–. ”каз. соч. —. 79, 80.
7 ћогилЄв (1788—1789 гг.). «орич, ѕассек, кн. √.ј. ѕотЄмкин. »звлечение из переписки одного путешественника // –усска€ —тарина. “. 22. 1878. —. 331—333; —пиридович ј.». ¬елика€ ¬ойна и ‘евральска€ –еволюци€ 1914—1917 гг. Ќью-…орк: ¬сеслав€нское изд-во, 1960—1962. —. 195.
8 Ўавельский √. ¬оспоминани€ последнего протопресвитера –усской армии и флота. “. 2. Ќью-…орк: »зд-во им. „ехова, 1954. —. 343.
9 —пиридович ј.». ”каз. соч. —. 199.
10 “ам же. —. 198, 199.
11 “ам же. —. 199; ¬ласов ј.ј. ¬оспоминани€ о ћогилЄве. —м. интернет-ресурс: http://www.rp-net.ru (дата обращени€ — 1 ма€ 2016 г.).
12 —пиридович ј.». ”каз. соч. —. 199.
13 ¬ласов ј.ј. ”каз. соч.
14 ¬озможно, кабинетом Ќиколаю служила «елЄна€ гостина€, в которой находились мебель соответствующего цвета и согласно описанию ј.ј. ¬ласова большой камин. —м.: ¬ласов ј.ј. ”каз. соч.
15 —пиридович ј.». ”каз. соч. —. 199.
16 Ћемке ћ. . ”каз. соч. —. 39.
17 —пиридович ј.». ”каз. соч. —. 199, 200.
18 Ћемке ћ. . ”каз. соч. —. 114, 115.
ќпубликовано в ¬ќ≈ЌЌјя Ћ≈“ќѕ»—№ ќ“≈„≈—“¬ј | ћетки: Baranovichy, Commander-in-Chief, First World War, Grand Duke Nikolay Nikolayevich, history of memory., house of the Governor, Military Chamber, Nikolay II, Ѕарановичи, великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич, главнокомандующий, дом губернатора, истори€ пам€ти. General Headquarters of the Supreme Commander, ћогилЄв, Ќиколай II, ѕерва€ мирова€ война, –атна€ палата, —тавка ¬ерховного главнокомандующего |
http://history.milportal.ru/2016/11/stavka-nikolay...etskoe-i-postsovetskoe-vremya/
|
ћетки: перва€ мирова€ война |
—тавка ¬ерховного главнокомандующего |
ƒневник |
—тавка ¬ерховного главнокомандующего
ћатериал из ¬икипедии — свободной энциклопедии
ѕерейти к навигации ѕерейти к поиску
—м. также: —тавка ¬ерховного √лавнокомандовани€
| —тавка ¬ерховного главнокомандующего, —¬√, —тавка, ÷арска€ ставка. |
|
|---|---|
 «аседание —тавки ¬ерховного главнокомандующего. ћогилев, 1916 г. |
|
| √оды существовани€ | июль 1914 года — 16 марта 1918 года. |
| —трана |  –оссийска€ импери€ –оссийска€ импери€ |
| ѕодчинение | ¬ерховному главнокомандующему |
| ¬ходит в | ¬ооружЄнные силы –оссийской империи. |
| “ип | орган военного управлени€ |
| ¬ключает в себ€ | управлени€, штаб, канцел€рии, отделы, отделени€ и так далее |
| ‘ункци€ | руководство защитой |
| „исленность | свыше 2 000 человек. |
| ƒислокаци€ | Ѕарановичи, ћогилЄв, ќрЄл, –оссийска€ импери€. |
| ”частие в | ѕерва€ мирова€ война 1914—1918. |
—овет министров в ÷арской ставке, станци€ Ѕарановичи, 14 июн€ 1915 года.
—тавка ¬ерховного главнокомандующего (—¬√, —тавка) — орган высшего полевого управлени€ войсками (силами) и местопребывание ¬ерховного главнокомандующего ¬ооружЄнными силами –оссии на театре военных действий (действующей армией и флотом) во врем€ ѕервой мировой войны 1914—1918 годов.
— начала войны находилась в Ѕарановичах, с 8 августа 1915 года — в ћогилЄве.
Ўтаб ¬ерховного главнокомандующего первоначально состо€л из п€ти управлений:
- управление генерал-квартирмейстера, ведавшего оперативными вопросами;
- управление дежурного генерала, в ведении которого находились вопросы численности и укомплектовани€ вооружЄнных сил, обеспечени€ их главными видами снабжени€, а также назначени€ на должности командного состава;
- управление начальника военных сообщений;
- военно-морское управление;
- управление коменданта главной квартиры, ведавшего всеми находившимис€ в районе —тавки военнослужащими, а также учреждени€ми св€зи[1].
¬ начале войны в —¬√ насчитывалось 9 генералов, 36 офицеров, 12 военных чиновников и 125 солдат. ¬ ходе войны состав —тавки значительно расширилс€, и к 1 (14) но€бр€ 1917 в неЄ входило 15 управлений, 3 канцел€рии и 2 комитета (всего свыше 2 000 генералов, офицеров, чиновников и солдат)[1].
20 но€бр€ (3 декабр€) 1917 —тавка была зан€та революционными войсками во главе с Ќ. рыленко, который вступил в должность ¬ерховного главнокомандующего. Ќачальником штаба —тавки стал генерал ћ. ƒ. Ѕонч-Ѕруевич. —тавка была поставлена на службу —оветской власти в цел€х заключени€ мира с √ерманией и еЄ союзниками и демобилизации старой армии. ѕри —тавке были созданы органы революционной власти (¬оенно-революционный комитет, переименованный позднее в ÷екодарф, –еволюционный полевой штаб и др.).
¬ св€зи с наступлением австро-германских войск 26 феврал€ 1918 года —тавка была перемещена в ќрЄл, а 16 марта после заключени€ Ѕрестского мира была расформирована, поскольку с прекращением военных действий и демобилизацией старой армии еЄ роль как органа высшего полевого управлени€ отпала, а еЄ аппарат не мог быть использован дл€ руководства военными действи€ми в услови€х начавшейс€ гражданской войны. ¬ расной јрмии были созданы новые высшие органы управлени€[1].
—одержание
- 1 ¬ерховный главнокомандующий
- 2 —труктура и личный состав —тавки
- 3 ѕредставители союзников
- 4 —м. также
- 5 ѕримечани€
- 6 Ћитература
- 7 —сылки
¬ерховный главнокомандующий
¬ соответствии с руковод€щими документами того периода ¬ерховный главнокомандующий руководил только действующей армией и флотом[2].
— началом войны ¬ерховным главнокомандующим был назначен великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич. ¬ августе 1915 г. командование прин€л на себ€ сам Ќиколай II.
ѕосле свержени€ Ќикола€ II в результате ‘евральской революции предполагалось, что ¬ерховным главнокомандующим станет снова Ќиколай Ќиколаевич, который уже прибыл в —тавку, но не вступил в командование, так как против его кандидатуры высказалось ¬ременное правительство. √лавковерхом стал генерал ћ. ¬. јлексеев, которого сменил генерал ј. ј. Ѕрусилов, а его, после неудачного июньского наступлени€, — генерал Ћ. √. орнилов.
ѕосле провала орниловского выступлени€ генерал орнилов был арестован, а ¬ерховным главнокомандующим объ€вил себ€ министр-председатель ¬ременного правительства ј. ‘. еренский. ѕосле вооружЄнного восстани€ большевиков и провала ¬ыступлени€ еренского — раснова об€занности главнокомандующего исполн€л генерал Ќ. Ќ. ƒухонин, который был смещЄн с этого поста в но€бре 1917 г. по решению —овнаркома и затем убит. —овнарком назначил ¬ерховным главнокомандующим прапорщика-большевика Ќ. рыленко.
 |
 |
 |
 |
| »мператор Ќиколай II (слева), министр двора граф ¬. Ѕ. ‘редерикс в центре и великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич (справа) в —тавке | —тавка ¬ерховного √лавнокомандующего. январь 1915 года. ¬аршавский генерал-губернатор кн€зь ≈нгалычев, генералы янушкевич, ондзеровский, –онжин, ƒанилов и —оханский. | √енерал-квартирмейстер, генерал-лейтенант ё. Ќ. ƒанилов и чины его управлени€. | Ќачальник штаба (ЌЎ) ¬ерховного √лавнокомандующего генерал от инфантерии Ќ. Ќ. янушкевич и генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант ё. Ќ. ƒанилов. |
—труктура и личный состав —тавки
- Ќачальник штаба и чины, при нЄм состо€щие.
Ќачальники штаба:
-
- 19.07.1914—18.09.1915 — генерал-лейтенант (с 22.10.1914 г. генерал от инфантерии) Ќ. Ќ. янушкевич;
- 18.09.1915—10.11.1916 — генерал от инфантерии (с 1916 г. генерал-адъютант) ћ. ¬. јлексеев;
- 10.11.1916—17.02.1917 — временно исполн€ющий должность (¬р»ƒ), генерал от кавалерии ¬. ». √урко;
- 17.02.1917—11.03.1917 — генерал от инфантерии (с 1916 г. генерал-адъютант) ћ. ¬. јлексеев;
- 11.03.1917—05.04.1917 — ¬р»ƒ, генерал от инфантерии ¬. Ќ. лембовский;
- 05.04.1917—31.05.1917 — генерал-лейтенант ј. ». ƒеникин;
- 02.06.1917—30.08.1917 — генерал-лейтенант ј. —. Ћукомский;
- 30.08.1917—09.09.1917 — генерал от инфантерии ћ. ¬. јлексеев;
- 10.10.1917—03.11.1917 — генерал-лейтенант Ќ. Ќ. ƒухонин;
- 03.11.1917—07.11.1917 — ¬р»ƒ, генерал-майор ћ. . ƒитерихс;
- 07.11.1917—02.1918 — генерал-майор ћ. ƒ. Ѕонч-Ѕруевич;
- ”правление генерал-квартирмейстера.
√енерал-квартирмейстер:
-
- 19.07.1914—30.08.1915 — генерал-лейтенант ƒанилов, ёрий Ќикифорович;
- 30.08.1915—06.12.1916 — ¬р»ƒ, генерал-майор (с 06.11.1916 г. генерал-лейтенант) ѕустовойтенко, ћихаил —аввич;
- 06.12.1916—02.04.1917 — генерал-лейтенант Ћукомский, јлександр —ергеевич;
- 15.04.1917—15.06.1917 — генерал-майор ёзефович, яков ƒавыдович;
- 10.06.1917—10.09.1917 — генерал-майор –омановский, »ван ѕавлович;
- 10.09.1917—03.11.1917 — генерал-майор ƒитерихс, ћихаил онстантинович;
- 08.11.1917—29.11.1917 — генерал-майор —калон, ¬ладимир ≈встафьевич;
- ”правление дежурного генерала.
ƒежурный генерал:
-
- 19.07.1914—02.04.1917 — генерал-майор ондзеровский, ѕЄтр онстантинович;
- 17.04.1917—09.05.1917 — ј. ѕ. јрхангельский;
- 13.05.1917—14.06.1917 — генерал-лейтенант ћинут, ¬иктор Ќиколаевич;
- 14.06.1917—? — генерал-майор ортацци, √еоргий »ванович;
- ”правление начальника военных сообщений.
Ќачальник военных сообщений: √енерального Ўтаба генерал-майор –онжин, —ергей јлександрович;
- ¬оенно-морское управление: контр-адмирал Ќенюков, ƒмитрий ¬севолодович;
- ”правление коменданта: комендант полковник вашнин-—амарин, —ергей Ќиколаевич;
- јртиллерийское управление (создано в 1915 г.).
ѕолевой генерал-инспектор артиллерии:
-
- ¬еликий кн€зь —ергей ћихайлович (5.1.1916 — 22.3.1917);
- √енерал-лейтенант ’анжин, ћихаил ¬асильевич (14.4.1917 — 2.12.1917);
- »нженерное управление (создано в 1915). ѕолевой инспектор инженерной части: . ». ¬еличко (с 10.5.1917);
- ¬оздухоплавательное управление (создано в 1915). ѕолевой генерал-инспектор военно-воздушного флота: великий кн€зь јлександр ћихайлович;
- ”правление эскадры воздушных кораблей «»ль€ ћуромец» при штабе ¬ерховного главнокомандующего;
- »нтендантское управление (создано в 1915). √лавный полевой интендант: . Ќ. ≈горьев (с 20.3.1916);
- ”правление походного атамана казачьих войск (создано в 1915 г.);
ѕоходный атаман:
-
- ¬. ». ѕокотило (16.3 — 17.9.1915 г.);
- ¬еликий кн€зь Ѕорис ¬ладимирович (4.10.1915 — 7.8.1917 г.);
- ”правление протопресвитера военного и морского духовенства (создано в 1915 г.).
ѕротопресвитер: Ўавельский, √еоргий »ванович;
- ƒипломатическа€ канцел€ри€.
Ќачальник:
-
- кн€зь удашев, Ќиколай јлександрович (1914—1916);
- Ѕазили, Ќиколай јлександрович (1917);
- √ражданска€ канцел€ри€. Ќачальник: кн€зь Ќ. Ћ. ќболенский (1914—1915), ј. ј. Ћодыженский (1915—1917);
- “ипографи€;
- √енерал дл€ поручений: генерал-майор ѕетрово-—оловово, Ѕорис ћихайлович;
- јдъютанты ¬ерховного √лавнокомандующего:
- ѕолковник, кн€зь ўербатов, ѕавел Ѕорисович;
- ѕолковник, кн€зь антакузин, ћихаил ћихайлович;
- ѕолковник оцебу, јлександр ѕавлович;
- ѕолковник граф ћенгден, ƒмитрий √еоргиевич;
- –отмистр ƒерфельден, ’ристиан »ванович;
- Ўтабс-ротмистр, кн€зь √олицын, ¬ладимир Ёммануилович;
- јвиационный дивизион обороны —тавки ¬ерховного главнокомандующего –усского »мператорского военно-воздушного флота.
ѕредставители союзников
ѕри ставке находились представители союзных держав:
- ¬еликобритани€ — ’энбери-”иль€мс;
- ‘ранци€ — генералы Ћагиш, ѕо, затем ∆анен;
- »тали€ — полковник ћ. ћарсенго;
- Ѕельги€ — генерал-майор, барон –иккель;
- —ерби€ — полковник Ћонткевич;
‘ранцузска€ военна€ мисси€ (‘–јћ»—) была направлена в –оссию в 1916 году. ќсновной еЄ задачей было ведение пропагандистской де€тельности дл€ подн€ти€ боевого духа –усской армии; после свержени€ самодержави€ в феврале 1917 года - удержание –оссии в состо€нии войны, информирование французского правительства о ситуации в –оссии. ѕосле ќкт€брьской революции 1917 года часть еЄ сотрудников примкнула к большевикам и вступила в – ѕ(б), тогда как другие поддерживали Ѕелое движение. ¬ окт€бре 1918 года часть сотрудников была арестована и помещена в Ѕутырскую тюрьму по обвинению в контрреволюционной де€тельности. ¬ начале 1919 года сотрудники миссии, за исключением тех, кто отказалс€ покидать —оветскую –оссию, вернулись во ‘ранцию[3].
—м. также
- ¬ерховный главнокомандующий
- —тавка ¬ерховного √лавнокомандовани€ (¬елика€ ќтечественна€ война)
- «ан€тие большевиками —тавки ¬ерховного √лавнокомандующего (1917)
ѕримечани€
Ѕ—Ё. —тавка ¬ерховного √лавнокомандующего. ѕроверено 12 €нвар€ 2011. јрхивировано 28 июл€ 2012 года.
Ќ. Ќ. √оловин, ¬оенные усили€ –оссии …
Ћитература
- Ѕубнов ј. ƒ. ¬ царской ставке: воспоминани€ адмирала Ѕубнова. Ќью-…орк, 1955. ћосква 2008.
- Ўавельский √. ». ¬оспоминани€ последнего протопресвитера русской армии и флота
- Ћемке ћ. . 250 дней в царской ставке
- «алесский . ј. то был кто в ѕервой мировой войне. — ћ.: ј—“; јстрель, 2003. — 896 с. — 5000 экз. — ISBN 5-17-019670-9 (ACT); ISBN 5-271-06895-1 (јстрель).
- Ѕонч-Ѕруевич ћ. ƒ. ¬с€ власть —оветам!
—сылки
 |
–усска€ ставка во врем€ первой мировой войны. на ¬икискладе |
|---|
| [показать] |
|---|
| [показать] ¬ерховные главнокомандующие –оссии в ѕервой мировой войне |
|---|
|
ћетки: ѕерва€ ћирова€ ¬ойна |
| —траницы: | [1] |