-Метки
а. с. пушкин ай - петри александр iii алупка алушта анна кирьянова артек балаклава бахчисарай белогорск война выкройки и моделирование георгиевский монастырь гитара греки крыма гурзуф дворцы и усадьбы крыма денис косташ дети душевно о главном евпатория екатерина ii живопись животные крыма здоровье идеи. советы дизайнеров известные люди в крыму инкерман интересное история история крыма караимы крыма керчь кино книги о крыме коктебель компьютерная грамотность красота крым крым в живописи крымская война 1853 - 1856 гг. крымские татары крымское ханство ливадия лицо любовь мангуп массандра мечети крыма мой сад москва музыка непознанное одесса оккупация партизаны крыма переделка позитив полезные советы потемкин психология растения крыма ретро - фото ретро – фото рецепты россия сахалин севастополь села крыма семья симеиз симферополь ссср сталин старые фотографии старый крым стихи стихи о крыме стройнею судак счастье тайны крыма театр технология шитья украина успенский монастырь феодосия ханские дворцы ханский дворец херсонес хочу замуж худею чуфут - кале чуфут-кале шитье школа экскурсии в крыму эротика юмор ялта
-Рубрики
- Хочу замуж (164)
- Гитара (8)
- Анекдот (27)
- Бабушка. Дедушка (68)
- Война (418)
- Дети (611)
- Душевно о главном (84)
- Живопись (1389)
- Здоровье (570)
- Интересное (621)
- История (2870)
- Кино. Театр (247)
- Компьютерная грамотность (64)
- Красота (214)
- Лицо (17)
- Волосы (4)
- Крым (5484)
- Ай - Петри (52)
- Ак - Кая (Белая скала) (19)
- Алупка (86)
- Алушта (86)
- Армянск (11)
- Артек (38)
- Байдары (35)
- Бакла (8)
- Балаклава (117)
- Бахчисарай (1093)
- Белогорск (Карасубазар) (42)
- Бисерный храм (9)
- Гаспра (7)
- Греки Крыма (68)
- Гурзуф (100)
- Дворцы и усадьбы Крыма (150)
- Демерджи (17)
- Джанкой (37)
- Евпатория (99)
- Евреи Крыма (26)
- Животные Крыма (15)
- Жилье у моря в Крыму (10)
- Известные люди в Крыму (334)
- Ильяс - Кая (6)
- Инкерман (53)
- История Крыма (2214)
- Исход. Крым (37)
- Караимы Крыма (99)
- Кацивели (4)
- Качи - Кальон (25)
- Керчь (111)
- Кино, театр в Крыму (21)
- Книги о Крыме (146)
- Коктебель (39)
- Кореиз (15)
- Кофейни Крыма (18)
- Крым - времена года (13)
- Крым в живописи (463)
- Крым. Истории любви (11)
- Крым. Разное (203)
- Крым. Ретро - фото (1060)
- Крым. Референдум. До и после (126)
- Крымская война 1853 - 1856 гг. (96)
- Крымские художники (56)
- Крымско - татарская кухня (15)
- Кучук - Ламбат (5)
- Лаванда (20)
- Лаки (5)
- Легенды Крыма (47)
- Ливадия (81)
- Максимова дача (10)
- Мангуп - Кале (47)
- Массандра (15)
- Места силы Крыма (33)
- Мисхор (11)
- Мой сад (37)
- На автомобиле по Крыму (57)
- Научный (Обсерватория) (7)
- Недвижимость в Крыму (11)
- Немцы Крыма (28)
- Никитский ботанический сад (13)
- Новый Свет (18)
- Ореанда (17)
- Отдых в Крыму. Жильё в Крыму у моря (24)
- Партенит (20)
- Песни о Крыме (11)
- Пляжи Крыма (33)
- Растения Крыма (128)
- Романовы в Крыму (69)
- Саки (16)
- Севастополь (1012)
- Села Крыма (325)
- Симеиз (39)
- Симферополь (288)
- Соколиное (Коккозы) (19)
- Старый Крым (38)
- Стихи о Крыме (134)
- Судак (56)
- Суук - Су (7)
- Тайны Крыма (145)
- Тепе - Кермен (21)
- Успенский монастырь (35)
- Феодосия (140)
- Фиолент (45)
- Форос (31)
- Фото - художники о Крыме (14)
- Ханские дворцы (103)
- Херсонес (39)
- Храм Донаторов (3)
- Чуфут - Кале (95)
- Швейцарцы Крыма (4)
- Шокирующий Крым (40)
- Экскурсии в Крыму (127)
- Эски - Кермен (22)
- Юмор.Крым (36)
- Ялта (290)
- Крымские татары (720)
- Любовь. Любовная лирика (680)
- Мифы об Украине (4)
- Море. Пляж (74)
- Мужчина. Женщина (264)
- Музыка (498)
- Непознанное (199)
- О, женщина! (25)
- Полезные советы (447)
- Психология (528)
- Рецепты (346)
- Россия (3250)
- Муром (6)
- Приднестровье. Тирасполь (41)
- Романовы (85)
- Россия в мемуарах (40)
- Сахалин (31)
- Семья (699)
- Соционика (1)
- СССР (915)
- Старые фотографии (1277)
- Стихи (489)
- Стройнею (127)
- Украина (2212)
- Частушки (31)
- Шитьё (503)
- Выкройки и моделирование (184)
- Вышивка (3)
- Идеи. Советы дизайнеров (55)
- Переделка одежды (41)
- Сумки и др. (13)
- Технология шитья (36)
- Школа (211)
- Юмор (1172)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Страницы моей жизни. Анна Танеева (Вырубова). Часть 2. |
Цитата сообщения TimOlya
Страницы моей жизни. Анна Танеева (Вырубова)Часть 2.






























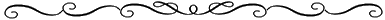

Анна Александровна Вырубова,урожденная Танеева
(Трубецкой бастион Петропавловской крепости)

<…> Тот, кто переживал первый момент заключения, поймет, что я пережила: черная, беспросветная скорбь и отчаяние. От слабости я упала на железную кровать; вокруг на каменном полу — лужи воды, по стеклам текла вода, мрак и холод; крошечное окно у потолка не пропускало ни света ни воздуха, пахло сыростью и затхлостью. В углу клозет и раковина. Железный столик и кровать приделаны к стене. На кровати лежали тоненький волосяной матрас и две грязные подушки. Через несколько минут я услышала, как поворачивали ключи в двойных или тройных замках огромной железной двери, и вошел какой-то ужасный мужчина с черной бородой, с грязными руками и злым, преступным лицом, окруженный толпой наглых отвратительных солдат. По его приказанию солдаты сорвали тюфячок с кровати, убрали вторую подушку и потом начали срывать с меня образки, золотые кольца. Этот субъект заявил мне, что он здесь вместо министра юстиции и от него зависит установить режим заключенным. Впоследствии он назвал свою фамилию — Кузьмин, бывший каторжник, пробывший на каторге в Сибири 15 лет. <…>


Камера где содержалась Анна Вырубова
***
Я буквально голодала. Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в которую солдаты часто плевали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть от голода… Ни разу за все эти месяцы мне не разрешили принести еду из дома. <…>
Жизнь наша была медленной смертной казнью. Ежедневно нас выводили на 10 минут на маленький дворик с несколькими деревцами; посреди двора стояла баня. Шесть вооруженных солдат выводили всех заключенных по очереди. В первое утро, когда я вышла из холода и запаха могилы на свежий воздух даже на эти 10 минут, я пришла в себя, ощутив, что еще жива, и как-то стало легче… Думаю ни один сад в мире не доставлял никому столько радости, как наш убогий садик в крепости. Я дышала Божьим воздухом, смотрела на небо, внимательно наблюдала за каждым облачком, всматриваясь в каждую травку, в каждый листочек на кустах. <…>

Кадр из фильма "Григорий Р"
***
Я никогда не раздевалась; у меня было два шерстяных платка; один я надевала на голову, другой на плечи: покрывалась же своим пальто. Холодно было от мокрого пола и стен. Я спала по 4 часа. <…> Просыпаясь, я грелась в единственном теплом уголке камеры, где снаружи была печь: часами простаивала я на своих костылях, прислонившись к сухой стене. <…>
Теперь надо поговорить о главном мучителе, докторе Трубецкого бастиона — Серебрянникове. Появился он уже в первый день заключения и потом обходил камеры почти каждый день. Толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь. <…>
В эти дни я не могла молиться и только повторяла слова Спасителя: «Боже, Боже мой, вскую мя еси оставил!»

Кадр из фильма "Григорий Р"
****
<…> Спустя неделю, что мы пробыли в заключении, нам объявили, что у нас будут дежурить надзирательницы из женской тюрьмы. Первая надзирательница была молодая бойкая особа, флиртующая со всеми солдатами и не обращающая на нас особого внимания; вторая же постарше, с кроткими, грустными глазами. С первой же минуты она поняла глубину моего страдания и была нашей поддержкой и ангелом-хранителем. Воистину есть святые на земле, и она была святая. Имени ее я не хочу называть, а буду говорить о ней как о нашем ангеле. Все, что было в ее силах, чтобы облегчить наше несчастное существование, она все сделала. Никогда в своей жизни не смогу ее отблагодарить. Видя, что мы буквально умираем с голоду, она покупала на свои скудные средства то немного колбасы, то кусок сыру или шоколада и т. д. Одной ей не позволяли входить, но, уходя вслед за солдатами, последней из камеры, она ухитрялась бросать сверточек в угол около клозета, и я бросалась, как голодный зверь на пакетик, съедала в этом углу, подбирала и выбрасывала все крошки.

Камера где содержалась А.А.Вырубова
***
Первую радость доставила она мне, подарив красное яичко на Пасху.
Не знаю как описать этот светлый праздник в тюрьме. Я чувствовала себя забытой Богом и людьми. В Светлую ночь проснулась от звона колоколов и села на постели обливаясь слезами. Ворвалось несколько человек пьяных солдат, со словами «Христос Воскресе!» похристосовались. В руках у них были тарелки с пасхой и кусочками кулича; но меня они обнесли. «Ее надо побольше мучить, как близкую к Романовым», — говорили они. Священник просил позволения у правительства обойти заключенных с крестом, но ему отказали. В Великую Пятницу нас всех исповедовали и причащали Святых Тайн; водили нас по очереди в одну из камер, у входа стоял солдат. Священник плакал со мной на исповеди. Никогда не забуду ласкового отца Иоанна Руднева; он ушел в лучший мир. Он так глубоко принял к сердцу непомерную нашу скорбь, что заболел после этих исповедей.
Была Пасха, и я в своей убогой обстановке пела пасхальные песни, сидя на койке. Солдаты думали, что я сошла с ума, и, войдя, под угрозой побить, потребовали, чтобы я замолчала. Положив голову на грязную подушку я заплакала… Но вдруг я почувствовала под подушкой что-то крепкое и, сунув руку, ощупала яйцо. Я не смела верить своей радости. В самом деле, под грязной подушкой, набитой соломой, лежало красное яичко, положенное доброй рукой моего единственного теперь друга, нашей надзирательницы. Думаю, ни одно красное яичко в этот день не принесло столько радости: я прижала его к сердцу, целовала его и благодарила Бога. <…>

Кадр из фильма "Григорий Р"
***
***
23 апреля, в день именин Государыни, когда я особенно отчаивалась и грустила, в первый раз обошел наши камеры доктор Манухин, бесконечно добрый и прекрасный человек. С его приходом мы почувствовали, что есть Бог на небе и мы им не забыты. <…> Для него все мы были пациенты, а не заключенные. Он потребовал чтобы ему показали нашу пищу, и приказал выдавать каждому по бутылке молока и по два яйца в день. Как это ему удалось, не знаю, но воля у него была железная, и, хотя сперва солдаты хотели его несколько раз поднять на штыки, они в конце концов покорились ему, и он, невзирая на грубости и неприятности, забывая себя, свое здоровье и силы, во имя любви к страждущему человечеству все делал, чтобы спасти нас. <…>

Манухин Иван Иванович (слева)и Максим Горький
****
Допросы Руднева продолжались все время. Я как-то спросила доктора Манухина: за что мучат меня так долго? Он успокаивал меня, говоря, что разберутся, но предупредил, что меня ожидает еще худший допрос.
Через несколько дней он пришел ко мне один, закрыл дверь, сказав, что Комиссия поручила ему переговорить со мной с глазу на глаз, и потому в этот раз солдаты его не сопровождают. Чрезвычайная Комиссия, говорил он, почти закончила рассмотрение моего дела и пришла к заключению, что обвинения лишены основания, но что мне нужно пройти через этот «докторский» допрос, чтобы реабилитировать себя, и что я должна на это согласиться!.. Когда «допрос» кончился, я лежала разбитая и усталая на кровати, закрывая лицо руками. С этой минуты доктор Манухин стал моим другом — он понял глубокое, беспросветное горе незаслуженной клеветы, которую я несла столько лет. <…>

Кадр из фильма "Григорий Р"
****
***
(Арестный Дом, Фурштадтская 40)
Месяц, который я провела в Арестном Доме, был сравнительно спокойный и счастливый, хотя иногда бывало и жутко, так как в это время была первая попытка большевиков встать во главе правительства. <…>
Комендант, узнав, что у меня есть походная церковь в лазарете, обратился ко мне с просьбой, не позволила бы я отслужить обедню для всех заключенных. Так как самое большое желание офицеров было причаститься Святых Тайн. Обедня эта совпала с днем моего рожденья 16 июля. Трогательная была эта служба: все эти несчастные, замученные в тюрьмах люди простояли всю обедню на коленях; многие неудержимо плакали, плакала и я, стоя в уголке, слушая после неизъяснимых мучений эту первую обедню. <…>
В Арестном Доме я начала поправляться. Весь день я просиживала у открытого окна и не могла налюбоваться на зелень в садике и на маленькую церковь Косьмы и Дамиана. Но больше всего доставляло удовольствие — смотреть на проходивших и проезжавших людей. Цвет лица из земляного превратился в нормальный, но я долго не могла привыкнуть разговаривать, и меня это страшно утомляло. К вечеру я нервничала: мне все казалось, что придут за мной стрелки из крепости. <…>

Кадр из фильма "Григорий Р"
***
***
24 июля пришла телеграмма из прокуратуры, чтобы кто-нибудь из моих родных приехал за получением бумаги на мое освобождение. <…>
В Царское, конечно, не смела ехать. От моего верного Берчика узнала, как обыскивали мой домик, как Временное правительство предлагало ему 10 тысяч рублей, лишь бы он наговорил гадостей на меня и на Государыню; но он, прослуживший 45 лет в нашей семье, отказался, и его посадили в тюрьму, где он просидел целый месяц. Во время первого обыска срывали у меня в комнате ковры, подняли пол, ища «подземный ход во дворец» и секретные телеграфные провода в Берлин. Искали «канцелярию Вырубовой», ничего не найдя, ужасно досадовали. Но главное, что они искали, — это винные погреба, и никак не могли поверить, что у меня нет вина. <…>

Дом А.Вырубовой
*****
***
24 августа вечером, как только я легла спать, в 11 часов явился от Керенского комиссар с двумя «адъютантами» <…> они сказали, что я как контрреволюционерка высылаюсь в 24 часа за границу. <…> Утро 26-го было холодное и дождливое, на душе невыразимо тяжело. На станцию поехали на двух автомобилях… дорогим родителям было разрешено проводить меня до Териок. Вагон наш был первый от паровоза. В 7 часов утра поезд тронулся, — я залилась слезами. Дядя в шутку называл меня эмигранткой. Несмотря на все мученья, которым я подверглась за последние месяцы, «эмигрантка» убивалась при мысли уезжать с Родины. <…>

Керенский А.Ф. в своём кабинете в Зимнем дворце
***
Подъезжая к Риихимяки, я увидела на платформе толпу в несколько тысяч солдат; все они, видимо, ждали нашего поезда и с дикими криками окружили наш вагон. В одну минуту они отцепили его от паровоза и ворвались, требуя, чтобы нас отдали на растерзание. «Давайте нам Великих Князей. Давайте генерала Гурко…» Их ввалилось полный вагон. Я думала, что все кончено, сидела, держа за руку сестру милосердия. «Да вот он, генерал Гурко», — кричали они, вбежав ко мне. Напрасно уверяла сестра, что я больная женщина, — они не верили, требовали, чтобы меня раздели, уверяя, что я — переодетый Гурко. Вероятно, мы бы все были растерзаны на месте, если бы не два матроса-делегата из Гельсингфорса, приехавшие на автомобиле: они влетели в вагон, вытолкали половину солдат, а один из них — высокий, худой, с бледным добрым лицом (Антонов) — обратился с громовой речь к тысячной толпе, убеждая успокоиться и не учинять самосуда, так как это позор. Он сумел на них подействовать, так что солдаты немного поутихли и позволили прицепить вагон к паровозу для дальнейшего следования в Гельсингфорс. <…>


Мы очутились на яхте «Полярная звезда», с которой связано у меня столько дорогих воспоминаний о плаваниях — по этим же водам с Их Величествами. <…> Яхта перешла, как и все достояние Государя, в руки Временного правительства. Теперь же на ней заседал «Центробалт». Нельзя было узнать в заплеванной, загаженной и накуренной каюте чудную столовую Их Величеств. За теми же столами сидело человек сто «правителей» — грязных озверелых матросов. Происходило заседание, на котором решались вопросы и судьба разоренного флота и бедной России.

Императорская яхта «Полярная звезда». 1890 год, картина А. К. Беггрова
****
Пять суток, которые я провела под арестом на яхте, я целый день слышала, как происходили эти заседания и говорились «умные» речи. Мне казалось, что я сижу в доме сумасшедших. <…> Нас поместили в трюм. Все было переполнено паразитами; день и ночь горела электрическая лампочка, так как все это помещение было под водой. Никогда не забуду первой ночи. У наших дверей поставили караул с «Петропавловска», те же матросы с лезвиями на винтовках, и всю ночь разговор между ними шел о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль и поперек, чтобы потом выбросить через люк, и с кого начать — с женщин или со стариков. <…> Когда караул сменила команда с «Гангута», Антонов ушел, и я больше его никогда не видала. Вернувшись на свой корабль, матросы с «Петропавловска» убили всех своих офицеров. Как мы не сошли с ума, не знаю, но когда нас перевели в крепость, то я заметила, что стала седая… Если Гельсингфорский совет нас сразу не уничтожил, то, думаю, из-за того, что мы числились арестованными Керенского, которого они ненавидели. <…>
В Петрограде был какой-то «Съезд Советов» и ожидалась перемена правительства. В случае ухода Керенского матросы решили нас отпустить… вопрос о нас решен Областным Комитетом положительно… во главе Петроградского Совета встал Троцкий, которому нас препровождают.

Лев Давидович Троцкий
(Лейб Давидович Бронштейн)
***
В 9 часов утра мы приехали в Петроград… в Смольный. Очутились в огромном коридоре, по которому бродили солдаты. Я была счастлива обнять дорогую маму, которая вбежала с другими родственниками. Вскоре пришел Каменев и его жена; поздоровавшись со всеми нами, сказал, что, вероятно, мы голодные, приказали всем принести обед. Они решили вызвать кого-нибудь из следственной комиссии по телефону, но никого не могли найти, так как было воскресенье и праздник Покрова (я все время надеялась, что в этот день Божия Матерь защитит нас). Каменев же сказал, что лично он отпускает нас на все четыре стороны… На следующий день все газеты были полны нами… Целые статьи были посвящены мне и Каменевой: пошли легенды, которые окончились рассказами, что я заседаю в Смольном, что меня там видели «своими глазами», что я катаюсь с Коллонтай и скрываю Троцкого и т. д.

Лев Борисович Каменев
(Лейба Розенфельд)

Ольга Давидовна Каменева, урожденная Бронштейн
****
***
Как ни странно, но зима 1917 — 1918 гг. и лето 1918 г., когда я скрывалась в своей маленькой квартире на 6 этаже в Петрограде, были сравнительно спокойными, хотя столица и находилась в руках большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. Пища была скудная, цены огромные, и общее положение становилось все хуже и хуже. <…>
Я верила, надеялась и молилась, что ужасное положение России временное, и что скоро наступит реакция, и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения, казалось мне, был <…> и писатель Горький, который, вероятно, ради любопытства хотел меня увидеть… Ко мне Горький отнесся ласково и сочувственно. <…> Он говорил мне, что на мне лежит ответственная задача написать правду об Их Величествах «для примирения царя с народом». Мне же советовал жить тише, о себе не напоминая. Я видела его еще два раза и показывала ему несколько страниц своих воспоминаний, но писать в России было невозможно.

Император Николай II
***
***
В конце лета 1918 г. жизнь в России приняла хаотический характер: несмотря на то, что лавки были закрыты, можно было приобретать кое-какую провизию на рынках. Цены были уже тогда непомерно высокие. Фунт хлеба стоил несколько сот рублей, и масло — несколько тысяч… Вспоминаю тяжелый день, когда у меня осталось в кармане всего пять копеек; я сидела в Таврическом саду на скамейке и плакала. Когда вернулась домой, моя мать, которая все лето лежала больная в постели, сказала мне, что только что был один знакомый и принес нам 20 тысяч рублей, узнав о нашей бедности. После этого он исчез, и мы никогда не узнали, что с ним стало. Благодаря его помощи мне удалось послать царской семье необходимые вещи и одежду. <…>

7-го октября ночью мать и я были разбужены сильными звонками в дверь, и к нам ввалились человек 8 вооруженных солдат с Гороховой, чтобы произвести обыск, а также арестовать меня и сестру милосердия… Минут через десять приехали на Гороховую… Когда стало рассветать, арестованные стали подыматься; солдат с ружьем водил партиями в грязную уборную. Тут же под краном умывали лицо. Старостой арестованных женщин была выбрана та, которая больше всех находилась в ЧК. <…> Не зная, в чем меня обвиняют, жила с часу на час в постоянном страхе, как и все, впрочем… Часто ночью, когда усталые мы засыпали, нас будил электрический свет, и солдаты вызывали кого-нибудь из женщин: испуганная, она вставала, собирая свой скарб, — одни возвращались, другие исчезали… и никто не знал, что каждого ожидает. <…> Выкрикнув мою фамилию, добавили: «в Выборгскую тюрьму». Меня повели вниз на улицу. У меня было еще немного денег, я попросила солдата взять извозчика и по дороге разрешить мне повидать мою мать. Уже был вечер, трамваи не ходили. Шел дождь. Мы наняли извозчика за 60 рублей в Выборгскую тюрьму; отдала все оставшиеся деньги солдату, и он согласился остановиться около нашего дома. <…>

***
Сколько допрашивали и мучили меня, выдумывая всевозможные обвинения! К 25 октября, большевистскому празднику, многих у нас освободили… Но амнистия не касалась «политических». <…> 10-го ноября вечером меня вызвал помощник надзирателя, сказав, что с Гороховой пришел приказ меня немедленно препроводить туда… Почти сейчас же вызвали на допрос… около часу кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я состою в немецкой организации, что у меня какие-то замыслы против ЧК, что я опасная контрреволюционерка и что меня непременно расстреляют, как и всех «буржуев», так как политика их, большевиков, — «уничтожение» интеллигенции и т. д. Я старалась не терять самообладания, видя, что передо мной душевно больные… Вернувшись, я упала на грязную кровать; допрос продолжался три часа… Прошел мучительный час. Снова показался солдат и крикнул: «Танеева! С вещами на свободу»…

Анна Александровна Вырубова,урожденная Танеева
***
Дома меня ожидала неприятность: сестра милосердия, которую я знала с 1905 года, которая служила у меня в лазарете и после моих заключений поселилась со мной и моей матерью, украла все мои оставшиеся золотые вещи.
***
Зиму 1919 года провели тихо. Но я очень нервничала: успокоение находила только в храмах. Ходила часто в Лавру, на могилу отца: постоянно была на Карповке у о. Иоанна. Изредка виделась с некоторыми друзьями; многие добрые люди не оставляли меня и мою мать, приносили нам хлеба и продукты. Имена их ты веси, Господи!..

Анна Александровна Вырубова
****
Наступило лето, жаркое, как и в предыдущем году. У матери сделалась сильнейшая дизентерия. Спасал ее, как и в прошлом году, дорогой доктор Манухин. По городу начались во всех районах повальные обыски. Целые ночи разъезжали автомобили с солдатами и женщинами, и арестовывали целыми компаниями. Обыкновенно это лето электричество тушилось в 7 часов вечера, но когда оно снова вечером зажигалось, то обыватели знали, что ожидается обыск, и тряслись. У нас эти господа побывали семь раз, но держали себя прилично. В конце июля меня снова арестовали. <…>
Приехав в штаб Петроградской обороны на Малой Морской, посадили в кабинете на кожаный диван, пока у них шло «совещанье» по поводу меня. «Долго ли меня здесь продержат» — спросила я. «Здесь никого не держат, — расстреливают или отпускают!..» Вместо вопроса об оружии и бомбах они принесли альбом моих снимков, снятых в Могилеве и отобранных у меня… требовали от меня объяснения каждой фотографии, а также ставили вопросы все те же о царской семье… «Посмотри, посмотри, какие они миленькие», — говорили они, смотря на фотографии Великих Княжон. Затем объявили мне, что отпускают домой. (Допрос происходил как раз сразу после расстрела царской семьи, поэтому особенно цинично это: «Посмотри, посмотри, какие они миленькие». — Ред.)

Могилев
****
***
Через месяц началось наступление белой армии на Петроград. Город был объявлен на военном положении, удвоились обыски и аресты. Нервничала власть. Везде учились солдаты, летали аэропланы. С лета также ввели карточки, по которым несчастное население получало все меньше и меньше продуктов. Стали свирепствовать эпидемии. Больше всего голодала интеллигенция, получая в общественных столовых две ложки воды с картофелем, вместо супа, и ложку каши… Накануне Воздвиженья я была на ночном молении в Лавре; началось в 11 час. вечера. Всенощная, полунощница, общее соборование и ранняя обедня. Собор был так переполнен, что, как говорится, яблоку некуда было упасть. До обеда шла общая исповедь, которую провел священник Введенский. Митрополит Вениамин читал разрешительную молитву. Более часа подходили к Святым Тайнам: пришлось двигаться сдавленной среди толпы, так что даже нельзя было поднять руку, чтобы перекреститься. Ярко светило солнце, когда в 8 часов утра выходила радостная толпа из ворот Лавры, никто даже не чувствовал особенной усталости. В храмах народ искал успокоения от горьких переживаний и потерь этого страшного времени.

Александро-Невская лавра. Вид на Троицкий собор и Феодоровский корпус с Экономским мостом через реку Монастырку
***
22-го сентября вечером я пошла на лекцию в одну из отдаленных церквей и осталась ночевать у друзей, так как идти домой вечером было и далеко, и опасно. Все последнее время тоска и вечный страх не покидали меня; в эту ночь я видела о. Иоанна Кронштадтского во сне. Он сказал мне: «Не бойся, я все время с тобой!» Я решила поехать прямо от друзей к ранней обедне на Карповку и, причастившись Св. Тайн, вернулась домой. Удивилась, найдя дверь черного хода запертой. Когда я позвонила, мне открыла мать, вся в слезах, и с ней два солдата, приехавшие меня взять на Гороховую… Комната наша была полна; около меня помещалась белокурая барышня финка, которую арестовали за попытку уехать в Финляндию. Она служила теперь машинисткой в чрезвычайке и по ночам работала: составляла списки арестованных и поэтому заранее знала об участи многих. Кроме того за этой барышней ухаживал главный комиссар — эстонец. Возвращаясь ночью со своей службы, она вполголоса передавала своей подруге, высокой рыжей грузинке Менабде, кого именно увезут в Кронштадт на расстрел. <…> Я поняла, что меня ожидает самое ужасное, и вся похолодела… «Менабде на волю, Вырубова в Москву», — так крикнул начальник комиссаров, входя к нам в камеру утром 7-го октября. Ночью у меня сделалось сильное кровотечение; староста и доктор пробовали протестовать против распоряжения, но он повторил: «Если не идет, берите ее силой». Вошли два солдата, схватили меня. Но я просила их оставить меня и, связав свой узелок, открыла свое маленькое Евангелие. Взгляд упал на 6 стих 3 главы от Луки: «И узрит всякая плоть спасение Божие». Луч надежды сверкнул в измученном сердце. Меня торопили, говорили, что сперва поведут на Шпалерную, потом в Вологду. <…> Но я знала, куда меня вели. «Не можем же мы с ней возиться», — сказал комиссар старосте. <…>

Анна Александровна Вырубова,урожденная Танеева
****
<…> И здесь случилось то, что читатель может назвать как хочет. Но что я называю чудом. Трамвай, на который мы должны были пересесть, где-то задержался <…> и большая толпа народа ожидала. Стояла и я со своим солдатом, но через несколько минут ему надоело ждать и, сказав подождать одну минуточку, пока он посмотрит, где же наш трамвай, он отбежал направо. В эту минуту ко мне сначала подошел офицер Саперного полка, которому я когда-то помогла, спросил, узнаю ли его, и, вынув 500 рублей, сунул мне в руку, говоря, что деньги мне могут пригодиться… В это время ко мне подошла быстрыми шагами одна из женщин, с которой я часто вместе молилась на Карповке: она была одна из домашних о. Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам, — сказала она, — идите, я молюсь. Батюшка Отец Иоанн спасет Вас».

Святой Праведный Иоанн Кронштадский
***
Меня точно кто-то толкнул; ковыляя со своей палочкой, я пошла по Михайловской улице (узелок мой остался у солдата), напрягая последние силы и громко взывая: «Господи, спаси меня! Батюшка отец Иоанн, спаси меня!» Дошла до Невского: трамваев нет. Вбежать ли в часовню? Не смею. Перешла улицу и пошла по Перинной линии, оглядываясь. Вижу — солдат бежит за мной. Ну, думаю, кончено. Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул на Екатерининский канал. Был ли этот или другой, не знаю. Я же пошла по Чернышеву переулку. Силы стали слабеть, мне казалось, что еще немножко, и я упаду. Шапочка с головы свалилась, волосы упали, прохожие оглядывались на меня, вероятно, принимая за безумную. Я дошла до Загородного. На углу стоял извозчик. Я подбежала к нему, но тот закачал головой. «Занят». Тогда я показала ему 500-рублевую бумажку, которую держала в левой руке. «Садись», — крикнул он. Я дала адрес друзей за Петроградом. <…>

***
Как мне описать мои странствования в последующие месяцы. Как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. <…>
<…> Шел 1920 год. Господь через добрых людей не оставлял меня… Начали приходить письма из-за границы от сестры моей матери, которая убеждала нас согласиться уехать к ней… Но как покинуть Родину? Я знала, что Бог так велик, что если Ему угодно сохранить, то всегда и везде рука Его над нами. И почему же за границей больше сохранности? Боже, чего стоил мне этот шаг!..
Отправились: я босиком, в драном пальтишке. Встретились мы с матерью на вокзале железной дороги и, проехав несколько станций, вышли. <…> Темнота. Нам было приказано следовать за мальчиком с мешком картофеля, но в темноте мы потеряли его. Стоим мы посреди деревенской улицы: мать с единственным мешком, я со своей палкой. Не ехать ли обратно? Вдруг из темноты вынырнула девушка в платке, объяснила, что она сестра этого мальчика, и велела идти за ней в избушку. <…> Финны медлили, не решаясь ехать, так как рядом происходила танцулька. В 2 часа ночи нам шепнули: собираться. Вышли без шума на крыльцо. На дворе были спрятаны большие финские сани. Так же бесшумно отъехали. <…> Почти все время шли шагом по заливу: была оттепель, и огромные трещины во льду. Один из финнов шел впереди, измеряя железной палкой. То и дело они останавливались, прислушиваясь. Слева, близко, казалось, мерцали огни Кронштадта. Услыхав ровный стук, они обернулись со словами «погоня», но после мы узнали, что звук этот производил ледокол «Ермак», который шел, прорезывая лед за нами. Мы проехали последними. <…> Было почти светло , когда мы с разбегу поднялись на финский берег и понеслись окольными дорогами к домику финнов, боясь здесь попасться в руки финской полиции. Окоченелые, усталые, мало что соображая, мать и я пришли в карантин, где содержали всех русских беженцев… Нас вымыли, накормили и понемногу одели. Какое странное чувство было — надеть сапоги. <…>

И у меня, и у матери душа была полна неизъяснимого страдания: если было тяжело на дорогой Родине, то и теперь подчас одиноко и трудно без дома, без денег… Но мы со всеми изгнанными и оставшимися страдальцами в умилении сердец наших взывали к милосердному Богу о спасении дорогой Отчизны.
«Господь мне помощник и не убоюся, что мне сотворит человек».

(Фрагменты книги печатаются по тексту, подготовленному Ю. Рассулиным для издательства «Благо» в 2000 г.)
http://ricolor.org/europe/finlandia/fr/history/1/1/
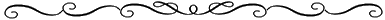
Страницы моей жизни. Анна Танеева (Вырубова). Часть 1 http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post352971235/.
| Рубрики: | Россия/Россия в мемуарах История Старые фотографии |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |






