-Я - фотограф
Khersoness
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Сообщества
-Статистика
MERYL STREEP |
"Это удивительно - мне 60, а я все еще играю романтические роли в комедиях! Узнав об этом, Бэтт Дэвис в гробу бы перевернулась!Я очень благодарна судьбе за то, что еще жива. Столько моих друзей больны, многие уже умерли, а я все еще здесь. Вы шутите? Какие могут быть жалобы?!"






Можно спросить вас о чем вы говорили сегодня, когда встретились для интервью, вы ведь не виделись достаточно долго с момента, когда закончили работать над фильмом("Простые сложности")…
Мерил Стрип (МС): Ты хоть представляешь сколько времени нам даётся между интервью?
10 секунд?
МС:
Стив Мартин (СМ): Поверь мне, это много, когда ты с ней (показывает на Мерил Стрип) (смех)
МС: Это правда… О чем же мы говорили, подожди со своими шутками, Стив, что это было, о чем мы говорили с тобой между ТВ интервью?
Вино, дети… Оскар…
СМ:(смеётся) Мы не говорили ни о чем профессиональном, только шутили, да? (Опять поворачивается к Мерил, которая все ещё раздумывает над ответом, причем очень сосредоточенно, устремив глаза в потолок и приложив указательный палец к губам).
Джон(Красински) тут упомянул, что самый ценный совет, который он получил от вас во время работы над фильмом, был не профессиональный, а связанный с его личной жизнью.
МС: (прижимая руки к груди) ООООО…. как это мило…
СМ: Я с ним не говорил о его личных делах, может быть Мерил с Алеком…
МС: Да, мы… мы в первых рядах, да… чем могли…
СМ: Видимо бедный Джон сегодня на каждом интервью отвечал на этот вопрос — чему он научился у нас, да? И, будьте уверены, ничему он не научился, я вам гарантирую (смех), но он должен
Так какой совет он получил от вас с Алеком , Мерил?
МС: Да ничего особенного, какие там советы… Я помню только сказала, чтобы берёг свою девушку, она — прекрасна.
СМ: Кто у него в подругах? МС: … Прелестная девочка.
СМ: О! Я не знал. Как интересно.
Если вы работаете с молодым поколением актёров…
СМ: Все, с кем мы работаем сейчас — молодое поколение в сравнении с нами… (смех)
Вы думаете, сложнее для них начинать, чем для вас в ваше время?
СМ: Я думаю, что и сложнее и легче в то же самое время Я понимаю, что это плохой ответ, но я постараюсь пояснить. Это сложней — потому что очень много людей сейчас заняты в нашей профессии… и легче, потому что больше работы для них вокруг. Труднее стать «звездой», но проще быть просто актёром, потому что поле деятельности значительно расширилось — посмотрите на телевидение — там невероятное количество каналов и различных шоу, начиная с сериалов и кончая, так называемыми,
МС: Я думаю, что молодым актёрам сейчас приходится прилагать больше усилий, чтобы привлечь к себе внимание. Я заметила, что это ещё и выбор карьеры в студенческие годы… «Почему бы мне не стать актёром» , — думает студент колледжа, — «Это выглядит интересно." И вы знаете, многие и многие студенты в наше время берут дополнительно к основной нагрузке классы актерского мастерства. Это, конечно, с одной стороны хорошо, расширяет кругозор, а с другой стороны может дезориентировать человека, направить его по пути, где у него при отсутствии других качеств для достижения цели, очень мало шансов преуспеть. Ведь помимо таланта или бесстрашия перед выходом на сцену, у актёра должны присутствовать и другие качества… Я думаю, что сложнее всего молодым женщинам, которые считают, что они должны выглядеть особым образом для того, чтобы привлечь к себе внимания, а это -ловушка.
В чём разница между временем, когда вы начинали и нашим временем?
МС: Тогда не было новостей 24 часа в сутки, возможности круглосуточного развлечения, не было интернета с его предвосхищением событий, огромным количеством разных страниц на любую тему. Поэтому и не было такого интереса к нам, чтобы следовать за нами по пятам, делать фотографии.
СМ: Я помню, что огромная перемена произошла в момент, когда они стали публиковать результаты кассовых сборов фильмов в страницах о культуре и искусстве.
МС: Я тоже, я даже помню день, когда это произошло…
СМ: (перебивает) И потом они стали просто рапортовать о кассовой выручке постоянно.
МС: И вдруг коммерческая ценность фильма стала важней художественной…
СМ: И люди стали реагировать таким образом: «Я хочу посмотреть только тот фильм, который стоит в первой строчке всех списков." А потом и вовсе страницы, посвященные искусству исчезли из большинства газет.
МС: Это все — спортивный образ мышления, который применили к искусству.
СМ: Теперь они публикуют результаты
МС: (смеясь) : Вот это перемены…
МС: Изменилось, конечно… Стоимость моей работы (Усмехаясь). Знаешь, мне подумалось вдруг, что если бы кассовые сборы были так же важны как сейчас в то время, когда я сделала «Выбор Софи», то у меня вряд ли была бы успешная карьера. Я ведь никогда и не попадала в первую десятку фильмов, делавших кассу. Мои фильмы всегда были куда скромней.
СМ: Но с другой стороны, сделать фильм довольно дорого. Поэтому они должны
МС: Нет, Стив, в наше время можно снимать фильмы достаточно недорого…
СМ: Ну, не с той ценой, какую они платят за аренду моего трейлера (хохот)…
МС: И бюджетом на твои ботинки… (смеётся)
СМ: Да, да… Можно снять фильм дешевле, но потом его ведь надо распространить, найти прокатчика, сделать рекламу, трейлеры. Поэтому я больше не люблю делать низкобюджетные фильмы, так как они просто теряются в общем потоке, и люди не имеют возможности их увидеть.
МС: Это потому, что чем больше они инвестируют в фильмы, тем больше им нужно… Мы тут обсуждали фильм «Замёрзшая Река» с Мелиссой Лио, потрясающий фильм, но никто его не видел, оказывается, потому что он не был широко распространен. Хотя снять его не стоило больших денег. И только, когда компания производством фильма пробивает серьезную брешь в бюджете, тогда они не могут себе позволить провала, фильм рекламируется на всех углах. То есть, к сожалению, нет баланса. Хорошие фильмы снимаются
СМ: Вот смотри, книгу написать, в принципе ничего не стоит. Садись и пиши. Даже опубликовать ее стоит значительно меньше, чем раньше. Но, чтобы снять самое простое кино, все равно надо вложить в него деньги. Даже начать этот процесс нельзя без привлечения профессионалов, аппаратуры, что стоит немалых денег. То, что Мерил говорит «дёшево», понятие очень относительное. Относительно блокбастеров, да, дёшево, но у блокбастеров совсем другой бюджет, и что туда включается мало кому известно на самом деле.
В последнее время попадаются статьи в Интернете, что вы планируете отдохнуть от работы…
МС: Ты смотришь на меня или на Стива?
Это вопрос к Мерил…
СМ: И к Алеку, это он всех «напугал» своей пенсией… (смех)
МС: Я сделала семь фильмов за последние два с половиной года. Я никогда так много не работала, даже в те годы, когда я была молода, красива и энергична. Но сделать семь фильмов за два с половиной года не так уж сложно, если бы не надо было ездить с рекламной кампанией этих фильмов. Считается, что успех фильма зависит от его продвижения через наши визиты в разные страны и встречи с журналистами. Я дважды побывала, что называется, вокруг света, за последний год.
СМ: Что ты имеешь в виду, ничего не стоит сделать семь фильмов за два с половиной года?
МС: Сравнивая с проблемой их продажи… Если ты делаешь семь фильмов, ты должен помочь в их маркетинге. Каждому фильму, заметь. Я не жалуюсь, но ты только себе представь объем встреч, общений, выходов при этом. За последние два года я была на глазах у публики больше, чем за всю свою жизнь! И это совсем не тот стиль жизни, который я предпочитаю. Я никогда не стремилась к известности. И для меня… то есть я нуждаюсь в некотором восстановлении сил.
СМ: Ну знаешь ли, я должен сказать, что тебе придется
Если вернуться к тому, что вы упомянули Алека Болдуина и его желании удалиться на пенсию… У вас бывают подобные мысли?
СМ: Я на самом деле просто не могу себе представить, что такое «удалиться на пенсию».
МС: А… это ты сейчас так говоришь…
СМ: А что я буду делать? Сидеть дома и смотреть телевизор? Меня никогда это не развлекало. Может быть
МС: Алек несколько лет работал в режиме телевизонного сериала, и расписание их работы просто жестокое, очень напряженное. Кроме этого он и в фильмах успевал сняться и занимался другими делами. Он ведь очень активен политически, ведет свой блог,
Не исключено, фраза о том, что он покинет страну, если Буш станет президентом на второй срок до сих пор ему аукается…
СМ: (смеётся) Да… точно, но он говорит, что это была Ким, Ким это сказала, а не он… (смех)
Вы планируете вернуться в театр в процессе, скажем так, отпуска от кино?
МС: Конечно, обязательно… Я люблю театр.
СМ: (обращяась к Мерил) Я потом тебе расскажу про одну русскую пьесу я видел в Лондоне, просто чудо. Называется «На всякого мудреца довольно простоты» режиссер Джонатан Миллер. Потрясающий спектакль. Я тоже может быть вернусь к сцене (поворачиваясь к Мерил) Возьмешь? (Мерил хлопает его по плечу, смеясь и отмахиваясь, мол, отвяжись)
К Стиву Мартину. Обычно вы говорите, что учитесь
СМ: Хм… Не было никаких особых заданий ни для меня ни для Мерил…
МС: Мы учились как управлять этими машинами на кухне, когда пекли рогалики с шоколадом.
Тогда поставим вопрос иначе:
МС: Я бы сказала иначе, мы получили от этой картины много интересных новых друзей.
СМ: Да, я подружился с Алеком Болдуином настолько, что вот теперь и Оскар вместе проводить будем. (смех), и ещё мы сделали замечательную фотосессию, где мы танцуем вместе.
Со всем вашим опытом насколько вы уверены в своих силах, начиная
МС: Я бы не сказала, что легче, это всегда один и тот же процесс. Всегда работа начинается с сомнений: правильно ли я понимаю, что героиня хочет сказать, сказала бы я так, насколько естественно это звучит в моей интерпретации. То есть, главное, конечно, естественность и максимальная реалистичность. Я могу не соглашаться с поступками героини, которую представляю, я могу быть просто полярного мнения, но при этом в момент, когда я — это она, я отступаю на второй план и даю ей возможность стать реальной на
СМ: Я не знаю можно ли тут провести параллель. Если я пишу что то, допустим, книгу, то стараюсь не думать о том, каков будет ее конец. Я думаю, что если я не знаю, то и читатель не будет знать. Я думаю, что это можно сопоставить и с актёрской игрой. Например, вот в этот конкретный момент, я не знаю как закончу предложение до той последней
МС: И в этом есть какое то, действительно, жуткое чувство, ты безоружен, когда начинаешь
СМ: Я думаю, единственное, что ты почерпываешь из опыта, так это знание того, что страх пройдёт и все препятствия будут преодолены…
(К Мерил Стрип) Тот факт, что в сценарии для романа твоей героини был выбран человек такого же возраста, а не
МС: Даже мысль о
А вас могла бы заинтересовать такая роль?
МС: Какая?
Быть с мужчиной значительно моложе героини?
МС: Тебе нужно дать мне историю, а так, отвлечённо, я даже себе представить не могу, какая может быть ситуация, какие у них отношения, откуда взялись. Если мне нечто подобное попадётся
Есть такой роман «Лето перед закатом» Дорис Лессинг. Я не знаю, делали по нему фильм или нет, но там как раз подобная ситуация описывается.
МС: Да? Непременно найду и почитаю. Вот закончим со всеми

|
Метки: meryl streep |
Процитировано 1 раз
Понравилось: 5 пользователям
Мирей Дарк: дождись темноты |
Мирей Дарк: дождись темноты
Когда актриса Мирей Дарк после большого перерыва появилась на телеэкране в сериале «Опаленные сердца», французы ахнули: все так же хороша, стройна, с умопомрачительными точеными ножками, от которых мужчины по-прежнему не могут оторвать глаз! Кажется, время и удары судьбы не властны над этой удивительной женщиной.


Большой кузнечик
В слова Мирей влюбилась еще в детстве — написанные и звучащие. И твердо решила, что станет актрисой — чтобы слушать и произносить прекрасные фразы, прочитанные в книгах. Желание, довольно необычное для девочки, появившейся на свет в неразговорчивой провинциальной семье, не имеющей ничего общего с искусством. Быть может, в ней взыграли гены далекого швейцарского предка, астролога Жана Эгроза, жившего в XVII веке? Предок разговаривал со звездами, а Мирей самой суждено было стать звездой...







Photo by Manuel Litran, Paris 1959


Пока же она с отличием оканчивает Консерваторию в Тулоне и отправляется покорять Париж.
Работает моделью, играет маленькие роли в театре, попадает в поле зрения телевидения. Париж ее очаровал: юная провинциалка чувствует себя здесь как рыба в воде и быстро превращается в изысканную столичную штучку, не теряя при этом своей очаровательной провинциальной непосредственности. На Мирей обращает внимание кинорежиссер Жорж Лотнер и понимает, что это его актриса. Лотнер потребовал, чтобы темноволосая кудрявая девушка, а именно такой была тогда Мирей, превратилась в платиновую блондинку. «В ту минуту, когда я увидела себя блондинкой, я поняла, что это именно я и есть на самом деле», — вспоминает актриса.



















Серж Гензбур и Мирей Дарк













Фотосессия для мужского журнала Lui











Такой, белокурой, Мирей Дарк и полюбили французы. А после фильма Жоржа Лотнера «Галя», где Мирей сыграла женщину, свободную от условностей, этакую жрицу свободной любви, которую журналисты тут же провозгласили современным женским типом, актриса становится не менее популярной, чем Брижит Бардо. Похоже, Бардо даже ревновала тогда Мирей Дарк к обрушившейся на нее славе. Не случайно же много лет спустя, вспоминая минувшие дни, она не может удержаться и по-женски не уколоть Дарк: «Однажды на съемках я заметила полноватую девушку с прической греческого пастушка. Это была Мирей...» Уж чем-чем, а полнотой Мирей никогда не отличалась. Высокая, стройная, с соблазнительной фигурой, неизменно элегантная, Мирей Дарк становится воплощением женской привлекательности. А после фильма «Ледяная грудь» Жоржа Лотнера и «Высокого блондина в черном ботинке» Ива Робера у Мирей Дарк появляются подражательницы во всем мире. Она превращается в новый тип соблазнительницы, женщину, в которой сексуальная привлекательность сочетается с пикантностью и шутливостью. Этакую французскую штучку! Именно тогда во Франции актрису ласково прозвали «Большим кузнечиком», по названию фильма того же Жоржа Лотнера, где Мирей сыграла главную роль.






"Месье", 1964





















"Не будем ссориться", 1966










Pouic-Pouic, 1963










"Жил-был полицейский", 1971


Jean-Francois Garreaud and Mireille Darc in the 1983 French film Si Elle Dit Oui...Je ne Dis pas Non, 1983






Клаудио Брук и Мирей Дарк










"Дипломатический багаж", 1973







Venantino Venantini et Mireille Darc





"Уик-Энд", 1967
Женщина Делона
Похожа ли актриса на своих героинь? Когда журналисты задавали Мирей вопрос о том, как она относится к свободной любви, она неизменно отвечала, что для любви ей не требуется штамп в паспорте. Но при этом добавляла, что не признает такой свободы, когда партнеры могут делать все, что угодно. На прямой же вопрос, как у нее самой обстоят дела на любовном фронте, всегда умела дать шутливый неопределенный ответ. Так дело обстояло до тех пор, пока Мирей не встретилась с Аленом Делоном.
Знаменитый соблазнитель расстался к тому времени с Роми Шнайдер и женой Натали Делон. Считается, что в его сетях уже успела побывать Брижит Бардо, не говоря о многочисленных победах над другими красотками. Но, встретившись с Мирей Дарк на съемках гангстерской ленты «Джефф», Делон потерял голову. Сначала никто не верил, что это надолго. Предполагали, что это просто очередное увлечение, но все ошиблись: Мирей Дарк и Ален Делон были вместе пятнадцать лет. Для него это был рекорд, который не удалось побить ни одной другой женщине. К Мирей очень привязался сын Делона, Энтони, к которому она тоже относилась с большой нежностью. Кстати, у них до сих пор хорошие отношения, чего нельзя сказать об отношениях Энтони с отцом. Мирей и Ален много снимались вместе, но было совершенно очевидно, что «Большой кузнечик» намеренно уходит в тень, уступая первую скрипку своему возлюбленному. Однажды Мирей сделала Алену оригинальный подарок: написала сценарий фильма «Мадли» — об идеальной современной любви. Естественно, они оба сыграли главные роли. Также они снялась вместе с ним в картинах "Фантазия от пентюхов" (1971) Ж.Пиреса, "Борсалино и К " (1974) Ж.Дерэ, "Ледяная грудь" (1974) Ж. Лотнера, "Человек, который спешит" (1977) Э. Молинаро и "Смерть негодяя" (1977) Ж. Лотнера. В Советском Союзе необычайно популярны две ленты Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке" (1972) и "Возвращение высокого блондина" (1974) с участием Мирей Дарк.




American actress Nathalie Wood, and French actors Mireille Darc and Alain Delon congratulate the French singer Sylvie Vartan after her performance at the Olympia Hall in Paris, 1972

From left, French actor Alain Delon (smoking cigar), Regine, French model and actress Mireille Darc, and Scottish actor Sean Connery enjoying the entertainment at the inauguration of Regine's new nightclub in Puerto Romano, 1979

Actress Romy Schneider, and her husband, Daniel Biasini, French actress Mireille Darc with her companion Alain Delon at the Opera de Paris for a tribute to the Italian director Luchino Visconti, 1980

Mireille Darc and Alain Delon congratulate Zizi Jeanmaire after her concert at the Olympia music hall, 1965

Mireille Darc with her long-term partner actor Alain Delon arriving at a tribute gala for Italian director Luchino Visconti at the Paris Opera house, 1980




На премьере "Борсалино", 1970

French actors Mireille Darc and Alain Delon (right) celebrate backstage with Michel Sardou after his premiere at the Palais des Congres, 1983




"Спешащий человек", 1977


"Ледяная грудь", 1974

Взаимная любовь самой красивой пары французского кино проверялась настоящими испытаниями. В конце семидесятых Мирей пришлось делать операцию на сердце. Слабое сердце у нее было всегда, но теперь она чувствовала себя все хуже и хуже. На операцию Мирей решилась не столько ради себя, сколько ради Алена. Ради него она хотела стать здоровой и сильной. Делон в этот трудный период вел себя просто идеально: в перерывах между съемками летел в больницу, трогательно заботился о подруге. Мирей выздоровела — и французы замерли в ожидании свадьбы. Не дождались. В 1982 году Дарк и Делон расстаются. Ален хочет детей — Мирей не может дать их ему. Внешне Мирей вела себя со спокойным достоинством, даже близкие друзья не догадывались, что происходит в ее душе. И вдруг по дороге на отдых в Италию ее «мерседес» попал в тяжелейшую автокатастрофу. Мирей чудом осталась в живых. Несколько месяцев врачи боролись за ее жизнь — Делон опять был рядом и делал все, чтобы она выздоровела и захотела жить. Но после того как Мирей выписали, они все-таки расстались. На этот раз окончательно.

Лишь спустя много лет Делон и Дарк опять столкнулись на съемочной площадке телесериала "Франк Рива", что произошло в 2003 году.
Они сыграли вместе в спектакле на основе популярной мелодрамы "Мосты округа Мэдисон" американского писателя Роберта Джеймса Уоллера (Robert James Waller), чей роман экранизировал в 1994 году Клинт Иствуд (Clint Eastwood) в одноименном фильме.
Фрагмент из статьи "Любимые женщины Алена Делона"
Автор: Иветта РАЙСЕР
"У нее светлые волосы, большой рот, и где-то он уже ее видел. Определенно видел. Только вот вспомнить никак не может — где. Сам того не ожидая, он произносит ее имя: «Мирей!» Она оборачивается. Ну разумеется, это Мирей Дарк! Она тоже летит в Париж. В первый же вечер он остается у нее с вещами. Он появляется с ней в опере на концерте Нуриева. Приводит на премьеру «Бассейна», и все газеты публикуют их фотографии. Проходит совсем немного времени, а он уже не может представить свою жизнь без Мирей. Она соединяет в себе все то, что он так ценит в женщинах. Ребенок. Обольстительница. Наконец друг. Союзник. Это, пожалуй, самое главное. У него еще не было женщины-друга. Она поддерживает все его начинания. Воплощает в жизнь все его идеи. Без нее он как без рук. Он хочет иметь собственный дом — и Мирей начинает строительство виллы. Закупает стройматериалы, выбирает обои, заказывает мебель, разбивает сад, ругается с рабочими. Делон приезжает лишь для того, чтобы дать руководящие указания. Разумеется, он сам за всем следит и все здесь делается по его вкусу, но руками и сердцем этого дома всегда будет Мирей. Он хочет иметь псарню и конюшни — и Мирей опять берется за дело. Конные прогулки долгое время будут их любимым отдыхом, а на своих рысаках Делон заработает не одну тысячу франков. Он хочет создать собственную модную линию, ему кажется, что его имя может стать успешной торговой маркой, и именно Мирей придумывает, что Делону надо создать собственный аромат. Так появляется парфюмерная линия AD. Делон делает по пять фильмов в год. Играет, продюсирует, режиссирует. А Мирей мотается по Европе: из Флоренции в Стокгольм, из Рима в Мадрид. Заключает договоры, ищет помещения для новых магазинов. Женщина-менеджер. Женщина — деловой партнер. Когда у Роми погиб сын, Ален был рядом. Он вытаскивал ее из жесточайшей депрессии, а Мирей водила ее по магазинам, покупала новые платья и шляпки, старалась развеселить и отвлечь. Кто знает, смог бы он тогда справиться с горем Роми, если бы не было Мирей? Он был рядом, когда Мирей делали операцию на сердце. Это случилось в самый расцвет их романа. И когда она попала в автокатастрофу (а это было, когда он уже почти остыл к ней), он первым примчался в больницу. Бросил съемки, буквально переселился в палату и не отходил от нее ни на минуту. Через неделю врач сказал: «Вы сделали чудо».
Они прожили вместе 15 лет. Однажды, уже в начале 80-х, он подарил ей кольцо с крупной жемчужиной. На минутку ей показалось, что сейчас он сделает ей предложение. Ален заметил ее замешательство и разозлился. Он уже давно решил для себя, что больше никогда не женится. Да, без Мирей ему не обойтись. Она воспитала его сына, и теперь, когда Антони вырос и стал порядочным лоботрясом, именно она гасит все их ссоры. Но вот беда — он давно уже не воспринимает ее как женщину. А иметь под боком лишь делового партнера ему было мало."
Жить вопреки всему
Актриса почти год находилась в депрессии, но все-таки справилась с собой. Именно тогда она вспомнила об астрологии и всерьез отдалась этому занятию. И звезды решили подарить ей новую любовь. В лице хорошо известного во Франции человека, директора радиостанции Europe-1, писателя Пьера Барре. Но судьба опять жестоко обходится с Мирей: Пьер Барре уходит из жизни после тяжелой болезни.

Michel Sardou and Mireille Darc on Holiday in Megeve, 1987















Mireille Darc and her husband attend the gala for the "Fondation de l'Enfance" held in Versailles castle, 2005
Мирей больше не ищет любви. Но от жизни не бежит. Пишет сценарий по роману Катрин Панколь «Варварша» и сама снимает по нему фильм. А потом опять приходит на телевидение. Не только как актриса, которая много играет в сериалах, но и как режиссер-документалист. Мирей Дарк делает серию репортажей на самые больные темы: о пересадке органов и проблеме донорства, о проституции, о раковых заболеваниях. «Большой кузнечик» все время что-то делает для других. Ее любят и уважают. Вокруг Мирей всегда есть мужчины, готовые стать для нее надеждой и опорой. Мирей не прочь на кого-то опереться, но надеется больше на себя. «Я научилась жить в одиночестве, поняла, что радоваться жизни можно и тогда, когда нет всепоглощающей страсти». Мирей везде почетная и желанная гостья, кстати, на приемы и различные торжества ее с некоторых пор сопровождает постоянный спутник, по имени Паскаль. Журналистам Мирей говорит, что это ее очень близкий друг.




Похожа ли актриса на своих героинь? Когда журналисты задавали Мирей вопрос о том, как она относится к свободной любви, она неизменно отвечала, что для любви ей не требуется штамп в паспорте. Но при этом добавляла, что не признает такой свободы, когда партнеры могут делать все, что угодно. На прямой же вопрос, как у нее самой обстоят дела на любовном фронте, всегда умела дать шутливый неопределенный ответ.








American composer and musician Mort Shuman appears with and French actress Mireille Darc on a television show, 1977





Actress Mireille Darc and singer Sylvie Vartan on the set of television show.




1974




|
Метки: мирей дарк |
Процитировано 1 раз
Другой мир Брижит. |
Ее называли французской Мерилин Монро, одной из самых сексуальных женщин мира.
Но в один прекрасный день она
Все бросила и ушла в никуда.
Ни приглашение в Голливуд,  ни баснословные гонорары ее не остановили.
ни баснословные гонорары ее не остановили.
Последние десять лет Брижит Бордо ведет жизнь отшельницы. Актриса окончательно порвала все связи с внешним миром.
Она практически никуда не выезжает со своей виллы, не подходит к телефону и не соглашается на контакты с прессой.
А ведь когда-то она сводила с ума весь мир… Но и мир, в свою очередь, сводил ее
с ума. Мужчины, романы, интриги-событий ее молодости хватило бы, по меньшей мере, на трех роковых женшин. Однако, Брижит все перечеркнула. Свое бурное прошлое она вспоминать не любит.
Те, кто знает Брижит близко, говорят, что она давно превратилась в дикарку.
Последние сорок пять лет она живет на юге Франции, в Сен-Тропе, на вилле «Ля Мадраг»,
Окруженной двухметровой каменной стеной, с мужем Бернаром и старым верным слугой Адриеном.
Бриджит редко покидает свою «крепость». Иногда заходит в местную часовню
Нотр- Дам де ля Карриг-посидеть в прохладной сырой тишине .
Поместье звезды постоянно осаждают любопытные. Они визжат у подножья стен,
Вопят в микрофоны, что-то фотографируют и уходят,оставляя после себя окурки,
скомканные бумажки, грязь. Каждый вечер Адриен выходит за ворота виллы с мешком для мусора.
Одевается Брижит чаще всего в черное-брюки, поло, стоптанные тапочки без каблуков.
На шее корраловый перчик и кулон-талисман в форме сердечка из Румынии, подаренный близким когда-то человеком в самый тяжелый период ее жизни.
На пальцах-кольцо с сапфиром, оставшееся в наследство от бабушки, обручальное кольцо деда и два скромных колечка, подаренных мужем Бернаром. Все свои эксклюзивные драгоценности она давно продала, не оставив себе ничего, что напоминало бы о роскошном и ненавистном прошлом, с которым она добровольно распрощалась много
лет тому-назад.
Длинные тусклые волосы с проседью собраны в пучок и украшены свежими цветами из сада. Если она вынет шпильки, то тяжелые пряди падут ниже талии-Брижит никогда в жизни не ходила к парикмахеру. Как, впрочем, и к пластическим хирургам, массажистам, диетологам. Никогда не следовала никаким оздоровительным программам, не занималась спортом.
«Старость-естественное эволюционное звено человеческого существования. Ее надо уметь принимать. Я ее принимаю…»-признается она. Для тех, кто ее любит, не имеет значения,как она выглядит. 
В просторных комнатах виллы практически не отыскать следов прошлого.
На стенах фотографии животных давно заменили портреты людей. С людьми Брижит устала общаться. Они ее раздражают. И она старается контактировать с ними по минимуму.
Здесь, за непроницаемой стеной ее убежища, Брижит окружают звери-«мысляшая нация благоразумных существ». Их она понимает, чувствует их душу.
Жизнь в «Ля Мадраг» основана на идеальных принципах. Маленький, замкнутый оазис посреди грешного мира, в котором налажены совершенные взаимоотношения, царят гармония и полное согласие. Никаких преступлений, цинизма и расчета-покой, мир и тишина.
По утрам, едва проснувшись, она идет в сад с видом на море-выкурить первую сигарету, выпить чашку крепчайшего кофе и сорвать пару свежих цветков, чтобы украсить ими волосы.
Она садится у распахнутых дверей кухни и подолгу смотрит вдаль. Ее окружают могилы любимых животных с крестами и надгробьями, на которых можно прочитать имена и даты…Но мрачные мысли не одолевают Бордо. Она не воспринимает смерть, как безисходность. Один друг как-то сказал ей: «Любимые не умирают,а превращаются в невидимок…»
Кроме двух преданных мужчин, мужа Бернара и слугиАдриена, в доме Брижит живут девять собак, сорок кошек и…еще целый зоопарк-пони, осел, двадцать коз, пять уток, семь гусей, две свиньи, для которых она в 1979 году приобрела четыре гектара соседнего поместья «Ля Гарриг». Но есть и дорогие гости, которые стараются не пропускать часы приема пищи: семьи диких кабанов (около двадцати пяти голов) и бесчисленные альбатросы.
Весь мир знает, что последние сорок лет Брижит Бардо занимается защитой прав животных в организованном ею фонде. Но это-официальная, парадная часть ее работы.
Есть и другая часть, которую Брижит никогда не афиширует: любой человек, нашедший на улице бродячее животное, может отнести его в офис Бардо на улице Виноз. Там бродягу приютят и займутся его дальнейшей судьбой.
Вдобавок, Брижит курирует дом престарелых, сиротский приют, помогает беспомощным соседям и некоторым заключенным.
Всем, кто дозванивается до нее лично, по работе или по дружбе, она всегда задает один и тот же вопрос: «Не хотите ли взять кошечку или собаку?»

Несколько ответов из интервью, показавшимися мне наиболее значимыми, достойными величайшего уважения к этой необыкновенной, яркой женщине. Оставим в покое ее артистическое прошлое. Все, что было раньше не идет ни в какое сравнение с тем, что она собой представляет сегодня.
-С чего началась Ваша борьба за права животных? И почему Вы вдруг решили заняться именно этой проблемой?
-Всю свою жизнь я сострадала мучениям животных. И чем сильнее я осознавала, как им плохо, тем нагляднее для меня становились те чудовишные условия, в которые человек загоняет зверей ради своего личного, ничтожного блага. Мое сердце разрывалось на части, я рыдала, заламывала руки, хотела сделать что-то полезное для них, помочь, спасти.
Делала все урывками, нервно-то подбирала бродячих кошек и собак, то вывозила с бойни баранов и коз. Как-то увела из под ножа старого, измученного осла.
Однажды, это случилось в 1973 году, прямо во время съемок моего последнего фильма, я вдруг сказала себе: «Хватит! Пора уходить!» Эта мысль возникла совершенно естественно и внезапно.
Больше никакого кино, никакой Брижит Бардо! Мне нужно освободить время для более достойного дела. Никто, конечно же, не воспринял моего решения всерьез!
Многие, если не все, отвернулись. В одно мгновение моя отлаженная, благополучная жизнь разбилась на мелкие кусочки.
Я осталась одна, не имея никакого опыта в новом деле. Моим первым официальным выступлением стал протест против массового убийства новорожденных тюленей в Канаде.
Это-худшее начинание, очень дурное воспоминание. Журналисты меня высмеяли.
Сколько же я тогда плакала!
В этот страшный период я сделала неожиданное открытие-надо учиться воевать с людьми, противостоять им, используя в этой схватке не эмоции и слезы, а совсем другое оружие.
Вот почему я решила создать свой личный маленький штаб для ведения войны против людей-убийц, хорошо организованный и обустроенный, поставить точные цели, разработать план и заложить финансовую основу.
Сегодня мой маленький военный штаб имеет колоссальное влияние в мире и больше никто не смеет насмехаться надо мной.
-При всей Вашей заботе о животных Вы совершенно безжалостны к людям. Ваши высказывания в их адрес крайне резки…
-Да, я безжалостна к людям потому, что они давно перестали быть людьми. Человек стал бесчеловечным. Он гордиться тем, что убивает, разрушает, уничтожает тех, кто слабее, невесть кем данным статусом царя природы. Животные в нашем обществе рассматриваются как неодушевленный предмет, который можно рентабельно «утилизировать». Я отказываюсь верить в то, что человек был создан по образу и подобию бога.
-Считаете ли Вы, что искусственные меха и искусственная пища реально способны вытеснить натуральную еду и одежду?
-Прошли те далекие времена, когда человек питался дичью, добытой на охоте. Сейчас очень многие люди приходят к вегитарианству по разным причинам-будь то боязнь коровьего бешенства или сознательный отказ от мяса. Что касается мехов…если бы женщины знали, каким пыткам подвергаются животные, у которых человек крадет мех,они с отвращением и брезгливостью отдернули бы руки от этой содранной плоти.Сейчас существует множество изумительных искусственныж материалов, нежных на ошупь, теплых и мягких, имитирующих любой натуральный мех-единственное богатство животного.
-Хватает ди у Вас времени на саму себя?
-Нет! Мне это скучно, неинтересно. Никогда раньше, а уж тем более сейчас, у меня не было и нет времени, чтобы заниматься собой.
……… ………
……… 
Плохая мать, ненадежная любовница и средняя актриса-такие обидные замечания Брижит слышала в свой адрес на протяжении всей жизни. Не потому ли в один прекрасный день ей захотелось все исправить и попробовать быть хорошей? «Если бы не животные, не знаю, ради чего мне вообще стоило бы жить», говорит она. 
Она уже составила завещание, согласно которому после ее смерти поместье «Ля Мадраг»должно превратиться в музей. Себя она повелела захоронить в саду у моря, рядом с могилами любимых животных. Когда-нибудь, среди надгробий с именами Бонбон, Белот, Муш, Таниа появится еще одно, но чуть больших размеров, с крестиком и табличкой «Брижит».
По материалам Юлии Козловой.
|
|
Процитировано 1 раз
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК. КРЕЩЕНИЕ! ПРЕДЫСТОРИЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЕ |
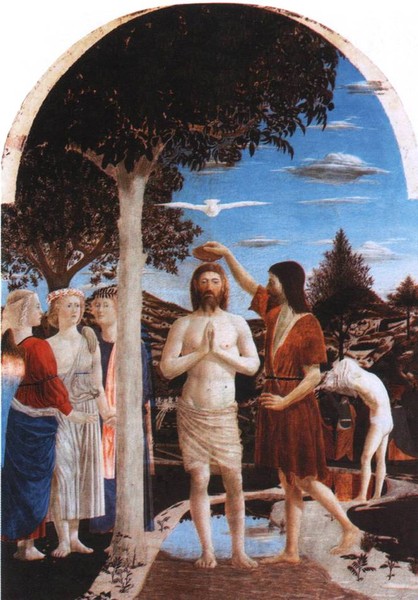
Пъеро делла Франческа
Лондонская национальная галлерея.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Икона Крещение Господне

Чин освящения Крещенской воды
Иордань в Соломенном
Это великий праздник Православной Церкви. Он называется также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением — потому, что Господь после Крещения выступил на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия, Просвещением и «Праздником Светов» потому, что Бог — это вечный свет, просвещающий мир.
Накануне прихода Иисуса Христа человечество переживало полное моральное истощение. Языческий мир погряз в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония разлились по всей земле. Люди служили дьяволу, забыв и оставив своего Творца. Сам воздух был осквернен дымом идольских жертв, курившийся повсюду. Но восставить себя из глубины нравственного падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной, измученный фантазиями мир предстояло своею проповедью, смертью и воскресеньем Спасителю. Об имеющемся прийти Искупителю время от времени давались пророчества и обетования избранному народу, Израилю. Ждали Его прихода все жители востока. Их взоры всех были обращены на Иудею, откуда ожидали Царя, имеющего овладеть вселенной.
Но напряженнее всех ожидали Мессию иудеи. И потому, когда последний иудейский пророк Иоанн Предтеча призвал ожидающих Спасителя, очиститься в водах Иордана, к нему потекли десятки тысяч. Пришли к нему и лицемеры фарисеи и циничные аристократы саддукеи. Они тоже знали, что наступает время прихода Мессии. Но пророк их встретил неласково. Отметим этот момент особо. Крестилась вся Иудея, кроме притворно набожных фарисеев и саддукеев, от которых Иоанн, зная их лживую натуру, потребовал не устного покаяния, а реальных дел добра. Для иудейских вождей у Иоанна Предтечи не нашлось никакого сочувствия. Это стало для них тяжелейшим потрясением. Трудно описать разочарование этих людей. Ведь выяснилось, что ничего хорошего от прихода Мессии им ждать не стоит.
Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну Сам Христос и не сразу был узнан пророком. Подобно всем иудеям, Иоанн ждал Мессию в несколько ином облике — величественном, царском. Но с первых же мгновений пророк распознал, что пришелец неизмеримо превосходит его. «Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3,14) — В каждом слове Иоанна сквозит удивление. Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. А правда заключалась в том, чтобы Христос явился в мир не повелевать, а служить. Так, в рабском виде, начал Он служение, в рабском виде был и казнен.
Не очиститься сошел в воду Спаситель, а очистить ее. Все более и более прозревал Иоанн, пока наконец великое чудо Богоявления не открыло ему глаза окончательно. Отверзлись небеса, и увидел пророк Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался глас с небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое Благоволение» (Мф.3.7)
Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою погрузил Он в грязные воды мира сего и вновь сделал их живоносными.
НАВЕЧЕРИЕ
Как и празднику Рождества Христова, празднику Крещения, предшествует день строгого поста - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), которое свидетельствует об особом значении начинающегося торжества. В древности был обычай в ночь под Крещение петь дивные песни Богу и зажигать костры и факелы на улицах, площадях, перекрестках и во дворах, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем.
ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ
Когда Спаситель вошел во Иордан и принял крещение от Иоанна, произошло соприкосновение Богочеловека с материей. И поныне в день Крещения именно по церковному, старому стилю, когда в храмах освящается вода, она делается нетленной, то есть не портится много лет, даже если ее держать в закрытом сосуде. Это происходит каждый год и только на праздник Крещения по православному, Юлианскому календарю. В этот день, по словам одной из церковных стихир, «освящается всех вод естество», поэтому не только вода в церкви, но и все воды приобретают первозданное свойство нетления. Даже вода из-под крана в этот день становится «крещенской», Великой Агиасмой — Святыней, как называется она в Церкви. Не подверженная присущим обычной воде процессам распада и гниения, по своим физическим свойствам крещенская вода будет стоять нерушимая на протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения, день все воды снова приобретают свои обычные свойства.
«ПОБЕЖДАЕТСЯ ЕСТЕСТВА ЧИН»
Крещенская вода есть одно из — наряду со множеством других — свидетельств неотмирной природы Церкви, уже здесь, на земле, причастной Церкви Небесной. И совершающееся в ней преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего состояния естества, как не раз звучит в церковных песнопениях: «Побеждается естества чин». И это дивное свидетельство чудесности крещенской воды невозможно, как бы ни хотелось некоторым, объяснить никакими рациональными причинами. И конечно, здесь дело не в тех ионах или катионах серебра или каких-то иных металлов, которые якобы попадают в чашу с давно уже не серебряных богослужебных крестов и богослужебных сосудов, после чего вода не портится. Никакой катион не освятил бы городской водопровод и никакие частицы драгоценных металлов не дали бы возможность нашим предкам в прежние века преобразить на Крещение воду в освященных источниках, в больших и малых реках и озерах.
ИОРДАНЬ
На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа Ивана Шмелева «Лето Господне», «ставят кресты…мелком-снежком…на сараях, на коровниках, на всех дворах». А на следующий день вся Москва высыпала на улицу и заполняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной во льду Иордани… Крестный ход «на Иордань» совершался во всех русских городах. Находились смельчаки, которые раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения природных источников. И ныне в «Иордане» купаются больные, чтобы излечиться.
«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ И ПОКОЯ»
Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека, с верой причащающегося ее. Как и святое Причастие, она принимается только натощак. Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере выздоравливают и укрепляются. Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и саму пищу. Когда кто-нибудь сильно болел, старец благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода и освященное масло, нет. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов — вот почему ею окропляют жилище и всякую вещь. Берегут ее весь год.
Подготовила Ольга АНДРЕЕВА
|
|
Emmanuelle Beart |

"Так странно думать, что кто-то без твоего ведома составляет о тебе какое-то представление… Хотя нет, на самом деле – с моего: то, что люди видят в моих фильмах, на фото, – все это есть во мне, это часть меня. Такая смесь крайней робости и абсолютной провокации – чтобы защититься."



"Я хочу жить среди знакомых людей, чтобы они понимали, что в 8 утра и, как обычно, не выспавшись я не могу быть такой, какой меня видят в журналах. Незнакомые всегда думают: «Ну вот, оказывается, в жизни она и пониже, и потолще, и не такая уж молоденькая…» Мне спокойнее, если люди не обращают внимания ни на то, как я одета, ни на меня саму."



"Есть вещи, в которых я уверена. Например, в том, что стою на ногах, что у меня есть руки, что на меня можно рассчитывать. Но только не в силе своего женского обаяния. Я была старшей из нас, пятерых, а у моего младшего брата были длинные светлые кудри и огромные голубые глаза... Прохожие на улице говорили: «Какие милые девочки!» Потом о брате: «Какая красавица!» И обо мне: «Какая смешная!» По-моему, брату это нанесло травму, ну а мне – тем более. Ни одно зеркало не способно переубедить меня в том, что я слышала в свой адрес на протяжении всего детства. Бабушка однажды рассказала чудесную историю: как однажды в магазине продавщица сказала про меня: «Какая красивая девочка!» Бабушка, зная о моих страданиях, решила меня подбодрить: «Видишь, Эмманюэль, тетя сказала, что ты красивая. А другие просто не решаются, потому что ты уже большая». А я ей ответила: «Ба, ну пусть, пусть они решаются!» Что-то осталось во мне с тех времен, и у меня не получается от этого избавиться. Я не могу забыть эту девочку с веснушками, которой я была. Не могу забыть, как директриса школы взяла фото нашего класса и, разглядев меня, расхохоталась. Эта девочка до сих пор со мной, я держу ее за руку."



"Сила – это независимость от того, как на тебя смотрят другие, смелость быть собой. Мне это не всегда удается..."

"Я все стремлюсь доводить до совершенства. Вернуться, все повторить, но – лучше!"

|
Метки: emmanuelle beart |
Процитировано 1 раз
Оскар Уальд. Как важно быть серьезным |
Легкомысленная комедия для серьезных людей
----------------------------------------------------------------------------
Перевод Ивана Кашкина
Библиотека драматурга
Оскар Уайльд. Пьесы. Перевод с английского и французского
M., Государственное издательство "Искусство", 1960
OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru
----------------------------------------------------------------------------
Джон Уординг, землевладелец, почетный мировой судья.
Алджернон Монкриф.
Его преподобие каноник Чезюбл, доктор богословия.
Мерримен, дворецкий.
Лэйн, лакей Монкрифа.
Леди Брэкнелл.
Гвендолен Ферфакс, ее дочь.
Сесили Кардью.
Мисс Призм, ее гувернантка.
Действие первое - квартира Алджернона Монкрифа на Хаф-Мун-стрит, Уэст-Энд.
Действие второе - сад в поместье м-ра Уординга, Вултон.
Действие третье - гостиная в поместье м-ра Уординга, Вултон.
Время действия - наши дни.
Гостиная в квартире Алджернона на Хаф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно
и со вкусом. Из соседней комнаты слышатся звуки фортепьяно.
Лэйн накрывает стол к чаю. Музыка умолкает, и входит Алджернон.
Алджернон. Вы слышали, что я играл, Лэйн?
Лэйн. Я считаю невежливым подслушивать, сэр.
Алджернон. Очень жаль. Конечно, вас жаль, Лэйн. Я играю не очень точно
- точность доступна всякому, - но я играю с удивительной экспрессией. И
поскольку дело касается фортепьяно - чувство, вот в чем моя сила. Научную
тсчность я приберегаю для жизни.
Лэйн. Да, сэр.
Алджернон. А уж если говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили
сэндвичи с огурцом для леди Брэкнелл?
Лэйн. Да, сэр (Протягивает блюдо с сэндвичами.)
Алджернон (осматривает их, берет два и садится на диван). Да... кстати,
Лэйн, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедали лорд
Шормэн и мистер Уординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского.
Лэйн. Да, сэр; восемь бутылок и пинта пива.
Алджернон. Почему это у холостяков шампанское, как правило, выпивают
лакеи? Это я просто для сведения.
Лэйн. Отношу это за счет высокого качества вина, сэр. Я часто отмечал,
что в семейных домах шампанское редко бывает хороших марок.
Алджернон. Боже мой, Лэйн! Неужели семейная жизнь так развращает нравы?
Лэйн. Возможно, в семейной жизни много приятного, сэр. Правда, в этом
отношении у меня самого опыт небольшой. Я был женат только один раз. И то в
результате недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой.
Алджернон (томно). Право же, ваша семейная жизнь меня не очень
интересует, Лэйн.
Лэйн. Конечно, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не
вспоминаю.
Алджернон. Вполне естественно! Можете идти, Лэйн, благодарю вас.
Лэйн. Благодарю вас, сэр.
Лэйн уходит.
Алджернон. Взгляды Лэйна на семейную жизнь не слишком-то нравственны.
Ну, а если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них
польза? У них, по-видимому, нет никакого чувства моральной ответственности.
Входит Лэйн.
Лэйн. Мистер Эрнест Уординг.
Входит Джек. Лэйн уходит.
Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?
Джек. Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда, жуешь, Алджи?
Алджернон (сухо). Насколько мне известно, в хорошем обществе в пять
часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга?
Джек (располагается на диване). За городом.
Алджернон. А что ты делал за городом?
Джек (снимая перчатки). В городе - развлекаешься сам. За городом
развлекаешь других. Такая скука!
Алджернон. А кого именно ты развлекаешь?
Джек (небрежно). А! Соседей, соседей.
Алджернон. И симпатичные у вас там соседи, в Шропшире?
Джек. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю.
Алджернон. Да, этим ты им, конечно, доставляешь большое развлечение.
(Подходит к столу и берет сэндвич.) Кстати, я не ошибся, это действительно
Шропшир?
Джек. Что? Шропшир? Да, конечно. Но послушай. Почему этот сервиз?
Почему сэндвичи с огурцами? К чему такая расточительность у столь молодого
человека? Кого ты ждешь к чаю?
Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолен.
Джек. Отлично!
Алджернон. Да, все это очень хорошо, но боюсь, тетя Августа не очень-то
одобрит твое присутствие.
Джек. А, собственно, почему?
Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолен совершенно
неприлична. Не меньше чем манера Гвендолен флиртовать с тобой.
Джек. Я люблю Гвендолен. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей
предложение.
Алджернон. Ты же говорил - чтобы развлечься... А ведь это дело.
Джек. В тебе нет ни капли романтики.
Алджернон. Не нахожу никакой романтики в предложении. Быть влюбленным -
это действительно романтично. Но предложить руку и сердце? Предложение могут
принять. Да обычно и принимают. Тогда прощай все очарование. Суть романтики
в неопределенности. Если мне суждено жениться, я, конечно, постараюсь
позабыть, что я женат.
Джек. Ну, в этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был
создан специально для людей с плохой памятью.
Алджернон. А! Что толку рассуждать о разводах. Разводы совершаются на
небесах.
Джек протягивает руку за сэндвичем.
(Тотчас же одергивает Джека.) Пожалуйста, не трогай сэндвичей с огурцом. Они
специально для тети Августы. (Берет сэндвич и ест.)
Джек. Но ты же все время их ешь.
Алджернон. Это совсем другое дело. Она моя тетка. (Достает другое
блюдо.) Вот хлеб с маслом. Он для Гвендолен. Гвендолен обожает хлеб с
маслом.
Джек (придвигаясь к столу и берясь за хлеб с маслом). А хлеб
действительно очень вкусный.
Алджернон. Но только, дружище, не вздумай уплести все без остатка. Ты
ведешь себя так, словно Гвендо- _ лен уже твоя жена. А она еще не твоя жена,
да и вряд ли будет.
Джек. Почему ты так думаешь?
Алджернон. Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем
флиртуют. Они считают, что это не принято.
Джек. Какая чушь!
Алджернон. Вовсе нет. Истинная правда. И в этом разгадка, почему всюду
столько холостяков. А кроме того, я не дам разрешения.
Джек. Ты не дашь разрешения?!
Алджернон. Милый Джек, Гвендолен - моя кузина. И я разрешу тебе
жениться на ней, только когда ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с
Сесили. (Звонит.)
Джек. Сесили! О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой
Сесили.
Входит Лэйн.
Алджернон. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Уординг забыл у
нас в курительной, когда обедал на той неделе.
Лэйн. Слушаю, сэр. (Уходит.)
Джек. Значит, мой портсигар все это время был у тебя? Но почему же ты
меня не известил об этом? А я-то бомбардирую Скотленд-ярд запросами. Я уже
готов был предложить большую награду тому, кто найдет его.
Алджернон. Ну что же, вот и выплати ее мне. Деньги мне сейчас нужны до
зарезу.
Джек. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь?
Лэйн вносит портсигар на подносе. Алджернон сразу берет его.
Лэйн уходит.
Алджернон. Не очень-то благородно с твоей стороны, Эрнест. (Раскрывает
портсигар и разглядывает его.) Но, судя по надписи, это вовсе и не твой
портсигар.
Джек. Разумеется, мой. (Протягивает руку.) Ты сотни раз видел его у
меня в руках и, во всяком случае, не должен читать, что там написано.
Джентльмену не следует читать надписи в чужом портсигаре?
Алджернон. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует
читать, просто нелепы. Современная культура более,чем наполовину зиждется на
том, чего не следует читать.
Джек. Пусть будет по-твоему. Я вовсе не собираюсь дискутировать о
современной культуре. Это не предмет для частной беседы. Я просто хочу
получить свой портсигар.
Алджернон. Да, но портсигар вовсе не твой. Это подарок некоей Сесили, а
ты сказал, что не знаешь никакой Сесили.
Джек. Ну, если хочешь знать, у меня есть тетка, которую зовут Сесили.
Алдже рнон. Тетка!
Джек. Да. Чудесная старушка. Живет в Тэнбридж Уэллс. Ну, давай сюда
портсигар, Алджернон.
Алджернон (отступая за диван). Но почему она называет себя маленькой
Сесили, если она твоя тетка и живет в Тэнбридж Уэллс? (Читает.) "От
маленькой Сесили. В знак нежной любви...".
Джек (подступая к дивану и упираясь в него коленом). Ну что в этом
непонятного? Есть тетки большие, есть тетки маленькие. Уж это, кажется,
можно предоставить на усмотрение самой тетки. Ты думаешь, что все тетки
непременно похожи на твою? Какая ерунда! А теперь отдай мой портсигар!
(Преследует Алджернона.)
Алджернон. Так. Но почему это твоя тетка зовет тебя дядей? "От
маленькой Сесили. В знак нежной любви к дорогому дяде Джеку". Допустим,
тетушка может быть маленькой, но почему тетушке, независимо от ее размера и
роста, называть собственного племянника дядей - этого я в толк не возьму. А
кроме того, тебя зовут вовсе не Джек, а Эрнест.
Джек. Вовсе не Эрнест, а Джек.
Алджернон. А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнест? Я
представлял тебя всем как Эрнеста. Ты отзывался на имя Эрнест. Ты серьезен
как настоящий Эрнест. Никому на свете так не подходит имя Эрнест. Что за
нелепость отказываться от такого имени! Наконец, оно стоит на твоих визитных
карточках. Вот. (Берет визитную карточку из портсигара.) "Мистер Эрнест
Уординг, Б-4, Олбени". Я сохраню это как доказательство, что твое имя
Эрнест, на случай если ты вздумаешь отпираться при мне, при Гвендолен или
при ком угодно. (Кладет визитную карточку в карман.)
Джек. Ну что ж, в городе меня зовут Эрнест, в деревне - Джек, а
портсигар мне подарили в деревне.
Алджернон. И все-таки это не объясняет, почему твоя маленькая тетушка
Сесили из Тэнбридж Уэллс называет тебя дорогим дядей Джеком. Полно, дружище,
лучше уж выкладывай все сразу.
Джек. Дорогой Алджи, ты уговариваешь меня точь-в-точь как дантист. Что
может быть пошлее, чем говорить как дантист, не будучи дантистом. Это вводит
в заблуждение.
Алджернон. А дантисты именно это и делают. Ну, не упрямься, расскажи
все как есть. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и ревностного
бенбериста и теперь окончательно убедился в этом.
Джек. Бенберист? А что это значит?
Алджернон. Я тебе тотчас же объясню, что значит этот незаменимый
термин, как только ты объяснишь мне, почему ты Эрнест в городе и Джек в
деревне.
Джек. Отдай сначала портсигар.
Алджернон. Изволь. (Передает ему портсигар.) А теперь объясняй, только
постарайся как можно неправдоподобнее. (Садится на диван.)
Джек. Дорогой мой, здесь нет ничего неправдоподобного. Все очень
просто. Покойный мистер Томас Кардью, который усыновил меня, когда я был
совсем маленьким, в своем завещании назначил меня опекуном своей внучки мисс
Сесили Кардью. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, которое ты,
видимо, неспособен оценить, и живет в моем загородном доме под надзором
почтенной гувернантки мисс Призм.
Алджернон. А между прочим, где этот твой загородный дом?
Джек. Тебе это н_е_ к чему знать, мой милый. Не надейся на
приглашение... Во всяком случае, могу сказать, что это не в Шропшире.
Алджернон. Я так и думал, мой милый. Я два раза бенберировал по всему
Шропширу. Но все-таки, почему же ты Эрнест в городе и Джек в деревне?
Джек. Дорогой Алджи, я не надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты
для этого недостаточно серьезен. Когда вдруг оказываешься опекуном,
приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе. Это становится
твоим долгом. А так как высоконравственный дух отнюдь не способствует ни
здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю, что
еду к своему младшему брату Эрнесту, который живет в Олбени и то и дело
попадает в страшные передряги. Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом
чистая правда.
Алджернон. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была
бы невыносимо скучна. А современная литература и вообще не могла бы
существовать.
Джек. И мы ничего бы от этого не потеряли.
Алджернон. Литературная критика вовсе не твое призвание, дружище. Не
становись на этот путь. Предоставь это тем, кто не обучался в университете.
Они с таким успехом занимаются этим в газетах. По натуре ты прирожденный
бенберист. Я имел все основания назвать тебя так. Ты один из самых
законченных бенберистов на свете.
Джек. Объясни, бога ради, что ты хочешь сказать.
Алджернон. Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнест,
для того чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Я
выдумал неоценимого вечно больного мистера Бенбери, для того чтобы навещать
его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери - это сущая находка.
Если бы не его слабое здоровье, я не мог бы, например, сегодня пообедать с
тобой у Виллиса, так как тетя Августа пригласила меня на сегодня еще неделю
назад.
Джек. Да я и не приглашал тебя обедать,
Алджернон. Ну еще бы, ты удивительно забывчив. И напрасно. Нет ничего
хуже, как не получать приглашений.
Джек. Ты бы лучше отобедал у твоей тети Августы.
Алджернон. Не имею ни малейшего желания. Начать с того, что я обедал у
нее в понедельник, а обедать с родственниками достаточно и один раз в
неделю. А кроме того, когда я там обедаю, со мной обращаются как с
родственником, и я оказываюсь то вовсе без дамы, то сразу с двумя. И
наконец, я прекрасно знаю, с кем меня собираются посадить сегодня. Сегодня
меня посадят с Мэри Фарквер, а она все время флиртует через стол с
собственным мужем. Это очень неприятно. Я сказал бы - даже неприлично... А
это, между прочим, входит в моду. Просто безобразие, сколько женщин в
Лондоне флиртует с собственными мужьями. Это очень противно. Все равно что
на людях стирать чистое белье. Кроме того, теперь, когда я убедился, что ты
заядлый бенберист, я, естественно, хочу с тобой поговорить об этом. Изложить
тебе все правила?
Джек. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолен согласится, я тут же
прикончу своего братца; впрочем, я покончу с ним в любом случае. Сесили
что-то слишком заинтересована им. Это несносно. Так что от Эрнеста я
отделаюсь. И тебе я искренне советую сделать то же с мистером... ну с твоим
больным другом, забыл, как его там.
Алджернон. Ничто не заставит меня расстаться с мистером Бенбери, и если
ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятным, то советую и
тебе познакомиться с мистером Бенбери. Женатый человек, если он не знаком с
мистером Бенбери, готовит себе очень скучную жизнь.
Джек. Глупости. Если я женюсь на такой очаровательной девушке, как
Гвендолен, а она единственная девушка, на которой я хотел бы жениться, то
поверь, я и знать не хочу твоего мистера Бенбери.
Алджернон. Тогда твоя жена захочет. Ты, должно быть, не отдаешь себе
отчета в том, что в семейной жизни втроем весело, а вдвоем скучно.
Джек (назидательно). Мой дорогой Алджи. Безнравственная французская
драма насаждает эту теорию уже полвека.
Алджернон. Да, и счастливая английская семья усвоила ее за четверть
века.
Джек. Ради бога, не старайся быть циником. Это так легко.
Алджернон. Ничто не легко в наши дни, мой друг. Во всем такая жестокая
конкуренция. (Слышен продолжительный звонок.) Вот, должно быть, тетя
Августа. Только родственники и кредиторы звонят так по-вагнеровски. Так вот,
если я займу ее на десять минут, чтобы тебе на свободе сделать предложение
Гвендолен, могу я рассчитывать сегодня на обед у Виллиса?
Джек. Если так - конечно.
Алджернон. Но только без твоих шуточек. Ненавижу, когда несерьезно
относятся к еде. Это неосновательные люди, и притом пошлые.
Входит Лэйн.
Лэйн. Леди Брэкнелл и мисс Ферфакс.
Алджернон идет встречать их. Входят леди Брэкнелл и Гвендолен.
Леди Брэкнелл. Здравствуй, мой милый Алджернон. Надеюсь, ты хорошо себя
ведешь?
Алджернон. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа.
Леди Брэкнелл. Это вовсе не то же самое. Более того, это редко
совпадает... (Замечает Джека и весьма холодно кивает ему.)
Алджернон (к Гвендолен). Черт возьми, как ты элегантна.
Гвендолен. Я всегда элегантна. Не правда ли, мистер Уординг?
Джек. Вы просто совершенство, мисс Ферфакс.
Гвендолен. О! Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности
совершенствоваться, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях.
Гвендолен и Джек усаживаются в уголке.
Леди Брэкнелл. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было
навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер бедный ее
муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит на
двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чашку чаю и отведала твоих
знаменитых сэндвичей с огурцом.
Алджернон. Ну разумеется, тетя Августа. (Идет к столику.)
Леди Брэкнелл. Иди к нам, Гвендолен.
Гвендолен. Но, мама, мне и тут хорошо.
Алджернон (при виде пустого блюда). Силы небесные! Лэйн! Где же
сэндвичи с огурцом? Я ведь их специально заказывал!
Лэйн (невозмутимо). Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я два раза
ходил.
Алджернон. Не было огурцов?
Лэйн. Нет, сэр. Даже за наличные.
Алджернон. Хорошо, Лэйн, благодарю вас.
Лэйн. Благодарю вас, сэр. (Уходит.)
Алджернон. К моему величайшему сожалению, тетя Августа, огурцов не
оказалось, даже за наличные.
Леди Брэкнелл. Ну, ничего, Алджернон. Леди Харбери меня угостила
пышками. Она, по-видимому, сейчас ни в чем себе не отказывает.
Алджернон. Я слышал, что волосы у нее стали совсем золотые от горя.
Леди Брэкнелл. Да, цвет волос у нее изменился, хотя, право, не скажу,
отчего именно.
Алджернон подает ей чашку чая.
Спасибо, мой милый. А у меня для тебя сюрприз. За обедом я хочу посадить
тебя с Мэри Фарквер. Такая прелестная женщина и так внимательна к своему
мужу. Приятно смотреть на них.
Алджернон. Боюсь, тетя Августа, что я вынужден буду пожертвовать
удовольствием обедать у вас сегодня.
Леди Брэкнелл (хмурясь). Надеюсь, ты передумаешь, Алджернон. Это
расстроит мне весь стол. Ведь твоему дядюшке придется обедать у себя. К
счастью, он уже к этому привык.
Алджернон. Мне очень досадно, и, конечно, я очень огорчен, но я только
что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно
болен. (Переглянувшись с Джеком.) Там все ждут моего приезда.
Леди Брэкнелл. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб
здоровьем.
Алджернон. Да, бедный мистер Бенбери совсем инвалид.
Леди Брэкнелл. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру
Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном
вопросе просто глупо. Я, по крайней мере, не увлекаюсь современной модой на
инвалидов. Я считаю ее нездоровой. Поощрять болезни едва ли следует. Быть
здоровым - это наш первейший долг. Я не устаю повторять это твоему бедному
дяде, но он не обращает на мои слова никакого внимания... по крайней мере
судя по состоянию его здоровья. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени
попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе, потому что я рассчитываю на
твою помощь в составлении музыкальной программы. У меня это последний вечер
в сезоне, и надо же дать какие-то темы для разговора, особенно в конце
сезона, когда все уже выговорились, сказали все, что у них было за душой, а
ведь чаще всего запас этот очень невелик.
Алджернон. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбери, тетя Августа, если
только он еще в сознании, и ручаюсь вам, что он постарается поправиться к
субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая - ее никто
не слушает, а если плохая - невозможно вести разговор. Но я покажу вам
программу, которую я наметил. Пройдемте в кабинет.
Леди Брэкнелл. Спасибо, Алджернон, что помнишь свою тетку. (Встает и
идет за Алджерноном.) Я уверена, что программа будет прелестная, если ее
слегка почистить. Французских шансонеток я не допущу. Гости всегда либо
находят их неприличными и возмущаются, и это такое мещанство, либо смеются,
а это еще хуже. Я пришла к убеждению, что немецкий язык звучит гораздо
приличнее. Гвендолен, идем со мной.
Гвендолен. Иду, мама.
Леди Брэкнелл и Алджернон выходят. Гвендолен остается на месте.
Джек. Не правда ли, сегодня чудесная погода, мисс Ферфакс.
Гвендолен. Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Уординг.
Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них
совсем другое. И это действует мне на нервы.
Джек. Я и хочу сказать о другом.
Гвендолен. Ну вот видите. Я никогда не ошибаюсь.
Джек. И мне хотелось бы воспользоваться отсутствием леди Брэкнелл,
чтобы...
Гвендолен. И я бы вам это посоветовала. У мамы есть привычка неожиданно
появляться в комнате. Об этом мне уже приходилось ей говорить.
Джек (нервно). Мисс Ферфакс, с той самой минуты, как я вас увидел, я
восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой... какую я встречал... с
тех пор как я встретил вас.
Гвендолен. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что хотя бы на людях вы
не показываете этого более явно. Мне вы всегда очень нравились. Даже до
того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна.
Джек смотрит на нее с изумлением.
Мы живем, как вы, надеюсь, знаете, мистер Уординг, в век идеалов. Это
постоянно утверждают самые фешенебельные журналы, и, насколько я могу
судить, это стало темой проповедей в самых захолустных церквах. Так вот,
моей мечтой всегда было полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом
имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Как только Алджернон сказал
мне, что у него есть друг Эрнест, я сейчас же поняла, что мне суждено
полюбить вас.
Джек. И вы действительно любите меня, Гвендолен?
Гвендолен. Страстно!
Джек. Милая. Вы не знаете, какое это для меня счастье!
Гвендолен. Мой Эрнест!
Джек. А скажите, вы действительно не смогли бы полюбить меня, если бы
меня звали не Эрнест?
Гвендолен. Но вас ведь зовут Эрнест.
Джек. Да, конечно. Но если бы меня звали как-нибудь иначе? Неужели вы
меня не полюбили бы.
Гвендолен (не задумываясь). Ну! Это ведь только метафизическое
рассуждение, и, как прочие метафизические рассуждения, оно не имеет ровно
никакой связи с реальной жизнью, такой, какой мы ее знаем.
Джек. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя Эрнест... По-моему,
оно мне совсем не подходит.
Гвендолен. Оно подходит вам больше, чем кому-либо. Чудесное имя. В нем
есть какая-то музыка. Оно вызывает вибрации.
Джек. Но право же, Гвендолен, по-моему, есть много имен гораздо лучше.
Джек, например, - прекрасное имя.
Гвендолен. Джек? Нет, оно вовсе не музыкально. Джек - нет, это не
волнует, не вызывает никаких вибраций... Я знала нескольких Джеков, и все
они были один другого ординарнее. А кроме того, Джек - ведь это
уменьшительное от Джон. И мне искренне жаль всякую женщину, которая вышла бы
замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытает
упоительного наслаждения - побыть хоть минутку одной. Нет, единственное
надежное имя - это Эрнест.
Джек. Гвендолен, мне необходимо сейчас же креститься, - то есть я хотел
сказать - жениться. Нельзя терять ни минуты.
Гвендолен. Жениться, мистер Уординг?
Джек (в изумлении). Ну да... конечно. Я люблю вас, и вы дали мне
основание думать, мисс Ферфакс, что вы не совсем равнодушны ко мне.
Гвендолен. Я обожаю вас. Но вы еще не делали мне предложения. О
женитьбе не было ни слова. Этот вопрос даже не поднимался.
Джек. Но... но вы разрешите сделать вам предложение?
Гвендолен. Я думаю, сейчас для этого самый подходящий случай. И чтобы
избавить вас от возможного разочарования, мистер Уординг, я должна вам
заявить с полной искренностью, что я твердо решила ответить вам согласием.
Джек. Гвендолен!
Гвендолен. Да, мистер Уординг, так что же вы хотите мне сказать?
Джек. Вы же знаете все, что я могу вам сказать.
Гвендолен. Да, но вы не говорите.
Джек. Гвендолен, вы согласны стать моей женой? (Становится на колени.)
Гвендолен. Конечно, согласна, милый. Как долго вы собирались! Я думаю,
вам не часто приходилось делать предложение.
Джек. Но, дорогая, я никого на свете не любил, кроме вас.
Гвендолен. Да, но мужчины часто делают предложение просто для практики.
Вот, например, мой брат Джеральд. И все мои подруги говорят мне это. Какие у
вас чудесные голубые глаза, Эрнест. Совершенно, совершенно голубые. Надеюсь,
вы всегда будете смотреть на меня вот так, особенно при людях.
Входит леди Брэкнелл.
Леди Брэкнелл. Мистер Уординг! Встаньте! Что за полусогбенное
положение! Это в высшей степени неприлично!
Гвендолен. Мама! (Джек пытается встать. Она его удерживает.)
Пожалуйста, обождите в той комнате. Вам здесь нечего делать. Кроме того,
мистер Уординг еще не кончил.
Леди Брэкнелл. Чего не кончил, осмелюсь спросить?
Гвендолен. Я помолвлена с мистером Уордингом, мама.
Они встают оба.
Леди Брэкнелл. Извини, пожалуйста, но ты еще ни с кем не помолвлена.
Когда придет время, я или твой отец, если только здоровье ему позволит,
сообщим тебе о твоей помолвке. Помолвка для молодой девушки должна быть
неожиданностью, приятной или неприятной - это уже другой вопрос. И нельзя
позволять молодой девушке решать его самостоятельно... Теперь, мистер
Уординг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь
меня внизу в карете.
Гвендолен (с упреком). Мама!
Леди Брэкнелл. В карету, Гвендолен!
Гвендолен идет к двери. На пороге они с Джеком обмениваются воздушным
поцелуем за спиной у леди Брэкнелл.
Леди Врэкнелл (озирается в недоумении, словно Не понимая, что это за
звук. Потом оборачивается). В карету!
Гвендолен. Да, мама. (Уходит, оглядываясь ка Джека.)
Леди Брэкнелл (усаживаясь). Вы можете сесть, мистер Уординг. (Роется в
кармане, ища записную книжечку и карандаш.)
Джек. Благодарю вас, леди Брэкнелл, я лучше постою.
Леди Брэкнелл (вооружившись книжкой и карандашом). Вынуждена отметить:
вы не значитесь в моем списке женихов, хотя он в точности совпадает со
списком герцогини Болтон. Мы с ней в этом смысле работаем вместе. Однако я
готова внести вас в список, если ваши ответы будут соответствовать
требованиям заботливой матери. Вы курите?
Джек. Должен признаться, курю.
Леди Брэкнелл. Рада слышать. Каждому мужчине нужно какое-нибудь
занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников. Сколько вам лет?
Джек. Двадцать девять.
Леди Брэкнелл. Самый подходящий возраст для женитьбы. Я всегда
придерживалась того мнения, что мужчина, желающий вступить в брак, должен
знать все или ничего. Что вы знаете?
Джек (после некоторого колебания). Ничего, леди Брэкнелл.
Леди Брэкнелл. Рада слышать это. Я не одобряю всего, что нарушает
естественное неведение. Неведение подобно нежному экзотическому цветку:
дотроньтесь до него, и он завянет. Все теории современного образования в
корне порочны. К счастью, по крайней мере у нас в Англии, образование не
оставляет никаких следов. Иначе оно было бы чрезвычайно опасно для высших
классов и, быть может, привело бы к террористическим актам на Гровнор-сквер.
Ваш доход?
Джек. От семи до восьми тысяч в год.
Леди Брэкнелл (делая пометки в книжке). В акциях или в земельной ренте?
Джек. Главным образом в акциях.
Леди Брэкнелл. Это лучше. Всю жизнь платишь налоги, и после смерти с
тебя их берут, а в результате земля не дает ни дохода, ни удовольствия.
Правда, она дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться
им. Такова моя точка зрения на землю.
Джек. У меня есть загородный дом, ну, и при нем - земля - около
полутора тысяч акров; но не это основной источник моего дохода. Мне кажется,
что пользу из моего поместья извлекают только браконьеры.
Леди Брэкнелл. Загородный дом! А сколько в нем спален? Впрочем это мы
выясним позднее. Надеюсь, у вас есть дом и в городе? Такая простая
неиспорченная девушка, как Гвендолен, не может жить в деревне.
Джек. У меня дом на Белгрэйв-сквер, но его из года в год арендует леди
Блоксхэм. Конечно, я могу отказать ей, предупредив за полгода.
Леди Брэкнелл. Леди Блоксхэм? Я такой не знаю.
Джек. Она редко выезжает. Она уже довольно пожилая.
Леди Брэкнелл. Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией
порядочного поведения. А какой номер на Белгрэйв-сквер.
Джек. Сто сорок девять.
Леди Брэкнелл (покачивая головой). Не модная сторона. Так я и знала,
что не обойдется без дефекта. Но это легко изменить.
Джек. Что именно - моду или сторону?
Леди Брэкнелл (строго). Если понадобится - и то и другое. А каковы ваши
политические взгляды?
Джек. Признаться, у меня их нет. Я либерал-юнионист.
Леди Брэкнелл. Ну, их можно считать консерваторами. Их даже приглашают
на обеды. Во всяком случае, на вечера. Ну, а теперь перейдем к менее
существенному. Родители ваши живы?
Джек. Нет. Я потерял обоих родителей.
Леди Брэкнелл. Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как
несчастье, но потерять обоих, мистер Уординг, похоже на небрежность. Кто был
ваш отец? Видимо, он был человек состоятельный. Был ли он, как выражаются
радикалы, представителем крупной буржуазии или же происходил из
аристократической семьи?
Джек. Боюсь, не смогу ответить вам на этот вопрос. Дело в том, леди
Брэкнелл, что я неточно выразился, сказав, что я потерял родителей. Вернее
было бы сказать, что родители меня потеряли... По правде говоря, я не знаю
своего происхождения. Я... найденыш.
Леди Брэкнелл. Найденыш!
Джек. Покойный мистер Томас Кардью, весьма добросердечный и щедрый
старик, нашел меня и дал мне фамилию Уординг, потому что у него в кармане
был тогда билет первого класса до Уординга. Уординг, как вы знаете, морской
курорт в Сассексе.
Леди Брэкнелл. И где же этот добросердечный джентльмен c билетом
первого класса до Уординга нашел вас?
Джек (серьезно). В саквояже.
Леди Брэкнелл. В саквояже?
Джек (очень серьезно). Да, леди Брэкнелл. Я был найден в саквояже -
довольно большом черном кожаном саквояже с прочными ручками - короче говоря,
в самом обыкновенном саквояже.
Леди Брэкнелл. И где именно этот мистер Джемс или Томас Кардью нашел
этот самый обыкновенный саквояж?
Джек. В камере хранения на вокзале Виктория. Ему выдали этот саквояж по
ошибке вместо его собственного.
Леди Брэкнелл. В камере хранения на вокзале Виктория?
Джек. Да, на Брайтонской платформе.
Леди Брэкнелл. Платформа не имеет значения. Мистер Уординг, должна вам
признаться, я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Родиться или пусть
даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки,
представляется мне забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие
эксцессы времен Французской революции. Я полагаю, вам известно, к чему
привело это злосчастное возмущение. А что касается места, где был найден
саквояж, то хотя камера хранения и может хранить тайны нарушения
общественной морали - что, вероятно, и бывало не раз, - но едва ли она может
обеспечить прочное положение в обществе.
Джек. Но что же мне делать? Не сомневайтесь, что я готов на все, лишь
бы обеспечить счастье Гвендолен.
Леди Брэкнелл. Я очень рекомендую вам, мистер Уординг, как можно скорей
обзавестись родственниками - постараться во что бы то ни стало достать себе
хотя бы одного из родителей - все равно, мать или отца, - и сделать это еще
до окончания сезона.
Джек. Но право же, я не знаю, как за это взяться. Саквояж я могу
предъявить в любую минуту. Он у меня в гардеробной, в деревне. Может быть,
этого вам будет достаточно, леди Брэкнелл?
Леди Брэкнелл. Мне, сэр! Какое это имеет отношение ко мне? Неужели вы
воображаете, что мы с лордом Брэкнелл допустим, чтобы наша единственная дочь
- девушка, на воспитание которой положено столько забот, - была отдана в
камеру хранения и обручена с саквояжем? Прощайте, мистер Уординг!
(Исполненная негодования, величаво выплывает из комнаты.)
Джек. Прощайте!
В соседней комнате Алджернон играет свадебный марш.
(В бешенстве подходит к дверям.) Бога ради, прекрати эту идиотскую музыку,
Алджернон! Ты совершенно невыносим.
Марш обрывается, и, улыбаясь, вбегает Алджернон.
Алджернон. А что, разве не вышло, дружище? Неужели Гвендолен отказала
тебе? С ней это бывает. Она всем отказывает. Такой уж у нее характер.
Джек. Нет! С Гвендолен все в порядке. Что касается Гвендолен, то мы
можем считать себя помолвленными. Ее мамаша - вот в чем загвоздка. Никогда
не видывал такой мегеры... Я, собственно, не знаю, что такое мегера, но леди
Брэкнелл сущая мегера. Во всяком случае, она чудовище, и вовсе не
мифическое, а это гораздо хуже... Прости меня, Алджернон, я, конечно, не
должен был так отзываться при тебе о твоей тетке.
Алджернон. Дорогой мой, обожаю, когда так отзываются о моих родных. Это
единственный способ как-то примириться с их существованием. Родственники -
скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и
никак не могут догадаться, когда им следует умереть.
Джек. Ну, это чепуха!
Алджернон. Нисколько,
Джек. Я вовсе не намерен с тобой спорить. Ты всегда обо всем споришь.
Алджернон. Да все на свете для этого и создано.
Джек. Ну, знаешь ли, если так считать, то лучше застрелиться...
(Пауза.) А ты не думаешь, Алджи, что лет через полтораста Гвендолен станет
очень похожа на свою мать?
Алджернон. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей.
В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его
трагедия.
Джек. Это что, остроумно?
Алджернон. Это отлично сказано и настолько же верно, насколько любой
афоризм нашего цивилизованного века.
Джек. Я сыт по горло остроумием. Теперь все остроумны. Шага нельзя
ступить, чтобы не встретить умного человека. Это становится поистине
общественным бедствием. Чего бы я не дал за нескольких настоящих дураков. Но
их нет.
Алджернон. Они есть. Сколько угодно.
Джек. Хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят?
Алджернон. Дураки? Само собой, об умных людях.
Джек. Какие дураки!
Алджернон. А кстати, ты сказал Гвендолен всю правду про то, что ты
Эрнест в городе и Джек в деревне?
Джек (покровительственным тоном). Дорогой мой, вся правда - это совсем
не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Что у
тебя за превратные представления о том, как вести себя с женщиной!
Алджернон. Единственный способ вести себя с женщиной - это ухаживать за
ней, если она красива, или за другой, если она некрасива.
Джек. Ну, это чепуха!
Алджернон. А все-таки как быть с твоим братцем? С беспутным Эрнестом?
Джек. Не пройдет недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что
он умер в Париже от апоплексического удара. Ведь многие скоропостижно
умирают от удара, не так ли?
Алджернон. Да, но это наследственное, мой милый. Это поражает целые
семьи. Не лучше ли острая простуда?
Джек. А ты уверен, что острая простуда - это не наследственное?
Алджернон. Ну конечно, уверен.
Джек. Хорошо. Мой бедный брат Эрнест скоропостижно скончался в Париже
от острой простуды. И кончено.
Алджернон. Но мне казалось, ты говорил... Ты говорил, что мисс Кардью
не на шутку заинтересована твоим братом Эрнестом? Как она перенесет такую
утрату?
Джек. Ну, это не важно. Сесили, смею тебя уверить, не мечтательница. У
ней превосходный аппетит, она любит большие прогулки и вовсе не примерная
ученица.
Алджернон. А мне хотелось бы познакомиться с Сесили.
Джек. Постараюсь этого не допустить. Она очень хорошенькая, и ей только
что исполнилось восемнадцать.
Алджернон. А ты сказал Гвендолен, что у тебя есть очень хорошенькая
воспитанница, которой только что исполнилось восемнадцать?
Джек. К чему разглашать такие подробности. Сесили и Гвендолен
непременно подружатся. Поручусь чем угодно, что через полчаса после встречи
они назовут друг друга сестрами.
Алджернон. Женщины приходят к этому только после того, как обзовут друг
друга совсем иными именами. Ну, а теперь, дружище, надо сейчас же
переодеться. Иначе мы не захватим хорошего столика у Виллиса. Ведь уже скоро
семь.
Джек (раздраженно). У тебя постоянно скоро семь.
Алджернон. Ну да, я голоден.
Джек. А когда ты не бываешь голоден?
Алджернон. Куда мы после обеда? В театр?
Джек. Нет, ненавижу слушать глупости.
Алджернон. Ну тогда в клуб.
Джек. Ни за что. Ненавижу болтать глупости.
Алджернон. Ну тогда к десяти в варьете.
Джек. Не выношу смотреть глупости. Уволь!
Алджернон. Ну так что же нам делать?
Джек. Ничего.
Алджернон. Это очень трудное занятие. Но я не против того, чтобы
потрудиться, если только это не ради какой-то цели.
Входит Лэйк.
Лэйн. Мисс Ферфакс.
Входит Гвендолен. Лэйн уходит.
Алджернон. Гвендолен! Какими судьбами?
Гвендолен. Алджи, пожалуйста, отвернись. Я должна по секрету поговорить
с мистером Уордингом.
Алджернон. Знаешь, Гвендолен, в сущности я не должен разрешать тебе
этого.
Гвендолен. Алджи, ты всегда занимаешь аморальную позицию по отношению к
самым простым вещам. Ты еще слишком молод для этого.
Алджернон отходит к камину.
Джек. Любимая!
Гвендолен. Эрнест, мы никогда не сможем пожениться. Судя по выражению
маминого лица, этому не бывать. Теперь родители очень редко считаются с тем,
что говорят им дети. Былое уважение к юности быстро отмирает. Какое-либо
влияние на маму я утратила уже в трехлетнем возрасте. Но даже если она
помешает нам стать мужем и женой и я выйду еще за кого-нибудь, и даже не
один раз, - ничто не сможет изменить моей вечной любви к вам.
Джек. Гвендолен, дорогая!
Гвендолен. История вашего романтического происхождения, которую мама
рассказала мне в самом непривлекательном виде, потрясла меня до глубины
души. Ваше имя мне стало еще дороже. А ваше простодушие для меня просто
непостижимо. Ваш городской адрес в Олбени у меня есть. А какой ваш адрес в
деревне?
Джек. Поместье Вултон. Хартфордшир.
Алджернон, который прислушивался к разговору, улыбается и записывает
адрес на манжете. Потом берет со стола железнодорожное расписание.
Гвендолен. Надеюсь, почтовая связь у вас налажена. Возможно, нам
придется прибегнуть к отчаянным мерам. Это, конечно, потребует серьезного
обсуждения. Я буду сноситься с вами ежедневно.
Джек. Душа моя!
Гвендолен. Сколько вы еще пробудете в городе?
Джек. До понедельника.
Гвендолен. Прекрасно! Алджи, можешь повернуться.
Алджернон. А я уже повернулся.
Гвендолен. Можешь также позвонить.
Джек. Вы позволите мне проводить вас до кареты, дорогая?
Гвендолен. Само собой.
Джек (вошедшему Лэйну). Я провожу мисс Ферфакс.
Лэйн. Слушаю, сэр.
Джек и Гвендолен уходят. Лэйн держит на подносе несколько писем. Видимо, это
счета, потому что Алджернон, взглянув на конверты, рвет их на кусочки.
Алджернон. Стакан хересу, Лэйн.
Лэйн. Слушаю, сэр.
Алджернон. Завтра, Лэйн, я отправлюсь бенберировать.
Лэйн. Слушаю, сэр.
Алджернон. Вероятно, я не вернусь до понедельника. Уложите фрак,
смокинг и все для поездки к мистеру Бенбери.
Лэйн. Слушаю, сэр. (Подает херес.)
Алджернон. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, Лэйн.
Лэйн. Погода никогда не бывает хорошей, сэр.
Алджернон. Лэйн, вы законченный пессимист.
Лэйн. Стараюсь по мере сил, сэр.
Входит Джек. Лэйн уходит.
Джек. Вот разумная, мыслящая девушка. Единственная в моей жизни.
Алджернон без удержу хохочет.
Чего это ты так веселишься?
Алджернон. Просто вспомнил о бедном мистере Бенбери.
Джек. Если ты не одумаешься, Алджи, помяни мое слово, попадешь ты с
этим Бенбери в переделку!
Алджернон. А мне это как раз нравится. Иначе скучно было бы жить на
свете.
Джек. Какая чушь, Алджи. От тебя слышишь одни глупости.
Алджернон. А от кого их не услышишь?
Джек с возмущением глядит на него, потом выходит. Алджернон закуривает
папиросу, читает адрес на манжете и улыбается.
Занавес
Сад в поместье м-ра Уординга. Серая каменная лестница ведет к дому.
По-старомодному распланированный сад, полный роз. Время - июль. В тени
большого тисса соломенные стулья, стол, заваленный книгами.
Мисс Призм сидит за столом. Сесили в глубине поливает цветы.
Мисс Призм. Сесили, Сесили! Такое утилитарное занятие, как поливка
цветов, это скорее обязанность Мольтона, чем ваша. Особенно сейчас, когда
вас ожидают интеллектуальные наслаждения. Ваша немецкая грамматика у вас на
столе. Раскройте страницу пятнадцатую. Мы повторим вчерашний урок.
Сесили (подходя очень медленно). Но я ненавижу немецкий. Противный
язык. После немецкого урока у меня всегда ужасный вид.
Мисс Призм. Дитя мое, вы знаете, как озабочен ваш опекун тем, чтобы вы
продолжали свое образование. Уезжая вчера в город, он особенно обращал мое
внимание на немецкий язык. И каждый раз, уезжая в город, он напоминает о
немецком языке.
Сесили. Дорогой дядя Джек такой серьезный! Иногда я боюсь, что он не
совсем.здоров.
Мисс Призм (выпрямляясь). Ваш опекун совершенно здоров, и строгость его
поведения особенно похвальна в таком сравнительно молодом человеке. Я не
знаю никого, кто превосходил бы его в сознании долга и ответственности.
Сесили. Может быть, поэтому он и скучает, когда мы остаемся тут втроем.
Мисс Призм. Сесили! Вы меня удивляете. У мистера Уординга много забот.
Праздная и легкомысленная болтовня ему не к лицу. Вы же знаете, какие
огорчения доставляет ему его несчастный младший брат.
Сесили. Я хотела бы, чтобы дядя позволил этому несчастному младшему
брату хоть иногда гостить у нас. Мы бы могли оказать на него хорошее
влияние, мисс Призм. Я уверена, что вы, во всяком случае, могли бы. Вы
знаете немецкий и геологию, а такие познания могут перевоспитать человека.
(Что-то записывает в своем дневнике.)
Мисс Призм (покачивая головой). Не думаю, чтобы даже я могла оказать
влияние на человека, который, по словам собственного брата, обладает таким
слабым и неустойчивым характером. Да я и не уверена, что взялась бы за его
исправление. Я вовсе не одобряю современной мании мгновенно превращать
дурного человека в хорошего. Что он посеял, пускай и пожнет. Закройте ваш
дневник, Сесили. Вообще вам совсем не следует вести дневник.
Сесили. Я веду дневник для того, чтобы поверять ему самые удивительные
тайны моей жизни. Без записей я, вероятно, позабыла бы их.
Мисс Призм. Память, моя милая, - вот дневник, которого у нас никто не
отнимет.
Сесили. Да, но обычно запоминаются события, которых на самом деле не
было и не могло быть. Я думаю, именно памяти мы обязаны трехтомными
романами, которые нам присылают из библиотеки.
Мисс Призм. Не хулите трехтомные романы, Сесили. Я сама когда-то
сочинила такой роман.
Сесили. Нет, в самом деле, мисс Призм? Какая вы умная! И, надеюсь,
конец был несчастливый. Я не люблю романов со счастливым концом. Они меня
положительно угнетают.
Мисс Призм. Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих - плохо.
Это и называется беллетристикой.
Сесили. Может быть, и так. Но это несправедливо. А ваш роман был
напечатан?
Мисс Призм. Увы! Нет. Рукопись, к несчастью, была мною утрачена.
Сесили делает удивленный жест.
Я хочу сказать - забыта, потеряна. Но примемся за работу, дитя мое, время
уходит у нас на пустые разговоры.
Сесили (с улыбкой). А вот и доктор Чезюбл идет к нам.
Мисс Призм (встав и идя навстречу). Доктор Чезюбл! Как приятно вас
видеть!
Входит каноник Чезюбл.
Чезюбл. Ну, как мы сегодня поживаем? Надеюсь, вы в добром здравии, мисс
Призм?
Сесили. Мисс Призм только что жаловалась на головную боль. Мне кажется,
ей помогла бы небольшая прогулка с вами, доктор.
Мисс Призм. Сесили! Но я вовсе не жаловалась на головную боль.
Сесили. Да, мисс Призм, но я чувствую, что голова у вас болит. Когда
вошел доктор Чезюбл, я думала как раз об этом, а не об уроке немецкого
языка.
Чезюбл. Надеюсь, Сесили, что вы внимательно относитесь к вашим урокам?
Сесили. Боюсь, что не очень.
Чезюбл. Не понимаю. Если бы мне посчастливилось быть учеником мисс
Призм, я бы не отрывался от ее уст.
Мисс Призм негодует.
Я говорю метафорически - моя метафора заимствована у пчел. Да! Мистер
Уординг, я полагаю, еще не вернулся из города?
Мисс Призм. Мы ждем его не раньше понедельника.
Чезюбл. Да, верно, ведь он предпочитает проводить воскресные дни в
Лондоне. Не в пример его несчастному младшему брату, он не из тех, для кого
единственная цель - развлечения. Но я не стану больше мешать Эгерии и ее
ученице.
Мисс Призм. Эгерия? Меня зовут Летиция, доктор.
Чезюбл (отвешивая поклон). Классическая аллюзия, не более того;
заимствована из языческих авторов. Я, без сомнения, увижу вас вечером в
церкви?
Мисс Призм. Я все-таки, пожалуй, немножко пройдусь с вами, доктор.
Голова у меня, действительно, побаливает, и прогулка мне поможет.
Чезюбл. С удовольствием, мисс Призм, с величайшим удовольствием. Мы
пройдем до школы и обратно.
Мисс Призм. Восхитительно! Сесили, в мое отсутствие вы приготовите
политическую экономию. Главу о падении рупии можете опустить. Это чересчур
злободневно.
Даже финансовые проблемы имеют драматический резонанс. (Уходит по
дорожке, сопровождаемая доктором Чезюблом.)
Сесили (хватает одну книгу за другой и швыряет их обратно на стол).
Ненавижу политическую экономию! Ненавижу географию. Ненавижу, ненавижу
немецкий.
Входит Мерримен с визитной карточкой на подносе.
Мерримен. Сейчас со станции прибыл мистер Эрнест Уординг. С ним его
чемоданы.
Сесили (берет карточку и читает). "Мистер Эрнест Уординг, Б-4, Олбени,
зап". Несчастный брат дяди Джека! Вы ему сказали, что мистер Уординг в
Лондоне?
Мерримен. Да, мисс. Он, по-видимому, очень огорчился. Я заметил, что вы
с мисс Призм сейчас в саду. Он сказал, что хотел бы побеседовать с вами.
Сесили. Просите мистера Эрнеста Уординга сюда. Я думаю, надо сказать
экономке, чтобы она приготовила для него комнату.
Мерримен. Слушаю, мисс. (Уходит.)
Сесили. Никогда в жизни я не встречала по-настоящему беспутного
человека! Мне страшно. А вдруг он такой же, как все?
Входит Алджернон, очень веселый и добродушный.
Да, такой же!
Алджернон (приподнимая шляпу). Так это вы моя маленькая кузина Сесили?
Сесили. Тут какая-то ошибка. Я совсем не маленькая. Напротив, для своих
лет я даже слишком высока.
Алджернон несколько смущен.
Но я действительно ваша кузина Сесили. А вы, судя по визитной карточке, брат
дяди Джека, кузен Эрнест, мой беспутный кузен Эрнест.
Алджернон. Но я вовсе не беспутный, кузина. Пожалуйста, не думайте, что
я беспутный.
Сесили. Если это не так, то вы самым непозволительным образом вводили
нас в заблуждение. Надеюсь, вы не ведете двойной жизни, прикидываясь
беспутным, когда на самом деле вы добродетельны. Это было бы лицемерием.
Алджернон (глядя на нее с изумлением). Гм! Конечно, я бывал весьма
легкомысленным.
Сесили. Очень рада, что вы это признаете.
Алджернон. Если вы уж заговорили об этом, должен признаться, что шалил
я достаточно.
Сесили. Не думаю, что вам следует этим хвастаться, хотя, вероятно, это
вам доставляло удовольствие.
Алджернон. Для меня гораздо большее удовольствие быть здесь, с вами.
Сесили. Я вообще не понимаю, как вы здесь очутились. Дядя Джек вернется
только в понедельник.
Алджернон. Очень жаль. Я должен уехать в понедельник первым же поездом.
У меня деловое свидание, и мне очень хотелось бы... избежать его.
Сесили. А вы не могли бы избежать его где-нибудь не в Лондоне?
Алджернон. Нет, свидание назначено в Лондоне.
Сесили. Конечно, я понимаю, как важно не выполнить деловое обещание,
если хочешь сохранить чувство красоты и полноты жизни, но все-таки вам лучше
дождаться приезда дяди Джека. Я знаю, он хотел поговорить с вами
относительно вашей эмиграции.
Алджернон. Относительно чего?
Сесили. Вашей эмиграции. Он поехал покупать вам дорожный костюм.
Алджернон. Никогда не поручил бы Джеку покупать мне костюм. Он
неспособен выбрать даже галстук.
Сесили. Но вам едва ли понадобятся галстуки. Ведь дядя Джек отправляет
вас в Австралию.
Алджернон. В Австралию! Лучше на тот свет!
Сесили. Да, в среду за обедом он сказал, что вам предстоит выбирать
между этим светом, тем светом и Австралией.
Алджернон. Вот как! Но сведения, которыми я располагаю об Австралии и о
том свете, не очень заманчивы. Для меня и этот свет хорош, кузина.
Сесили. Да, но достаточно ли вы хороши для него?
Алджернон. Боюсь, что нет. Поэтому я и хочу, чтобы вы взялись за мое
исправление. Это могло бы стать вашим призванием - конечно, если б вы этого
захотели, кузина.
Сесили. Боюсь; что сегодня у меня на это нет времени.
Алджернон. Ну тогда хотите, чтобы я сам исправился сегодня же?
Сесили. Едва ли это вам по силам. Но почему не попробовать?
Алджернон. Непременно попробую. Я уже чувствую, что становлюсь лучше.
Сесили. Но вид у вас стал хуже.
Алджернон. Это потому, что я голоден.
Сесили. Ах, как это мне не пришло в голову! Конечно, тот, кто
собирается возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом
питании. Пройдемте в дом.
Алджернон. Благодарю вас. Но можно мне цветок в петлицу? Без цветка в
петлице мне и обед не в обед.
Сесили. Марешаль Ниель? (Берется за ножницы.)
Алджернон. Нет, лучше пунцовую.
Сесили. Почему? (Срезает пунцовую розу.)
Алджернон. Потому что вы похожи на пунцовую розу, Сесили.
Сесили. Я думаю, вам не следует так говорить со мной. Мисс Призм
никогда со мной так не говорит.
Алджернон. Значит, мисс Призм просто близорукая старушка. (Сесили
вдевает розу ему в петлицу.) Вы на редкость хорошенькая девушка, Сесили.
Сесили. Мисс Призм говорит, что красота - это только ловушка.
Алджернон. Это ловушка, в которую с радостью попался бы всякий
здравомыслящий человек.
Сесили. Ну, я вовсе не хотела бы поймать здравомыслящего человека. О
чем с ним разговаривать?
Они уходят в дом. Возвращаются мисс Призм и доктор Чезюбл.
Мисс Призм. Вы слишком одиноки, дорогой доктор. Вам следовало бы
жениться. Мизантроп - это я еще понимаю, но женотропа понять не могу.
Чезюбл (физиологическое чувство которого потрясено). Поверьте, я не
заслуживаю такого неологизма. Как теория, так и практика церкви первых веков
христианства высказывалась против брака.
Mисс Призм (нравоучительно). Поэтому церковь первых веков христианства
и не дожила до нашего времени. И вы, должно быть, не отдаете себе отчета,
дорогой доктор, что, упорно отказываясь от женитьбы, человек является
всеобщим соблазном. Мужчинам следует быть осмотрительнее, слабых духом
безбрачие способно сбить с пути истинного.
Чезюбл. Но разве женатый мужчина менее привлекателен?
Мисс Призм. Женатый мужчина привлекателен только для своей жены.
Чезюбл. Увы, даже для нее, как говорят, не всегда.
Мисс Призм. Это зависит от интеллектуального уровня женщины. Зрелый
возраст в этом смысле всего надежней. Спелости можно довериться. А молодые
женщины - это еще зеленый плод.
Доктор Чезюбл делает удивленный жест.
Я говорю агрикультурно. Моя метафора заимствована из садоводства. Но где же
Сесили?
Чезюбл. Может быть, она тоже пошла пройтись до школы и обратно?
Из глубины сада медленно приближается Джек. Он облачен в глубокий траур, с
крепом на шляпе и в черных перчатках.
Мисс Призм. Мистер Уординг!
Чезюбл. Мистер Уординг!
Мисс Призм. Какой сюрприз! А мы вас не ждали раньше понедельника.
Джек (с трагической миной жмет руку мисс Призм). Да, я вернулся раньше,
чем предполагал. Доктор Чезюбл, здравствуйте.
Чезюбл. Дорогой мистер Уординг. Надеюсь, это скорбное одеяние не
означает какой-нибудь ужасной утраты?
Джек. Мой брат.
Мисс Призм. Новые долги и безрассудства?
Чезюбл. В тенетах зла и наслаждения?
Джек (качая головой). Умер.
Чезюбл. Ваш брат Эрнест умер?
Джек. Да, умер. Совсем умер.
Мисс Призм. Какой урок для него! Надеюсь, это ему пойдет на пользу.
Чезюбл. Мистер Уординг, приношу вам мои искренние соболезнования. Для
вас остается по крайней мере утешением, что вы были самым великодушным и
щедрым из братьев.
Джек. Брат Эрнест! У него было много недостатков, но это тяжкий удар.
Чезюбл. Весьма тяжкий. Вы были с ним до конца?
Джек. Нет. Он умер за границей! В Париже. Вчера вечером пришла
телеграмма от управляющего Гранд-отеля.
Чезюбл. И в ней упоминается причина смерти?
Джек. По-видимому, острая простуда.
Мисс Призм. Что посеешь, то и пожнешь.
Чезюбл (воздевая руки). Милосердие, дорогая мисс Призм, милосердие!
Никто из нас не совершенен. Я сам в высшей степени подвержен простуде. А
погребение предполагается здесь, у нас?
Джек. Нет. Он, кажется, завещал, чтобы его похоронили в Париже.
Чезюбл. В Париже! (Покачивает головой.) Да! Значит, он до самого конца
не проявил достаточной серьезности. Вам, конечно, желательно, чтобы я
упомянул об этой семейной драме в моей воскресной проповеди.
Джек горячо пожимает ему руку.
Моя проповедь о манне небесной в пустыне пригодна для любого события,
радостного или, как в данном случае, печального. (Все вздыхают.) Я
произносил ее на празднике урожая, при крещении, конфирмации, в дни скорби и
в дни ликования. В последний раз я произнес ее в соборе на молебствии в
пользу Общества предотвращения недовольства среди высших классов.
Присутствовавший при этом епископ был поражен злободневностью некоторых моих
аналогий.
Джек. А кстати! Вы, кажется, упомянули крещение, доктор Чезюбл. Вы,
конечно, умеете крестить?
Доктор Чезюбл в недоумении.
Я хочу сказать, вам приходится часто крестить?
Мисс Призм. К сожалению, в нашем приходе это одна из главных
обязанностей пастора. Я часто говорила, по этому поводу с беднейшими из
прихожан. Но они, как видно, понятия не имеют об экономии.
Чезюбл. Смею спросить, мистер Уординг, разве вы заинтересованы в судьбе
какого-нибудь определенного ребенка? Ведь сколько мне известно, брат ваш был
холост?
Джек. Да.
Мисс Призм (с горечью). Таковы обычно все живущие исключительно ради
собственного удовольствия.
Джек. Дело касается не ребенка, дорогой доктор. Хотя я и очень люблю
детей. Нет! В данном случае я сам хотел бы подвергнуться обряду крещения, и
не позднее чем сегодня - конечно, если вы свободны.
Чезюбл. Но, мистер Уординг, ведь вас уже крестили.
Джек. Не помню.
Чезюбл. Значит, у вас на этот счет имеются сомнения?
Джек. Если нет, так будут. Но, конечно, я не хотел бы затруднять вас.
Может быть, мне уже поздно креститься?
Чезюбл. Нисколько. Окропление и даже погружение взрослых предусмотрено
каноническими правилами.
Джек. Погружение?
Чезюбл. Не беспокойтесь. Окропления будет вполне достаточно. Оно даже
предпочтительно. Погода у нас такая ненадежная. И в котором часу вы
предполагаете совершить обряд?
Джек. Да я мог бы заглянуть часов около пяти, если вам удобно.
Чезюбл. Вполне. Вполне! Как раз около этого часа я собираюсь совершить
еще два крещения. Это двойня, недавно рожденная у одного из ваших
арендаторов. У Дженкинса, того, знаете, возчика и весьма работящего
человека.
Джек. Мне совсем не улыбается креститься заодно с другими младенцами.
Это было бы ребячество. Не лучше ли тогда в половине шестого?
Чезюбл. Чудесно! Чудесно! (Вынимая часы.) А теперь, мистер Уординг,
позвольте мне покинуть сию обитель скорби. И я от всей души посоветовал бы
вам не сгибаться под бременем горя. То, что представляется нам тяжкими
испытаниями, иногда на самом деле - скрытое благо.
Мисс Призм. Мне оно кажется очень даже явным благом.
Из дома выходит Сесили.
Сесили. Дядя Джек! Как хорошо, что вы вернулись. Но что за ужасный
костюм? Скорее идите переоденьтесь!
Мисс Призм. Сесили!
Чезюбл. Дитя мое! Дитя мое!
Сесили подходит к Джеку, он с грустью целует ее в лоб.
Сесили. В чем дело, дядя? Улыбнитесь. У вас такой вид, словно зубы
болят, а у меня для вас есть сюрприз. Кто бы вы думали сейчас у нас в
столовой? Ваш брат!
Джек. Кто?
Сесили. Ваш брат, Эрнест. Он приехал за полчаса до вас.
Джек. Что за чушь! У меня нет никакого брата.
Сесили. О, не надо так говорить! Как бы дурно он ни вел себя в прошлом,
он все-таки ваш брат. Зачем вы так суровы? Не надо отрекаться от него. Я
сейчас позову его сюда. И вы пожмете ему руку, не правда ли, дядя Джек?
(Бежит в дом.)
Чезюбл. Какое радостное известие!
Мисс Призм. Теперь, когда мы уже примирились с утратой, его возвращение
вызывает особую тревогу.
Джек. Мой брат в столовой? Ничего не понимаю. Какая-то нелепость.
Входит Алджернон за руку с Сесили. Они медленно идут к Джеку.
Силы небесные! (Делает знак Алджернону, чтобы тот ушел.)
Алджернон. Дорогой брат, я приехал из Лондона, чтобы сказать тебе, что
я очень сожалею о всех причиненных тебе огорчениях и что я намерен в будущем
жить совсем по-иному.
Джек бросает на него грозный взгляд и не берет протянутой руки.
Сесили. Дядя Джек, неужели вы оттолкнете руку вашего брата?
Джек. Ничто не заставит меня пожать ему руку. Его приезд сюда - просто
безобразие. Он знает сам, почему.
Сесили. Дядя Джек, будьте снисходительны. В каждом есть крупица добра.
Эрнест сейчас рассказывал мне о своем бедном больном друге Бенбери, которого
он часто навещает. И, конечно, есть доброе чувство в том, кто отказывается
от всех удовольствий Лондона для того, чтобы сидеть у одра больного.
Джек. Как! Он тебе рассказывал о Бенбери?
Сесили. Да, он рассказал мне о бедном Бенбери и его ужасной болезни.
Джек. Бенбери! Я не желаю, чтобы он говорил с тобой о Бенбери и вообще
о чем бы то ни было. Это слишком!
Алджернон. Признаюсь, виноват. Но я не могу не сознаться, что
холодность брата Джона для меня особенно тяжела. Я надеялся на более
сердечный прием, особенно в мой первый приезд сюда.
Сесили. Дядя Джек, если вы не протянете руку Эрнесту, я вам этого
никогда не прощу!
Джек. Никогда не простишь?
Сесили. Никогда, никогда, никогда!
Джек. Ну хорошо, в последний раз. (Пожимает руку Алджернону и угрожающе
глядит на него.)
Чезюбл. Как утешительна видеть такое искреннее примирение. Теперь, я
думаю, нам следует оставить братьев наедине.
Мисс Призм. Сесили, идемте со мной.
Сесили. Сейчас, мисс Призм. Я рада, что помогла их примирению.
Чезюбл. Сегодня вы совершили благородный поступок, дитя мое.
Мисс Призм. Не будем поспешны в наших суждениях.
Сесили. Я очень счастлива!
Все, кроме Джека и Алджернона, уходят.
Джек. Алджи, перестань озорничать. Ты должен убраться отсюда сейчас же.
Здесь я не разрешаю бенберировать!
Входит Мерримен.
Мерримен. Я поместил вещи мистера Эрнеста в комнате рядом с вашей, сэр.
Полагаю, так и следует, сэр?
Джек. Что?
Мерримен. Чемоданы мистера Эрнеста, сэр. Я внес их в комнату рядом с
вашей спальней и распаковал.
Джек. Его чемоданы?
Мерримен. Да, сэр. Три чемодана, несессер, две шляпные картонки и
большая корзина с провизией.
Алджернон. Боюсь, на этот раз я не смогу пробыть больше недели.
Джек. Мерримен, велите сейчас же подать кабриолет. Мистера Эрнеста
срочно вызывают в город.
Мерримен. Слушаю, сэр. (Уходит в дом.)
Алджернон. Какой ты выдумщик, Джек. Никто меня не вызывает в город.
Джек. Нет, вызывает.
Алджернон. Понятия не имею, кто именно.
Джек. Твой долг джентльмена.
Алджернон. Мой долг джентльмена никогда не мешает моим удовольствиям.
Джек. Готов тебе поверить.
Алджернон. А Сесили - прелестна.
Джек. Не смей в таком тоне говорить о мисс Кардью. Мне это не нравится.
Алджернон. А мне, например, не нравится твой костюм. Ты просто смешон.
Почему ты не пойдешь и не переоденешься? Чистое ребячество носить траур по
человеку, который собирается целую неделю провести у тебя в качестве гостя.
Это просто нелепо!
Джек. Ты ни в коем случае не пробудешь у меня целую неделю, ни в
качестве гостя, ни в ином качестве. Ты должен уехать поездом четыре пять.
Алджернон. Я ни в коем случае не оставлю тебя, пока ты в трауре. Это
было бы не по-дружески. Если бы я был в трауре, ты, полагаю, не покинул бы
меня? Я бы счел тебя черствым человеком, если бы ты поступил иначе.
Джек. А если я переоденусь, тогда ты уедешь?
Алджернон. Да, если только ты не будешь очень копаться. Ты всегда
страшно копаешься перед зеркалом, и всегда без особого толку.
Джек. Уж во всяком случае, это лучше, чем быть всегда расфуфыренным,
вроде тебя.
Алджернон. Если я слишком хорошо одет, я искупаю это тем, что я слишком
хорошо воспитан.
Джек. Твое тщеславие смехотворно, твое поведение оскорбительно, а твое
присутствие в моем саду - нелепо. Однако ты еще поспеешь на поезд четыре
пять и, надеюсь, совершишь приятную поездку в город. На этот раз твое
бенберирование не увенчалось успехом. (Идет в дом.)
Алджернон. А по-моему, увенчалось, да еще каким. Я влюблен в Сесили, а
это самое главное.
В глубине сада появляется Сесили. Она берет лейку и начинает поливать цветы.
Но я должен повидать ее до отъезда и условиться о следующей встрече. А, вот
она!
Сесили. Я пришла полить розы. Я думала, вы с дядей Джеком.
Алджернон. Он пошел распорядиться, чтобы мне подали кабриолет.
Сесили. Вы поедете с ним кататься?
Алджернон. Нет, он хочет отослать меня.
|
|
Марчелло Мастроянни: Я помню, да, я помню |
Одесса, 1987.
 |
| «Смерть коммивояжера», режиссер Лукино Висконти |
Мы стоим наверху самой легендарной лестницы в истории кино — той самой, из «Броненосца «Потемкин». Марчелло Мастроянни приехал сюда вместе с Никитой Михалковым на презентацию фильма «Очи черные» для участия в фестивале, название которого я уже не помню1. Фестиваль открывают на большой площади, как раз там, где начинается лестница, спускающаяся в Одесский порт. Мы явились рановато: у лестницы выступает только группа жонглеров, народу мало. Краски яркие, атмосфера взволнованного ожидания. У меня в руках кинокамера, и я снимаю первые кадры, которые должны стать прологом к «портрету» Марчелло Мастроянни. Вдруг происходит что-то непонятное: площадь и лестница заполняются толпой, тысячи людей собираются за несколько минут, нас теснят, начинается давка. В этой толкотне меня охватывает паника, я теряю камеру и убегаю в отель.
Жалко. Мне так хотелось начать фильм о Марчелло в Одессе — в месте, которое великолепно сочетало в себе две страсти его жизни: неутолимую тягу к путешествиям, к открытию всего нового и его огромную любовь к своей профессии, к большому кинематографу.
После несостоявшегося старта в Одессе от намерения снять кинопортрет Марчелло пришлось отказаться. Время шло, делались какие-то попытки, но ничего конкретного не получалось. Между тем из разных стран мира продолжали поступать предложения, но Марчелло решительно их отметал.
И вот в июле прошлого года (1994), в Париже, мы с ним вместе посмотрели на кассете прекрасный «Портрет Орсона Уэллса». Спустя несколько дней Марчелло сказал мне, что не прочь осуществить план, который мы откладывали лет десять. Поскольку он собирался в Португалию, где ему предстояло работать в картине ди Оливейры «Путешествие в начало мира», мы решили снять там свою маленькую ленту. Заботясь о том, чтобы не мешать ди Оливейре, Марчелло поставил одно условие: наша группа должна быть очень небольшой. Я сразу же согласилась, но оговорила свое условие: снимать буду на 35-мм пленку. Мастроянни принадлежит большому кинематографу, и нельзя снимать его телекамерой. Марчелло пригласил Пеппино Ротунно — не только друга, но и выдающегося оператора. Мы быстренько организовали экспедицию в Португалию. Весь наш коллектив состоял из шести человек…
Марчелло нравилась сама мысль снимать «Автопортрет» в Португалии, среди гор, в одном из тех немыслимых мест, «с которыми позволяет тебе познакомиться только кинематограф» и «до которого не доберется ни одно туристическое агентство». А больше всего ему нравилась идея делать этот фильм, снимаясь параллельно в другой картине. Эта ситуация позволила бы нам придать большее правдоподобие рассказу, ведь главной страстью жизни Марчелло было именно то, что отличало его от всех других, — профессия актера. Марчелло считал ее необыкновенной привилегией («Ты играешь, а тебе еще и платят») и никогда не уставал работать, работать, работать.
Когда меня спрашивают: «Легко ли управлять Мастроянни, быть его режиссером?», на память мне приходит острота Мишеля Симона, которую иногда, шутя, цитировал и сам Марчелло: «Большим актером не надо управлять, на него надо смотреть». В нашем случае это было как нельзя более точно. Взять хотя бы, к примеру, кадры, когда Мастроянни говорит о своей любви к Чехову. Вначале кажется, что он рассказывает о себе самом, а потом выясняется, что он читает монолог дяди Вани. Потом он опять переходит к своему личному опыту, украшает его короткими анекдотами, пользуется ими, чтобы лучше передать «тайное величие» чеховского мира. Затем Марчелло говорит о том, как потряс его Чехов, о том, как близки чеховские полутона его собственной природе… В общем, в этих кадрах, как и во всех других, мы видим перед камерой Мастроянни, который играет, вспоминает, размышляет, рассказывает.
 |
| «Орест», режиссер Лукино Висконти |
Наша картина сначала называлась «М.М. — Автопортрет». Но, просмотрев всю пленку, Марчелло сказал мне: «Я помню, да, я помню»… А почему бы и нет? Мне так больше нравится. «Автопортрет» — название строгое, почти высокомерное, оно предполагает нечто линейное, упорядоченное, претендующее на почти хронологическое изложение этапов жизни.
А «Я помню…» открывает широкий простор, дает большую свободу и даже позволяет пропустить какие-то важные вещи и забыть о них. Потому что память капризна, понимаешь? Капризна, как любовь«.
Анна Мария Тато
Как старый слон
Я помню большое дерево мушмулы…
Помню восторг и удивление, охватившие меня при виде нью-йоркских небоскребов в закатном свете на Парк-Авеню…
Помню алюминиевую сковородку без ручки: мама жарила на ней яичницу…
Помню столярную мастерскую деда и отца. Мой дед сколачивает стул.
Я помню запах дерева. Запах дерева…
Я помню немецкую военную форму. Помню выселенных людей…
Я помню Герберта Уэллса, Сименона, Рея Брэдбери…
Помню, что Феллини дал мне кличку Снапорац…
Я помню Чехова, особенно капитана Соленого из «Трех сестер»…
Я помню снег на Красной площади в Москве…
Я помню первый фильм, который я увидел в Турине: «Бен Гур» с Рамоном Наварро. Мне было шесть лет…
Я помню руки моего дяди Умберто, сильные, как клещи, руки скульптора…
Помню, как я ехал в поезде во время войны. Поезд вошел в туннель,
стало совсем темно, и тут в тишине какая-то незнакомка поцеловала меня в губы…
Помню свое желание узнать, что станет с миром, что с ним будет в 2000 году, присутствовать при этом и хранить в памяти все, как хранит старый слон. Да, потому что я всегда был любопытным, таким любопытным!..
Я помню, да, я помню…
Тоска по будущему
В подростковом возрасте страны, которых мы не знаем и о которых столько себе напридумывали, всегда кажутся прекраснее, загадочнее, а иногда даже реальнее, чем города, где мы живем. Возможно, столь сильная тяга к путешествиям навсегда связана со своего рода фантастической перспективой, пре-вращающей далекие места в более загадочные и в то же время более реальные, чем те, что у нас перед глазами.
 |
| «Вчера, сегодня, завтра», режиссер Витторио де Сика |
Пруст говорил, что самый лучший рай — рай утраченный. Фраза эта пользуется заслуженной известностью. Я же позволю себе добавить, что существует, пожалуй, рай еще более привлекательный, чем рай утраченный: это рай неизведанный, места и приключения, которые мерещатся где-то вдали — не за плечами, как что-то безвозвратно потерянное и наполняющее душу ностальгией, а впереди, в будущем; к ним, как к сбывшемуся сну, возможно, еще удастся прикоснуться.
Как знать, не заключается ли притягательность путешествия именно в этом очаровании, в этой парадоксальной ностальгии по будущему, в этой силе, за-ставляющей нас воображать — пусть и заблуждаясь, — будто мы путешествуем и находим на незнакомой станции нечто такое, что может изменить нашу жизнь.
Не исключено, что человек, когда ему остается лишь оплакивать и любить один только утраченный рай, в действительности расстается с молодостью.
Маленькие слабости
Что касается моей неуемной тяги к бродяжничеству, то помню, как много лет назад, сразу же после «Сладкой жизни», Феллини пришла в голову замечательная идея. Ему захотелось показать ночную Италию через комиссариаты полиции. Один комиссариат, скажем, в Местре, другой — в Фьюмичино, третий на Сицилии… Это такое загадочное место, где можно встретить кого угодно — от проститутки до пьянчуги, от человека, поссорившегося с женой, до бродяги, которому негде переночевать. Помню, как мы с энтузиазмом говорили: «Купим себе трейлер и исколесим всю Италию, останавливаясь, где придется, а спать будем в вагончике». И все это таким тоном, не знаю уж, убежденным или инфантильным. Полагались, в общем, на авось.
На телевидении, выслушав предложение Феллини, спросили, каковы политические взгляды режиссера. То было время «красных бригад». Карабинеров и «красных бригад». Телевизионные начальники не поняли, что Феллини не об этом собирается рассказывать, а хочет показать картину Италии — доброй, быть может, отчаявшейся, но не утратившей юмора. Ничего не вышло. Осталась только мечта — поколесить по стране. К тому же тогда у нас — не удивляйтесь — была автомобилемания: ведь автомобиль — это же средство, позволяющее не сидеть на месте. Вы можете не поверить: у Феллини был «Мерседес-300 sz» — из тех, у которых дверцы поднимаются вверх, как крылья чайки. Трудно, конечно, представить себе Феллини в такой спортивной машине. Он обожал американские автомобили, черные, обязательно черные.
И мы состязались с ним — кто чаще меняет машину. Глупая игра, сколько денег было выброшено на ветер! Но и это, в сущности, подчеркивает, до какой степени мы впадали в нашу тогдашнюю инфантильность, мальчишество. Как бы там ни было, но мы очень забавлялись этой игрой.
Сколько же автомобилей у меня перебывало! Ну где вы видели больших кретинов? Жаль, что у меня не сохранилось документальных доказательств. Сегодня я мог бы составить хороший монтаж из фотографий, на которых я запечатлен рядом с каждой своей машиной. Хотя бы для того, чтобы показать внукам — буде они у меня появятся, — каким кретином был их дед.
Вы скажете: «Ладно, а нам-то зачем выслушивать все эти глупости об автомобилях?» Но я же собираюсь говорить о себе. Выдающихся качеств, о которых стоило бы рассказывать, у меня нет, так что я вспоминаю о своих маленьких недостатках, о своих маленьких слабостях.
 |
| «Сладкая жизнь», режиссер Федерико Феллини |
Большой музей
Я снимался в Конго, Бразилии, Алжире, Марокко, Венгрии… Будапешт — замечательный город; фильм не удался, но какое это имеет значение? Плохие фильмы никто не смотрит, но Будапешт очень хорош: когда еще мне довелось бы провести там два месяца?
В Аргентине я снимался в фильме режиссера Марии Луизы Бемберг. В нем я должен был жениться на карлице, на настоящей карлице! И я работал с удовольствием, отдавая себе отчет в том, что разрушаю пресловутый образ «латинского любовника».
Три фильма в Лондоне, один из которых — выдающегося режиссера Джона Бурмена «Лео Последний» — удача, не имевшая, однако, успеха, хотя на Каннском фестивале Бурмен и получил приз за лучшую режиссерскую работу. (Между прочим, в «Лео Последнем» у меня была одна реплика, характеризующая, в сущности, меня самого: «Я люблю на расстоянии». Это, конечно, тоже способ поддерживать контакт, хотя в какой-то мере и абстрактный.)
Лондон — красивый город, но мне он показался несколько однообразным: эти одинаковые дома с двумя колоннами, парадным, балконом на втором этаже… Работал я и в Берлине, и во Франции, конечно, — очень много. В России я снимался в двух фильмах. И натерпелись же мы там: мороз был чудовищный…
Я всегда проживал приключения так, словно это рассказы, сказки, в которых мне отводится роль протагониста, то есть персоны привилегированной. С другой стороны, увы, должен признать, вне моего ремесла у меня нет каких-то особых интересов. В этом, пожалуй, моя ограниченность. Нет у меня никакого значительного духовного и культурного богатства. Нет охоты ходить в кино или театр, где развлекается только сам актер, удовлетворяющий свою страсть к лицедейству. На кого из зрителей, часами высиживающих в зале, это не нагоняет сон?
О музеях и говорить нечего, они не нравятся мне, я в них скучаю. Мой главный музей там, куда приводит меня кинематограф. Поэтому я стараюсь почаще сниматься в фильмах, дающих мне возможность путешествовать.
И не только за границей, но и по Италии. Из двух фильмов, снимающихся в Чивитавеккье и в Риме, я выберу тот, что снимается в Чивитавеккье. Почему? Да потому что Рим я знаю хорошо, а находящаяся рядом Чивитавек кья уже как бы отдаляет меня от повседневности. В общем, какая-никакая, а перемена.
Я бываю ленив и даже трусоват в определенных обстоятельствах или когда приходится принимать твердые решения. (Мне всегда нравилось напускать на себя вид лентяя: так, казалось, от меня скорее отстанут.) К тому же я испытываю своего рода двигательное беспокойство, побуждающее меня постоянно путешествовать.
Вот здесь, среди этих гор, я счастлив. Вчера шел дождь, позавчера — тоже, и мы сидели и ждали в прицепных вагончиках, в автомобиле, в баре.
Во всем этом есть привкус приключения. Конечно, немного по-детски — придумывать сказки, несмотря на жестокость окружающей нас дейстительности…
Какая привелегия, особенно в сегодняшнем мире, жить в неприступной крепости: пока там снаружи идет резня, бросают бомбы, насилуют, мы, сидя внутри, продолжаем рассказывать сказки, порой сентиментальные. А порой и трагические, но, во всяком случае, придуманные. Представляете, какое чувство защищенности: сидишь себе, как у Христа за пазухой…
Замок грез
«Чинечитта» — мифическое слово, несокрушимая крепость! Феллини хорошо изобразил ее в фильме «Интервью», показав голубой трамвайчик, курсирующий между вокзалом и студией «Чинечитта». Я там снимался в одном из самых ранних фильмов Дино Ризи «Дорога надежды». В нем рассказывалось и об этом трамвае, и о нас — молодых, исполненных надежд.
Впервые я снялся в массовке в одиннадцать лет. Мне повезло. Семья моих дружков, Ди Мауро, держала ресторан в «Чинечитта». Тогда там было три ресторана: один для артистов, другой для технического персонала, третий — для рабочих. Синьора Ди Мауро доставала мне талончики, дававшие право участвовать в массовках, иначе в «Чинечитта» не пропускали. Швейцар Паппалардо был настоящим цепным псом, и без пропуска прорваться на студию было невозможно.
Итак, впервые я проник в «Чинечитта» на съемки картины «Марионетки» с Беньямино Джильи в главной роли. Ставили сцену праздника сбора винограда. Я привез с собой маму. Целую ночь мы праздновали и просто объедались виноградом (на следующий день, помнится, нам было плохо), а на рассвете каждому заплатили по десять лир.
Безвестный статист
После «пробы» в «Марионетках» летом, когда заканчивались занятия в школах, синьора Ди Мауро устраивала меня статистом.
Хорошо помню, как я попал в какой-то фильм с Асей Норис… меня так и трясло от волнения. И еще один фильм помню, если не ошибаюсь, это были «Пираты Момпрачемы» по книге Сальгари. Героя играл Массимо Джиротти, красавец, настоящий мужчина. Разыгрывалась сцена в таверне, а я был одним из туземцев. В пять утра нас гримировали жженой пробкой, чтобы мы стали похожими на индейцев, и каждому вручали кривой нож. Массимо Джиротти должен был произнести свою реплику и, лихо перепрыгнув через стол, бежать из таверны. Но у него это не получалось. «Всем остаться на местах, — сказал режиссер, — а синьору Джиротти принесите апельсинового сока». Я был возмущен: «Как! Вместо хорошего пинка в зад за то, что он не может выдать простую реплику, ему еще сок подносят!» Много лет спустя я познакомился с Массимо Джиротти уже в театре: его ужасно развеселил мой рассказ об этом эпизоде.
С копьем в руках и опять-таки в трусах — как в «Пиратах» — я снимался также в «Железном венце» режиссера Блазетти. А позднее, у того же Блазетти, играл в фильме «Как жаль, что она каналья». И тогда я ему сказал: «У тебя нет режиссерской интуиции». «Как так?!» — Блазетти все принимал всерьез. Но его позабавило мое объяснение: «Когда ты снимал „Железный венец“, я, статист, стоял перед тобой с длиннющим копьем, а ты меня даже не заметил и „открыл“ лишь одиннадцать лет спустя».
Да, сколько их, таких мелких эпизодов, воспоминаний… Можно очень долго рассказывать об этой… как ее назвать? Карьере? Любви к своей профессии?
Ладно. Спасибо, коммендаторе
Одно воспоминание меня очень трогает — о наивности Де Сики. Вот уж кого я помучил! Надо сказать, что моя мама в молодости работала машинисткой в Итальянском банке, и была у нее подруга, тоже машинистка, синьора Мария — сестра Витторио Де Сики. Представляете! И вот я, мечтавший стать актером, время от времени говорил: «Мама, пойдем навестим синьору Марию, может, она даст мне записку к своему брату». И мы шли.
Сидим, беседуем, пьем кофе и так далее. Потом синьора Мария очень терпеливо пишет эту самую неизменную записку: «Сын моей близкой подруги»… и т.д. и т.п. Я регулярно являюсь туда, где ведет съемку Де Сика, и в обеденный перерыв говорю ему: «Коммендаторе, простите, ваша сестра…» На что Де Сика всякий раз отвечает: «Но, сынок (мне тогда было пятнадцать лет), тебе еще надо учиться, учиться! Вот увидишь, когда-нибудь… А пока учись». — «Ладно. Спасибо, коммендаторе». Месяца через три я снова являлся к нему. И так продолжалось не один год.
Бедный Де Сика, я его обожал. А потом, когда начал с ним работать, стал обожать еще больше.
Привилегированный турист
Имея за плечами более ста семидесяти фильмов, я все еще жаден до экспериментов. Таких, например, как этот, здесь, в португальских горах.
Хочется фильмов более искренних, более открытых, не связанных с тем, что я называю «фабрикой», то есть со студией, с «Чинечитта», где, конечно, больше комфорта, все спокойно, удобно… Не знаю, но с возрастом я стал казаться себе этаким служащим, каждое утро отправляющимся в контору. Так что уже много лет я выбираю фильмы, которые уносят меня куда-то далеко от дома и студии.
Это еще одна привилегия моего ремесла: ну кто и когда попал бы в такое место, как это? Какому туристу пришло бы в голову очутиться среди этих фантастических гор? Кино забрасывает тебя туда, куда ни одно туристическое агентство не посоветовало бы ехать. К тому же никакой турист, даже самый богатый и знаменитый, не смог бы так глубоко, как мы, работающие здесь, познакомиться с природой страны и ее народом. Даже если существует языковой барьер, в конце концов всегда сумеешь договориться. И входить в дома, видеть и делать то, что не дозволено даже президенту…
От одного до ста семидесяти (и больше)
Первый фильм, в котором я по-настоящему играл, назывался «Против закона». В качестве режиссера выступал Флавио Кальцавара, и все мы были новичками. Пожалуй, можно сказать, что это был первый кинематографический кооператив. Денег мы не получали, какое там! Среди участников были Буаццелли, Паоло Панелли, Фульвия Мамми, я, Гузони… Все они были из Академии драматического искусства, я же — из Университетского театрального центра. А фильм получился ничего себе.
Потом было нечто экзотическое: «Там-там Маюмба» (Африка, Конго).
Потом мы снимались в «Принцессе Канарских островов» с симпатичной Сильваной Пампанини. Сильвана играла краснокожую. Каждое утро она являлась, одетая и загримированная, и спрашивала у режиссера Паоло Моффы: «Паоло, осанка у меня царственная?»
Так я провел два или три месяца на Канарских островах. В августе на мне был костюм Христофора Колумба. Ноги у меня всегда были худые, так что мне приходилось подбивать толщинку под узехонькие бархатные штаны, доходившие до середины бедра. Адская жарища! А тут еще оружие, кони и все прочее, с чем я никогда не имел дела. Больше того, у этих коней (которых я дарил «принцессе» от имени короля Испании) не было ни хвостов, ни грив, так что приходилось прилаживать им веревочные. Сумасшедшая работа!..
Перерыв с «корзинкой»
Кстати, вы знаете, что такое «корзинка»? Ну, в «Чинечитта» корзинка с завтраком — это синоним самого кино. Во время перерыва все ее ждут, а она всегда появляется с опозданием. Самая же приличная вещь в этой корзинке, в сущности, всего лишь плавленый сырок.
У нас было выдающееся кино, и все же мы остались единственной страной в мире, в которой артистам выдают корзинки вроде тех пакетов, что можно купить на любой станции, выглянув из окна вагона…
Парадоксальное суждение о комедианте
В своем «Парадоксе об актере» Дидро делает очень четкое различие между актером и комедиантом. Если актер «входит» в персонаж, комедиант принимает персонаж в себя; комедиант растворяется в персонаже, актер же навязывает персонажу особенности собственной личности. Комедиант для Дидро предпочтительнее. Он бы не полюбил Кларка Гейбла, Джона Уэйна, Гари Купера, всегда остававшихся самими собой, какой бы ни была роль, которую они играли. У этих актеров (сегодня их уже нет) была такая индивидуальность, что они уже одним своим обликом заполняли экран. Им не нужно было изображать персонажей.
Я же — может быть, еще и потому, что начинать мне довелось с театра, где персонажи очень редко повторяются, — так вот, я никогда не выносил навязывание мне одного и того же образа. По-моему, актер, хорош он или плох, должен постоянно менять кожу; к этому побуждает иллюзия, что он каждый раз — другой, пусть нередко это действительно лишь иллюзия, ибо добрых пятьдесят процентов личности артиста, его природы всегда остаются неизменными и всегда хорошо видны. Да, тебе нужны усы, борода, грим и так далее… конечно, это помогает маскироваться, «входить» в шкуру персонажа, очень далекого от тебя, но в своей основе…
В этом весь «парадокс» Дидро: чрезмерная чувствительность делает актеров ограниченными, во всяком случае, посредственными. Вы спросите, возможно ли это? Что ж, Дидро видел все так, и я думаю, он был прав: большого актера делают холодный ум и холодная кровь.
Недавно, давая вместе с Витторио Гасманом интервью, мы говорили, что актер — это пустая коробка. Внутри нет ничего. Актер всю жизнь наполняет эту коробку чертами, жестами, мимикой, повадками своих персонажей, и в конце концов она становится этаким чемоданом, набитым лицами и типами, из которого он, профессионал, каждый раз вытаскивает что-нибудь и использует — для исполнения новой роли.
По мнению Дидро, у актера, играющего инстинктивно, сердцем, бывают удачные и неудачные дни, взлеты и падения. В отличие от него актер, делающий ставку на самоконтроль, похож на зеркало, отражающее сцену со все возрастающей точностью, силой и правдивостью.
Но можно ли провести четкую грань между инстинктом и самоконтролем, между сердцем и разумом? Право, не знаю. Все пытаюсь понять, что же такое в этой профессии — я, да никак не могу добраться до сути.
Выйдя за пределы съемочной площадки или со сцены, актер меняется, отодвигает от себя страдания и радости сыгранного персонажа. В сущности, эмоции испытали только зрители. Актер же, как я не раз говорил, — просто что-то изображавший лгун, а на деле… да, конечно, что-то такое он испытал, хотя нет, ничего он не испытал. В противном случае это ремесло сделало бы его самым несчастным человеком на свете. Не так ли? Разве можно всякий раз переживать страдания и драмы, а потом волочить их за собой?
Крик и Крок
Когда я стал сниматься в первых своих фильмах, мой отец, увы, потерял зрение из-за диабета, а мама уже за много лет до того оглохла. И вот они ходили в кино (мои фильмы они смотрели по два-три раза) — совсем как комики Крик и Крок.
В зале они, конечно, мешали публике. Мать спрашивала: «Что он сказал? Что он сказал?» А отец отвечал: «Он сказал…» и так далее. В свою очередь отец, ничего не видевший, спрашивал: «А что он там сделал? Что он сделал?» И ма ма объясняла ему, что именно я сделал.
Все это можно было бы изобразить даже в драматическом ключе, но они у меня были поистине комичной парой.
Моя мать сломала себе ногу, выходя из кинотеатра «Аппио», что у порта Сан-Джованни: уж эти классические римские тротуары! Там была выбоина, она оступилась и сломала ногу. Не скажу, чтоб она так уж жаловалась на эту беду, просто была расстроена и все ворчала: «Хоть бы фильм-то был с Марчелло! Так нет, фильм был с Альберто Сорди».
Как последняя экранная пара не попала на Бродвей
«Как жаль, что она каналья»… В этом фильме родилась пара София Лорен — Марчелло Мастроянни, одна из последних пар в кино. Мы сделали вместе двенадцать фильмов, вобравших в себя целую жизнь. Так писали даже американ-ские газеты. Впрочем, это верно: мы с Софи до сих пор остаемся последней парой мирового кинематографа.
Эдуардо Де Филиппо как-то предложил мне и Софии Лорен показать «Филумену Мартурано» на Бродвее: потрясающий шанс. Мы с Де Сикой уже сделали прекрасный фильм в Неаполе — «Брак по-итальянски». Но ведь можно было вообразить, что эта чета после войны переехала в Нью-Йорк и что у них родились дети. Софи прекрасно говорит по-английски, я тоже кое-как с ним справляюсь, но поскольку мужчина всегда менее умен, чем женщина, мне, естественно, было лучше держаться за Неаполь.
«Может, поговорить с Софи?» — спросил меня Эдуардо. «Ну, конечно, черт возьми!» И я позвонил Софи, которая, как и я, жила тогда в Париже. «Софи, есть потрясающая возможность: Эдуардо хочет ставить „Филумену Мартурано“ в театре на Бродвее. Ты представляешь? Это же приключение, которое может нас омолодить. Давай, ради разнообразия, займись театром…» «Но я и так молода, — ответила она, — и для этого заниматься театром мне не нужно».
Как и многие актрисы, она боялась театра. Я предлагал поработать на сцене и Катрин Денёв… Но тот, кого породило кино, театра опасается.
Русские совсем как неаполитанцы.
Впервые я снимался в России — это было лет тридцать назад, — когда еще существовал настоящий «железный занавес». Это тоже в известном смысле было привилегией кино: войти туда, куда было бы трудно попасть даже важным шишкам, и увидеть вблизи, у них дома, этих русских, которых пропаганда всегда изображала с тремя ноздрями.
Я всегда питал симпатию к русскому народу, что не имеет никакого отношения к политическим позициям или к некоторым моим взглядам: дело в том, что человеческие качества русских не отличаются от наших. Говорят, что «русские совсем как неаполитанцы», и в этих словах есть правда. Им свойственна экзальтация, они легко отдаются радости, им знаком невероятный энтузиазм. Но это не мешает им предаваться такой меланхолии, от которой наполняются слезами даже стоящие перед ними тарелки.
Руки, ноги, губы, нос
Я не очень-то себе нравлюсь. Вы можете подумать, что я разыгрываю из себя скромника, да нет же…
Руки худые. Ноги тощие, которые помешали мне играть — может быть, к счастью, потому что это не мое, — роли героев. А этот короткий нос! Губы, да, полные… Мне же всегда нравились тонкие губы а-ля Жан Габен и орлиные носы. Тут можно привести в пример Гасмана, еще эфиопов, абиссинцев: у них прекрасные аристократические носы.
 |
| Марчелло Мастроянни и Лукино Висконти |
Я всегда иронизировал над своей внешностью и играл персонажей постарше меня. Так дело обстояло до того, как я сам стал немолодым. Тут была своя хитрость: мне не хотелось, чтобы публика говорила: «Ох, как он постарел». Нет, лучше я постарею раньше, тогда люди скажут: «Да он же загримировался под старика!» Маленькая такая хитрость. Не знаю, дала ли она какие-нибудь результаты.
Все это я говорю, чтобы подчеркнуть, что мой внешний вид всегда доставлял мне неудобство. А тут еще этот смехотворный ярлык «latin lover» — «латинский любовник», в котором я себя совершенно не узнаю и который еще обременителен; если у меня и бывает какая-нибудь встреча, приключение, от «latin lover» ждут невесть каких подвигов.
Кто знает, почему актер обязательно должен быть каким-то особенным, бессмертным! В мире, где на каждом шагу происходят трагедии, мы почему-то интересуемся пустяковыми интервью с актерами или гитаристами.
Мистер «латинский любовник»
«Латинский любовник»! Что тут скажешь? Вот уже тридцать пять лет, с тех пор как я снялся в «Сладкой жизни», американцы называют меня «латинским любовником». Вечно подавай им какие-нибудь ярлыки. А потом эту формулу подхватили итальянские и все европейские журналисты. Как легко: «латин-ский любовник» — и этим все сказано.
Но что это значит — «латинский любовник»? Я никогда не посещал ночные клубы, никогда не шатался по виа Венето, хотя на виа Венето я снимался. Ну, посидишь иногда в кафе. Не знаю. Может, все объясняется тем, что в этом фильме, а потом и в других, меня окружали красивые женщины, но это же не значит, что я «латинский любовник»! Мне платили за то, что я на экране обнимался, притворялся, будто занимаюсь любовью. Ясно?
«Латинский любовник»! С ума сойти можно от этой глупости. Какая вульгарность! Я говорю: «Да вы хоть видели мои фильмы?» После «Сладкой жизни» — прокатчики и продюсеры немедленно захотели увидеть меня в двубортном пиджаке с золотыми пуговицами — я снялся в фильме, где играл роль импотента. Это «Красавчик Антонио». А вскоре — в «Разводе по-итальянски» — сыграл роль жалкого рогоносца. Я играл даже беременного мужчину, играл гомосексуалиста. Попадались фильмы, где вообще нет никакого секса. Даже в картинах Феллини мои эротические фантазии, можно сказать, подростковые, мальчишечьи.
Ничего не поделаешь! Ничего! Мне уже семьдесят два года, а они продолжают писать: «латинский любовник». Да кто я, в самом деле? Монстр из цирка? Какое терпение надо иметь, чтобы игнорировать все эти глупости… Что ж, назойливость прессы — неприятный атрибут моей профессии. Неизбежный «побочный эффект». Журналисты берут на вооружение образ, не имеющий с тобой ничего общего. И продолжают его тиражировать. Это очень раздражает, очень!
Запах дерева
Когда занятия в школе заканчивались, я, не считая съемок в массовке, почти все лето проводил в мастерской отца и деда — они у меня были плотниками — в жалком гараже с двумя верстаками.
 |
| «Развод по-итальянски», режиссер Пьетро Джерми |
В обед отец уходил; тогда дед, человек немногословный, говорил мне: «Подмети пол, убери стружки и опилки. Да, возьми наждак и пошлифуй вот этот брусок, а если останется время, наточи железки». Я отвечал: «А мне когда идти есть?»
Вообще не скажу, что мне нравилась работа моих родных, которые к тому же вечно препирались друг с другом. Отец говорил деду: «Ты целый день возишься с каким-то кухонным стулом! Ну сколько ты можешь спросить с его хозяйки?» А дед отвечал: «Это мой долг. Раз синьора с третьего этажа прислала стул именно мне, я должен его починить». Да, уже тогда существовал конфликт между поколениями.
Я был немного стыдливым, но годам к пятнадцати-шестнадцати уже начал поглядывать на девчонок. Иногда дед говорил мне: «Возьми сумку с инструментами. Нужно пойти починить жалюзи, там что-то испортилось». Что, если в той квартире живет девчонка, на которую я положил глаз, а я явлюсь туда с этой сумкой… В общем, честно признаюсь, я стеснялся.
Но когда вспоминаешь, годы эти кажутся такими прекрасными.
Запах дерева, например. Кто никогда не знал, что это такое, не может его оценить. Запах дерева, смешанный с запахом пота отца и деда, приправленный проклятиями и плевками дедушки, который курил трубку…
Думаю, что на этом опыте я кое-чему научился: познал простые вещи, а значит, понял, что такое скромность.
Los ruspantos
Нас с братом Руджеро (подружившимся с Элио Петри, пожалуй, даже больше, чем я) посетила странная идея. Мы решили поговорить о ней с Элио. «Ты не хотел бы сделать фильм вместе с нами? „Los ruspantos“ — история двух голодных ковбоев, которые забираются в мексиканские хижины не для того, чтобы убивать, а чтобы стащить пару банок консервированной фасоли или еще что-нибудь в этом роде. Не нравится? Тогда у нас с Руджеро есть еще одна идея: „Некрофил“ — история одного чудака. Он, как персонаж из американских фильмов ужасов, держит у себя в подвале множество трупов, среди которых и манекены, похожие на Софию Лорен и на Лоллобриджиду… Но я прохожу мимо, не обращая на них внимания, и даже выбираю себе парнишку. Ну как, Элио? Что скажешь?»
 |
| «Необычный день», режиссер Этторе Скола |
Да, ошиблись мы, обратившись к Петри. Мы решили: раз Элио друг, он будет идеальным режиссером и втроем мы сможем хорошо порабо-тать. Но мы с братом поступили безответственно: никогда такой политически ангажированный режиссер, как Петри, не взялся бы за подобный фильм.
Руджеро
На позапрошлой неделе, когда шли съемки в Португалии, умер мой брат.
Не хотелось бы здесь заводить грустные речи. Я не собираюсь нагонять тоску на тех, кто меня слушает. Но это был жестокий удар. Я не ожидал его. Никто из нас не ожидал.
Подумать только: мой брат Руджеро вечно жаловался: «У меня тут болит, там болит». А мы с друзьями отмахивались: «Ты мнимый больной». Дошло до того, что однажды, возмущенный нашим пренебрежительным отношением к его недугам, Руджеро сказал: «Имейте в виду, когда я умру, вы должны написать на моей могиле: «Я же говорил, что мне плохо, черт бы вас побрал!»
Сейчас вспоминать об этом трудно.
Брат был мне прежде всего другом. А я знаю, что такая дружеская связь между братьями — дело непростое. Он был на пять лет моложе меня, но я относился к нему, как к старшему. Мне нравилась его солидность, пусть и кажущаяся, так как у него тоже были свои слабости. Он всегда беспокоился о будущем.
Брат был очень остроумен. И немногословен. Но когда он рассказывал что-нибудь или что-то критиковал «с намеком», особенно если дело касалось его профессии монтажера, его остроты — все могут подтвердить — поражали, как молния.
Однажды мы вместе с ним снимались у Джиджи Маньи — тот просто потребовал участия Руджеро. Фильм назывался «Сципион Африканский».
А он играл роль Сципиона Эмилийского — этакого политикана-ворюги. Впрочем, история тут ни при чем: прошло две тысячи лет, а у нас все по-прежнему…
Первые две недели съемок мы только и делали, что смеялись. Джиджи Маньи нас одергивал: «Вам все хиханьки да хаханьки! Где ваша серьезность?» Нам же было весело — не знаю почему, видимо, просто оттого, что мы были вместе. Внезапно я получил отставку у женщины, с которой у меня была связь, и тут я впал в уныние, в меланхолию, характерную для тех, кого бр осили, предали, растоптали и т.п. Я носился со своими переживаниями брошенного любовника. Витторио Гасман только что оправился от болезни печени и походил на кота, из тех что уходят ночью и возвращаются на рассвете взлохмаченные, с разодранными ушами. Бедняжка Сильвана Мангано почти все время молчала: она была женщиной сдержанной. К тому же съемки проходили в Помпеи, по ночам: пейзаж не самый веселый, да и обстановочка…
В конце концов Джиджи Маньи придумал экстравагантный словарь. Например, вместо «съемочная камера готова?» он говорил: «camera ardenfe2 готова?»
Когда «Сципион» вышел на экраны, моя мама пошла его посмотреть.
И что она сказала? «Да, Марчелло, ты, как всегда, хорош. Но наш рыжик (Руджеро был рыжеволосым) лучше тебя!»
Особенный день
С Этторе Сколой я сделал шесть или семь фильмов. Мне нравится Этторе.
Он обладает юмором, умен, симпатичен, хотя бывает и резковат. С ним можно поделиться какой-нибудь своей мыслишкой — если она годится, он ее принимает. В общем, работа со Сколой — это сотрудничество.
В «Необычном дне», помнится, у моего героя гомосексуалиста был один весьма деликатный телефонный разговор, очевидно, с другом. «Этторе, — сказал я, — чувство неловкости мне подсказывает, что всю эту сцену нужно снять со спины. Встань с камерой сзади меня, чтобы все, что я скажу, не было слишком откровенным, не вызвало у зрителя реакции отторжения». Скола согласился. И этот момент стал одним из самых лучших в фильме.
На том же «Необычном дне» Этторе спросил, не помню ли я какую-нибудь песню из времен своей ранней юности. Я вспомнил одну песенку, ее я слышал от своей тетушки, у которой были три дочки. По воскресеньям, когда мы танцевали, она пела: «Милые влюбленные девчонки, покупайте апельсины, у них чудесный вкус — вкус любви». Под эту песенку в фильме я показываю Софии Лорен какой-то танец. Для меня «Необычный день» навсегда останется поистине замечательной картиной: простой, чистой. Осмелюсь сказать — шедевром.
Первый фильм, который я сделал со Сколой, назывался «Драма ревности». Он принес мне приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале. Потом было много других картин. В фильме «Новый мир» (съемки начались во Франции, закончились в Италии) он дал мне прекрасную роль престарелого Казановы, у которого проблемы с простатой и который как бы остался в своей молодости, сознавая, что уже не в состоянии понять «новый мир», порожденный революцией. «Будь я моложе, я, возможно, пошел бы с вами, — говорит старик Казанова. — Единственное, чего я не приемлю, так это того, что демократия дает слуге право выражаться как угодно и совершенно свободно говорить о разных вещах. Нет. Это — нет!»
Я надеюсь в ближайшем будущем сняться еще в одном фильме у Сколы.
Todo modo
Я помню очень милый фильм режиссера Джузеппе Де Сантиса «Дни любви», который снимался в Чачарии, в городе Фонди. Помощником режиссера был Элио Петри. Мы с ним стали друзьями. Впервые в качестве режиссера он снимал меня в «Убийце» — фильме, имевшем успех и сразу же продемонстрировавшем режиссерский талант Петри. Да, это был замечательный режиссер, достаточно вспомнить «Дело гражданина вне всяких подозрений»! Прекрасно! И Волонте был великолепен…
Спустя несколько лет я снова снялся у Петри в «Toдo мoдo», картине, которую я считаю важнейшим документом о нашей «первой Республике»: долги, махинации, акционерные общества, деньги… Странно (хотя и не очень) — это после всех скандалов, после убийства Моро, которое в фильме как бы предугадано, к «Toдo мoдo» никогда больше не возвращались. Что остается думать? Что кто-то не хочет возвращаться к некоторым темам? Но сейчас у нас столько скандалов, скандалищей, скандальчиков. А все же этот фильм мы так и не имеем удовольствия посмотреть еще раз.
Кстати. О гибели Моро. Помнится, что именно с Элио Петри мы были в Милане, где занимались телеверсией фильма «Грязные руки» по сценарию Жан-Поля Сартра. Сам текст не обладал особыми драматическими качествами, но Петри благодаря своему режиссерскому мастерству сумел придать ему захватывающий ритм. Итак, когда мы снимали «Грязные руки», пришло известие об убийстве Моро. Петри был потрясен. Многие журналисты добивались с ним встречи, именно потому, что в «Toдo мoдo» эта смерть была пред-сказана и показана. Петри сильно переживал. Похоже было, что он чувствовал свою ответственность, вину. Но, конечно же, он был ни при чем: просто предвидел, чем дело кончится.
Цып-цып
Петри Джерми я был не нужен. После «Сладкой жизни» и «Красавчика
Антонио«он отнес меня к разряду «латинских любовников», что слоняются по виа Венето. Список актеров, которые по той или иной причине не согласились сниматься в «Разводе по-итальянски», довольно велик. Может, люди не верили в юмористический талант Джерми, который до тех пор снимал только драматиче-ские ленты. Я же сделал множество фотографий — и с зализанными волосами, и с курчавыми — и послал их Джерми, который в конце концов сдался. Так я снялся в этой чудесной комедии, а знаменитое цоканье моего героя, что-то похожее на «цып-цып», вошло в моду, стало считаться особым шиком. В первый день съемок Джерми с обидой спросил:»Ты что, передразниваешь меня?
Зачем ты делаешь это «цып-цып»?«
У Джерми была проблема с деснами, и он все время цокал. Я ответил, что вовсе не передразниваю его, а этот штришок помогает мне подчеркнуть некоторые душевные состояния персонажа. «Конечно, я перенял твою манеру цокать, может, это и шаг, достойный низкопробного варьете…» Не знаю, поверил ли мне Джерми, во всяком случае, жуя губами свою вечную сигару, он сказал: «Ладно».
«Развод по-итальянски» имел успех во всем мире. До сих пор случается, что в каком-нибудь аэропорте я встречаю американца, который говорит: «Развод Italian style: цып-цып».
Самые далекие воспоминания
Воспоминанания — это своего рода пункт прибытия, пожалуй, они един ственное, что нам принадлежит.
Иногда я спрашиваю себя, какие воспоминания трогают меня сильнее всего и воскрешаются с особой четкостью… Кино? Успех? Нет, нет, вовсе не это.
Самые далекие воспоминания связаны с моим детством, с отрочеством, с матерью, отцом, братом, друзьями из нашего квартала, с войной, с возникавшими каждый день проблемами, главным образом, материальными, которые отложились в памяти четче других.
Конечно, у меня уйма и всяких других воспоминаний, но воспоминания тех времен так ярки, так неистребимы! Все, что пришло потом — успех, деньги, известность, — не оставило по себе столь же живого, глубокого следа.
Воспоминания о матери, о ее бесконечно долгих буднях — она первая вставала и последняя уходила спать… Семейные ссоры, все эти невинные забавы — бильярд, бар… Над каждым анекдотом можно было смеяться полчаса… А первые влюбленности, первые девчонки из нашего квартала! Вся жизнь тогда была связана с кварталом, в центр Рима ездили лишь изредка, все происходило в твоем квартале.
Потом война, оставившая в памяти неизгладимый след. Я не драматизирую ее, отнюдь. Когда начиналась бомбежка или когда ее ждали, объявляли тревогу, все спешили в убежище. Но для нас, шестнадцати-семнадцатилетних, все превращалось в игру: мы спорили, кто добежит до убежища первым.
Не знаю, как сказать, но все связанные с войной опасности было, как это ни парадоксально, легче переносить, чем серьезные материальные трудности. Достаточно было мяча из скомканных газет, чтобы гонять его посреди улицы целых два часа. Я сам не понимаю, как нам удавалось подбрасывать мяч, сделанный из перевязанной шпагатом газетной бумаги.
Миллион сигарет
А теперь, для разнообразия, закурим еще одну сигаретку. Как глупо. Если вдуматься, примерно пятьдесят сигарет в день на протяжении пятидесяти лет — выходит почти миллион сигарет. Все римское небо задымить можно. Ну зачем? Ведь известно, что это вредно, а человек все равно продолжает курить. Может, так он заполняет пустоту?
Однако, даже сознавая, что курить вредно, я сержусь на американцев. Лучше пусть оставят свои штучки. Чего они хотят? Посадить нас, курильщиков, в гетто? Да пусть каждый живет и умирает, как хочет. Запрещать — вот это действительно вредно.
Смиренное величие
«…Допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо… Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее… Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным и… и, быть может, это в самом деле чудачество, но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью».
Это монолог доктора Астрова из первого акта пьесы Чехова «Дядя Ваня». Когда я его играл (много лет назад), меня словно молнией пронзила любовь к Чехову. С течением времени эта любовь становится все более глубокой.
Возможно, я так необычайно люблю Чехова, потому что его персонажи, его истории взяты из жизни. А может, они очень соответствуют моей природе, в том числе и актерской.
Мне нравится этот смиренный мирок, люди, его населяющие, — неудачливые, но полные энтузиазма, мечтаний, иллюзий, планов — «В Москву! В Москву!», в которую они никогда не поедут. А дядя Ваня говорит: «Работать, работать» — вот единственный ресурс, имеющийся у человека.
Убожество, ревность, нелепость… Чехов, по-моему, автор «комедии по-русски». Ведь не случайно, когда ставили его пьесы, он писал исполнителям: «Помните, что это комедия». А у нас в Европе пьесы Чехова всегда решают в драматическом ключе. Драма в них есть, конечно же, есть, но драматическое соседствует со смешным, заставляющим зрителя смеяться. Вот в чем, думается, величие этого скромного автора. Шекспир велик, огромен, но чеховские полутона, меня, по крайней мере, волнуют больше. Его странные, бестолковые персонажи, погруженные в неизбывное пустословие, — жертвы и одновременно соучастники преступлений окружающего их мира; именно поэтому они скептичные и саркастичные, то есть заслуживающие доверия свидетели.
От церковного прихода до Висконти
В одиннадцать лет я выступал в маленькой группе римского прихода церкви святых Фабиано и Венанцио. Первым спектаклем, в котором я участвовал, была своего рода трагедия, написанная приходским священником доном Вирджилио Казелли. Я играл роль христианского мученика Сабино.
Не надо думать, будто в церковь мы ходили из религиозных побуждений. В те времена это было единственное место, где можно было и поразвлечься. При церкви было маленькое футбольное поле, певческая школа (еще одна возможность позабавиться) и полуденная месса, на которую ходили, чтобы по-глядеть на девчонок и, естественно, поучаствовать в разных скетчах.
Потом я перешел в школу, а потом в университет, где был знаменитый Университетский театральный центр, имевший свою историю. Там я участвовал в разных спектаклях. В одном из них весьма любезно согласилась принять участие даже Джульетта Мазина, которая играла в университетском театре еще до войны.
Пьеса — этакая сатира на диктатуру, написанная Лео Ферреро, антифашистом, эмигрировавшим во Францию, — называлась «Анджелика». Участие Джульетты Мазины заинтересовало некоторых критиков. Кому-то захотелось нас посмотреть. Среди прочих был администратор труппы, которой руководил Лукино Висконти, синьор Эмилио Амендола, дядюшка знаменитого дублера Ферруччо Амендолы.
После спектакля синьор Амендола зашел в гримерную и спросил, не хочу ли я стать профессиональным артистом. Я сказал, что учусь в университете и уже даже работаю. Но почему же не попробовать? Учебу ведь можно и не бросать. В общем, синьор Амендола устроил мне встречу с Лукино Висконти в одной из чайных на римской площади Испании. С Висконти пришел и его ассистент Франко Дзеффирелли.
«Синьор Амендола уверяет, что у тебя есть способности, — сказал Висконти. — Если они у тебя действительно есть, ты можешь сыграть роль Митча в «Трамвае „Желание“, если нет — будешь статистом».
Я сразу же спросил, сколько они платят: «Видите ли, у меня уже есть работа…» Висконти, грассируя, ответил: «Об этом потолкуешь с синьором Амендолой». А тот знаками показал мне: три, три тысячи лир в день. Три тысячи лир в день! Да это же в три раза больше, чем я получал в конторе!
«Согласен, — сказал я. — Прекрасно!» С того момента и началась моя театральная карьера. Карьера успешная, продолжавшаяся лет десять.
Десятилетие формирование артиста
Конечно, это была великая удача: я вошел в театр через золотые ворота.
Труппа, которой руководил Висконти, была, пожалуй, самой серьезной в те годы, в ней работали Рина Морелли, Паоло Стоппа, Витторио Гасман (первый сезон). Мы выезжали даже за границу, в Париж, на Международный театральный фестиваль.
Я играл в «Трамвае «Желание» Теннесси Уильямса, в «Смерти коммивояжера» Артура Миллера, в «Трактирщице» Гольдони и, как я уже говорил, в «Дяде Ване» Чехова. Мы ставили и «Три сестры» — этот спектакль стал легендой, в нем я играл роль Соленого. То был типично чеховский персонаж — трагический и жалкий, этакий экстравагантный зануда, то и дело встревающий в разговор со своим «цып-цып».
Да, конечно, это были годы, сформировавшие меня как артиста. Дисциплина в труппе, требовательность Висконти, его стремление к творческому совершенству. Советы, которые я получал от моих коллег, особенно от Риты Морелли, опекавшей меня, как родная мать. В общем, если я что-то умею, этим я очень обязан им. Театр необычайно важен для актера.
А в конце этого театрального десятилетия я впервые снялся у Висконти. Знаменательно, что в основе картины лежала повесть Достоевского «Белые ночи». Это был первый фильм, в котором я освободился от персонажей типа столичного таксиста и который открыл для меня путь к более сложным, объемным, интересным героям.
Пианола для Платонова
Когда кончилось мое первое десятилетие в театре, я подумал, что, пожалуй, мне и самому пора обзавестись собственной труппой.
И я, конечно же, выбрал Чехова, его неоконченную пьесу — «Платонов». Режиссером я попросил быть Висконти, и он согласился. И тут я вдруг получил приглашение от Феллини сниматься в «Сладкой жизни». По совести говоря, меня раздирали жестокие сомнения, но в конце концов мой выбор пал на кино: я начал работать с Феллини. Висконти был очень любезен и обещал вернуться к «Платонову» в следующем сезоне. Но годы шли, а мы так ничего и не сделали.
Парадокс, лишний раз подтверждающий силу чеховских текстов, заключается в том, что я сыграл-таки Платонова — спустя тридцать лет! — в замечательном фильме Никиты Михалкова «Очи черные». Тридцать лет спустя! Я уже мог быть отцом того молодого человека, который во многом походил на моего героя из «Сладкой жизни», — этакого фанфарона, ищущего приключений, скорее от скуки, чем по душевной потребности.
Из храма в плавильный котел
Иногда меня спрашивают, в чем разница между театром и кино. Здесь могли бы последовать пространные рассуждения, ссылки на теоретиков, на одержимых. Различие же, конечно, есть: театр требует жесткой дисциплины, я бы сказал, религиозного к себе отношения, в то время как кинематограф обходится без этого.
Театр — это храм, храм, куда никогда не заглядывает солнце. Работать приходится при слабом освещении, в полнейшей, благоговейной тишине; текст соблюдается до последней запятой и подается, по возможности, с нажимом, потому что все — в слове. Это нелегко. Зато в театре складывается семейная атмосфера, котор
|
|
Андре Тешине:«Я снимаю каждую сцену, как короткометражку» |
![]()
 |
| Андре Тешине. Фото Пьера Понтье |
Когда я стал ходить в кино, я был не способен отличать хорошие фильмы от плохих. Я был в таком безусловном восторге от увиденного, что не мог судить объективно. Все те картины, что я смотрел тогда, я бы сам мечтал поставить. Именно из этого восторга выросло постепенно то, что называется желанием снимать кино. Лишь позднее я начал оценивать фильмы с точки зрения их эстетики. Вспоминаю первый, который меня разочаровал. Это был фильм Андре Кайатта «Правосудие свершилось». Не могу вспомнить, что мне так не понравилось, но с этой минуты я понял, что кино тоже способно вызвать разочарование. Я жил тогда в провинции и читал журнал «Кайе дю синема», который был для меня Евангелием. То, что там печаталось, я считал истиной в последней инстанции, и это сыграло большую роль в моих первых шагах на режиссерском поприще. Потом я приехал учиться в Париж, и у меня стали возникать странные споры с другими киноманами. В те времена такие дискуссии велись постоянно — сегодня этой традиции, похоже, больше не существует. Это были настоящие идеологические битвы о роли и назначении киноискусства. Мое кредо было и осталось: кино является средством «заглянуть за закрытую дверь». Позднее я примкнул к группе актеров, среди которых были Бюль Ожье, Пьер Клименти, Жан-Пьер Кальфон… Они меня завораживали. Личность актеров весьма интриговала меня, и общение с ними определило более физическое, чувственное, даже плотское отношение в моем подходе к кино. Оно позволило мне развиваться и освободиться от чисто теоретических абстракций, которые до тех пор мешали моему непосредственному восприятию экранного зрелища.
Снимать так же трудно, как писать
 |
| «Алис и Мартин» |
Больше всего мне нравится в кино коллективизм творчества. И даже его несколько «армейский» характер. Что бы то ни было, но, снимая фильм, следует — как на войне — всегда двигаться вперед: выбора нет. Способность свободно оценивать сделанное тут возникает куда реже, чем когда пишешь, ибо процесс съемок фильма быстро превращается в спринтерскую гонку, в борьбу со временем. Огромные средства, которые отпущены на производство, давят на меня, становятся своего рода мотором. Оказавшись наедине с чистым листом бумаги, я ощущаю себя потерянным. Писание — это труд в одиночку, предполагающий мужество и дисциплину, которыми я не обладаю. Хотя у меня всегда полно идей относительно интриги и характеров героев, я не способен один написать сценарий. Мне нужен соавтор, который бы вносил критическую струю и высказывал мнение, противоположное моему. Мне нужны споры — как в юности, мне нужен взгляд со стороны. Хотя я довольно жестко отношусь к своей работе, я предпочитаю сотрудничать с человеком, который всегда «против», чем с тем, кто мне подпевает. Несогласие меня стимулирует и не позволяет повторять ошибки первого фильма, сценарий которого я написал один и который был удивительно примитивен.
У каждой
сцены — свой смысл
Я подхожу к фильму, как к путешествию, и использую все происшествия, случившиеся в пути, чтобы придать жизненность картине. Для этого нужно быть открытым по отношению к жизни, открытым времени. Снимая ту или другую сцену, я не думаю о той, которая ей предшествовала или которая за ней последует. Я снимаю каждую сцену, как совершенно независимую и автономную короткометражку: делаю все так, чтобы она представляла самостоятельную ценность, независимо от сценарного замысла и драматургии в целом. Это хорошо видно в моей картине «Далеко», и даже в «Затерянных», которые выстроены предельно просто, я стремился придать свежесть всем сценам, чтобы каждая несла на себе максимум нового.
 |
| «Воры» |
Начиная съемки, я совершенно не способен заглянуть вперед, понять, на что будет похожа готовая картина — да и не пытаюсь: для меня бы это означало, что она станет точной иллюстрацией сценария, а я совсем иначе смотрю на кино. Всякий раз, снимая, я пытаюсь поставить под сомнение то, что было уже сделано. Многое я уточняю в последний момент и не боюсь проявить неуважение к своему сценарию. Мне даже кажется, что моя работа режиссера имеет смысл лишь в той мере, в какой третирует сценарий, дабы вытянуть из него живую материю. Это не значит, что не существует сценарных проблем. Они существуют, но как второстепенные.
План-сцена как инструмент
Приступая к работе над фильмом, режиссер берет на себя ответственность за его сюжет. За историю. Я не верю в спонтанность, в полную импровизационность — есть традиции, правила и законы кино, и надо уметь ими пользоваться. И отвечать за все. Когда находишься внутри съемочного процесса, все становится очень конкретным. Даже на теоретические вопросы следует отвечать очень конкретно. Для меня зависит все от энергетики. Как я смогу направить в нужное русло энергию людей на съемочной площадке? Как сделать так, чтобы было поменьше потерь? И еще: как сделать, чтобы эта энергия была зафиксирована и увидена камерой? Мне кажется, что тут-то как раз и зарыта собака.
На съемочной площадке я начинаю с того, что работаю с актерами. Без этого я не могу определить кадр, вставить в него персонажей. Я не даю артистам полную свободу, а следую точно выверенной мизансцене, вплоть до жестов и взглядов. И только потом, когда все отрегулировано, я решаю, куда поместить камеру, чтобы зафиксировать энергию сцены, чтобы сделать зримыми те отношения, которые возникают между исполнителями. Я не снимаю много дублей, ибо с того момента, как мы добились от актеров того, что должна поймать камера, я не могу требовать от них вновь и вновь играть одну и ту же сцену и пробовать разные ракурсы и состояния. Поэтому я снимаю сцены одним планом. Это не продиктовано какими-то эстетическими соображениями. Наоборот, я считаю, что они часто выглядят излишне тщательными, риторическими. Прибегаю я к этому средству исключительно от неспособности найти тот момент, когда актера можно остановить. Я просто не знаю, где сказать «стоп», когда актеры играют длинную, полную эмоций сцену. Тогда я снимаю все одним планом. Но чем длиннее сцена, тем труднее актеру довести ее должным образом до конца. А так как это занимает много времени, то нет возможности начинать все сызнова. Проблема в том, чтобы план-сцена не превратился в метод, систему. Чтобы освободиться, я начинаю снимать двумя камерами. У меня получаются два плана-сцены, и это позволяет потом с большей легкостью монтировать. Таким образом, я становлюсь в меньшей степени жертвой исключительно одного угла зрения. Но я не умею манипулировать актерами в разных направлениях, использовать человеческую материю лишь для того, чтобы нагромождать планы. Мне кажется, что при таком подходе артисты превращаются в марионеток, а мне это не нравится. Отношения между актерами построены на мельчайших, неуловимых вещах. Именно их-то мне и хочется зафиксировать. Таким образом, план-сцена представляется инструментом, а не декоративным принципом.
 |
| «Повернуть время вспять» |
Встреча актера с ролью
Отбирая актеров, я добиваюсь, чтобы между исполнителем и ролью возникла связь. Именно она дает короткое замыкание. Но над этим надо трудиться, поскольку не бывает, я думаю, идеального актера на определенную роль. Не бывает, что называется, абсолютного попадания. Однако случаются и аберрации в процессе выбора актеров, и они могут принести поразительные, совершенно неожиданные результаты. Правда, следует проявлять осторожность, сто раз подумать: можно допустить в работе над картиной любую ошибку, но только не в выборе актера на роль. Актерский талант имеет границы, он не бесконечен. Существуют актеры, которые делают одно и то же. Есть актеры и актрисы, которые своей игрой всегда стремятся вызвать жалость у зрителя. Есть и такие, которые стали пленниками своего мастерства. Поэтому я имею обыкновение брать либо опытных артистов, либо дебютантов, обладающих определенной свежестью. Что касается игры актеров как таковой, могу признаться, что у меня ушло много времени на то, чтобы разгадать ее секреты.
Когда я начал работать с актерами, я занимал оборонительную позицию, так как не все понимал и с чем-то не мог справиться. Первый фильм, на котором я почувствовал себя нормально, был «Отель двух Америк». До этого моя оборонительная система заключалась в том, чтобы блокировать актеров, мешать им переигрывать, но бороться с тем, что называют «органичностью», «естественностью»: в то время я вообще всячески боролся с естественностью во французском кино. Я придумал собственный подход к игре актера, свою систему для того, чтобы ими управлять. Но я думаю, что в результате почти превратил их в предметы, так что в моих ранних фильмах — до «Отеля двух Америк» — игра актеров меня не устраивает. Но на «Отеле» что-то случилось, вероятно, это связано с моей встречей с Катрин Денёв и тем контактом, который возник между нами. С тех пор я больше не стремлюсь победить, побороть актеров. Конечно, я определяю им их место на площадке, но оставляю им свободу. Я даю исполнителям время, чтобы они почувствовали себя удобно и сами обрели пределы нужной им свободы. Только тогда и может вспыхнуть искра, которую мы все ждем, стоя у камеры.
Монтаж как возрождение сценария
 |
| «Свидание» |
Я оставляю себе максимум свободы при монтаже. Именно тогда происходит склейка кусочков сценария, о котором мы совершенно забыли на съемке. Именно тогда возникает желание как можно лучше рассказать историю. Закончив очередную картину, я всегда бываю удивлен полученным результатом. Обычно — приятно удивлен. Но были фильмы, которые меня разочаровывали, и я был расстроен. Так в фильме «Алиса и Мартен» мне не удалось хорошо рассказать историю. Сюжет остался непонятным. На съемке, как всегда, я был увлечен лишь теми сценами, которые я снимаю — одну за другой, — каждую, как законченный короткий фильм. Это привело к тому, что я потерял нить сюжета. Поскольку я снимаю много планов-сцен, можно предположить, что в монтаже мне просто. Так действительно было одно время. На съемки «Отеля» приехали телевизионщики — делать репортаж — и сняли один план с другой точки, взяли не тот ракурс, который я сам выбрал для сцены. Я нашел этот альтернативный план интересным, а потом постепенно, начиная с картины «Мое любимое время года», пришел к тому, чтобы экспериментировать, снимая с разных точек. Для этого понадобились две камеры. Первая фиксирует главное, а другая — вспомогательное. Но этот двойственный угол зрения сделал монтаж более сложным и длительным процессом.
Мне нужен зритель
Мой первый фильм «Полина уходит» шумно провалился. Я понял тогда, что то, что меня интересует, не обязательно интересно другим и что мне надлежит построить между мной и зрителем мост. Я не представляю себе, что можно снимать картину только для себя, хотя именно я задумал ее и всякий раз именно мои режиссерские замыслы становятся поводом для фильма. При написании сценария и во время съемок я работаю на себя. При монтаже все меняется. Я начинаю делать фильм для зрителя. Я чувствую себя несчастным, когда фильм не трогает зрителя. И наоборот, когда он имеет успех, я совершенно счастлив. Я не могу ощущать, что никак не связан со зрителем, не могу пренебрегать им. Зритель — мой партнер, он необходим, чтобы придать моей работе смысл.
Интервью записал Лоран Тирар
Перевод с французского А. Брагинского
|
|
Андрей Кончаловский: «Мы оказались очень разными» |
Беседу ведет Олексий-Нестор Науменко
Олексий-Нестор Науменко. Говорят, Тарковский был очень прилежным студентом. В чем это выражалось?
Андрей Кончаловский. Я не знал его как студента. Мы оба учились у Михаила Ильича Ромма, но в разных группах: он окончил предыдущий курс мастера.
О. Науменко. Студенческие работы Тарковского видели?
А. Кончаловский. У него во ВГИКе были слабые работы. Я обратил на него внимание, когда он монтировал экскаваторы под музыку Гленна Миллера. Я шел по коридору, услышал из монтажной музыку и подумал: «Кто это там американские мелодии ставит?» Захожу и вижу: сидит лохматый парень, а по экрану ползут экскаваторы. Думаю: «Что за бред?!» Он тогда работал с режиссером Александром Гордоном, это была их совместная курсовая работа, 1961 год. Таково мое первое воспоминание о Тарковском. А потом мы как-то сошлись, даже не помню, как… Абсолютно не помню, как он впервые очутился у меня дома. Я был бы рад, если б кто-нибудь напомнил мне об этом.
О. Науменко. То есть Тарковский ничем не выделялся среди других студентов?
А. Кончаловский. В институте каждый занимался своим делом — все работали, и каждый был увлечен своей собственной кухней: у Андрея и его сокурсников была кухня дипломников и преддипломников, а у нас — кухня первоклашек. И общения между нашими курсами не было. Я только помню, что мы с Тарковским однажды решили работать вместе и сели писать сценарий для его диплома. Он назывался «Антарктида — далекая страна». Этот сценарий до сих пор лежит у меня в архиве. Он не был поставлен. Тогда мы уже много времени проводили у меня дома. Помню, сильно мучились: сценарий долго не получался, мы делали огромное количество поправок. Это была история антарктической экспедиции, тема предательства, измены долгу… Андрей хотел запустить картину на «Ленфильме» — была такая возможность. Мы дали сценарий Козинцеву. Он прочитал и сказал: «Молодые люди, тут нет никакой драматургии, никакого действия — все стоит. Слабый сценарий» Мы очень расстроились, даже разозлились, ведь нам казалось, что там как раз много действия: тракторы идут по льду, проваливаются в трещины… Но мы просто не поняли, о чем говорил Козинцев. Так Андрей не попал на «Ленфильм», и мы стали писать «Каток и скрипку».
Тарковский часто оставался у нас, условия были хорошие: у меня была своя комната, стоял рояль — в начале 60-х это было редкостью. Он спал у меня на самой обычной советской раскладушке: зеленая ткань на пружинках, до него на ней спал пианист Коля Капустин, потом композитор Слава Овчинников… Она вообще не простаивала «без дела»: засиживались все допоздна, и кто-то постоянно оставался — куда ехать в три часа ночи? Правда, Тарковский уже тогда был женат на Ирме Рауш…
О. Науменко. За что обожали Тарковского, а за что не любили?
А. Кончаловский. Обожать его начали, когда он стал культовым режиссером. Но когда мы дружили, ничего подобного не было.
О. Науменко. Но были же режиссеры — например, Илья Авербах с «Ленфильма», — которые очень хотели подружиться с ним.
А. Кончаловский. Я только и знал, что где-то существовал такой режиссер Илья Авербах, похожий на Бельмондо. Он был выпускником режиссерских курсов, а мы вгиковцы — элита! Конечно, мы были снобами, и у нас была своя тесная компания — Тарковский, Шпаликов, Урбанский, Овчинников. Гена Шпаликов иногда приводил Гурченко, которая пела нам под гитару… Потом Тарковский стал отходить от нас: сначала в его жизни появился Гастев — хороший критик, замечательный искусствовед, который написал книгу о Делакруа, а затем и Артур Макаров — племянник Тамары Макаровой, который внес много негативного в жизнь Андрея. Макаров, коротко стриженный боксер со сломанным носом, драчун, беспредельщик, — воплощение русского ницшеанства: водка, женщины… Он был журналист и сценарист, писал рассказы… Трагически погиб: проиграл огромные деньги, и его убили. Но это было уже значительно позже… А я был маменькин сынок, и мне неприятно было наблюдать за тем, что происходит с Андреем. Тогда мы совсем разошлись, пошли разными путями.
О. Науменко. В то время уже существовало словосочетание «культ Тарковского»?
 |
| "Андрей Рублев" |
А. Кончаловский. Источником экзальтированного обожания и культа была Лариса — вторая жена Андрея. Собственно говоря, она нас и поссорила. Андрей был под ее абсолютным влиянием, а она говорила: «Кончаловский тебе завидует…» Что значит «завидует»? Мы были друзья, партнеры!
О. Науменко. Вы были вполне откровенны друг с другом?
А. Кончаловский. Конечно. Я довольно часто говорил, что мне в нем не нравится.
О. Науменко. Конкурентами были?
А. Кончаловский. Конкуренция между художниками есть всегда. Но мы не боксеры на ринге, и конкуренция сводилась к диалогу наших картин: дискуссия шла через наши фильмы. Тарковский утверждал, что надо самовыражаться, а я говорил, что надо самовыражаться так, чтоб и другие понимали. Тогда же я написал статью о корове: она тоже самовыражается, но никто не понимает, о чем она мычит.
О. Науменко. С чего, собственно, начался культ Тарковского?
А. Кончаловский. После «Иванова детства» у Андрея возник ореол гения, но культа еще не было. Фильм получил главный приз Венецианского фестиваля. Картина была совсем не советской, и это стало открытием: вернулось поэтическое кино, даже сюрреализм — вещи, которые режиссеры предыдущего поколения не в состоянии были сделать ни идеологически, ни эстетически. Тогда же Тарковский «вошел в моду». А потом запретили «Андрея Рублева». Мы оба были «запрещенные» режиссеры, значит, звезды (у меня запретили «Асю Клячину»). Мы ходили в героях, ведь тогда запрет считался признаком качества.
О. Науменко. Как Тарковский чувствовал себя в этом «амплуа»?
А. Кончаловский. Было бы преувеличением говорить о культовости Тарковского при жизни. Время все меняет, и миф Тарковского сформировался уже после его смерти. В жизни он был талантливым режиссером, который, как и все мы, пил водку, любил женщин… Мы думали, что мы талантливее других, нам казалось, что мы знаем что-то такое, чего другие не знают, — как кино снимать, потому что смотрели картины, которые другие режиссеры не очень-то понимали. Мы пересмотрели всего Куросаву, всего Брессона, Бергмана, Феллини и Бунюэля. Михаил Ильич Ромм учил нас не режиссуре, а профессии. Но в художественном смысле мы учились у этих пяти гениев. На Тарковском тоже лежала печать гениальности, но я не могу сказать, что он был гением. Он шел стык в стык за Бергманом, за Брессоном. Я думаю, что его лучшие картины были созданы тогда, когда он еще не был «Тарковским». Когда же он стал искать свой стиль, нашел его и стиль этот, похожий на сновидение, стал уникальным, то он потерял искренность, стал манерничать, делать «фильмы Тарковского». Тогда же Бергман сказал, что Тарковский стал повторяться. А по-моему, надо сжигать мосты: настоящий талант не повторяет себя.
О. Науменко. В чем, по-вашему, самый большой талант Тарковского?
А. Кончаловский. Его самый большой талант заключается в отчаянной смелости: Андрей перешагнул все линии и границы. Но я помню премьеру «Зеркала» и тот скепсис, с которым мы покидали зал. Гастев тогда произнес фразу Андре Жида: «Когда художник освобождается от всех оков, его искусство становится прибежищем химер». Тарковский пошел по этому пути, и его картины, по-моему, перестали жить чувством — они стали умозрительными: попадают в мозг, а не в душу. Конечно, он был безумно талантлив. Но когда он решил, что в искусстве нет места чувствам…
О. Науменко. То есть он это провозгласил?
 |
| "Иваново детство" |
А. Кончаловский. Да, он так и сказал: «Чувства, души быть не должно — должен быть дух!» Они вдвоем с Занусси раскопали эту католическую идею, отвергающую сенсуальность, душу и приветствующую только дух. Тарковский из-за этого потерял самые важные свои качества, те, что были присущи Бергману, Феллини, Бунюэлю: все они чувствовали! Бергман, будучи протестантом, чувствен до упора, даже эротичен. А Тарковский сознательно ушел от этого и стал искать себя — вместо того чтобы искать истину.
О. Науменко. Но для того чтобы изменить свое творчество, надо измениться самому. Как Тарковский пытался преодолеть свои страсти?
А. Кончаловский. Не знаю. Мы разошлись и к тому времени перестали общаться. Ему стало казаться, что я работаю в КГБ…
О. Науменко. Что?
А. Кончаловский. Мы встретились с ним в Канне накануне его эмиграции. Перед моим выездом из Москвы директор «Мосфильма» Сизов попросил меня поговорить с Тарковским: у Сизова было поручение от Андропова вернуть Тарковского домой. «Мы выдадим ему красный загранпаспорт. Мы не можем допустить, чтобы советский человек остался за границей с синим паспортом, и мы ему это простили, — передал он слова Андропова. — У нас четыреста тысяч советских служащих с синими паспортами. Представляете, что может произойти?» Такие люди становились невозвращенцами и врагами народа. Андропов лично обещал выпустить Тарковского после обмена паспорта. Мы сидели с Андреем на террасе. Я говорю: «Андрей, все уже знают, что ты решил. Чего тебе бояться? Дай пресс-конференцию и скажи о том, что Андропов обещает тебя выпустить. Ничего тебе не будет — ты же не атомную бомбу изобрел!» А он посмотрел на меня и спрашивает: «Тебя кто подослал?» Тут же Володя Максимов — наш общий приятель, диссидент, — говорит: «Сейчас я забираю Тарковского, и мы увозим его в Рим». Я схватился за голову: «Что будет?!» Володя увез его. В Риме они дали пресс-конференцию, на которой Тарковский сказал, что в Союзе он страдал и мучался и поэтому остается на Западе. Это была страшная вещь, которая, я считаю, укоротила ему жизнь.
О. Науменко. Тогда он еще не был болен?
А. Кончаловский. Нет. Но он стал параноиком — очень боялся, что КГБ его выкрадет… Конечно, такие случаи бывали — пытались же украсть Нуриева, но ведь это было на пятнадцать лет раньше! А в 1982 году Андропов стал генсеком, и это уже было предвестием перестройки: не было бы Андропова, Горбачеву ничего не удалось бы сделать. У нас с Тарковским были общие друзья, которые работали у Андропова в ЦК. Это были либеральные, прогрессивные, пьющие — нормальные — люди, говорящие на нескольких языках, циники, рассуждавшие о еврокоммунизме. По ним я и судил об Андропове. Если бы он сейчас руководил страной, думаю, мы жили бы лучше^; он понимал, что в России нельзя давать слишком много свободы. Андропов сильно переживал, когда Андрей остался на Западе. Я думаю, что если бы не я, а, например, Коля Шишлин, работавший тогда в ЦК, пошел бы к нему и сказал: «Андрей, возвращайся — я гарантирую тебе безопасность!» — Тарковский поверил бы. А обо мне он подумал, как о тайном агенте.
О. Науменко. Наверняка вы обсуждали с Тарковским не только конкретные работы, но и свое место в кинематографическом пространстве. Что он искал своими фильмами? Или, как Феллини, избавлялся от груза личного опыта?
А. Кончаловский. Это все теории. А теория и практика у художника нередко расходятся. Феллини прежде всего ловил кайф от того, что делал. А освобождение от груза личного опыта относится, скорее, к творчеству Бергмана: швед, протестант, с детства обделенный любовью, Бергман искал выход с помощью кино. У Феллини был тоже сложный личный опыт, но он, подобно клоуну, был человеком солнечным, мистификатором, хулиганом и бабником, и его, в отличие от Бергмана, не мучили кошмары. Но оба эти художника были людьми в высшей степени искренними, и стремление передать чувства, а не мысли у обоих очень сильно. Андрей тоже начинал с этого, когда находился под влиянием Ламориса, а затем Куросавы. «Семь самураев» мы смотрели раз сто, прежде чем сделать «Рублева». Позднее на горизонте появился Бергман: у меня он сказался в «Дяде Ване». «Солярис» был явным ответом Кубрику: мы оба обалдели, посмотрев «Космическую одиссею». Тогда у Андрея родилась идея снять что-нибудь на космическую тему. Но что можно было сделать в то время в России? Тем не менее он изумительно вышел из положения. Тогда он еще не стремился «заморочить» зрителя.
О. Науменко. Он явно попытался сделать это в «Зеркале»?
 |
| «Солярис» |
А. Кончаловский. Да, притом совершенно сознательно. Сцены, взятые из разных мест сценария, он хотел сложить в какую-то систему видения, но они не складывались. Посмотрев рабочий материал, я сказал ему, что картина распадается на фрагменты. «А я сейчас все перемешаю: переставлю все эпизоды, и уже никто ничего не поймет!» — сказал он и хитро улыбнулся. Я ответил: «Да ты авантюрист!»
О. Науменко. Что-то в духе Шёнберга, который провозглашал слушателя акустической массой?
А. Кончаловский. Пренебрежение к зрителю было всегда. Помню знаменитую фразу Годара: «Если картина имеет успех, значит, публика ее не поняла».
О. Науменко. Вы стояли на тех же позициях?
А. Кончаловский. Тогда — да. Впрочем, я всегда снимал картины, которые нравились прежде всего мне самому.
О. Науменко. Маргарита Терехова сказала, что Тарковский ясен. Олег Янковский — что Тарковский загадочен. А как считаете вы?
А. Кончаловский. Я не могу быть категоричным. Это был человек, с которым я дружил… При этом мы были соперниками, и не только в кино. Думаю, что первоначально раскол между нами произошел из-за того, что мы были соперниками в отношениях с женщинами, а тут у меня получалось лучше, чем у Андрея. Первая трещина появилась еще в Венеции, но я об этом узнал гораздо позднее — из книги Валентины Малявиной: она стояла между нами. Андрей был влюблен в нее, а я нагло ее отбивал.
О. Науменко. И не догадывались, чем это может обернуться?
А. Кончаловский. Нет, совсем… Ведь после этого мы вместе писали «Рублева», думали о совместной работе над «Солярисом»… Мне очень хотелось продолжить наше сотрудничество, но Андрей пошел туда, где я был беспомощен, и к тому же там мне было неинтересно: он стремился в некую загадочность, а для меня важны чувственные вещи, я предлагал напряженную структуру.
О. Науменко. Тарковский каким-то образом повлиял на ваше мировоззрение?
А. Кончаловский. Нет. Мы оказались очень разными: учились у одного мастера, на обоих влияли одни и те же художники, но друг на друга мы не повлияли. Это все равно что один вырос березой, а другой дубом, так почему береза должна становиться дубом, а дуб — березой? Я признаю Андрея как огромного художника, но его творчество мне не близко.
|
|
Беата Тышкевич . Не всё на продажу |
 |
| Каруся была очень маленькой |
Одно путешествие всегда отличается от другого. Все зависит от того, в какой период жизни мы в него отправляемся, с кем и куда. В поездку мы не едем прос-то так, мы отправляемся за приключением.
Больше всего я люблю ездить с какой-то определенной целью, чтобы быть занятой, пребывать среди людей, которые живут интенсивно и работают много. Мои поездки, как разные этапы жизни, тоже помечены фильмами.
Ехать куда-нибудь без конкретной цели — все равно что идти на прогулку.
А само слово «прогулка» вызывает у меня протест. Я, например, всегда мечтала увидеть Индию по-своему, одна, а не с группой туристов. И эта моя мечта сбылась самым неожиданным образом…
Сергей Михалков взял меня на меховую фабрику, где выделывали наиблагороднейшие виды соболя. Единственный раз в жизни я была участницей мистерии приобретения такого прекрасного меха. На фабрике дули в пушистые шкурки поверх волоса и под волос, пропускали через специальные машины, выгибающие их в разных направлениях, и все для того, чтобы удостоверить, что выбранный мех действительно самого высокого качества. Так я стала обладательницей прекрасных соболей. Я продала их в 1981 году, когда военное положение задержало меня в Париже.
Вскоре после Московского фестиваля, когда Кончаловский предложил мне сыграть Варвару Лаврецкую, я поехала на Каннский фестиваль. На изысканном приеме, который давали американцы на палубе авианосца, я разговорилась с импозантным господином преклонного возраста. Разговор, который велся по-французски, оказался настолько увлекательным, что я отказала Саше Дистелю, когда он пригласил меня на танец. Я тогда не предполагала, что эта встреча будет иметь продолжение… Когда предложение Андрона относительно моего участия в «Дворянском гнезде» казалось близким к реализации, выяснилось, что как иностранка я должна получить особое разрешение шефа кинематографии на право сыграть роль русской аристократки. Андрону уже обещали дать такое разрешение, но он попросил меня пойти с ним к этому шефу, которым был тогда Владимир Баскаков. Мы пошли. В мрачном здании в центре Москвы после неоднократного предъявления пропусков мы были приняты в огромном кабинете вице-министра. В глубине, за большим письменным столом я увидела моего симпатичного собеседника из Канна. «Никогда не забуду, как хорошо вы со мной разговаривали, не зная, кто я такой».
Съемки «Дворянского гнезда» продолжались довольно долго. Андрона заботила не столько фабула, сколько воспроизведение атмосферы жизни русской аристократии, гармонии человека с природой, поэтического настроения. Один из планов снимали при трех тысячах горящих свечей! В фильме я носила прекрасные туалеты и семейные драгоценности Натальи Кончаловской . До конца жизни я буду помнить сцену, в которой мне следовало расплакаться после обращенных ко мне слов моего экранного мужа Лаврецкого: «Ты никогда не будешь счастлива в России…»5
К сожалению, я не могла заставить себя расплакаться, несмотря на несколько попыток и советов Андрона, который понимал женщин, как ни один другой режиссер. Мы снимали и снимали… В конце концов Андрон попросил всех выйти из павильона, а когда мы остались одни, он со всей силой ударил меня по лицу. Я почувствовала, как от удара у меня закружилась голова. Я была возмущена и взбешена. Ни один мужчина не смеет меня ударить!
Я возвращаюсь в Варшаву… Все во мне бунтовало, когда я шла туманным парком в шлафроке из гардероба Варвары Лаврецкой. Андрон догнал меня, упал на колени, умоляя: «Вернись в павильон… Ты должна меня понять, если ты уедешь, я никогда себе этого не прощу».
Я вернулась на площадку заплаканная, с чувством страшной обиды.
Я очень долго не могла ему этого простить. Через много лет на кинофестивале в Риге я должна была вручать премию Андрону. Тогда я сказала, обращаясь к публике: «Вот мужчина, который весьма специфическим образом научил меня, как любить, смеяться и как плакать». Андрон молниеносно парировал: «Вот женщина, которую умыкнул у меня Анджей Вайда!»
Моей популярности в России способствовало также многократное участие в Московских кинофестивалях то в качестве гостя, то в качестве члена жюри, что было поводом для многочисленных интервью. Во время одного из них американский журналист попросил меня дать свою оценку фестивалю. Вместо прямого ответа, я рассказала, как выглядит сортировка фестивальных гостей по линии питания. В отдельном зале за занавесом едят американцы. В следующих залах питаются англичане, французы, итальянцы. Дальше так называемый «третий» мир, еще дальше люди из соцстран, то есть поляки, болгары, гэдээровцы, и в конце, в другом крыле ресторана, — русские…
 |
| Мы оба с Анджеем постоянно носили Карусю на руках |
В телепрограмме «Кинопанорама», которая шла непосредственно в эфир, ведущим был Алексей Каплер, когда-то жених дочери Сталина. Каплер спросил перед камерой, о чем я мечтаю. Наверное, он рассчитывал на ответ вроде: «Я хотела бы сыграть Клеопатру». Мой ответ привел его в полное замешательство. «Я мечтала бы изменить географическое положение Польши». «С какой целью?» — выдавил он со страхом. «Разумеется, из климатических соображений», — ответила я спокойно.
Тут же прервали передачу, она завершилась раньше обозначенного в программе времени.
Несколькими годами позже московское телевидение сделало часовую передачу о моем творчестве. Ее показали в день моего рождения. Меня об этом не предупредили. Я узнала, когда мне позвонил советский посол Юрий Кашлев, сообщивший, что планирует свой визит ко мне. Я была изумлена. Изумление мое возросло, когда он явился ко мне с поздравлениями, розами, шампанским и кассетой с этой программой, на упаковке которой было написано: «From Russia with love» — название одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Авторы передачи пригласили в студию людей, с которыми я работала над «Дворянским гнездом», — Андрона Кончаловского и Никиту Михалкова, Вячеслава Тихонова, с которым мы играли в картине «Европейская история» (имевшей, как тогда говорили, Всесоюзную премьеру, то есть одновременный показ в двух тысячах советских кинотеатров), Валерия Плотникова, с которым некогда нас объединяло глубокое чувство, и, конечно, для меня величайшего из великих актеров — Иннокентия Смоктуновского. Они рассказывали обо мне, о знакомстве со мной и немного о моих ролях. Я была тронута.
Иногда трудно описать, как популярны были в Советском Союзе польские артисты или певцы. Когда в Варшаву приехал Михаил Горбачев и в королевском Замке подписывал свою книгу, я подошла взять у него автограф. Стоявший рядом генерал Войцех Ярузельский представил меня: «Беата Тышкевич, наша знаменитая актриса…» «А мы считаем, что наша», — ответил Горбачев6.
Замыслы милее всего, они никогда не разочаровывают, не то что их воплощения…
Я не раз присутствовала при разработке кинопроектов, часто принимая в ней участие. В группе друзей, связанных с кино, часто возникают идеи будущих сценариев. Еще все можно изменить, иначе начать, придумать другой финал. Это как с отрезом ткани на платье, который лежит у нас в шкафу. Мы держим его годами, и каждую весну у нас возникает мысль использовать его. Хотя мы и не шьем это платье, а ощущение такое, что у нас оно уже готово. Когда портниха возьмется за дело, обязательно что-нибудь испортит, и мы уже не только не будем носить это платье, мы не будем знать, что с ним, собственно, теперь делать. Вот я и подумала: а нельзя ли о таких постоянно возникающих и изменяющихся замыслах сделать фильм?
Часто говорят: вот эта история очень кинематографическая, этот эпизод так и просится на экран… Как-то ранней весной, в ясный погожий день я шла с маленькой Каролиной по улице. На минутку мы остановились. В глубине погруженных в тень ворот старого дома, неприветливого, грязного и обшарпанного, сиял кусочек двора. В арке подворотни, как в рамке, виднелись фрагмент зеленого газона и дерево, освещенное золотым лучом солнца. «Посмотри, мама, — сказала Каролина, — совсем как в кино».
С Дельфин Сейриг, актрисой с красивым матовым голосом, известной по роли в фильме Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», мы говорили о сценарии, о том, что многое происходящее в жизни часто напоминает кино.
Польское консульство в Нью-Дели приглашало в связи с разными датами и мероприятиями местных знаменитостей, политиков, деловых людей, художников. Иногда показывали наши фильмы. На одну из таких встреч, устроенных консулом Анджеем Вуйциком, пришел известный индийский продюсер господин Тивари. В тот раз показывали «Сегодня ночью погибнет город», в котором я играла немку Магду. Его так покорил этот образ, что он возмечтал увидеть меня в роли… греческой принцессы красавицы Елены.
 |
| Фильм «Человек с бритой головой» в постановке Андре Дельво. Я в роли молодой Фран |
Он прилетел в Польшу, пригласил меня в Индию и предложил сыграть в фильме «Александр и Ханакая».
Это было очень неожиданное предложение, но я ужасно обрадовалась. Фильм, в котором мне предстояло выступить, рассказывал об истории войн Александра Македонского и о национальном герое Индии Ханакае, который жил каких-нибудь триста лет спустя… Уже это изумляло и интриговало. К тому же мой контракт, заключенный сроком на три месяца, обещал хорошие деньги. Я сразу же согласилась, ничто меня всерьез не держало в Варшаве, тогда у меня еще не было семьи, дома, детей. С Анджеем мы не состояли в браке, а мои съемки в «Пепле» подходили к концу. На горизонте маячило большое приключение.
«Не следует, — говаривала моя Мама, — равнодушно проходить мимо подвернувшегося шанса. Он может не повториться!»
Я должна была лететь в Дели в конце сентября 1965 года. Я предчувствовала, что это будет путешествие всей моей жизни, его предвкушение символизировал нарисованный на авиабилете маленький магараджа на ковре-самолете…
В Нью-Дели мы приземлились на рассвете. Неправдоподобно прекрасный восход солнца и красная пыль, поднятая самолетными двигателями. Одетые в развевающиеся сари женщины вырывали сорняки и бросали их в огромные корзины, которые потом несли на головах. С грацией танцовщиц они уклонялись от могучих волн воздуха, разгоняемых приземляющимся лайнером.
Я волновалась сразу обо всем: будут ли меня встречать, где меня поселят, справлюсь ли я, не зная английского, будут ли сдержаны обещания, данные в Польше? Разумеется, я знала, что в случае чего всегда могу обратиться в польское посольство.
Когда открылись двери самолета, на нас обрушился вал влажной жары.
В секунду все на мне стало мокрым, платье прилипло к телу. Нам объявили, что самолет сразу летит дальше и поэтому я должна идти в багажное отделение и отыскать там свой чемодан. Все происходило медленно, никто не спешил, никто не бегал, не повышал голос. А я по инерции продолжала торопиться. Прошло несколько недель, прежде чем я успокоилась и выровняла свой ритм жизни в соответствие со здешним.
В аэропорту меня ждал сам господин Тивари со свитой. В знак приветствия он украсил меня гирляндой из цветов туберозы и жасмина, после чего повез в город. Меня ожидали апартаменты в самом дорогом отеле «Тадж-Махал». Мне хотелось себя ущипнуть, так это было неправдоподобно великолепно!
Я еще никогда не видела такого богатства — мраморные мозаики, орнаменты, насыщенные цвета, сверкающие золотом и серебром детали, густые благовония. Всё как в сказке!
Из комнат открывался роскошный вид. Здесь было прохладно, кондиционер работал с полной нагрузкой. Я выключила его и открыла окна. Ворвался шум улицы, отличный от шума европейских городов. Тысячи наслаивающихся один на другой звуков, целые оркестры автомобильных клаксонов, которыми оснастили свои повозки рикши. Я устала после путешествия, от первых впечатлений и потому вскоре заснула.
Около пяти утра меня разбудил стук в дверь. Я открыла. В коридоре стоял человечек в высоком тюрбане, с огромным подносом и… пел: «Early morning tea! Early morning tea!»1 Он в буквальном смысле вплыл в номер, быстро позакрывал окна и включил кондиционер. Я почувствовала себя так, будто провинилась и мне сделали выговор: видимо, не следует открывать окна. Поставив поднос с чаем на стол, человечек, не переставая кланяться, исчез за дверью. Ну совсем как в сказке — опять показалось мне. На подносе стояли две чашки тонюсенького фарфора, чайник с душистым чаем и печенье. Вид этих двух чашек произвел неожиданный эффект: я вдруг почувствовала себя странно одинокой. У Анджея шли в Болгарии натурные съемки к «Пеплу». А я была от него так далеко, так страшно далеко…
 |
| А тут я в роли зрелой Фран в фильме «Человек с бритой головой» |
Итак, фильм, в котором мне предстояло участвовать, назывался «Александр и Ханакая». Его продолжительность планировалась на четыре часа экранного времени, что не редкость для индийского кино. За режиссуру взялся Анд Сантоши, он же одновременно был автором песен и музыки, играющей, как известно, в тамошних фильмах очень важную роль. В контракте предусматривалось, что я буду танцевать и петь, само собой — на хинди.
Я мало знала индийскую кинематографию, собственно, почти ничего, кроме того, что там снимают тысячу двести фильмов в год. Производство фильма продолжается от трех до… десяти лет. Каждый может стать продюсером. Многие смельчаки постоянно пробуют это осуществить. Процедура выглядит следующим образом: достаточно снять сцену, показать ее дистрибьюторам или прокатчикам, они могут вложить свои деньги в съемки следующей сцены. Потом две отснятые сцены показываются следующим дистрибьюторам. И так далее, пока не сложится вся картина. Индийское кино — это чистое развлечение. На сеансы, которые длятся по нескольку часов, индийцы приходят семьями. Кино — их национальная страсть. В Индии десять миллионов зрителей ходят в кинотеатры ежедневно.
В 20-е годы прошлого века господин Тивари был серебряным и золотым королем в штате Бомбей. Во всяком случае, так он о себе говорил. В 40-е годы все проиграл на бирже. От старых добрых времен остались у него два дома, две жены и старый белый «Мерседес». Он ходил в длинном — по колена — пиджаке-жакете с характерным стоячим воротником и широких шароварах, иногда надевал жилет. Зимой на приемы являлся в черном костюме, в остальное время года одевался в белое. На жакете были самые дорогие на свете пуговицы — из оправленных в платину бриллиантов! Было этих пуговиц ровным счетом одиннадцать. Он пытался убедить меня, что это самые дешевые пуговицы, потому что один комплект служит ему для всех жакетов, к тому же он может приспосабливать их и для жилетов.
Прошло три месяца со дня моего приезда, а у меня не было ни одного съемочного дня. Шла какая-то таинственная подготовка. Мне продлили контракт, объявили, что первый съемочный день состоится у меня 24 декабря, в день нашего сочельника.
Жара меня изматывала. Мы полетели в Бомбей, там находятся все крупные киностудии. Влажность воздуха здесь достигает 97 процентов. Я несколько раз побывала в польском консульстве, где познакомилась с советником по торговле Лешеком Ружанским, его женой и их дочкой Эвой, которой было тогда шестнадцать лет. Я предложила, чтобы свободно владеющая английским Эва стала моей переводчицей и секретарем, и попросила, чтобы нас переселили в отель, расположенный ближе к морю.
С Эвой мы поселились в двух удобных апартаментах в отеле «Сан & Сенд», расположенном в пятнадцати милях от Бомбея между аэродромом и городом, на прекрасном необозримо просторном золотистом пляже. Шум улицы сменился мягким рокотом океана. К отелю примыкал район вилл Юху-Бич. Здесь в роскошных домах обитала элита индийского кино: три знаменитых брата Капур, Чатен Ананд, Фероз и Аббас Хан и Мира Кумари. Кинематографисты в Индии — это очень состоятельное сообщество, они могут позволить себе ослепительную роскошь. В «Сан & Сенд» останавливался, приезжая на отдых, король Непала. Он был моим соседом. Хозяин гостиницы, грек, исполнял все наши пожелания. Специально для нас он пек кокосовое печенье и, несмотря на сухой закон, угощал нас шампанским. В этом отеле селились экипажи голландских авиалиний, поэтому у нас всегда были свежие голландские сыры, молоко и масло.
 |
| Андрон Кончаловский: «Если мне не повезет в кино, с голоду я не умру» |
Господин Тивари рассчитывал, что на индийском кинематографическом небосклоне я взойду звездой. С этой целью он дал в мое полное распоряжение американский лимузин «Импала» с шофером. Еще в Нью-Дели он устроил в мою честь прием на шестьсот персон. В саду около отеля соорудили огромные цветные шатры. В числе приглашенных были и польские гости, поэтому «Балатона»2 доставила мне типично польские кушанья: свиные колбаски, пикантные сосисочки, охотничьи колбаски, так называемые кабаносы, — это был организованный мною «польский стол». На «индийском столе» внимание привлекал рис, покрытый пластинками серебра высокой пробы, причем это серебро можно было есть, очень острое карри из разных сортов мяса, рыба, завернутая в таинственного происхождения листья, разнообразных вкусов чатни и очень сладкие десерты. Каково же было мое изумление, когда индусы, которым религия запрещает есть свинину, смели все польские деликатесы! С детской простотой они объясняли, что теперь будут молиться, потом совершат омовение в Ганге и таким образом очистятся от греха чревоугодия.
Старания господина Тивари имели отклик в польской прессе. Дотошный корреспондент в Голливуде Збигнев Роговский сообщал в «Пшекрое»: «Беата Тышкевич пребывает в Индии в течение нескольких недель. Здесь она снимается в фильме „Александр и Ханакая“. Говорят, что с целью сделать ей и фильму рекламу пани Беате предлагали выйти замуж за индийского миллионера, позже она могла бы с ним незамедлительно развестись. Наша актриса, однако, не воспользовалось такой пропозицией»…
Разумеется, все это было неправдой.
Похоже, я подвела господина Тивари и не стала звездой индийского кино. Я плохо себя чувствовала в Индии, меня травмировала окружающая нищета, смущало всеобщее заискивание, я не могла воздержаться от того, чтобы не заступиться за слуг, кормила бездомных собак… Такое поведение не к лицу звезде, в особенности в Индии, в обществе глубоко укорененной кастовости.
В то же время, что и я, в отеле «Сан & Сенд» жил сэр Ричард Аттенборо, который уже тогда собирал материал для фильма о Ганди, многими годами позже (в 1983 году) награжденного аж восемью «Оскарами». Мы говорили о Ганди и будущем фильме за общими ужинами. Сэр Ричард особое внимание обращал на низшую касту — «неприкасаемых», людям этой касты запрещено прикасаться ко всем, кто в эту касту не входит, и нельзя позволять, чтобы кто-нибудь вне касты прикасался к ним. Когда «неприкасаемый» просил воды, ему нельзя было дать стакан. Можно было только налить воду в его посуду.
У меня был личный слуга Джон, странное имя для индуса. Он обожал стирать мое белье. Мне было неловко, и я старалась опередить его в этом занятии. Мести или мыть пол Джон нанимал другого слугу. Он принадлежал к касте, которой запрещалось касаться всего, что лежит на полу. Однажды испортился кондиционер, и вода стала капать на пол. Я вызвала Джона, чтобы он навел порядок. Очень вежливо он поставил меня в известность, что его слуга уже ушел домой, а он не притрагивается к полу… Я вынуждена была взять купальные полотенца и собрать воду. С этого момента я полностью лишилась его уважения.
 |
| Я в Париже, а в Польше военное положение |
Нечто подобное произошло и с приставленной к нам господином Тивари персональной охраной. Это были двое мужчин могучего телосложения, которые должны были обеспечивать в отеле нашу безопасность. В Индии в ту пору был сухой закон, в отеле требовалась специальная книжечка, на основании которой разрешалось получить месячный лимит алкоголя: одну бутылку виски или шестнадцать бутылок пива либо определенное количество коктейлей (нашим любимым был «Том Коллинз»). Естественно, мы с Эвой не могли поглотить такое количество выпивки, и наши стражи напивались за наш счет.
В течение нескольких дней они редко показывались, а когда показывались, то изнывали от скуки. Спустя пару недель и вовсе исчезли.
Меня приводили в отчаяние дети-попрошайки. Чтобы выпросить деньги, люди в Индии стараются возбудить к себе сочувствие. С этой целью они ходят по горящим углям, ступают по торчащим острием кверху гвоздям, старики ложатся на землю и кладут себе на грудь огромные камни… На пляже отеля выступала семья, показывавшая сцену, от которой кровь стыла в жилах: высоко, как только у них получалось, они подбрасывали вверх младенца или привязывали его к очень длинной палке, а потом размахивали ею в разные стороны… Эти выступления были их борьбой за выживание. В Индии человек не бунтует против своей нищеты, он благодарит судьбу за то, что она вообще дала ему возможность существовать.
В течение восемнадцати месяцев моего пребывания в этой стране мне не случилось самой открыть входные двери, они всегда распахивались передо мной, как и двери лифта, потому что всегда кто-то их услужливо открывал.
То же и в ресторане: швейцары всегда были готовы услужить тебе. В вестибюле отеля нас ожидал нанятый господином Тивари мальчик, в обязанности которого входило взять у нас покупки и отнести их в номера.
Когда, возвращаясь из Индии, я оказалась в Париже, я не могла избавиться от впечатления, что все на меня натыкаются, я ведь уже привыкла к тому, что прохожие должны передо мной расступаться. Инстинктивно и автоматически я останавливалась перед входом в ресторан, ожидая, что кто-то распахнет передо мной дверь.
На рождественские праздники ко мне в Бомбей прилетел Анджей с настоящей маленькой елочкой, украшенной игрушками и сладостями. В день сочельника мы рано пришли на киностудию, где, согласно уверениям господина Тивари, наконец должны были начаться съемки сцен с моим участием. Мы увидели такой огромный павильон, что его трудно было даже охватить глазом. Но павильон был пустой — без осветительных приборов, без камер. Посреди стояла козетка принцессы, невероятно пышная. И всё. В течение нескольких часов вообще ничего не происходило. Измученный ожиданием Анджей, способный спать в любых условиях, заснул на нарядной козетке.
Я пошла туда, где, по моим расчетам, располагались помещения костюмерных и гримерные. Там мне подали соленую пахту, популярный прохладительный напиток, богатый белком и кальцием, а потом начали красить, причесывать и одевать в платье, искусно расшитое сотнями жемчужинок, само собой разумеется, ненастоящих. Реализму здесь не придавалось ни малейшего значения. Несмотря на то что рядом были естественные сады, поразительные по своей красоте, мы играли в декорации, построенной для нужд картины, в придуманной зелени, абсолютно искусственной. Только животные были настоящие — леопарды и слоны. Жара стояла такая, что один из слонов потерял сознание. Сцена выглядела трагикомично: вокруг гигантского животного бегали, хлопотали, его обливали ведрами холодной воды, но рядом со слоном ведро больше походило на наперсток…
Через несколько минут я вернулась в основной павильон. Анджей продолжал дремать на козетке, а в центре портные сшивали гирлянды из настоящих цветов туберозы и гвоздики. Ими оплели все помещение. Я была очарована сказочно разноцветной и душистой декорацией, однако заметила, что от чересчур сильного света красиво собранные цветы быстро вянут, о чем сказала господину Тивари. «Через два часа будет новая декорация», — спокойно, с улыбкой заметил он.
Как все индусы, господин Тивари не ведал спешки и нетерпеливости.
В Индии все имеет свое время, время это находится в соответствии с высшим предназначением, на которое земное существо не имеет ни малейшего влияния. Поэтому, наверное, никого не удивляло, что в историческом фильме могут встретиться Александр Великий и Ханакая, которые в действительности жили в разные эпохи.
На самом деле в съемочном павильоне ничего не происходило, пока не появился Предиб Кумар, один из самых знаменитых артистов индийского кино, звезда первой величины. Его время стоило очень дорого. За ним ходили двое слуг. Один держал над его головой зонт, другой подавал попеременно то стаканчик виски, то пахту с различными добавками. Этот же слуга зажигал ему сигарету в длинном мундштуке. Делал он это по канону церемониала, содержащего, на мой посторонний взгляд, избыток униженной услужливости: сначала он сам затягивался дымом и только потом подавал сигарету своему господину.
Мне сказали, что Предиб Кумар очень востребованный актер: он играет одновременно в… семидесяти девяти фильмах! Он заезжал на съемки не более чем на два часа, чаще всего в костюме к другому фильму. Костюма он не менял принципиально, потому что был свято убежден, что публика поймет, кого она видит на экране. Я не могла этого взять в толк и потому чувствовала себя как бы заблудившейся.
Как-то я сказала о своей растерянности Мине Кумари, великой индийской актрисе, тоже участвовавшей в «Александре и Ханакае», на что услышала ее совет: «Если ты плохо себя чувствуешь, выпей утром натощак смесь растертых в порошок жемчужины, маленького изумруда и сапфира, растворенных в полстакане молока. Это минеральные соли, которые лучше всего усваиваются и которых наверняка не хватает твоему организму». Скорее всего, она прочла на моем лице удивление, смешанное с беспомощностью, потому что спросила о моем гонораре. Когда услышала, какой суммой он выражен, рассмеялась и спросила: «А почему ты не велела платить тебе бриллиантами? Они ведь трактуются только как подарок от продюсера и не облагаются налогом».
Время проходило в прогулках по пляжу, купании в море, объедании и хождении по магазинам. Но работа над фильмом не продвигалась. За многие месяцы у меня было только одиннадцать съемочных дней, которые составляли лишь 20 процентов моего рабочего графика. Я решила возвращаться в Польшу. Продюсер хотел, чтобы я осталась и лучше всего — навсегда. Он намеревался выкупить для меня у французов шикарную виллу. А я скучала по Анджею, по Маме…
«Ну что же, — сказал господин Тивари. — Нечего делать. Закончит за тебя кто-нибудь другой. Ведь все равно все знают эту историю. Тут никого не удивишь».
Меня такое заявление поразило, но я была довольна, что возвращаюсь в Варшаву. За восемнадцать месяцев я начала понимать образ мыслей индусов, так отличающийся от нашего. Этот фильм я никогда не видела…
Вскоре по возвращении из Индии я сыграла главную роль в поэтическом, визионерском фильме «Человек с бритой головой», которым дебютировал фламандец Анри Дельво, ныне принадлежащий к ведущим режиссерам Европы.
С исключительно одаренным филологом, юристом, композитором, пианистом и кинематографистом Анри Дельво я познакомилась в 1964 году, когда он приехал в Варшаву, чтобы собрать материал для телевизионного документального сериала Le cinйma polonais. Благодаря Анджею Скавине, тогдашнему директору «Фильма Польского», я оказалась среди тех, кто должен был говорить о польском кино. Это была трудная задача. Я опасалась выглядеть претенциозно, я ведь была очень молода и неопытна, а мне приходилось говорить о достижениях художников старшего поколения, обладающих несравненно бульшим опытом. Я предложила, чтобы меня снимали с Андре прогуливающейся по Краковскому Предместью, где всегда можно встретить кого-нибудь из известных людей искусства. И так, двигаясь от Замковой площади до гостиницы «Бристоль», мы непринужденно беседовали о польском кинематографе, а по дороге встретили Хенрика Томашевского и Янка Леницу3. Благодаря этим действительно случайным встречам наша беседа получилась живой и правдивой.
В результате этой прогулки я получила предложение сыграть в первом игровом фильме Дельво, экранизации написанной по-фламандски книги Иохана Десне «Вева». Завязалась долгая и приятная переписка с Андре. Из писем я узнавала содержание картины в подробностях. Фабулу составляло увлечение профессора женской гимназии одной из учениц по имени Фран. Через много лет, когда Фран уже была известной актрисой и женой одного из столпов местного общества, они встретились вновь, и профессор отважился признаться ей в своей давней любви. Она была несчастлива в замужестве, будущее ее пугало, и она попросила влюбленного в нее профессора убить ее. Он исполнил ее пожелание и с чувством вины на много лет пошел в психиатрическое заведение. Когда он вышел, оказалось, что его любимая Фран… жива. Значит, то, что произошло, было сном? Игрой воображения? Кошмарной действительностью? Фильм не дает ответа на эти вопросы.
Мне понравилась такая игра воображения, это было новое задание для меня как актрисы; в одном фильме я должна была сыграть две роли — гимназистки и зрелой женщины. Я полетела в Брюссель.
Съемки проходили в Брюгге, городке, как из сказки: всюду каналы, через них перекинуты игрушечные мостики. Зелень парков, отражающаяся на водной глади, давала отблески в окнах старых домов по берегам каналов. В гостинице «Портинари» с большой террасой мы часами работали над диалогами. «Человек с бритой головой» был первым фильмом на фламандском языке.
Я должна была не только говорить, но и петь на этом языке, который считается одним из самых трудных в Европе.
Играть на чужом языке всегда нелегко, даже и тогда, когда им неплохо владеешь. Если бы не то обстоятельство, что группа была французская, я бы вообще не понимала, о чем вокруг говорят, что хотят сказать мне, в особенности в первые дни. Диалоги я учила так же, как учат песенки. Для макияжа я использовала опыт, полученный в Индии. Внутреннюю, нижнюю линию глаз я подводила черной линией, что дает ясность и выразительность взгляда. С этой целью я использовала каял. Чтобы его получить, надо подержать блюдечко над горящей восковой свечой. Полученная сажа и есть каял. В Индии он служит для лечебных целей, им протирают, как бы очищают глаза.
«Человек с бритой головой» был для меня очень важным фильмом, очень неординарным. Многие зрители и критики это оценили. Я приобрела новый опыт. Кроме того, я заработала тысячу долларов, которые целиком потратила на новый зеленый MG 1100. Столько он тогда стоил по заводской цене. Для польских дорог у него слишком низкий корпус — между ним и покрытием шоссе было всего двенадцать сантиметров. Ну а поскольку я все еще не имела водительских прав, за рулем машины сидел Анджей.
В каждом новом фильме в чужой стране я играю на языке этой страны, работаю с людьми, которых не знаю, там все для меня новое, я испытываю какие-то новые эмоции: как все здесь будет происходить? Что из этого выйдет?
Только в Советский Союз я ехала без колебаний и страхов. «Наша пани Беата», — говорили там обо мне. Андрей Кончаловский добавлял: «У нас тебя обожают».
А Кеша Смоктуновский, этот величайший из великих, актер-ангел с невероятной харизмой, считал, что когда я появляюсь на экране, зритель влюбляется не столько в меня, сколько в мою душу. Кеша вспоминал, что когда в первый раз я появилась в Москве и пришла в театр на спектакль, в котором он был занят, а он узнал, что я в зале, несмотря на то что до этого мы не были знакомы, он почувствовал, что сердце у него как-то по-особому забилось. Такое приятно слышать.
Подобное обожание имело своим источником среди прочего и то обстоятельство, что в Советском Союзе долгие годы не показывали западные фильмы. Для советских зрителей самым западным было польское кино, потому что Польша, как говорил Иосиф Бродский, стала для русских окном в Европу и в мир. Польские фильмы служили для них свидетельством времени, которое они знали только из книг классиков и представляли образ мира, до которого они имели строго ограниченный доступ. Например, «Все на продажу» советские зрители воспринимали как авангардистское произведение, такое польское «8 ?». После выхода картины на советские экраны в стране спонтанно возникали клубы ее любителей.
На волне этой популярности Андрей Кончаловский предложил мне роль Варвары Лаврецкой в «Дворянском гнезде». Это выглядело невероятно, все равно как если бы у нас пригласили русскую актрису сыграть, скажем, Оленьку Биллевичувну4. Однако моя работа была хорошо принята. Один из советских критиков даже написал: «Русская по крови, парижанка по призванию, помещица по положению, кокотка по темпераменту. Русская, заблудившаяся в Европе…»
С Андреем Кончаловским я познакомилась в Москве на кинофестивале. Его мать Наталья Петровна Михалкова, урожденная Кончаловская, была дочерью известного русского художника Петра Кончаловского, женщина выдающаяся, поэтесса, литературный переводчик (кстати, ей принадлежит перевод на русский песен Эдит Пиаф). Отец Сергей Михалков — баснописец, поэт, сорок лет стоял во главе Союза советских писателей, автор текста для обоих гимнов Советского Союза и России. Своего рода рекорд Гиннесса. У Натальи и Сергея Михалковых двое сыновей: Андрей, старше меня на год, мать звала его Андроном, он носит ее фамилию, и младший Никита, которому как будто дали имя в честь Никиты Хрущева.
У Михалковых дом на Николиной Горе, в тщательно охраняемом дачном поселке в тридцати километрах от Москвы, построенном в 1932 году. Убежище для людей из высших правительственных сфер. Однажды вечером меня отвез туда Сергей Михалков, с ним я тоже познакомилась во время Московского фестиваля. Позже каждый раз, когда я гостила в Москве, я бывала на Николиной Горе, где с семьей Михалковых у меня очень скоро сложились настолько сердечные отношения, что к Наталье Петровне я много лет обращалась не иначе как «мама». Дом расположен в лесу. Красивый, старый, с газонами, как в романах Тургенева или пьесах Чехова. Вблизи протекает речка. Я не хотела в ней купаться, поэтому меня называли «выродочек». На Николиной Горе все имеет более насыщенный цвет и аромат. Здесь происходил настоящий марафон невероятных разговоров и бесед. Мы рассказывали друг другу фрагменты фильмов, которые задумывались, соревновались друг с другом в замыслах, а я благодаря этому брала замечательные уроки русского языка.
В доме Михалковых я познакомилась с Андреем Тарковским, автором «Иванова детства». Он работал с Кончаловским над сценарием «Андрея Рублева». Там часто бывали Валерий Плотников, прекрасный фотограф и фотохудожник, самородок, Коля Двигубский, автор костюмов к фильмам Кончаловского (позже он делал костюмы для «Бориса Годунова» Анджея Жулавского), генералы, с которыми Михалковы играли в теннис: Александр Микулин, авиаконструктор, и Михаил Мильштейн, асс контрразведки.
Наталья Петровна вела дом в старом стиле. На столе всегда урчал самовар. На пасхальные праздники запекали баранью ногу и делали пасху. Вкус этой пасхи я никогда даже не пробовала повторить. Тайна кроется в твороге, который в течение двадцати часов растирала со сливками и сахаром домашняя работница Поля. Комната Натальи Петровны была завешана клетками с певчими птицами. Она обладала не только литературным талантом, она умела прекрасно шить и любила это занятие. Во время очередного пребывания я любовалась на то, как она шила и вышивала платье для молодой жены Андрона, красавицы танцовщицы Натальи Аринбасаровой, которую Андрон похитил из Алма-Аты для своего первого фильма. Однако прежде чем Наталья Петровна закончила платье, ее старший сын привел к ней знакомиться новую жену… Андрон не был верным мужем. Он любил порывистой русской любовью.
Когда мы с ним познакомились, он уже окончил факультет режиссуры во ВГИКе. До этого он учился в консерватории по классу фортепиано. Этот фантастический человек и обворожительный мужчина, исключительный знаток женщин, всегда имел безумные замыслы и обладал равным количеством как достоинств, так и недостатков. Мы симпатизировали друг другу. Как-то он решил продать концертный рояль, чтобы пригласить меня на роскошный ужин. В доме его родителей я появилась как раз в тот момент, когда несколько богатырей выносили инструмент. Он обязательно хотел одарить меня кольцом с жемчужиной. Презентовал мне чашку в форме цветка магнолии, сделанную на старой мануфактуре Кузнецова. Она так прекрасна, что я ею не пользуюсь. В ней спит зачарованное время, романтическая славянская любовь. Я таю чувства Андрона глубоко в своем сердце и по сей день храню большой пакет прекрасных писем, фотографий и волшебных воспоминаний.
Сергей Михалков взял меня на меховую фабрику, где выделывали наиблагороднейшие виды соболя. Единственный раз в жизни я была участницей мистерии приобретения такого прекрасного меха. На фабрике дули в пушистые шкурки поверх волоса и под волос, пропускали через специальные машины, выгибающие их в разных направлениях, и все для того, чтобы удостоверить, что выбранный мех действительно самого высокого качества. Так я стала обладательницей прекрасных соболей. Я продала их в 1981 году, когда военное положение задержало меня в Париже.
Вскоре после Московского фестиваля, когда Кончаловский предложил мне сыграть Варвару Лаврецкую, я поехала на Каннский фестиваль. На изысканном приеме, который давали американцы на палубе авианосца, я разговорилась с импозантным господином преклонного возраста. Разговор, который велся по-французски, оказался настолько увлекательным, что я отказала Саше Дистелю, когда он пригласил меня на танец. Я тогда не предполагала, что эта встреча будет иметь продолжение… Когда предложение Андрона относительно моего участия в «Дворянском гнезде» казалось близким к реализации, выяснилось, что как иностранка я должна получить особое разрешение шефа кинематографии на право сыграть роль русской аристократки. Андрону уже обещали дать такое разрешение, но он попросил меня пойти с ним к этому шефу, которым был тогда Владимир Баскаков. Мы пошли. В мрачном здании в центре Москвы после неоднократного предъявления пропусков мы были приняты в огромном кабинете вице-министра. В глубине, за большим письменным столом я увидела моего симпатичного собеседника из Канна. «Никогда не забуду, как хорошо вы со мной разговаривали, не зная, кто я такой».
Съемки «Дворянского гнезда» продолжались довольно долго. Андрона заботила не столько фабула, сколько воспроизведение атмосферы жизни русской аристократии, гармонии человека с природой, поэтического настроения. Один из планов снимали при трех тысячах горящих свечей! В фильме я носила прекрасные туалеты и семейные драгоценности Натальи Кончаловской . До конца жизни я буду помнить сцену, в которой мне следовало расплакаться после обращенных ко мне слов моего экранного мужа Лаврецкого: «Ты никогда не будешь счастлива в России…»5
К сожалению, я не могла заставить себя расплакаться, несмотря на несколько попыток и советов Андрона, который понимал женщин, как ни один другой режиссер. Мы снимали и снимали… В конце концов Андрон попросил всех выйти из павильона, а когда мы остались одни, он со всей силой ударил меня по лицу. Я почувствовала, как от удара у меня закружилась голова. Я была возмущена и взбешена. Ни один мужчина не смеет меня ударить!
Я возвращаюсь в Варшаву… Все во мне бунтовало, когда я шла туманным парком в шлафроке из гардероба Варвары Лаврецкой. Андрон догнал меня, упал на колени, умоляя: «Вернись в павильон… Ты должна меня понять, если ты уедешь, я никогда себе этого не прощу».
Я вернулась на площадку заплаканная, с чувством страшной обиды.
Я очень долго не могла ему этого простить. Через много лет на кинофестивале в Риге я должна была вручать премию Андрону. Тогда я сказала, обращаясь к публике: «Вот мужчина, который весьма специфическим образом научил меня, как любить, смеяться и как плакать». Андрон молниеносно парировал: «Вот женщина, которую умыкнул у меня Анджей Вайда!»
Моей популярности в России способствовало также многократное участие в Московских кинофестивалях то в качестве гостя, то в качестве члена жюри, что было поводом для многочисленных интервью. Во время одного из них американский журналист попросил меня дать свою оценку фестивалю. Вместо прямого ответа, я рассказала, как выглядит сортировка фестивальных гостей по линии питания. В отдельном зале за занавесом едят американцы. В следующих залах питаются англичане, французы, итальянцы. Дальше так называемый «третий» мир, еще дальше люди из соцстран, то есть поляки, болгары, гэдээровцы, и в конце, в другом крыле ресторана, — русские…
В телепрограмме «Кинопанорама», которая шла непосредственно в эфир, ведущим был Алексей Каплер, когда-то жених дочери Сталина. Каплер спросил перед камерой, о чем я мечтаю. Наверное, он рассчитывал на ответ вроде: «Я хотела бы сыграть Клеопатру». Мой ответ привел его в полное замешательство. «Я мечтала бы изменить географическое положение Польши». «С какой целью?» — выдавил он со страхом. «Разумеется, из климатических соображений», — ответила я спокойно.
Тут же прервали передачу, она завершилась раньше обозначенного в программе времени.
Несколькими годами позже московское телевидение сделало часовую передачу о моем творчестве. Ее показали в день моего рождения. Меня об этом не предупредили. Я узнала, когда мне позвонил советский посол Юрий Кашлев, сообщивший, что планирует свой визит ко мне. Я была изумлена. Изумление мое возросло, когда он явился ко мне с поздравлениями, розами, шампанским и кассетой с этой программой, на упаковке которой было написано: «From Russia with love» — название одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Авторы передачи пригласили в студию людей, с которыми я работала над «Дворянским гнездом», — Андрона Кончаловского и Никиту Михалкова, Вячеслава Тихонова, с которым мы играли в картине «Европейская история» (имевшей, как тогда говорили, Всесоюзную премьеру, то есть одновременный показ в двух тысячах советских кинотеатров), Валерия Плотникова, с которым некогда нас объединяло глубокое чувство, и, конечно, для меня величайшего из великих актеров — Иннокентия Смоктуновского. Они рассказывали обо мне, о знакомстве со мной и немного о моих ролях. Я была тронута.
Иногда трудно описать, как популярны были в Советском Союзе польские артисты или певцы. Когда в Варшаву приехал Михаил Горбачев и в королевском Замке подписывал свою книгу, я подошла взять у него автограф. Стоявший рядом генерал Войцех Ярузельский представил меня: «Беата Тышкевич, наша знаменитая актриса…» «А мы считаем, что наша», — ответил Горбачев6.
Замыслы милее всего, они никогда не разочаровывают, не то что их воплощения…
Я не раз присутствовала при разработке кинопроектов, часто принимая в ней участие. В группе друзей, связанных с кино, часто возникают идеи будущих сценариев. Еще все можно изменить, иначе начать, придумать другой финал. Это как с отрезом ткани на платье, который лежит у нас в шкафу. Мы держим его годами, и каждую весну у нас возникает мысль использовать его. Хотя мы и не шьем это платье, а ощущение такое, что у нас оно уже готово. Когда портниха возьмется за дело, обязательно что-нибудь испортит, и мы уже не только не будем носить это платье, мы не будем знать, что с ним, собственно, теперь делать. Вот я и подумала: а нельзя ли о таких постоянно возникающих и изменяющихся замыслах сделать фильм?
Часто говорят: вот эта история очень кинематографическая, этот эпизод так и просится на экран… Как-то ранней весной, в ясный погожий день я шла с маленькой Каролиной по улице. На минутку мы остановились. В глубине погруженных в тень ворот старого дома, неприветливого, грязного и обшарпанного, сиял кусочек двора. В арке подворотни, как в рамке, виднелись фрагмент зеленого газона и дерево, освещенное золотым лучом солнца. «Посмотри, мама, — сказала Каролина, — совсем как в кино».
С Дельфин Сейриг, актрисой с красивым матовым голосом, известной по роли в фильме Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», мы говорили о сценарии, о том, что многое происходящее в жизни часто напоминает кино.
Мы дали рабочее название своей картине «Жизнь как в кино». Дельфин рассказывала мне, как когда-то, сильно простуженная, чихающая и кашляющая, она возвращалась самолетом и, приземлившись в Орли, сразу побежала в аптеку купить аспирин. «О, как ваш голос похож на голос Дельфин Сейриг, кто-нибудь говорил вам об этом?» — спросила аптекарша.
Понятное дело, звезд, к тому же сильно простуженных, просто так на улице или в магазине не встретишь. Или такая сцена: актер Семи Фрей, бывший какое-то время мужем Брижит Бардо, а потом связанный с Дельфин, зашел на минутку в кафе. Неподалеку за столиком две дамы лихорадочно зашептали, кивая головой в его сторону: «Смотри, смотри, там пьет кофе Макс фон Сюдов!» Презрительно улыбаясь, Семи Фрей прислушивался к перешептыванию соседок: надо сильно постараться, чтобы перепутать его с Максом фон Сюдовом! Расплатился, встал… И что же? У него за спиной действительно сидел Макс фон Сюдов!
В кино правда и вымысел переплетаются на многих уровнях. Во время съемок во Франции американо-французского фильма «Бернадетта из Лурда», над которым работал режиссер Жан Деланнуа, я оказалась в Лурде. Известно, что этот городок — место, где св. Бернадетта излечивает больных и калек. Конец февраля — начало марта, в Пиренеях зима, в городке почти все закрыто, готовятся к летнему нашествию пилигримов, хозяева ремонтируют свои заведения — рестораны, бары, дискотеки, отели. Каждое из заведений названо по имени своего святого патрона. Например, «Дискотека у св. Франциска».
Стефан Гарсен, игравший мельника, и я в качестве мадам Пелассон, жительницы городка, в перерыве между съемками пошли прогуляться по Лурду и посетить св. Бернадетту. В парке, где в гроте стоит ее скульптурное изображение, мы были одни. Я не знала, во имя чего принести молитву, не знала и того, что Стефан был смертельно болен. Он считал, что заслужил свое несчастье, о чем позже сказал мне в Париже. Без конца курил и пил кофе, но ничего не ел, питался кофеином и дымом. Мы очень подружились. Мне хотелось чем-то занять его внимание, отвлечь от мысли о болезни. И я стала рассказывать ему сценарий, который написала жизнь. Но это уже другая история.
Главную роль четырнадцатилетней пастушки Бернадетты играла Сидни Пенни, американская актриса, похожая на Брук Шилдс, еще совсем девочка, но уже звезда, прославившаяся сериалом «Птицы колючих кустов». Она приехала с родителями, где бы мы ни снимали, в ее распоряжении был роскошный вагончик, из которого она практически не выходила. Она пребывала в изоляции ото всего, в том числе и от фильма. Сидни была воплощенное отрицание простой девушки с гор, которой могла бы явиться Богоматерь, наделившая ее даром врачевания и благодатью свершения чудес.
В массовке картины участвовала группка местных детей и среди них дублерша Сидни, пятнадцатилетняя девчушка по имени Мюриэль, родившаяся и выросшая в Лурде, на фоне его прекрасной природы. Мюриэль нянчила младших сестер и братьев, пасла овец, занималась хозяйством. Она заменяла Сидни на всех репетициях с участием статистов и эпизодических исполнителей, на нее осветители ставили свет. Эти пробы с участием скромной Мюриэль выглядели необыкновенно естественно, с участием же Сидни они были только эрзацем реальности.
Мюриэль не очень понимала, в чем ее роль. После окончания съемок режиссер спросил ее, что бы она хотела, чтобы он для нее сделал. Она ответила, что просит у него только автограф и мечтает, чтобы ее имя значилось на плакате к картине. Разумеется, Жан Деланнуа расписался, но вынужден был объяснить, что ее имени не будет на плакате, потому что никто не увидит ее в фильме, так как она заменяла Сидни только на репетициях, а на экране все увидят Сидни, а ее, Мюриэль, там не будет. «Как так не будет?» — Мюриэль не могла этого понять.
Я присутствовала при этом разговоре, у меня защемило сердце. Потом она подошла ко мне и попросила, чтобы и я расписалась ей на память. Я написала: «Мюриэль, которая была душой этого фильма».
Когда после многочасовых репетиций, ползая в ледяной воде и в снегу, мы начали снимать, до нас донеслись звуки выстрелов. Фильм снимался синхронно, одновременно с изображением записывался звук. Жан Деланнуа к тому времени был уже очень старым человеком, к тому же эта суперпостановка его сильно измотала, и, похоже, он уже был сыт кино по горло. А тут эти выстрелы. Он не выдержал и потребовал наказать охотников. Ему объяснили, что во-круг простираются частные владения и единственное, что можно сделать, это попросить владельцев воздержаться на несколько часов от стрельбы.
Я видела, что неподалеку, опершись о скалу, стояла Мюриэль. Она всматривалась в небо, где кружили птицы, цель охотничьих выстрелов, в этот момент она в самом деле выглядела, как скромная святая. Я подумала, что именно эта сцена должна бы войти в фильм. Мюриэль замечает над собой подстреленную птицу, с тревогой простирает к небу руки, и тогда случается первое чудо. Птица обретает равновесие и спокойно взмывает в облака. Только никто этого не видит. Лишь она, живущая в согласии с Матерью Божьей, которое даруется только святым. Мюриэль растеряна, но она знает, что это знак Божий. Потому что святые ходят среди нас, но мы не умеем их замечать. Сегодня я едва могу вспомнить Сидни, она сыграла весьма посредственно, но Мюриэль навсегда осталась в моей памяти.
Жизнь часто сама пишет сценарии, так богатые событиями и характерами, что с ними порой трудно сравниться сочинениям писателей, даже наделенных богатым воображением. Достаточно посмотреть на судьбы наших близких и друзей, чтобы открыть в них живых героев неснятых фильмов.
Так жизнь диктует мне сценарий о моем детстве, детстве моих детей, моих встречах с братом, о судьбе моей Мамы, характерной для всего ее поколения. Счастливое оттого, что выжило в войне, после ее окончания оно уже ни на что не сетовало, даже на саму эту искореженную жизнь — личную, профессиональную, эмоциональную. Я это только записываю. Меня тянет рассказать наши истории по-своему. Я и мысли не держу, чтобы как-то реализовать эти «сценарии», я хочу только понять, описать самой себе, что происходит со мною и моими близкими. В номере гостиницы у меня нет домашних обязанностей. И я сажусь за стол и пишу…
Наступает момент, когда я чувствую, что больше не могу дышать тем же воздухом…
Брак с Витеком Ожеховским получился ненастоящим, у нас были совсем разные взгляды на жизнь. И настал день, когда я его попросту больше не хотела видеть…
В это время в Варшаву из Франции приехал человек, в которого я была так романтично влюблена в молодости, — архитектор Яцек Падлевский. Теперь это был взрослый мужчина, к тому же разведенный. Группка старых друзей собралась у Яцека Бликля. Япа провожал меня к такси и так был поглощен этим занятием, что споткнулся и взвыл от боли. Я отвезла его в травмопункт, там подтвердили перелом и наложили гипс. Он нуждался в опеке. Я переживала кризис в семейной жизни, у него тоже не удалась личная жизнь, он расстался с женой, с которой имел двух сыновей. Повеяло дыханием нашей, а точнее моей, первой любви…
Мы слабо представляли себе практическую сторону совместной жизни. Предполагалось, что любовь выдержит существование на расстоянии. Я играла в болгарском и немецком фильмах, постоянно разъезжала по миру в делегациях польских кинематографистов, но чтобы поехать к Яцеку, требовалось отдельное приглашение. Он много работал, иногда приезжал ко мне в Польшу, писал поэтичные и страстные письма, украшенные рисунками.
Мы попробовали. Решились жить вместе. Мне было тридцать восемь, Яцеку на месяц меньше. У нас родилась желанная доченька, мы зарегистрировали брак.
Когда появилась Виктория, Яцек был в Марселе. Вообще-то я всегда выглядела женщиной, которая должна рожать детей, но при появлении каждой из девочек возникали какие-то сложности.
Яцек приехал на два дня, когда мы уже были дома. Дома, то есть у моей Мамы в нашей квартире на Замковой площади. В этой квартире две комнаты, кухня, ванная, общий метраж 38 квадратных метров. Яцек прилетел как заграничный папа, в руках у него была корзинка в оборочках, чтобы носить в ней новорожденную. Наверное, в самолете он выглядел интригующе! Еще бы: детская колыбелька так молодит! Нам было уже по тридцать восемь лет, в этой квартире жила моя Мама, Каруся, пани
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Сергей Соловьев. Александр Абдулов |
 |
| Александр Абдулов |
И странная все же вещь — природа актера. Всеобщие любимцы, глашатаи судеб, чревовещатели сокрытой от глаз мудрости мира, вот, поди же, в какие-то там средние века их, к примеру, даже запрещали хоронить на кладбищах. Только за церковной оградой. Это за какие такие ужасные грехи? Хотя, иногда, если спокойно и несколько со стороны про все это подумать, действительно, закрадывается в душу легкая чертовщинка: зачем бы это взять и превратить свою единственную, настоящую, Богом и случаем данную жизнь в сырой и как бы неотесанный, подготовительный, что ли, материал для какого-то предполагаемого блистательного фантомного десятка (или даже сотни) других, выдуманных и, конечно же, вполне ненастоящих жизней? Что за странная жажда, нужда, потребность, необходимость — прожить их во множестве за срок одной?
Актеры, как и все мы, конечно же, бесконечно разнообразны и исключительно многолики. При этой верткости каботинных обличий роднит их и такая коренная черта — беззащитность. Наверное, объясняется это довольно прозаически, во всяком случае, практически. Они изначально зависимы. Эти другие их жизни-роли не с неба на них сваливаются. Роли им дают. Обычному человеку и в голову прийти не сможет вдруг всерьез попросить у кого-то себе другую жизнь. Как говорил Василий Макарович Шукшин, ни у кого из нас «билетика на другой сеанс не будет». У актера же главная его жизнь, в расчете на которую он и проживает свою условную, единственную, черновую, именно на каком-то там, только ему известном «другом сеансе»: ухитриться побыть и принцем, и нищим, и ангелом, и дьяволом. Отсюда, наверное, и образуется в самих их характерах странная, с трудом осознаваемая помесь надменности и смирения, великого нахальства запросто вести задушевные разговоры с миллионами незнакомых людей и столь же великой робости перед каким-нибудь занюханным театральным администратором, от которого, между прочим, зависит, не перепадет ли ему еще четвертинка чьей-то жизни.
 |
| Сергей Соловьев, Александр Абдулов |
И каждый из них, конечно же, понимает некоторую ненормальность своего положения, каждый пытается к ненормальности этой как-то приладиться, одолеть в чем-то, что ли, свой природный артистический недуг. Тогда одни из них вдруг с сумасшедшей страстью активно углубляются в книги, начиная слыть в нормальной жизни «интеллектуальными артистами», другие, наоборот, внезапно прекращают вообще что-либо читать, даже газеты и объявления, и начинают пить горькую, но и пьют как-то ненормально, страстно, самозабвенно, как-то даже не по-человечески. Третьи ударяются в денежные халтуры, вдруг стараясь сомнительным своим актерством на наивности и доверчивости неактерской части человечества зашибить немыслимую актерскую деньгу. Кто-то вдруг уходит не просто в религию, а норовит с той же немыслимой страстью прямо в схимники, в святые... Трудно, практически невозможно представить себе спокойную, уравновешенную, обдуманную актерскую судьбу. Во всяком случае, мне такие не встречались. Да и знакомился-то я с актерской профессией «не по учебникам», а в пучинах настоящих невыдуманных актерских судеб, где в большинстве своем актер был обыкновенно нищ, слегка пьяноват, любопытен, весел, грустен и старался до поры не интересоваться никакими другими текстами, кроме текстов своих ролей.
Я их люблю, я с ними провел жизнь. С такими, какие они есть, с такими, какие встретились мне в профессии. Женственные и мужественные одновременно, гордо-независимые, с постоянной, часто ненавидимой ими самими, потребностью похвалы, без которой внезапно они способны впасть в какую-то необъяснимую, иногда даже смертельную тоску.
 |
| «Леди Макбет Мценского уезда», режиссер Роман БалаянФото И.Гневашева |
Среди великого множества моих актерских привязанностей есть одна особенная, может быть, даже странная дружба. Я говорю о Саше Абдулове, удивительно многообразной и довольно сложной человеческой личности, которая в сердцевине своей может быть определена очень просто и ясно. Саша — чистой воды Актер. Он, мне кажется, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях, ни даже при каких-нибудь невиданных превращениях в другой жизни в какую-нибудь «козочку», скажем, в этой жизни все-таки не мог быть никем иным — только актером. Иное для него как-то даже, наверное, биологически невозможно. Правда, сейчас он владеет едва ли не десятком других профессий, владеет вполне уверенно, иногда даже виртуозно, но все это благодаря именно своей химически чистой актерской природе.
Отношения наши когда-то начались просто и без затей. Никакой «поэтической легенды» про то, как Саша, допустим, во времена свого босоногого детства и отрочества где-то в узбекской глубинке со слезами на глазах смотрел мои «Сто дней после детства» или я млел от внезапного душевного просветления, глядя, скажем, на его Медведя в «Обыкновенном чуде», рассказать, к сожалению ли, к счастью ли, не могу. Сашу ни с какого боку не интересовали пионерские муки и страсти, меня — превращение Медведя в хорошенького мальчика, каким тогда был Саша.
Познакомились мы в ресторане Дома кино, куда пришли вместе с Сашей Кайдановским, который к тому времени уже перестал быть коллегой Абдулова, сошел с ума на режиссуре и трансвестировался из актеров в мои студенты. Таким образом, мы с Кайдановским в тот вечер являли в некотором смысле даже некую благородную древнеримскую сцену — учитель с учеником разделяет чашу водки. За этим занятием мы некоторое время философски сидели вдвоем, однако, по каким-то неведомым канонам выпивания в Доме кино, вокруг нас вскорости образовалась довольно случайная компания, в которой был и малознакомый мне Саша Абдулов. С собой у Саши почему-то был торт, который он нес кому-то на день рождения и теперь, здесь же, у нас за столом, загодя хотел воткнуть в него свечки. Свечки ломались, кто-то предложил, тоже загодя, торт попробовать... И тут Саша, по до сих пор не выясненным мотивам, вероятнее всего, от избытка переполнявших его сумеречных чувств, вполне внезапно даже для себя взял и надел коробку от торта мне на голову.
Кайдановский, который пусть недавно, но уже окончательно простился с артистической непосредственностью, вдруг на глазах изумленной публики страшно побелел:
— Ты кому на голову коробку надел?
— Чего ты взъерепенился? — ласково отвечал Абдулов, очень даже по-товарищески. — Кому надо, тому и надел.
И для убедительности, наверное, откусил кусок торта, коробки с моей головы не снимая.
— Ты думаешь, что все такие же придурки, как ты? Два сапога — пара?
— Может быть, — с достоинством продолжал полемику Абдулов, — очень даже может быть. Именно, именно, два сапога и именно пара...
Кончилось тем, что Кайдановский сказал Абдулову, что если тот немедленно с моей головы коробку не снимет и не извинится, то он, Кайдановский, найдет способ, чтобы в отместку Абдулов немедленно и прилюдно съел бы шнурки с собственных ботинок. На что, помню, Абдулов с достоинством ответил, что это не составит ему ни малейшего труда, но с еще большим достоинством, уже обратившись ко мне, он сердечно добавил, что если меня чем-то, разумеется, сам того не желая, он обидел, то и я, в свою очередь, немедленно могу надеть ему на голову все что угодно и даже пользоваться этим сомнительным правом в любых обстоятельствах постоянно.
В течение скандала я тем не менее из-под коробки наблюдал, как разнообразны, подвижны, ртутны, неожиданны оценки, доводы и реакции Абдулова: именно в тот момент он мне и понравился как артист.
Чтобы светски завершить витиеватое это знакомство, Абдулов сказал мне, что отныне надеется на более частые наши свидания и вообще готов сняться у меня в какой-нибудь роли, в какой-нибудь картине, тем более что и раньше слышал обо мне много хорошего, и не только от Кайдановского.
 |
| «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», режиссер Сергей Соловьев |
Вот тут-то незаметно и подкатила к случаю «Черная роза». Уже когда я писал сценарий, твердо имел в виду пригласить на одну из главных ролей Сашу Абдулова. В первый съемочный день, разумеется, тоже «без всякого злого умысла», а исключительно в связи с дефицитом времени, я, не церемонясь, не рассуждая про «сквозное действие» и «зерно роли», довольно определенно предложил:
— Давай, Саша, ложись на пол, поднимай руки-ноги вверх и как ребенок верещи: «А-аа-ау, а-аа-ау, а-аа-ау!»...
Саша разобиделся чуть не до слез. Его обуяла актерская гордыня, которую, впрочем, вполне можно было понять. От волнения и негодования он внезапно перешел на «вы»:
— Что вы мне предлагаете? Чего это ради, ни с того ни с сего я стану задирать ноги? Я сейчас, между прочим, в «Гамлете» репетирую. Какое такое
«А-аа-ау, а-аа-ау»! Покажите мне это «Ау» в сценарии. И вообще, почему я должен валяться по полу?
— Саш, я тебя прошу, сделай все это быстро, хорошо и талантливо: если ты захочешь, ты сумеешь. Давай, Саша, правда. Совсем времени нет. Недолго пообдумывав что-то про себя, без всяких дополнительных объяснений Саша замечательно талантливо лег на пол и изумительно точно и смешно, болтая в воздухе ногами и руками, изобразил младенца. Все присутствовавшие на съемочной площадке не могли удержать смеха, а после команды «стоп» от души ему аплодировали. Первоначальный лед наших взаимоотношений на глазах растопился, я почувствовал, что с этого момента мы с обоюдным удовольствием вовлечены в одну и ту же совершенно дурацкую игру и чем в ней меньше будет каких-нибудь умных объяснений друг другу тех или иных ее правил, тем будет лучше.
В картине у Саши было несколько парных сцен с его товарищем по театру Сашей Збруевым. Вот тут я понял еще одну необыкновенно сильную сторону абдуловского артистизма. Абдулов — командный игрок. Может быть, даже именно в этом и заключается общая главная сила захаровских ленкомовских актеров. Являя каждый по себе очень сильную и талантливую индивидуальность, они способны не потерять ее в самозабвенной командной игре. Время идет, одни артисты взрослеют, стареют, кто-то уходит, приходят новые, в большинстве своем действительно талантливые, но театр, проверяя их индивидуальность на прочность, прежде всего проверяет их «командные способности». После чего новый артист и входит в труппу. Вот почему, я думаю, так долго держится «Ленком». Конечно, и там живые, ранимые люди, к тому же актеры: они могут друг на друга обидеться, даже возненавидеть, но свое командное достоинство сохраняют всегда. Эту свою превосходную марку театр держит безукоризненно.
 |
| Александр Абдулов на съемках фильма «Бременские музыканты». Фото И.Гневашева |
И в «Черной розе», выкладываясь до последнего, Саша особое артистическое удовольствие находил в том, чтобы классно сыграть на партнера. Мы все про это слышали в разговорах про футбол. Хорошему футболисту важно даже не столько именно самому забить гол, сколько видеть поле, уметь вовремя и точно передать пас на выигрыш. В команде «Черной розы» Саша был превосходным партнером не только своим старым опытным товарищам — Збруеву, Люсе Савельевой, но и впервые увиденным на площадке Тане Друбич, Саше Баширову, непрофессионалу Илюше Иванову, даже моей, тогда трехлетней, дочке Ане. Аня играла квартирного Ангела; естественно, перед съемкой страшно волновалась, говорила мне шепотом: «Я не боюсь, но отчего-то ладошки мокрые».
Свой первый кадр Аня «играла» в партнерстве с Абдуловым. Саша сказал ей перед съемкой: «Аня, ничего не бойся. Они сейчас, вот ты увидишь, сами удивятся, как мы с тобой все нормально сделаем...» И действительно, все сошло очень ладно. Саша для снятия напряжения во время съемки и для оживления внутренней жизни онемевшего от ужаса Ангела даже срочно изобрел ту самую, довольно знаменитую потом реплику, обращенную в картине к Ане: «Это ничего, что я куру?» В ответ Ангел неопределенно, но симпатично пожимал плечами.
Александр Абдулов — настоящая кинематографическая звезда. В том самом подлинном народном смысле, в каком были звездами Борис Андреев, Борис Бабочкин, Петр Алейников, Вячеслав Тихонов... И вообще, все старшее, уже звездное ленкомовское поколение — это, наверное, и есть последние звезды русского народного кинематографа. Абдулова, Янковского, Збруева, Инну Чурикову по-прежнему знают и любят все. На всех на них обычный массовый зритель переносит чувства, испытываемые к их героям. К этим артистам он по-прежнему относится как к близко знакомым, видя в них те же человеческие достоинства, что и в созданных ими характерах. В советском кино всегда было большим несчастьем играть злодея. У превосходного актера Глузского была, к примеру, испоганена всенародной ненавистью лучшая часть его жизни — долгие годы ему выпадало играть лишь злодеев. И только сыграв в «Монологе» добрейшего и благороднейшего профессора Сретенского, он стал обретать подлинную народную положительную любовь. А без этой «звездной системы», как называют это в Голливуде, не может существовать великий национальный кинематографический миф, способный даже заменить национальную идеологию, во всяком случае, надежно гарантировать единствонации.
Судьба Саши Абдулова сложилась так, что все в нашей стране его знают. Подавляющее большинство — не только знают, но и любят, как близкого, родного человека. Думаю, Саше приятно, когда незнакомые ему люди называют его по имени. Не слышал, чтобы где-нибудь, кроме как в милиции, его называли Александр Гаврилович. Саша тоже умеет просто, почти по-родственному, но и достойно общаться с малознакомыми и вообще незнакомыми людьми, поддерживая этот странный, но вполне благородный род некоего национального братства. А вот холуйского полупьяного панибратства Саша терпеть не может. В связи с чем иногда вдруг становится даже надменным. Но это редко. В особых случаях. Обычно же, следуя своему естеству, общается с людьми легко, раскованно, ненатужно, без стеснения и комплексов, получая удовольствие от своей популярности. Словно бы так и должно быть вечно, таким он родился и от рождения все, так уж почему-то получается, должны его любить и ему помогать.
Может быть, в связи и с этим тоже, количество дел, которыми каждодневно занимается Саша, непостижимо уму. Притом что снимается он одновременно в трех-четырех картинах и что на нем во многом держится репертуар «Ленкома», Саша умудряется делать еще и одну-две телепередачи в месяц и даже пробует активно заниматься кинорежиссурой. Все это словно бы и не занимает его времени. Всего этого ему мало.
 |
| «Бременские музыканты», режиссер Александр Абдулов. Фото И.Гневашева |
Во всей остальной жизни он ухитряется параллельно с профессиональными играть еще и глобальные роли во внетеатральной и внекинематографиче-ской общественной и государственной русской жизни. Некоторое количество лет он очень естественно и серьезно, с пользой для дела «играл роль» генерального директора Московского международного кинофестиваля. Эта роль, потребовавшая от него абсолютной правдивости, полного вживания в образ, умения быть собой в предлагаемых обстоятельствах, общаться и с суперзвездами мирового кино, и с президентом страны, и с ее премьер-министром, и с мэром Москвы, разговаривать с ними достойно, на равных, без унизительного шутовства, многому его научила. В частности, более холодному, серьезному и спокойному знанию людей, проявляющихся не с самой лучшей своей стороны. Много времени и сил мы с ним вместе потратили и на то, чтобы попытаться возродить в России систему кинопоказа, кинопроката. Для начала хотя бы в Москве. Здесь был у нас замечательный помощник и товарищ по этому начинанию — московский мэр. Юрий Михайлович Лужков, по моему наблюдению, кроме всех своих других человеческих и государственных качеств также еще и замечательный артист. Ему без артистизма жизнь скучна и уныла. Много раз я был единственным зрителем и свидетелем замечательного первоклассного актерского дуэта Лужков — Абдулов. Все начиналось официально. Поначалу один, вы все это многократно видели по телевизору, гениально играл роль мэра, другой довольно убедительно, во всяком случае, вполне сносно — роль генерального директора международного фестиваля. В рамках этого толково решалось большое количество деловых вопросов. Но самыми интересными были моменты перекуров, когда оба ненадолго сбрасывали маски — мэра и гендиректора, — и два нормальных, необыкновенно артистичных человека начинали рассказывать друг другу что-нибудь из области «как живешь». Часто происходило это уже не в кабинете, а в маленькой лужковской «закулисной комнатушке». Режиссерское удовольствие наблюдать это общение было большим. И вот, я думаю, почему.
Когда-то во ВГИКе Михаил Ильич Ромм, рассказывая о премудростях режиссуры, как бы между прочим сообщил нам и такое свое наблюдение над природой актерского мастерства. «Что такое — хороший актер, а что такое — плохой?» — несколько риторически вопрошал в пространство Ромм. — Вам на эту тему наплетут огромное количество теоретической никчемной чепухи. А на самом деле все очень просто. Вот сидит, скажем, перед вами человек и просто почесывает себе веко. И смотреть на это фантастически интересно. Это и есть — отличный актер. Это и есть — артистизм. А другой, скажем, с чрезвычайным нервным напряжением и крайним сосредоточением всех умственных сил читает вам Нагорную проповедь. А вам и слушать это, и смотреть на него почему-то совсем неинтересно. И даже смысл великих слов вы вообще улавливаете с трудом. Проще говоря — вам скучно. Вот это — актер плохой«.
Абдулов и Лужков «почесывают веки» первоклассно.
Абдулов переиграл чрезвычайно много. Почти все хорошо, редко — не очень. Часто — очень хорошо. Абдулов — профессиональный актер исключительно высокого класса. Но есть среди его ролей одна, меня совершенно сразившая, — в «Варваре и еретике» по «Игроку» Достоевского. Тут уже — не профессионализм. Этот счет — гамбургский. Похоже когда-то на всю жизнь сразил меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский в товстоноговском «Идиоте». Эта Сашина работа того же личностного масштаба, проникновенности, силы, красоты, внутренней сложности.
Во многих спектаклях параллельно участию в сценическом действии Саша успевает сделать еще тысячу дел. Уходя со сцены, допустим, со словами: «Я сейчас вернусь, только кофию выпью», уже через секунду, в паузе, за кулисами он успевает подписать пяток бумаг, отдать какие-то срочные распоряжения по разным другим внесценическим вопросам и снова вернуться на сцену, причем внешне совершено не утруждая себя «выхождением» из образа и обратным в него «вхождением». Так называемое перевоплощение словно бы и не составляет для него ни малейшего труда. «Варвар и еретик» — совсем другой в его сценической практике случай: в день спектакля в час дня он обязательно ложится спать, спит три-четыре часа, чтобы с пяти, постепенно отходя от сна, входить в мир Достоевского и к семи непременно быть в наилучшей форме, в абсолютной душевной сосредоточенности. Он играет два-три спектакля подряд и на это время исчезает из всех своих бесконечных жизненных ролей. Но это, повторяю, случай исключительный.
Саша — человек не простой для обыденного понимания. При внешнем оглушительном своем обаятельном «раздолбайстве» (тут он дает фору всем самым «раздолбайским раздолбаям» из своего цеха) и полном отсутствии какой бы то ни было обязательности по отношению к кому-либо или чему-либо ему бывает свойственна и неожиданная, очень четкая самодисциплина. В какие-то моменты, внезапно, он способен стать самым педантичным немцем. Возможно, и это тоже игра. Но игра, без сомнения, для дела полезная. Саша в жизни старается играть так, чтобы облегчить партнерам и зрителям и без того трудное их существование, если и в самом деле есть возможность помочь.
С удовольствием сообщаю, что не знаю ни одной его роли в жизни, где он выступил бы как злодей, негодяй, растлитель или просто даже как пассивно дурной человек. В жизни Александр Абдулов играет исключительно положительных героев.
В кино же любит играть разное. Да и вообще, в кино у него вовсе не ангельская репутация. Саша — оптимист и часто соглашается играть то или иное не потому, что ему понравилась роль в сценарии, а потому, что ему померещилось, как это хорошо можно будет сделать во время съемок. Во имя этого «хорошо» он готов бесконечно дружить и с режиссером, и с оператором, и со всей съемочной группой. Но если ему вдруг начинает казаться, что ни режиссер, ни оператор не понимают и даже не хотят сделать это конечное «хорошо», он становится невыносимым деспотом, капризной, самой что ни на есть взбалмошной кинозвездой: оговаривает немыслимые бытовые условия, требует завиральных гонораров. Но если он в режиссера ли, в сценарий ли по-настоящему душевно верит — готов сниматься в любых, самых тяжелых и некомфортных условиях, не получая даже вообще ничего.
После «Черной розы» Саша, кажется, поверил и мне.
В обыкновенной же жизни с утра до ночи Саша окружен десятками, сотнями людей. Записная книжка у него взбухла, перейдя все возможные пределы. Каждый сантиметр ее исписан во всех мыслимых направлениях. Я не знаю, с кем он только не знаком, каких только телефонов у него нет в этой, увы, недавно потерянной книжке. К кому в кабинет или в офис он не может открыть дверь, с кем не сумеет поговорить по делу и по душам? По моему наблюдению, таких людей нет.
И все это, как ни грустно, происходит, по-моему, при почти полном его человеческом одиночестве. Несмотря на всю Сашину сверхобщительность, близких людей у него совсем немного. Из совсем близких, так, чтобы через всю жизнь и до конца, может быть, только мама, брат... Еще жена Юля. Еще дочка Женя. Но даже и с ними, нежно им любимыми, тоже все совсем не просто. Мама иногда на него в обиде: ну почему это Саша вот такой везучий, а брат, который и старше, и не глупее?.. А правда, почему? И у Саши по этому поводу иногда возникает неловкое, но тягостное ощущение какой-то неясной собственной вины... За что? Кто знает. За дурное везение, что ли?..
Не раз наблюдал я и то, как кто-то нехорошо, корыстно пользуется Сашиной дружбой. И почти никогда Саша этого не замечает. Я, увы, вижу, но тоже предпочитаю молчать: не хочется лезть не в свои дела, да и понимаешь, что в сумерки вокруг лампы не бывает без мошкары. Это естественно. Хотя человек все-таки не лампа. Ему такое может быть обидно...
В последние годы среди бесчисленных Сашиных артистических ликов сформировался еще один, на сегодня, думаю, главный. Какое-то время назад Саша удивил меня рассказом о том, что зачем-то вдруг выкупил на личные деньги у «Ленкома» старый детский спектакль для утренников «Бременские музыканты». Тут же врубив на всю катушку одному ему известный рубильник, он со страшной энергией стал возить этот спектакль по городам и весям. Начал с Москвы. Потом — Питер. Прокатился по России. Потом, слышу, Киев, Азербайджан, Ереван, Белоруссия — все, как встарь, будто бы в СССР. Честно говоря, поначалу я подумал, что Саша просто нашел новую, вполне удачную и экономически зрелую форму «борьбы с нуждой» — так актеры называют многообразные типы своих халтур. По поводу приобретения «Бременских музыкантов» и Сашиной деятельности по внедрению их в сознание юного поколения реформенной России я даже дал ему кликуху Карабас-Барабас. Саша смеялся. Играть Карабаса-Барабаса ему определенно нравилось.
Однако следом за этой ролью мерещилась уже и другая. Саше давно уже, ох как хотелось, я это видел, сыграть и роль кинорежиссера. Роль, я-то уж знаю, действительно, впечатляющая, часто коронная. Саша не мог не видеть, с каким покоряющим талантом и поистине всенародным, а потом и всемирным эффектом перевоплотились в художественный образ кинорежиссеров великолепные до того актеры — Сергей Федорович Бондарчук и Никита Сергеевич Михалков. Когда он, в здравом уме и твердой памяти, а также и совершенно трезвый, сообщил мне, что намеревается дебютировать в кинорежиссуре, я не удивился. Но тут же был поражен тем, что для дебюта Саша выбрал тех же «Бременских музыкантов». Видя мои недоумевающие глаза, Саша, пытаясь объяснить замысел, стал почему-то пересказывать мне воображаемый фильм. Хорошо зная и сказку, и спектакль, и действительно замечательнейший мультфильм по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, поначалу я практически пропускал его рассказ мимо ушей. Но Саша продолжал, как написали бы в литературе XIX века, «одушевляясь все более и более и при этом размахивая руками». На некоторых моментах рассказа я даже против своей воли вдруг почему-то стал сосредоточиваться, и в голове вполне объемно нарисовались какие-то вполне определенные и, к моему удивлению, очень даже нетривиальные, живые и по-своему прелестные картины.
— А давай еще расскажи, дальше. Ты чего-то очень правильное рассказываешь! — наконец начал с интересом подстегивать его рассказ и я, что-то даже забормотал в порядке совета.
— Слушай, — сказал Саша, — я тебя прошу, сядь, напиши мне этот сценарий...
Долгое время это у меня не очень получалось. Месяца полтора вообще не мог написать ни строчки. Саша уже начал на меня тихо злиться, но ничего от этого не менялось. Тогда, отчаиваясь, Саша продолжал свои фантастические рассказы, вываливая передо мной огромное множество сцен, сценок, деталей, каких-то поначалу кажущихся незначительными подробностей характеров.
С тем же неистовством, с каким ему хотелось прожить тысячу артистических жизней за одну свою, теперь, казалось, вместо одного фильма он хочет снять сто пятьдесят. Среди этих обрушенных на меня в хаотическом беспорядке ста пятидесяти картин, самых разнообразных — талантливых и средних, блистательных, а иногда вдруг даже безвкусных, — в моей голове постепенно все четче и яснее вычленялась одна, вдруг начавшая казаться довольно милой и грациозной. Когда именно эту картину я стал досочинять и записывать, вдруг возникло необходимое чувство абсолютной неслучайности приходящего в голову. Показалось, что среди всего бедлама нашей сегодняшней жизни, да и вообще космологического бедлама конца прошлого века и начала нынешнего Саша со своими «Бременскими музыкантами» имеет шанс снять картину исключительно искреннюю, цельную, светлую, нежную. Про то, что лучше всего знает. Про то, каково быть на этом свете актером, про то, как актерство может преобразить унылый дисгармоничный мир в волшебную сказку, полную нешуточных душевных надежд. Можно даже сказать, что у Саши есть шанс снять своего рода актерское абдуловское «Зеркало», разумеется, совсем не похожее на великое «Зеркало» Тарковского. Совсем другое, но свое. Конечно, если хватило бы сил и самодисциплины снять картину «правильно», то есть вдохновенно и при этом профессионально.
Одна из главных, на мой взгляд, черт зрелой режиссерской профессии — жесткая и суровая самодисциплина. Если в актерском деле почти не контролируемый поток ничем не ограниченной фантазии — необходимый элемент профессии, хотя бы только для строгого отбора вариантов режиссурой, то в режиссуре такой вот бесконтрольный фантазийный фонтан бывает просто губительным и даже гибельным. Тут необходимо трудное искусство аскетического, строгого воплощения замысла.
Сами же «Бременские музыканты», повторюсь, — удивительно точно найденная Сашей в безбрежном море лукавых разнообразностей ясная притча, естественная, ему родная, для него природная сказка о прекрасности актерского труда, несмотря ни на что. О том, в конце концов, что это сомнительнейшее каботинское ремесло не то придурков, не то отверженных, которых, повторю, считалось негоже даже и хоронить по-людски, по-христиански на кладбище, вдруг способно сделать множество людей хоть на какое-то время счастливыми, примирить непримиримое и даже в какой-то мере способствовать совершенству столь несовершенного мира. Добрая, прозрачная, изысканная сказка о счастье быть актером в конце жестокого, временами даже кошмарного века, в надежде на новый свет, нового, вот сейчас на наших глазах нарождающегося века.
P. S. Саша умер 3 января нового 2008 года. 31 декабря мы виделись с ним в последний раз. Разговаривали исключительно о будущем: Саша рассказывал, как хочет ухитриться и вылечиться и доснять свою новую картину, которой был страшно увлечен. Все случилось по-другому — вы знаете. Похоронили его на Ваганьковском кладбище на центральной аллее неподалеку от Божьего храма. Провожали его многие тысячи людей, практически вся Москва.
|
|
Изабель Аджани . Точки над «i» |
Беседу ведет Мишель Ребишон
 |
| Изабель Аджани |
Мишель Ребишон. В вашей квартире полно чемоданов и картонных коробок...
Изабель Аджани. Да, их тут много. Дело в том, что я только что приехала из
Мишель Ребишон. Позволю себе нескромный вопрос: а чем вы занимались в
Изабель Аджани. Скажем... мне нужно было съездить куда-нибудь, чтобы понять, кто я есть на самом деле. (Смеется.) А если серьезно, пока я не могу об этом говорить.
Мишель Ребишон. В прессе писали, что вы будете сниматься в картине Маивенн Ле Беско «Бал актрис», но позже выяснилось, что вы покинули проект.
Изабель Аджани. Чувствую, что должна расставить точки над «i». Маивенн Ле Беско пришла в театр, где я играла в «Марии Стюарт», и с воодушевлением сообщила, что у нее есть для меня роль. Ее фильм «Прости меня» тогда только вышел. Я посмотрела его и убедилась, что имею дело с необыкновенно талантливым режиссером и актрисой. Позже мы еще не раз встречались, она предлагала мне роль в фильме, где мы с Аленом Делоном должны были играть самих себя. Сценарий был смелый, даже немного сумасшедший. Меня увлекла эта идея, но в последний момент Делон отказался. А без него проект не получился бы. У Маивенн был и другой сценарий — музыкальная комедия об актрисах, где все также должны были играть самих себя. Продюсеры требовали, чтобы я сразу объявила о своем согласии, еще до знакомства со сценарием и подписания контракта, а я этого терпеть не могу. В конце концов, ведь я не певица, все это нужно было обдумать. В итоге я согласилась, но при условии, что сначала узнаю имена других актрис, занятых в проекте. А потом я прочитала сценарий, и моя роль мне совсем не понравилась. Я считаю, зритель должен понимать, что актрисы в фильме играют самих себя, а в сценарии это было незаметно. Я отказалась, как и некоторые другие актрисы — Эмманюэль Беар, Матильда Май и Моника Беллуччи... Но мне кажется, мои роли сильно повлияли на Маивенн, на все ее творческое видение. Я ведь немного разбираюсь в психоанализе. (Смеется.) Определенно, она — настоящий режиссер.
Мишель Ребишон. Спасибо, что прояснили все детали.
Изабель Аджани. Пресса и зрители не могут знать истинные причины тех или иных поступков. Когда я принимаю решение, у меня есть на то серьезные основания, я руководствуюсь прежде всего творческими мотивами, а не
Мишель Ребишон. Да, но зрители так хотят видеть вас на экране...
Изабель Аджани. Знаю, знаю. Я огорчена своим отсутствием не меньше зрителей. Но пока мне приходится оставаться в тени.
Мишель Ребишон. А как обстоят дела с фильмом, который должен был снимать
Изабель Аджани. Мне понравился этот амбициозный проект, я его поддерживала. Это был сильный, хорошо продуманный триллер, но он требовал огромного бюджета. А продюсеры хотели снять его подешевле. Мне показалось, что
 |
| «Все огонь, все горит», режиссер Жан-Поль Раппено |
Мишель Ребишон. Вы, должно быть, догадываетесь, что такие случаи огорчают зрителя и заставляют строить самые нелепые догадки...
Изабель Аджани. Конечно.
Мишель Ребишон. Я знаю, что недавно вы встречались с молодыми режиссерами Одреем Эструго, Селиной Скьямма, Дамьеном Одулем. Вы готовите новые совместные проекты?
Изабель Аджани. Я делаю это из любопытства, ведь у человека появляется потребность в
Я всегда рада встрече с такими людьми. Часто ко мне боятся подходить, словно я дорогой музейный экспонат. Но я же не на стенде под стеклом выставлена! А даже если так иногда кажется, стекла созданы в том числе и для того, чтобы их разбивали. (Смеется.) Я также замечаю, что появилось много женщин-режиссеров. Они разрушают многие табу, порожденные
 |
| «Королева Марго», режиссер Патрис Шеро |
Мишель Ребишон. Приятно видеть вас такой энергичной, полной планов на будущее!
Изабель Аджани (смеется). Приятно слышать. Я решила, что нужно выбраться из своей привычной скорлупы. В этом смысле в театре все проще: актеры постоянно встречаются, репетируют, общаются. В кино же все иначе, снялся — и сидишь дома, а это не для меня. По знаку Зодиака я — рак. Мне надо, чтобы ко мне пришли, растормошили.
Мишель Ребишон. Вы не считаете, что некая замкнутость — неизбежное следствие звездного статуса?
Изабель Аджани. Отчасти это так. Звезда — это ведь как фабричное изделие. Миф, ни на чем не основанный. Я часто спрашивала себя, в чем заключается мое бессознательное участие в его создании. Какие чувства, например, я вызываю в людях, как мне удается отвлечь их от повседневности, чтобы они заинтересовались тем, что меня совсем не интересует, — сплетнями, слухами? Долгое время пресса меня не жаловала. Все началось с того, что я порвала контракт с «Комеди Франсез», чтобы сняться у Франсуа Трюффо. В то время пустили слух, что я больна СПИДом, приписывали мне болезненную жажду независимости. Мое откровенное интервью о личной жизни три года назад было вынесено на публичное обсуждение и вызвало самые разные реакции... Я сломала некое табу, словно бросила камень в болото. И я не позволила растоптать себя. Одни люди были мне благодарны. Другие — шокированы, они хотели, чтобы я сохранила неприкосновенный статус «королевы», а я просто оставалась сама собой. Разумеется, все это заставило меня стать осторожнее, но и придало мне сил. Я никогда в жизни не лукавила. Сегодня вас часто заставляют забывать о трагедиях через три дня. Но чтобы жить нормальной жизнью, преодолевать трудности, требуется время, пусть даже карьера
Мишель Ребишон. Привлекает ли вас профессия продюсера?
Изабель Аджани. Почему бы и нет? У меня столько идей, желаний, связей... Не хватает только денег. Мне нужен меценат. (Смеется.) Через свою компанию «Исия Фильм» я купила права на «Взволнованную жизнь» Этти Хайлезэм, это интерпретация «Дневника Анны Франк», очень волнующего произведения о любви. Такой фильм стоит снять. Чем я и занимаюсь.
Мишель Ребишон. Вернемся к Аджани-актрисе. Образы, которые вы создаете, требуют необыкновенного эмоционального напряжения, отдачи; актерам это обычно дается непросто. Игра для вас — это отчасти страдание? Случалось ли вам ощущать, что ваша роль буквально терзает вас?
 |
| «Камилла Клодель», режиссер Брюно Нюйттен |
Изабель Аджани. Случалось. Но не надо ломать себе руки, самому терзать себя. Иначе это закончится нервным истощением. Но воплощенная в образе боль вызывает и наслаждение. Неизвестно, правда, как это влияет на наше подсознание. Без сомнения, артист платит за свои состоявшиеся роли нервными клетками. В трудных ролях риск неизбежен, это биология. Мы играем с огнем и рискуем здоровьем — нашим главным «капиталом». (Смеется.)
Мишель Ребишон. Вас часто сравнивали с актерами-мужчинами. Как вы считаете, почему?
Изабель Аджани. Самое загадочное замечание на этот счет принадлежит Трюффо. Он сравнивал меня с Чарлзом Лоутоном. Я горжусь этим, поскольку очень люблю этого актера. В другой раз на съемках «Убийственного лета» Мишель Галабрю сравнил меня с Мишелем Симоном. Это меня смутило, но я была польщена.
Да уж, есть, над чем задуматься!
Мишель Ребишон. Как родилась в вас страсть к актерской игре?
Изабель Аджани. Моя любовь к кино и театру родилась еще в детстве. Однажды я сказала, что стану актрисой. Это решение возникло после того, как я увидела «Сирену с «Миссисипи», а затем «Двух англичанок» и «Континент» Франсуа Трюффо. Я влюблялась в слова, в диалоги Анри-Пьера Роше в картине «Жюль и Джим» — это лучшее, что когда-либо было сказано в кино о любви. Вот так началась моя карьера — со слова. Сначала Трюффо, а потом Андре Тешине показывали мне много фильмов, они научили меня смотреть кино других режиссеров, пока шла подготовка к съемкам наших картин, обращать внимание на тонкости, нюансы игры, запоминать, чтобы в будущем использовать
Мишель Ребишон. Вам проще играть в комедиях?
Изабель Аджани. Я обожаю комедию, но там все намного сложнее, чем кажется. Меня раздражают утверждения, что заставить смеяться проще, чем заставить плакать. Уверяю вас, это не так.
Мишель Ребишон. Владеете ли вы каким-нибудь даром так же виртуозно, как актерским?
Изабель Аджани. Я люблю рисовать, сочинять, писать. Для меня это настоящее творчество. Даже если оно не приносит никаких доходов. Это другой мир внутри привычного, окружающего нас, мир, в котором суждение, зависимость, мнение не имеют значения. Асоциальный мир, подвластный художнику, пространство духа.
Мишель Ребишон. Я был рад встретиться с вами. Теперь я убедился, что вы не собираетесь отправляться на далекий остров, скрыться ото всех.
Изабель Аджани. Я это проделываю метафорически. На
Studio, 2007, Х
Перевод с французского Александра Брагинского
|
|
ЖАННА МОРО: «Я не мечтала стать звездой, я искала приключений» |
Высказывания актрисы комментирует Беатрис Тулон
 |
| Жанна Моро |
Америка
Впервые она отправилась в США в 1961 году. Там Жанна Моро снималась в фильме Элиа Казана «Последний магнат», пела вместе с Фрэнком Синатрой в Карнеги-Холле, познакомилась с Авой Гарднер и Бэтт Дэвис. В 70-е она поселилась в Голливуде, некоторое время была замужем за режиссером Уильямом Фридкином. «Я люблю американское кино. Оно привлекает меня своей доступностью массовому зрителю, в то же время показывая сущностные черты человеческой натуры — страх, страсть, способность к убийству и неоднозначность характеров. Оно способно на тонкие размышления о добре и зле даже в жанре экшна, например в «Матрице» или «Человеке-пауке».
Любовь
Жанна Моро останется в истории кино как одна из великих соблазнительниц. Трудно перечислить все сыгранные ею роли пожирательниц сердец, шлюх, роковых женщин... «Мой первый фильм с Жоржем Маршалом и Аннабеллой назывался „Последняя любовь“. Я уже тогда считалась разрушительницей семейных очагов», — вспоминает актриса. В жизни ею увлекались такие знаменитые мужчины, как Луи Малль, Пьер Карден, Уильям Фридкин, Петер Хандке. У нее были дружески-любовные отношения с Франсуа Трюффо, Орсоном Уэллсом, Джозефом Лоузи. Она объясняет это тем, что режиссеры неизменно влюбляются в исполнительниц главных ролей в их фильмах, вызывая ответное чувство: «С помощью камеры они ловко проникают в наше сердце».
Деньги
В 60-е годы она была довольно состоятельной, ездила на «Роллс-Ройсе», владела сельским домиком в провинции. Благодаря Пьеру Кардену стала «лицом» парижской моды. Деньгам значения не придавала: «Я более не богата. Я ничего не делала, чтобы иметь много денег. Я часто снималась в фильмах, за участие в которых мне вообще не платили. Мне было важно, что они отвечают моему настроению».
Красота
Ее внешность всегда вызывала горячие споры. Многие считали ее нефотогеничной. «У нее толстые губы, несимметричный нос, слишком маленькие уши и худые ноги, — писал один американский критик, — и несмотря на все это, мужчины подчас готовы были из-за нее расстаться с жизнью». Режиссеры были заворожены ею. Ее янтарными глазами, чувственным ртом, улыбкой, походкой. Жанна Моро воплощала не столько красоту, сколько женский соблазн. «Сама того не осознавая, она буквально источает чувственность», — сказал о ней Кирк Дуглас. Она же никогда не считала себя красивой.
Пьер Карден
С великим модельером Жанна познакомилась во время съемок «Жюля и Джима». «Это было похоже на удар молнии. Я знала, что он гомосексуалист, но подспудно чувствовала, что он способен меня полюбить». И она добилась своего. Их связь длилась пять лет. Он был художником по костюмам на многих ее фильмах и даже сыграл роль в картине «Жанна-француженка» Карлоса Диэгеса. Благодаря ему она стала воплощением парижского шика.
Песни
Ее увлечение пением началось на репетициях спектакля «Восхитительное время» (1953). Потом она часто пела в фильмах, в которых снималась. Тогда у нее был чистый, непрокуренный голос. В свободное от съемок время она записывала пластинки. И они имели успех. «Сама не знаю, зачем я выпускала музыкальные альбомы. Чаще всего это объяснялось случайными обстоятельствами, сердечным порывом. Но мои диски неплохо расходились, поэтому я продолжала в том же духе. Артист не должен замыкаться в одном амплуа. Он должен демонстрировать все свои таланты, пусть самые скромные, в живописи, литературе, пении, танцах».
 |
| "Ева", режиссер Джозеф Лоузи |
Кино
«Кино меня интересует во всех ипостасях. Меня поражает, как изменился труд режиссера за шестьдесят лет, какие трансформации претерпело кино в качестве зеркала, отражающего жизнь. Сегодня мы являемся свидетелями рождения новых кинематографий — в Румынии, Ливане. Иногда эти фильмы снимаются на французские деньги, тем самым Франция приобщается к этому новому миру».
Жозе Дайан
С течением лет в кино женщины больше страдают от дефицита ролей, чем в театре или на телевидении. Жанне Моро повезло встретиться в 80-е годы с Жозе Дайан, которая сняла ее в телефильмах «Такая любовь» о Маргерит Дюрас и «Трое проклятых». «Благодаря ее участию в моей судьбе я безболезненно перешагнула возрастной рубеж и стала играть зрелых женщин. Она чутко уловила одну важную вещь: с уходом молодости женщина приобретает мужественность, начиная проявлять не только свойственную ей от природы слабость, но и силу».
Маргерит Дюрас
Жанна Моро сыграла роль знаменитой писательницы в фильме «Такая любовь». «Я познакомилась с Маргерит Дюрас в 1958 году благодаря моему отцу, который ее хорошо знал. Вокруг нее кипели страсти. Довольно долго мы были очень дружны. А потом внезапно в 1974 году, когда я начала снимать свой фильм „Свет“, мы перестали встречаться».
Женщина
В начале ее кинокарьеры женщин-постановщиков во французском кино не было. Актрисы были осуждены отражать взгляд на них мужчин, не придававших женским ролям какую-либо особую глубину. «Женщины в кино играли второстепенную роль — ждать возлюбленного, плакать, оказываться жертвой чужих страстей и все такое. И вот наступил момент, когда режиссеры, заинтригованные женщинами, попытались понять, в чем же их тайна, чем они дышат, как, например, в картине Жана Эсташа «Мама и шлюха». Моро никогда не считала себя феминистской, но своими ролями и личной жизнью она способствовала эмансипации женщин.
Фильмы
Она сняла два фильма: «Свет», навеянный собственной биографией, и «Подросток», сюжет которого пришел ей в голову во время разговора с Орсоном Уэллсом. «Он посоветовал мне самой снять этот фильм. Многоопытная Симона Синьоре с интересом ждала, что у меня получится. Но в среде близких мне друзей-режиссеров мое желание снять фильм было воспринято в штыки. Трюффо решительно выступил против. Дюрас, кстати, тоже».
 |
| "Лифт на эшафот", режиссер Луи Малль |
Поколение
Уже пять лет она заправляет студией в Анже, помогая режиссерам нового поколения. В частности, отбирает сценарии. «Собственный опыт трудно передать кому-то другому. Я пытаюсь помочь молодым, связывая их с полезными людьми. Не могу равнодушно пройти мимо молодых, обладающих огромным творческим потенциалом. Тут надо иметь в виду, что дурными последствиями чреват не только провал, но и большой успех. Так что работа с людьми, у которых есть будущее, требует деликатности. Но какая же это благодарная работа!»
Япония
Она открыла для себя Японию очень рано, в начале 60-х годов, и теперь регулярно там бывает. «Японская культура привлекает меня тем, что в ней органично сочетаются энергия движения вперед, современность и уважение к традициям, в том числе языческим, близость к природе, ритуальность».
Книги
«Книги — мои вечные спутники. С помощью писателей и поэтов я открываю для себя мир». Этих спутников у нее немало — Жан Кокто, Андре Жид, Поль Леото, Петер Хандке, Жан Жене, Генри Миллер, Анаис Нин, Джойс Кэрол Оутс, Франсуаза Саган и, разумеется, Маргерит Дюрас.
Луи Малль
Он многое значил в ее жизни. «Нас объединяли общие вкусы, мы восхищались одними и теми же вещами. Луи давал мне интересные роли и подарил мировую известность благодаря фильму «Любовники», — говорит Жанна. Они остались близкими людьми до конца его жизни. «Он не получил должного признания, потому что разделял ценности „новой волны“, не будучи с ней связан формально. Он пробовал делать разные фильмы, и никто не умел так показать любовную страсть, как он».
Режиссеры
Она рано познакомилась с кинорежиссерами, которые приходили в «Комеди франсез», — Микеланджело Антониони, Орсоном Уэллсом, Жаном Эсташем. «Мне повезло — я притягивала замечательных людей. Они увлекались мною. Я для них была чем-то вроде благодатной влаги, способствовавшей всходам. Им импонировало то, что я безраздельно отдавалась в их власть и не умела отвлекаться между дублями». Оператор Анри Алекан сказал о Моро: «Она не играет. Она живет». Иные для объяснения ее состояния на съемке произносят слово «транс». Она предпочитает термин «инстинкт»: «Чтобы выразить эмоции, их надо черпать в самой жизни. Я не репетирую до изнеможения, не стараюсь заранее проникнуть в роль, я просто ее обсуждаю с режиссером и начинаю играть».
 |
| "Такая любовь", режиссер Жозе Дайан |
Бунтарка
Она часто произносит это слово, говоря о своей независимости, граничащей с маргинальностью. «Однажды я путешествовала с одним американским журналистом, который сказал: «Только подумать, что вы могли бы стать великой звездой, но никогда к этому не стремились». «Я этого никогда не хотела, — ответила я ему». Став известной благодаря «Лифту на эшафот» и «Жюлю и Джиму», она стала получать предложения сыграть нечто подобное. «Я неизменно отказывалась. Не думая о карьере, я шла туда, где было больше приключений».
Скандалистка
Она играла аморальных женщин, которые шокировали Францию до прихода революционного мая 1968 года. Это были героини фильмов «Ева» Джозефа Лоузи, «Опасные связи» Роже Вадима, «Любовники» Луи Малля, «Мадемуазель» Тони Ричардсона, «Ссора» Райнера Вернера Фасбиндера. «На улице вдогонку мне неслись проклятия. А мне было наплевать. Тайны жизни я узнала от проституток, посещавших дешевый отель, в котором мы жили, когда я была маленькая. Для меня главным было работать с великими режиссерами».
Театр
«Театр — это неиссякаемый источник. Он научил меня самому важному — умению сосредоточиваться и никогда не зазнаваться». В детстве Жанне запрещали ходить в театр. «Я бегала туда тайком. Первой увиденной мною пьесой была „Антигона“ Ануя, пьеса о Сопротивлении во время войны, она меня сразила. Тогда я и решила, что стану актрисой». Моро поступает в «Комедии -Франсез». Но не задерживается там. «Мне предложили стать сосьетером, то есть заключить контракт на двадцать лет. Мысль о том, что я там пробуду до сорока лет, буквально убивала меня». Ее увидел Жерар Филип и поговорил с Жаном Виларом, который собирался создавать Народный театр (ТНП). Она играла там в «Принце Гомбургском». «Я была без ума от Жерара-актера». Но это не удержит ее в ТНП. Через год она его покинет. «Там была та же атмосфера, что и в „Комеди франсез“: закулисные интриги, зависть, сплетни». Жерар Филип чувствовал, что она страдает. «Он мне сказал: «Коли хочешь уйти, уходи». И она будет играть в частных антрепризах, совмещая театр с кино, со временем чаще появляясь на подмостках, чем на экране, ибо зрелой женщине театр предоставляет более интересные роли, чем кинематограф. Прошлым летом она имела огромный успех вместе с Сэмом Фраем в Авиньонском папском дворце в пьесе «Квартет», весной будет играть в парижском «Одеоне».
Франсуа Трюффо
 |
| Симона Синьоре и Жанна Моро |
«Он был настоящим другом. Трюффо обожал женщин вообще и актрис в частности». Тем не менее он отказывал ей в праве стать режиссером. «Я отправила ему мой сценарий «Света». Он вернул его с бесчисленными поправками, и я возразила, что если их учту, это будет не мой фильм, а его. Он ответил: «Пойми, Жанна, самая большая ревность существует не между актрисами, а режиссерами».
Призвание
«Уже в пять лет я поняла, что окружающий мир мне не подходит. Я уже тогда хотела отличаться от других». Сначала она собиралась стать балериной, как ее мать, потом скрипачкой и еще монахиней. Но стала актрисой. «Нет разницы между моей жизнью актрисы и моей частной жизнью. Я не задумываюсь о карьере, не ощущаю себя профессионалом. Я актриса, женщина-актриса».
Орсон Уэллс
Она играла в «Отелло» на сцене «Комеди Франсез», когда он однажды заглянул в театр и пригласил ее к себе на день рождения. С тех пор они больше не теряли друг друга из виду. «Орсон доверял мне. Советовался со мной по разным поводам. Давал советы мне. Я часто помогала ему с постановками — у него никогда не было денег. А он меня поддерживал в желании стать режиссером. Режиссерской ревности он не знал. Он был гений».
Studio, 2008, январь, № 242
Перевод с французского А. Брагинского
|
|
Микеланджело Антониони Снимать — значит жить |
В первый раз я посмотрел в объектив кинокамеры — это была
 |
| Микеланджело Антониони |
Мы установили камеру, подготовили софиты и расставили больных, готовясь снять первый план. Должен сказать, что безумцы исполняли наши команды со смирением и прилежанием, ужасно стараясь делать все как следует и боясь сделать что-нибудь не так. Они были очень трогательны в этом своем старании и очень забавно передвигали вещи. Наконец я дал команду включить софиты. Я был немного взволнован. Вдруг комната залилась ярким светом. На
Эта невыносимая картина всегда стояла у меня перед глазами. И хотя я этого не сознавал, именно от нее берут для меня начало все наши разговоры о неореализме.
Все это происходило до войны.
Потом пришла война, и мы стали свидетелями многих других эпизодов насилия или даже безумия и со временем привыкли к ним. Но когда сразу после войны здесь, в Италии, мы стали рассуждать о неореализме, я всегда думал о том так и не снятом мною документальном фильме. Казалось, что итальянское кино не может освободиться от этого искомого критерия правды: реально, еще реальнее... Камера, спрятанная на дороге или за замочной скважиной, чтобы ухватить самые тайные стороны реальности... Школьные эстетические понятия были сметены этим ветром, желанием столкнуть теорию с фактами, с фильмами. И надо сказать, что многие из фильмов достигли своей цели. Правда — это то, что вокруг нас реальность была исключительной, обжигающей. Как можно ее игнорировать?
Снимать фильм — не то же самое, что писать роман. Флобер говорил, что жить — не его профессия: его профессией было писать. Но снимать фильм — это именно жить, по крайней мере, для меня. Моя личная история не прерывается во время съемок. Наоборот, именно тогда она становится наиболее интенсивной. Искренность, эта в той или иной степени автобиографичность, эти вливания в мехи фильма персонального вина, — что она такое, если не способ участия в жизни, не стремление добавить нечто доброе (по крайней мере, в намерениях) к нашему личному наследию, о богатстве или скудости которого будут судить другие. Очевидно, что поскольку фильм — публичное зрелище, благодаря ему факты нашей частной жизни перестают быть таковыми и тоже становятся публичными. И после войны, в эпоху трагедий, тревог и страхов, определивших судьбы всего мира, было невозможно говорить о другом.
Есть времена, когда игнорировать некоторые факты было бы нечестно для умного человека, потому что ум, который в нужный момент подает в отставку, — это неувязка в терминах. Я думаю, что люди кино должны быть всегда связаны со своим временем, не столько для того, чтобы выражать и интерпретировать его самые свежие и трагические события (мы можем даже смеяться над ними, почему нет?), сколько для того, чтобы улавливать их резонанс внутри себя, для того чтобы быть искренними и последовательными наедине с собой и честными и смелыми перед другими. Мне кажется, это единственный способ оставаться живым. Но я считаю, что этот принцип «правдиво, еще правдивее», который лежит в основе итальянского неореализма, принцип, иногда доводимый до крайности, должен пониматься несколько шире, чем он трактуется. Потому что сегодня, в более или менее нормальной обстановке, важно показать не столько отношения индивидуума с окружающим миром, сколько индивидуума самого по себе, в его сложной и волнующей достоверности. Что мучит, что подталкивает к действию современного человека? Какой резонанс вызывает в нем то, что произошло и происходит в мире?
 |
| Плакат к фильму «Крик» |
Наверное, только эти вопросы мы должны задавать себе, снимая наши истории.
Говоря о моем фильма «Крик», французские критики вывели новую формулу: «внутренний неореализм». Я никогда не думал о том, чтобы дать название тому, что для меня всегда было насущной потребностью, начиная с того самого фильма о душевнобольных, — вглядываться внутрь человека: какие чувства и мысли движут им на его пути к счастью, или к несчастью, или к смерти. Я никогда не «задавал» себе тему, для того чтобы перенести ее в фильм.
Я ненавижу запрограммированные фильмы. Я стараюсь просто рассказывать или, скорее, показывать истории и надеюсь, что они понравятся зрителю, даже если они горькие. Жизнь не всегда весела, и нужно иметь мужество смотреть на нее со всех сторон. Я предоставляю снятому фильму самому раскрыть свой смысл. Если идеи находятся внутри нас и мы искренни в своем рассказе, то они непременно выйдут наружу. Важно, чтобы рассказ был направляем горячей и уравновешенной мыслью. В кино, которое мне нравится, образы создают ощущение достоверности, подлинности, не теряя при этом проникновенности. Никаких увлечений, бреда, интеллектуальной экстравагантности: мир, увиденный в лицо, а не вверх тормашками или по диагонали.
Должен теперь признаться, что я чувствую себя не в своей тарелке: зачем все эти теоретические рассуждения? Вывод всегда один: кино, как и литература, бесполезны, если в них нет истины и поэзии. Мне возразят, что фильмы такого рода редки, тогда как другие более многочисленны, к тому же их награждают призами, премиями. Очевидно, что необходимы картины разные, пусть будут. Но те, о которых я говорю как об истинных, имеют настоящее значение, и только они составляют честь кинематографа. Будем в качестве парадокса рассматривать так называемые арт-фильмы как пороки кино добродетельного, то есть коммерческого. Вместе с Сэмьюэлом Батлером мы можем заключить, что назначение порока — удерживать добродетель в отведенных ей рамках. Если бы добродетель не знала границ, она была бы невыносима. Точно так же был бы невыносим тотально посредственный кинематограф, лишенный новых идей и отваги.
А значит, стараться изо всех сил сделать хороший фильм — более чем законно. Но продюсеры чаще всего смотрят с недоверием на того, кто высказывается в подобном духе.
Таким образом, помимо трудностей в производстве самого фильма, приходится бороться с их недоверием, которое выражается затем в материальных трудностях. Если режиссер хочет, чтобы ему улыбнулся успех, он должен уметь вести и эту борьбу. Вот так: работа режиссера заключается в том, чтобы преодолевать трудности, которые он встречает, пытаясь хорошо выполнять свою работу. Трагедия в том, что приходится все время доказывать свой талант людям, у которых его нет и в помине.
Но вернемся к «Крику», последнему из моих фильмов, которые демонстрировали в Соединенных Штатах. Если о себе говорить трудно, то еще труднее говорить о своих произведениях. Конечно, это фильм закрытый, непростой. «Кроткий загадочной кротостью», — как написал один критик. Может быть, он прав. Некоторое время назад я сам пересмотрел его и был поражен, оказавшись лицом к лицу с этой беззащитностью, с этим одиночеством: так иногда по утрам нас пугает отраженное в зеркале лицо. Не уверен, сможет ли разобраться в этой истории американская публика с ее совершенно отличными от европейского опытом и культурой. Надеюсь, что сможет.
Я очень боюсь и публики, и критиков. Я бы хотел предупредить их, объяснить им некоторые вещи, прежде чем они пойдут смотреть фильм.
Конечно, этот
Перевод с итальянского А. Мининберга
Публикуется по: A n t o n i o n i Michelangelo. Fare un film e per me vivere. Scritti sul cinema, Marsilio, 2001.
|
|
Катрин Денёв Два интервью по личным (и не только) вопросам |
Денёв не испытывает особого восторга перед Каннским фестивалем. Ей не по душе исступление, взрывающееся выкриками из толпы у подножия знаменитой лестницы, и даже сама Ривьера во время фестивального ажиотажа. Это естественно, ведь впервые она прошла здесь по красной дорожке в 1964 году, и рядом с ней шел Жак Деми, постановщик «Шербурских зонтиков», получивших в тот год «Золотую пальмовую ветвь».
С тех пор она стала постоянной гостьей фестиваля, приезжая с картинами разных стилей, представляющих разные страны. Несколько раз она заседала в жюри, а в 1994-м была его вице-президентом. В 2005 году она давала мастер-класс. А в этом году приехала с фильмом «Хочу видеть» Джоаны Хаджитомас и Халиля Джорейге, в котором играет самое себя, или, точнее, наполняет экран своим присутствием, представляя очень личный взгляд на события в Южном Ливане после войны. Еще раз она поднимется по лестнице в сопровождении Арно Деплешена, режиссера «Графа Ноэль», где играет главную роль. А сойдя с этих ступеней, вместе с Андре Тешине приступит к работе над его новым фильмом. Но она нашла время побеседовать с президентом жюри Шоном Пенном и своим старинным другом Романом Поланским.
 |
| Катрин Денёв |
Катрин Денёв. Каково ваше самое яркое воспоминание о Каннском кинофестивале?
Шон Пенн. Самое яркое впечатление осталось от первого приезда в Канн. Мне было немногим больше двадцати лет, я вообще впервые оказался в Европе. Я встретился в лос-анджелесском баре с Гарри Дином Стентоном, и он сказал, что назавтра летит в Канн представлять «Париж, Техас». Я спросил: «А у тебя номер большой будет? Можно мне там устроиться на диванчике?» и отправился вместе с ним. Я только начинал карьеру в кино, и потому набрался впечатлений как никому не ведомая личность. Я в первый раз был на кинофестивале, первый раз во Франции, эта ситуация меня буквально электризовала.
Катрин Денёв. У вас не возникло сомнений, принимать или нет предложение возглавить жюри в этом году?
Шон Пенн. Сомнения были. Эта миссия обязывает в течение ряда дней сохранять относительную трезвость и ответственность, внимательно отсматривая фильмы, несмотря на все прочие соблазны. Тем не менее, подумав, я решил: ладно, посмотрим, чем я смогу быть полезен.
Катрин Денёв. Вы были лично знакомы с кем-нибудь из членов жюри?
Шон Пенн. Очень с немногими.
Катрин Денёв. Я однажды была вице-президентом в жюри с Клинтом Иствудом, и могу дать вам совет: не стесняйтесь как можно больше общаться с членами жюри, этого никогда не бывает слишком много.
Шон Пенн. Принимается.
 |
| «Шербурские зонтики» |
Катрин Денёв. Что для вас как президента «Золотая пальмовая ветвь»?
Шон Пенн. Это долгое застольное обсуждение, обмен мнениями, много страсти и вероятность того, что некий фильм пробьет понимание. Самое главное — иметь возможность помочь картинам, которые тебя затронули.
Катрин Денёв. Вы привозили в Канн свой дебютный фильм «Индейский бегун». Это, видимо, было нечто неординарное.
Шон Пенн. Это было фантастично. Независимо от того, что я воображал о себе как о режиссере, я чувствовал себя во Франции очень одиноким. Мой фильм имел очень отдаленное отношение к тому, что производилось в Соединенных Штатах. Когда его показали в Канне, я почувствовал, что меня поняли, а потом мне кое-что подсказали. Это самое чудесное, что может случиться на фестивале.
Катрин Денёв. Получение награды за лучшую мужскую роль тоже было, наверное, знаменательным событием.
Шон Пенн. Да. Мне удалось поцеловать Катрин Денёв. Это мой любимый момент в каннской истории.
Катрин Денёв. Я никогда не получала на фестивале призов за актерскую работу, но подозреваю, что когда вас вызывают на сцену, вы должны чувствовать себя на седьмом небе.
Шон Пенн. К сожалению, когда до тебя дойдет важность момента, ты уже успеешь вернуться домой.
Катрин Денёв. Да, все пролетает слишком быстро. Хотите, я дам вам список мест в Канне, где разрешено курить?
Шон Пенн. Это будет здорово. Закурим?
Катрин Денёв. С удовольствием. Если я начну фразу «Канн — это прекрасно, потому что...», как вы ее закончите?
Шон Пенн. ... потому что здесь меня интервьюирует Катрин Денёв. Но если серьезно... Потому что меня интервьюирует Катрин Денёв.
Катрин Денёв. А теперь можете задать свой вопрос мне.
Шон Пенн. Мы еще увидимся?
Катрин Денёв. Да, но на расстоянии, потому что мой фильм в конкурсе...
Катрин Денёв и Роман Поланский через сорок лет после съемок «Отвращения» вспоминают свою первую встречу и события Мая 1968 года.
 |
| Катрин Денёв |
Катрин Денёв. Я смотрела фотографии со съемок «Отвращения», и на меня нахлынули воспоминания. Я нашла черно-белое фото: я сижу на полу в ночной рубашке, волосы облепили лицо, я буквально ощутила нейлон этой рубашки, вживе увидела его нежно-оранжевый цвет.
Роман Поланский. А ты ее хранишь?
Катрин Денёв. Нет, но у меня есть шелковое платье с прелестным рисунком в стиле либерти, которое я тогда носила. Я, как правило, оставляю себе костюмы из моих фильмов, но не надеваю их. Не могу себя заставить. И в конце концов отдаю обратно. Пальто — еще ладно, но надеть платье прямо на тело... Невозможно.
Роман Поланский. Ты можешь открыть музей или сдать их в Синематеку. Джек Николсон хранит все свои костюмы. Когда мы отсняли «Китайский квартал», он попросил свой костюм — серый в полоску. Я обратился к художнику по костюмам, который сделал четыре таких костюма, в том числе один на десять размеров больше. Джек взял все!
Катрин Денёв. Я отлично помню день нашей с тобой встречи. Ты сидел в лодке, снимая эпизод для альманаха нескольких режиссеров. А я поблизости снималась в «Шербурских зонтиках». Нас познакомил один общий знакомый из моей группы. Ты был всецело погружен в работу и меня почти не заметил. Меня мгновенно захватила твоя энергия и то, как ты говоришь. Когда мы опять встретились, ты предложил мне роль в пьесе Ролана Дюбиллара, роль какой-то идиотки...
Роман Поланский. Летающей в облаках!
Катрин Денёв. Я очень расстроилась. Это ударило по моему самолюбию — я вообразила, что ты обо мне думаешь! Неужели я могла принять такую роль! И по глупости отказалась. Потом, прочитав пьесу, пожалела. А потом ты прислал мне сценарий, который написал по-английски с Жераром Браком. Это было «Отвращение», которое, помнится, называлось тогда «Ангельское личико». Мне отводилась роль шизофренички.
Роман Поланский. Мы с Браком писали его по наитию, ничего специально не изучали и не приняли во внимание факт существования в Англии цензуры. Я помню, как мы явились к королевскому цензору, высокий такой был мужчина, худой, беспрерывно курил. Он прочел сценарий и очень строго отнесся к элементам секса и насилия, но, к счастью, любил кино, что не помешало ему привлечь психиатра в качестве консультанта. Когда мы показали им фильм, он обоим понравился, причем психиатр поверить не мог, что мы ничего не читали по его специальности.
 |
| Роман Поланский |
Катрин Денёв. Я помню, что когда снимались самые технически трудные эпизоды и какая-нибудь труба засорялась и кровь не так сильно брызгала, как надо, мы особенно много смеялись. Помню ту жуткую сцену, когда из стены протягивались руки, чтобы схватить меня. У дублеров, которые это изображали, руки были покрыты латексом, и они не могли пойти поесть в кафе. Я как сейчас их вижу — одна рука в латексе, а другая держит бутерброд. Сумасшедший дом! А однажды ты принес на площадку банки с мухами, чтобы снять разлагающийся трупик кролика. Помнишь запах? Жуть. Знаешь, мне до сих пор говорят: «После „Отвращения“ не могу есть кроличье мясо»!
Роман Поланский. Когда кролик по-настоящему завонял, группа отказалась приходить на площадку.
Катрин Денёв. Ты очень тщательно режиссировал, мне было легко работать. Большая удача — в молодые годы попасть к хорошему режиссеру, когда сам еще ничего не умеешь выразить и нарабатываешь дурные штампы. Может быть, лет двадцать спустя это не так сильно повлияло бы на меня. Помню, англичане со свойственным им зазнайством задавали тебе каверзные вопросы, но ты, прошедший великолепную школу в Лодзи, прекрасно осведомленный обо всех технических тонкостях съемки, даже не удосуживался поставить их на место.
Роман Поланский. Я не люблю тратить съемочное время на пустяки. Могу пошутить, но не в процессе работы. Но ты была тогда очень замкнутой, так ведь?
Катрин Денёв. Да, возможно. Самое трудное в актерском деле — не включиться сразу в съемку, а сохранять состояние в течение десяти часов. В этом фильме мне надо было погрузиться в безумие и одиночество. Но к вечеру, когда мы шли ужинать, настроение менялось. Я по молодости могла лечь спать под утро и проснуться свежей и бодрой. А ты был очень спортивным.
Роман Поланский. Мы обычно ходили в клуб Ad Lib, там каждый вечер выступали Beatles или Rolling Stones. Это была эпоха «свингующего Лондона».
Катрин Денёв. Группа была английская, только ты, Брак и я говорили по-французски. И когда ты отдавал мне команды, между нами возникала совершено особенная связь. А англичане не понимали, о чем мы говорим. И это действовало им на нервы. Мы были неразлучным трио. Теперь мы редко видимся, и каждый раз это будто встреча детей в летнем лагере. Между нами сразу устанавливаются прежние очень интимные отношения. Эту связь ничем не разорвать. Ну, хватит об этом. Мне тут попались на глаза фотографии мая 1968 года в Канне. По-моему, ты выглядишь на них расстроенным.
Роман Поланский. Я был членом жюри. Прилетел с женой, Шарон Тейт, страдал от смены часовых поясов. В восемь утра в отеле меня разбудил звонок Трюффо. «Немедленно приходи, — сказал он. — Мы собираем митинг в поддержку Анри Ланглуа». Я знал Ланглуа и был очень огорчен, что Мальро снял его с должности директора Синематеки. Потому быстро оделся и пришел на место, где сразу понял, что дело тут вовсе не в нем. Там были Луи Малль, Годар. Все орали. Клод Маковски кричал: «Это наше пространство!» Я сказал ему: «А ты что тут делаешь, ты не режиссер, не продюсер, тебя не приглашали на фестиваль, ты всего лишь владелец кинотеатра!» Он ответил: «Фестиваль закончился! Нам не нужен фестиваль, чествующий звезд. Нам нужен фестиваль как форум». Я сказал, что в таком случае лучше организовать симпозиум. Ведь эти люди хлопали как сумасшедшие, когда на экране появился Кларк Гейбл в реставрированной версии «Унесенных ветром» на открытии! Какое лицемерие! Луи Малль, который тоже был членом жюри и требовал, чтобы фестиваль отменили, на следующий год выпустил «Калькутту», а через два — «Шум в сердце». Где же тут последовательность?
Катрин Денёв. Я бы не назвала их лицемерами, они действовали под влиянием минутного настроения, их увлекло движение...
Роман Поланский. Какое движение?
Катрин Денёв. У людей короткая память.
Роман Поланский. А при чем тут международный кинофестиваль, который пригласил людей из дальних стран, чтобы показать свои фильмы миру? Канн был их Меккой.
Катрин Денёв. Насколько я понимаю, это был протест против организаций и компаний, устраивавших балы и вечеринки.
Роман Поланский. И что теперь, Олимпийские игры отменять?
Катрин Денёв. Есть такие разговоры.
Роман Поланский. Значит, ты считаешь, что тогда в Канне заправляли идеалисты?
Катрин Денёв. По крайней мере, некоторые из них.
Роман Поланский. А я склонен думать, что это были люди, которым не представилась возможность показать свое кино.
Катрин Денёв. Ну, и чем же все кончилось?
Роман Поланский. Неразберихой. Когда началась вся эта заваруха, персонал в отеле стал меня игнорировать, как и других гостей. Это было противно. В конкурсе должны были показывать «Шипучку с мятой» Карлоса Сауры с Джералдин Чаплин, они оба отказались дать картину. Вцепились в занавес, чтобы не дать ему подняться, он все равно взлетел, они вместе с ним, как гимнасты в цирке. Люди залезли на сцену, началась потасовка. Нечто подобное я пережил в Польше, так что у меня была своя точка зрения. Надо быть очень осторожным с тем возбужденным состоянием, которое заставляет тебя почувствовать себя революционером. Самое забавное, что когда фестиваль отменили, невозможно было оттуда уехать из-за забастовок — ни поездов, ни самолетов, ни горючего не было. Сэм Шпигель, американский продюсер, отплыл на грузовом судне, с ним вместе много народу, в том числе евреев, они назвали это «вторым Исходом». Жерар Брак отправился в Рим на пароме и весь путь продрожал за свою жизнь. На море штормило, целые сутки он страдал от морской болезни.
Катрин Денёв. А ты? Как тебе удалось выбраться?
Роман Поланский. Я первый раз был в Канне, бедный студент, у меня даже на такси до аэропорта денег не было. Один седобородый джентльмен с юной дамой предложил мне сесть в его машину. По дороге мы представились друг другу, это оказался Абель Ганс, с ним была Нелли Каплан. В аэропорту у меня стояла машина, и в баке достаточно бензина, чтобы доехать до итальянской границы, а паспорт был польский, и один из моих английских друзей соврал пограничнику, что я, мол, забыл свой американский паспорт в гостинице. Американские номера на моей «Феррари» меня спасли! Из Рима я вылетел в Штаты.
Катрин Денёв. Даже тогда слово «американец» действовало безотказно. Никто не встанет на пути американца.
Роман Поланский. А ты? Где ты была в мае 1968-го?
Катрин Денёв. Я была в Париже, снималась у Алена Кавалье в «Сердцебиении» с Мишелем Пикколи. Когда съемки приостановили, мы не знали, что и думать. Оператор Пьер Лом и большинство людей из техперсонала были леваками, так что о возобновлении работы нечего было и мечтать. К тому же Кавалье захотел снимать события на бульваре Сен-Мишель. Я была в растерянности. Помню, взяла у мамы велосипед, чтобы добраться к себе домой на Трокадеро. Люди, пережившие войну, засыпали сахар в ванны, заливали туда масло. Я в конце концов уехала с сыном за город. Мне было страшно. Говорили, что кино во Франции начнут снимать нескоро, мне советовали уехать в Штаты. И в конце года я улетела в Лос-Анджелес сниматься в «Апрельских безумствах», потому что будущее французского кино представлялось мне весьма туманным.
Записали Флоранс Бен Садун и Стефани Лямом
Moving Pictures, May 2008, Special issue
Перевод с английского Нины Цыркун
|
|
Понравилось: 1 пользователю














