-Метки
"народный собор" Троцкий акварель армия атаман атаманы большевики вера воины вольноопределяющийся евреи ермолов живопись жиды запорожская сечь запорожцы история история казачества история песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки крестный ход медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революция религия русские русский святые соборное дело старые открытки супруненко традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка
-Рубрики
- История (288)
- Статьи (257)
- Культура (255)
- Традиции (246)
- Балясы обо всем (233)
- Воины,оружие (232)
- Творчество (200)
- Новости (105)
- Галерея (55)
- Кухня (13)
-Музыка
- Любо, братцы, любо
- Слушали: 3371 Комментарии: 8
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
-Статистика
КОГДА КАЗАКИ СТАЛИ ПОГРАНИЧНИКАМИ? |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха
В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
КОГДА КАЗАКИ СТАЛИ ПОГРАНИЧНИКАМИ?
Ответить на этот вопрос трудно. Взять в качестве точки отсчета «Приговор о станичной и сторожевой службе» 1571 г.? Но и до него казаки жили по границам, охраняя их. А дальше пошло строительство засечных черт и линий, прикрывавших рубежи государства, и службу на них несли казаки. Шли века, а эти линии по-прежнему играли важнейшую роль. Удавалось преодолеть одни угрозы — нарастали другие. Как уже отмечалось, в 1771 г. хан Убуша увел 170 тыс. калмыков на восток, в Джунгарию. Его решение обернулось для подданных бедой. 100 тыс. погибло в пустынях от голода, жажды, в схватках с врагами. Оставшихся встретили китайские войска, измученным калмыкам пришлось принять китайское подданство, и их расселили небольшими партиями в разных местах. А исчезновение многочисленного и могущественного народа сразу нарушило баланс сил в степях. Усилились казахи, каракалпаки, совершли налеты на русские окраины. Возникла и новая опасность. Если раньше Россия была для Хивы и Бухары важным торговым партнером, и ханы заключали договоры с московскими царями об охране караванных путей, то теперь Средняя Азия пришла в упадок. И Хива превратилась в гнездо хищников, охотников за невольниками — после падения Крыма это оказывалось очень выгодно. Как сообщают хроники, со стороны степняков «воровство и предерзости встречались на каждом шагу», от набегов с похищениями людей особенно страдала дистанция от Оренбурга до Верхнеуральска.
Россия принимала ответные меры, укрепляя границы. В 1775 г. Оренбургский казачий корпус был преобразован в Оренбургское Войско. Достраивалась Самарско-Оренбургская линия, протянувшаяся на 1780 верст. В 1784 г. в Оренбурге была учреждена пограничная экспедиция (с 1799 г. — пограничная комиссия). Совершенствовалась и Сибирская линия. Для ее прикрытия людей не хватало, и сюда направили донских казаков, башкир, мещеряков. В 1780 г., когда окончился срок их дежурства, многие подали прошение, желая остаться в Сибири навсегда. Их зачислили казаками крепостей, предоставив право проводить круги и выбирать атаманов. А 19 сентября 1783 г. здешние казачьи общины были объединены в Сибирскую линию казаков [19]. Для дополнительного усиления сибирского казачества по указу Павла I к казакам на правах малолеток были приписаны 2 тыс. сыновей отставных солдат Тобольской губернии. Появлялись новые формирования, в 1790 г. был создан пятисотенный Иркутский казачий полк. Продолжали строиться новые оборонительные системы. В 1791 г. на р. Бухтарме заложили Бухтарминскую крепость, к ней протянулась цепь постов и укреплений — которая стала частью Сибирской линии.
А для прикрытия от казахов Поволжья был образован Заволжский кордон. От г. Гурьева до Малой и Большой Узени устанавливалась цепь казачьих постов. Дополнялся кордон Саратовской линией протяженностью 428 верст. В 1796 г. был оборудован и поперечный кордон через степь до р. Ахтубы. Часть постов обслуживалась уральскими казаками. А для службы на Саратовской и Ахтубинской частях кордона привлекалось Астраханское Войско. Когда Потемкин расформировал и переселял на Кавказ Волжское Войско, на прежних местах остались казачьи гарнизоны в Саратове, Камышине, Царицыне, остались и енотаевские казаки, которые обеспечивали речные почтовые перевозки и переправы. И при реформах Павла, отделившего от Астраханского Войска кавказских линейцев, новое Астраханское Войско составилось из этих команд и Астраханского полка.
В подданстве России еще оставались кочевые калмыки, Дербетовская орда, но прежней силой они не обладали — их было 10 тыс. «душ мужского пола». Они терпели немало неприятностей от казахских нападений. И в 1798 г. правительство предложило им перейти на казачью службу. Их направили на Дон, но порядки, принятые у казачества, калмыкам не понравились. И в составе Войска Донского остались только 2262 «души мужского пола», они были приписаны к казакам, составив особый юрт. А остальные откочевали обратно в астраханские степи. Однако здесь сохранялась прежняя опасность. Волей-неволей требовалось налаживать взаимодействие с гарнизонами, с казаками. Да и для Астраханского Войска помощь в обороне границ была не лишней. Быстро пошло сближение. И большинство калмыков постепенно влилось в состав астраханского казачества.
Пограничной по своей сути была и служба терских, линейных, черноморских казаков, донских полков, посменно высылаемых на Кавказ. В грамоте Екатерины о даровании Черноморскому Войску земель на Кубани указывалось главная обязанность — что ему «принадлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». И кошевой Чепига, прибыв в новые края, первым делом, еще до основания Екатеринодара, до размещения и обустройства черноморцев, предписал полковнику Кузьме Белому расставить по Кубани пограничные кордоны.
Сами же принципы и приемы пограничной службы вырабатывались в течение веков, на основе опыта — оборудование между крепостями более мелких опорных пунктов, патрулирование, «залоги» (секреты). Казаки издревле учились вести разведку на сопредельной территории, собирать и анализировать информацию — что-то услышали от людей, что-то заметили неординарное. Знали, прозеваешь — пропадешь. Издревле устраивали наблюдательные посты на возвышенных местах: на курганах, деревьях. С незапамятных времен известны и казачьи системы сигнализации — запорожские «фигуры» (они же сибирские «маяки») из бочек, подготовленных к быстрому зажиганию. А на Кубани черноморцы и линейцы стали строить искусственные наблюдательные вышки — «голубятни». И если прежние системы оповещения предназначались для предупреждения о набегах крупных степных отрядов, то на Кавказе шайки горцев лезли беспрерывно, тут «фигур» не настроишься. Поэтому устанавливались просто высокие шесты с пучками просмоленной соломы. Черноморцы стали и первыми в России морскими пограничниками, в 1799 г. указом Павла I в Войске была учреждена береговая флотилия.
Как же случилось, что казаки стали служить и на границах, далеких от казачьих областей? Сперва это сложилось самопроизвольно. Ведь казаки в армии играли роль авангардов, разведки, обеспечивали сторожевое охранение войск. При расположении армии в лагерях выставлялась аванпостная цепь. Она состояла из «бекетов» по 6 казаков — 2 несли дозорную службу, 4 отдыхали. В версте позади «бекетов» располагались заставы по 8 — 15 человек. Когда Россия присоединяла ту или иную область, это происходило в ходе войн. На новые земли вводились воинские части, размешаясь гарнизонами. А казачье охранение армии, соответственно, превращалось в пограничное.
Упорядочилась данная система при Павле I, а непосредственно этим занимался Михаил Илларионович Кутузов. В 1798 г. царь поручил ему «раз навсегда» составить расписание казачьих постов на финской границе. 11 мая Кутузов представил проекты расписаний на летнее и зимнее время, предусматривалось держать на постах 378—414 донских казаков с 12 офицерами. Павел утвердил проекты без замечаний. А в 1799 г. Кутузов был назначен Литовским генерал-губернатором, получив при этом инструкцию о налаживании пограничной службы — поскольку через границу шла контрабанда, между русскими и прусскими подданными возникали недоразумения по поводу покосов, пастбищ, распашки земель, рубки леса. Кутузов составил «расписание кордонным постам» из донских полков, расположив их от Паланги до Влодавы. Командирам полков было приказано занять «без изъятия все означенные в расписании селения», а если между ними найдутся пропущенные важные пункты, занять и их «по собственному рассмотрению».
Правда, в декабре 1800 г. казаков на западной границе заменили егерскими и гусарскими полками — поскольку от донцов требовалось идти в Индию. Но вскоре на престоле оказался Александр I. И охране русских рубежей он также придавал важное значение. При нем началась разработка положений о Казачьих Войсках, в которых четко отражалась эта задача. В 1802 г. были приняты Положения о Донском и Черноморском Войсках. В 1803 г. — об Оренбургском и Уральском. В 1803 г. была проведена реорганизация Заволжского кордона. Строились новые посты, на которых жили казаки. Четыре раза в сутки их разъезды должны были проверять промежутки между постами.
При воцарении Александра к нему обратились и казаки расформированных Войск, Бугского и Екатеринославского. Бугцы получили статус государственных поселян, что в общем-то давало возможность безбедно вести хозяйство. Но среди них было много природных казаков, добровольцев-арнаутов из балканских народов, и такое положение их не устраивало, просили восстановить их в казачьем звании. Среди екатеринославцев природных казаков было меньше, но тоже хватало таких, кто предпочитал служить. По этим ходатайствам Бугское Войско в 1803 г. было восстановлено. К нему приписали 27 станиц и хуторов с центром в г. Вознесенске. Общее их население составляло 12 тыс. человек. Войско формировало 3 полка, которые несли пограничную службу на Днестровской линии. А вот земли Екатеринославского Войска оказались уже «внутренними». И уже перешли в собственность к помещикам и вельможам. Поэтому было решено Войско не возрождать, а желающих вернуться в казачье состояние переселить на Кавказ. Хочешь снова стать казаком — бросай родные края и езжай драться с горцами. Но даже при таком выборе набралось 3227 человек! В 1803 г. они были переведены на Кубань и составили Кавказский полк, вошедший в число линейцев и занявший участок границы между Кубанским полком и Черноморским Войском.
В 1808 г. было принято положение о Сибирском линейном Войске. Этот документ впервые придал сибирским казакам единую войсковую организацию. В военное время Войско выставляло 10 полков, а в мирное на него возлагалась кордонная служба, содержание и ремонт укрепленных линий. Кроме того, на Востоке процветала контрабанда — китайские, монгольские, среднеазиатские торговцы проторили дороги в Сибирь, чтобы подешевке скупать пушнину. И на казаков была возложена обязанность таможенной стражи. Расстояния тут были огромные, и граница была поделена на дистанции. Два раза в месяц казаки соседних дистанций встречались на стыке участков, чтобы поддерживать взаимодействие и делиться информацией. А для контроля, что встреча действительно произошла, обменивались особыми ярлыками.
Ну а на западных границах контрабанда превратилась в сущее бедствие. На главных дорогах имелись таможни, но их слишком легко было объехать. Контрабанда стала главным промыслом жителей еврейских местечек — по другую сторону границы были такие же местечки, где обитали родственники и знакомые. Трудно ли перевезти свои или чужие товары, если знаешь все дорожки, тропинки, речные броды? Гусары и егеря с задачей прикрытия границы не справлялись. В те времена в армии попросту не учили быть наблюдательными, уметь присматриваться, прислушиваться, замечать следы, изучать местность, находить нужные контакты с местным населением. А казаки премудростям следопытов и разведчиков учились с детства. И в 1811 г., в перерыве между наполеоновскими войнами, Александр I решил вернуться к первоначальной идее своего отца и организовать охрану границы с Пруссией и Австрией с помощью казаков. Протяженность кордонов составляла 1500 верст, для несения службы выделялось 10 полков донцов, по 150 верст на полк. Развертывалась цепь постов. Между соседними участками патрулировали конные разъезды, которые должны были два раза в день передавать от поста к посту сведения о «благополучии на границе». В короткое время на пути контрабанды встал довольно прочный заслон. А вот представители «народа избранного» стали с той поры относиться к казакам особенно неприязненно.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
О СЛАВНЫХ КАЗАЧКАХ. |

В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
О СЛАВНЫХ КАЗАЧКАХ.
В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины — казачки. Когда мы говорим, что казаки освоили и возделали огромные пространства Дона, Кубани, Терека, Приуралья, надо помнить, что в значительной мере это было сделано женскими руками. Мужчины-то постоянно были в походах, на кордонах. А дома оставались старики, дети — и казачки. Они и возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные сады, в которых утопали станицы. Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату подправить. Казачка была не только неутомимой труженицей, но и организатором. Номинально руководил большим семейным коллективом старик-дед, но далеко не все казаки доживали до седин. Дед мог быть уже и недееспособным, инвалидом. И работу по хозяйству организовывали бабки, матери, жены казаков. Распределяли домашних, кому чем заниматься, если нужно, нанимали работников и руководили ими. Казачки умели и торговать, чтобы часть продукции обратить в деньги и приобрести необходимое. Подобной инициативы и самостоятельности русские крестьянки не знали. У них-то всегда муж был рядом.
Но казачка умела не только это. При нападении врагов она снимала со стены мужнину саблю и ружье и дралась насмерть, защищая детей или давая им возможность убежать. Как уже отмечалось, 800 казачек участвовали в обороне Азова в 1641 г. А сколько в XVI—XVIII вв. встречается упоминаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские, волжские, уральские, сибирские городки? Если мужчины были дома, казачки укрывали детей и скот, выступали «вспомогательной силой», заряжая ружья, помогая ремонтировать укрепления, тушить огонь, перевязывая раненых. А коли главный защитник семьи отсутствует или уже пал, сама казачка становилась защитницей. Рынки Крыма и Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками, но из казачьих городков хищники угоняли только детей и совсем юных девушек. Казачки в плен не сдавались, сражались до конца.
И мужей ждать умели как никто другой. В походы казаки уходили на годы, часто с одной войны на другую, вернутся ли — неизвестно. А казачки ждали. В Сибири бывало и того круче. Семен Дежнев отсутствовал дома 19 лет! Пока странствовал, сын вырос. Кто его на ноги поднял? Жена. Сама так и не дождалась мужа, умерла, а ребенка вырастила, воспитала, и он казаком стал, как отец. А на Дону, например, когда муж из похода возвращался, казачка, встречая его, первым делом кланялась в ноги коню. Благодарила, что не подвел в боях ее супруга, целым и невредимым доставил домой.
Был и случай, правда, единственный, когда женщина стала войсковым атаманом. В XVIII в. выходец из ханского калмыцкого рода Петр Тайшин принял крещение со своим улусом. А потом калмыцкая орда распалась, начались свары. Князь умер, но его вдова княгиня Тайшина с 2400 подданными в 1739 г. попросила выделить ей землю для оседлого поселения и принять на службу. Подходящее место нашли на Волге, где была построена крепость Ставрополь (ныне Тольятти). Эти калмыки составили Ставропольское Казачье Войско. А княгине были даны полномочия войскового атамана, положено жалованье в 500 руб. Остальным старшинам также было назначено жалованье — по уровню офицеров Войска Донского. А рядовые казаки несли службу с земельных наделов. К Войску приписали тысячу отставных солдат и 2,5 тыс. крестьян. Солдаты должны были обучить калмыков гарнизонной и сторожевой службе, крестьяне — земледелию. Постепенно они смешивались, главной обязанностью ставропольцев являлась охрана Самарско-Уфимской линии — ответвления Самарско-Оренбургской. По призыву царя Войско выставляло 1 полк на войну. А княгиня Тайшина руководила ставропольцами до конца жизни.
Известны и случаи, когда казачки прославились в качестве воинов. Ранее говорилось, что в 1770—1771 гг. на Кавказ были переведены 517 семей из Волжского Войска, основав 5 станиц, по 100 семей на каждую. Драки тут шли постоянно, а вдобавок началась война с турками, которые подбили горцев к массированным нападениям. В июне 1774 г. 9-тысячное войско татар и чеченцев обрушилось на Наурскую. Станица еще и не была отстроена, из оборонительных сооружений был насыпан земляной вал с несколькими пушками. А все строевые казаки ушли в поход — разведка у горцев работала хорошо, и они рассчитывали на легкую добычу. Но за оружие взялись казачки! И отметим, это были не гребенские казачки, привычные к здешнему военному быту, а приехавшие с относительно спокойной Волги. Но полторы-две сотни женщин со стариками и малолетками храбро встретили полчище врага. Били из ружей, рубили и кололи лезущих на валы, перетаскивали с место на место тяжелые пушки, встречая атаки картечью. Осада длилась 2 дня, и противник, оставив сотни трупов, ушел ни с чем. В память этой победы 10—11 июня в Наурской отмечался «бабий праздник».
Задолго до девицы-улана Дуровой прославилась и донская казачка Прасковья Куркина. По преданиям, зафиксированным в дореволюционных источниках, она была молодой симпатичной вдовушкой из станицы Нагавской и вела не очень строгий образ жизни. Однажды, в 1792 г., учинила пожар, за что, по казачьим законам, следовало крепко вздуть. Но Прасковья скрылась. Переоделась в мужскую одежду, взяла оружие — вероятно, оставшееся от супруга, оседлала лошадь и направилась на польскую войну. Выдала себя за мужчину и вступила в казачий полк Балабина. Участвовала в боях, была ранена, за неоднократные отличия получила чин урядника. Хотя остается сомнительным, как же казаки ее не раскусили. В отличие от офицерши Дуровой, казачка крепостных денщиков не имела, и при первом же купании коней правда должна была открыться. Скорее, все же знали, да помалкивали. И, наверное, не случайно полковник Балабин взял «казака Куркина» к себе ординарцем. Но воевала Прасковья храбро, была произведена в хорунжие, а потом и в сотники. После войны в 1794 г. вернулась в станицу, и о прежних прегрешениях больше не вспоминали, весь Дон признал ее героиней. Однако дальнейшие похождения Куркиной — например, как казаки посылали ее с ходатайством к императрице, очевидно, относятся к области легенд, и оставляю этот вопрос тем, кто сумеет исследовать его более детально.
Кстати, жизнь казачек в XVII—XVIII вв. (а отчасти и в XIX) вообще исследована очень слабо. Конечно, их быт во многом отличался от картин «Тихого Дона», от того, что нам известно по предреволюционным воспоминаниям. Точно так же, как и казаки Первой Мировой во многом отличались от своих предков времен Суворова. Так, примеры с обороной Наурской и Куркиной показывают, что казачки хорошо умели стрелять (в том числе из пушек), владели холодным оружием. Когда они этому учились? Где? Допускали ли их в юности к тренировкам наряду с казачатами? Или учили матери, отцы, мужья — на всякий случай? Ответа мне ни в одном источнике найти не удалось. Но известно, допустим, что на Тереке казачки еще и в ХХ в. были отличными наездницами, умели стрелять. Вообще либеральные авторы склонны были описывать жизнь казачек в самых черных тонах. Дескать, несчастные женщины — вся жизнь только до свадьбы, а дальше «домострой», забитое «закрепощенное» существование. Вот уж нет! Тут все зависит от точки зрения. Ведь с либеральных позиций и судьба казаков выглядела ох какой безрадостной — надо ж, обязательная служебная лямка, и на всю жизнь! Но казакам такая жизнь нравилась, и другой они не желали. Так же и казачки гордились своей участью.
Внешне отношение казака к женщине и впрямь могло показаться грубоватым, с демонстрацией собственного превосходства, но на самом деле оно было рыцарским. Атаман Платов в 1816 г. в приказе по Войску Донскому писал о казачках: «Пускай верность и усердие их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь, послужат в позднейшем потомстве правилом для поведения жен донских». По обычаям, казачка пользовалась таким уважением и почтением, что в наделении ее дополнительно еще и мужскими правами не нуждалась. И наоборот, казак и даже станичный атаман не имел права вмешиваться в женские дела. Казачка не участвовала в кругах, не имела голоса на сходах, ее интересы представляли отец, муж, брат. Но одинокая женщина могла выбрать себе любого ходатая из числа станичников. А вдова или сирота находилась под личной защитой атамана и совета стариков, а если этого недостаточно, могла и сама обратиться к сходу. Разговаривая с женщиной на кругу или сходе, казак обязан был встать, а если она пожилых лет — снять шапку.
На станичных праздниках казачка, пусть и замужняя, могла плясать с любым казаком. С любым могла чесать языки на улице, невинно пококетничать. И чтобы опровергнуть мифы о «домострое», достаточно открыть повесть Л.Н. Толстого «Казаки». Описывается не какая-нибудь станица, а старообрядческая. Но поведение казачек очень даже свободное (уж по крайней мере по сравнению с Центральной Россией). Девушки, вводя в немалый соблазн офицеров, крутятся по двору в одних рубашках на голое тело. И от вина не отказываются, вечеринки устраивают с мужчинами и поцелуями. Словом, ведут себя «на грани». Но вот чтобы перейти эту грань — тут уж ни-ни! Тут вступало в силу понятие чести. А свою честь казачки ставили очень высоко.
Какими-либо комплексами в сфере взаимоотношения полов казачки не страдали, никаких «секретов» для них эта сфера не представляла. Да и как иначе, если занимались скотоводством, с детских лет видели, что как происходит? Во многих местностях и в баню ходили целыми семьями. В Сибири и Забайкалье баня часто вообще строилась одна на станицу, совместное мытье мужчин и женщин считалось делом вполне естественным. Но это, опять же, совершенно не подразумевало чего-то большего. Одно дело — знать. А другое — понимать, что допустимо, а что нет. Степень того, что может себе позволить казачка, зависела от ее семейного положения. Вольность в общении с мужчинами, откровенность разговоров, шуток, допустимый флирт были разными для девиц, замужних, вдов. Но и для казака было позором преступить дозволенное. И чтобы не ошибиться, существовала система «опознания» по женским кольцам. Серебряное на левой руке — девушка на выданье, на правой — уже просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит. Золотое на правой руке — замужняя. На левой — разведенная или вдова.
Впрочем, при общей высокой нравственности казачек допускались и некоторые отклонения. Так, если вдова строго соблюдала себя, это ценилось. Но и в тех случаях, если она, особенно бездетная, привечала мужчин, это общественной моралью не осуждалось. И когда в станице жили одна-две «веселых вдовушки», на такое смотрели сквозь пальцы (примеры можно также найти у Толстого). А Пушкин записал разговор казаков, возвращавшихся с кавказской службы — стало известно, что у одного из них женушка погуливала, и обсуждалось, как лучше поступить, проучить ее или простить? И казаки пришли к выводу: лучше простить. И часто прощали, даже прижитых «нахалят» своими признавали — тут уж речь шла о сохранении чести семьи, благополучии хозяйства. Но у казаков существовал и развод, даже когда его юридически в России не было. Для этого, например, старообрядцы переходили в официальное православие или наоборот — и брак, заключенный в «другой вере» считался недействительным. Тем не менее, к разводу казачья мораль относилась весьма отрицательно.
Казачками становились не только от рождения. Когда казак женился на крестьянке, отбитой полонянке, захваченной черкеске или турчанке, она автоматически приобретала статус полноправной казачки. Станичницы, как правило, относились к такой женщине доброжелательно (если она сама не вела себя вызывающе). Ей прощали незнание обычаев, не характерные для казачки поступки. Женская община негласно брала ее под свое покровительмство и учила, «вживала» в свою среду. Ну а если еще раз вернуться к утверждениям о «закрепощении» казачек, то не лишне задаться вопросом, а кто же их «закрепощал»? Мужчины? Но как же они могли «закрепостить», если годами отсутствовали? И их собственное благосостояние зависело от жены? Нет, быт и труды казачки определяло осознание ею самой своего особого долга. Точно так же, как казак считал своим долгом службу, так и казачка видела высший долг в том, чтобы обеспечить службу мужа, братьев, сыновей. Кстати, а ведь деятельность армейских органов тыла и снабжения тоже всегда считалась воинской службой, пусть и не боевой. Поэтому, если уж разобраться, то и труды казачек являлись некой разновидностью казачьей службы. Не строевой, не полковой, но в понимании службы воинов Христовых.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
КАЗАЧЬИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха
В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
КАЗАЧЬИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
Отношение государственной власти к казакам не всегда было одинаковым. И периодически в «верхах» возникала идея: а нельзя ли кем-нибудь заменить казаков? Чтобы так же хорошо службу несли, но при этом не претендовали на особый статус, специфические традиции. Или, наконец, нельзя ли просто дополнить Казачьи Войска искусственными формированиями? Первый такой эксперимент задумал Петр I, когда разгромил Сечь, урезал права малороссийских казаков, да и над другими Войсками висела угроза упразднения. Но в это же время правительство укрепляло связи с балканскими славянами. И родился проект использовать «сербских граничар». Сербы (точнее, хорваты) жившие в приграничных районах Австрийской империи, были отличными воинами, имели оружие, пользовались различными льготами, получали плату от казны, а за это несли охрану рубежей. Вот и решили — пригласить их к нам, создать из них гусарские полки, поселить по границам, и пусть охраняют. Возглавил предприятие Иван Албанез, успевший послужить и в русской, и в австрийской армиях.
В 1723 г. он выехал на Балканы вербовать граничар, вез с собой указ и полномочия набрать несколько тысяч. Но сагитировал лишь 177 сербов, валахов, болгар, венгров. Пришлось ограничиться одним Сербским полком, да и до того не дотягивало. Поселили его в местечке Тор под Бахмутом, иностранцев назначили офицерами и унтер-офицерами, а 200 рядовых добавили из слободских казаков. Они не хотели служить в такой части, разбегались. И до 1730 г. полк все еще формировался. Потом его пополнили еще 200 слободскими казаками, доведя численность до 459 гусар, и послали в Закавказье в Низовой корпус. До первого сборного пункта дезертировало 179 человек. На Каспии многие умерли от болезней, в 1732 г. полк вернулся в Тор в составе 180 бойцов. Добавили еще 200 малороссийских казаков…
Словом, эксперимент провалился. Но мертворожденная идея всплывала еще не раз. В 1751 г. в Россию явилась группа сербов во главе с Иваном Хорватом-от-Куртичем. Он тоже взялся сформировать несколько гусарских полков, получил для поселения область на Правобережье Днепра, ее назвали Новосербией. А другая группа эмигрантов во главе с Иваном Шевичем и Райко Депрерадовичем получила район на Левобережье, названный Славяносербией. Результат был таким же. При Екатерине Новосербию и Славяносербию переименовали в Новороссию, а пограничные гусарские полки, как уже отмечалось, переформировали в регулярную кавалерию за счет малороссийских и слободских казаков.
Другим экспериментом стало Албанское (оно же Греческое) Казачье Войско. В войну 1768—1774 гг. русская эскадра действовала в Адриатическом и Эгейском морях. Ее поддержали греческие повстанцы, волонтеры, моряки. А после войны, опасаясь репрессий турок, многие перебрались в Россию. И при дворе сочли: греки и албанцы тоже ведь прекрасные воины, вон как за свою свободу дрались! Да еще и мореходы! Вот и пусть прикрывают морскую границу. Казачье Войско из них было создано в 1775 г. Оно насчитывало 1263 человека. Им предоставили казачьи права, выделили земли вокруг Таганрога, часть поместили в Керчи и Еникале. Назначили жалованье, освободили от налогов, от торговых пошлин, выделили средства для обзаведения хозяйством, строительства домов, учреждений, больниц. Войско должно было выставлять 10 рот. Но… в 1778 г. из списочного состава 1003 человека налицо оказалось 500, а 503 «в отсутствии». Дальше пошло по ниспадающей, генералу Борзову для экспедиции в крымские горы было велено взять 800 греков — он собрал лишь 200.
Когда стали разбираться, выяснилось, что Албанское Войско уже расползлось кто куда. Те, кто действительно желал служить, поступили на Черноморский флот. Те, кого сперва направили в Крым, не захотели перебираться в Таганрог, обосновались в Балаклаве, Алуште, успешно перехватив промыслы греков, выселенных в Приазовье. А чтобы их не вернули в Войско, называли себя «ханскими подданными». Ну а те, кто остался в Войске, ударились в торговлю, используя дарованное им освобождение от пошлин. Причем при проверках 1784—1785 гг. в составе Войска обнаружились уже и украинцы, армяне, татары, грузины, даже итальянцы, желающие пользоваться теми же льготами. Служба по сути ограничилась несением караулов в Таганроге. А при путешествии Екатерины в Тавриду в 1787 г. Албанское Войско выставило «Амазонскую роту» из дочерей служащих под командованием О. Сирандаки (Шидлянской) — девицы погарцевали на лошадях в почетном карауле. В 1797 г. Войско расформировали. На его базе был создан Греческий пехотный батальон, переведенный под Одессу.
Еще один «эксперимент» осуществлялся после присоединения Крыма — Крымско-татарское Казачье Войско. По указу 1784 г. для охраны Крыма и Таврии из татар создавалось 5 конных дивизионов общей численностью 1035 «казаков». Но сформировали только 3 дивизиона, в 1787 г., они торжественно встречали императрицу у Перекопа и Бахчисарая. А с началом следующей турецкой войны обнаружилось, что крымцы тайно собирают вооруженные отряды и ждут высадки вражеского десанта. В связи с этим было проведено разоружение татар, отселение из прибрежной зоны. И один дивизион «казаков» распустили. Два оставшихся распределили отдельными командами по крупным русским группировкам. Использовали на тыловой службе — для доставки эстафет, сопровождения почты, охраны соляных промыслов, поручили им вылавливать дезертиров и разбойников. Весной 1790 г. сформировали еще 4 дивизиона. И все 6 под командованием полковника Мехмедша-бея отправили на польскую границу. То есть и к службе привлекли, и от турок подальше. По окончании войны 4 «новых» дивизиона расформировали. А в 1796 г. ликвидировали и 2 «старых». Попытку реанимации Крымского Войска предпринял Александр I, издав в 1806 г. указ о формировании из татар 4 казачьих полков. Но из-за низкой боеспособности и ненадежности они просуществовали недолго.
Был и эксперимент с Ногайским Казачьим Войском. В 1783 г. во время бунта ногайцев мурза Баязет-бей с 900 семьями сохранил верность России. Потемкин выделил им земли в Таврии на р. Молочной. Сюда начали приглашать и других ногайцев из-за рубежа. Турки этому не препятствовали. Для них ногайские свары принесли столько хлопот, что анапский паша писал: он не только не возражает против их переселения в Россию, но и сам бы не против их выселить. На Молочной собралось до 10 тыс. человек, поставили ряд аулов, кочевали, некоторые начали заниматься земледелием. Но при Павле I власть спохватилась — а на каком положении они живут? Присвоила им статус государственных поселян, обложив податью 2 руб. 33 коп. с души. Вводились волостные правления, а Баязета обязали платить за крепостных. Ему такое дело не понравилось, он стал доказывать, что Екатерина поставила его «начальником ногайских орд». Ездил в Петербург «для испрошения милостей и привилегий» ногайцам (точнее, себе), каждый раз собирая для этого с подчиненных крупные суммы. И выдвинул предложение — создать Казачье Войско во главе с ним самим, и вместо податей ногайцы будут выставлять тысячу всадников — два полка, вооруженных по типу донских казаков. При Павле проект не прошел, но Александр I в 1801 г. согласился.
Однако Баязет вооружил лишь 200 всадников, личную дружину. И принялся выколачивать из ногайцев деньги якобы на коней и оружие «для Войска». Посыпались жалобы, ногайцы стали разбегаться. Царь распорядился вызвать Баязета в Херсон «под благовидным предлогом» и без него учинить проверку. Она выявила, что «атаман» попросту обирал народ. Для маскировки заключил контракт с оружейником Вешниковым на 3 тыс. руб., но вместо оружия поставлялся дешевый ржавый лом. Собрано же было не 3 тыс. руб., а в 5-6 раз больше. Многих соплеменников Баязет закрепостил, дома завел гарем из крепостных русских девок и одной дворянки, обратив их в ислам. Когда комиссия по повелению Александра опросила ногайцев, желают ли они дальше оставаться «казаками» или вернуться в сословие казенных поселян, все единогласно в ужасе возопили — ни в коем случае не казаками! В 1804 г. Ногайское Войско прекратило существование.
Как видим, «эксперименты» провалились все, да еще и с треском. Что касается сербов и греков, то власть не учла: одно дело — доблестно сражаться за свою родину, другое — за чужую. Эмигрируют часто далеко не лучшие. Ну а относительно татар и ногайцев историк А. Скальковский писал: «Воинское звание», к которому их предназначили, «вовсе не было свойственно этим ордам, умевшим действовать дикими толпами в наездах и грабежах, а не в трудной и постоянной казачьей службе». Впрочем, требуется и уточнение. Ведь уже отмечалось, что многие Казачьи Войска создавались искусственно, но проявляли себя прекрасно. Да и подпитка казачества извне отнюдь не прекратилась. Например, в 1747 г., когда зашла речь об усилении Гребенского Войска, казаки сообщили, что при необходимости могут включить в свой состав 2 тыс. пришлых «гулебщиков». Этого не разрешили, но многие добивались своего, «оказачивались». А Яицкому Войску официально было запрещено принимать пришлых только в 1751 г. Ранее приводились примеры, что в ряды казаков вливались не только русские, но и калмыки, башкиры, татары, буряты, осетины, грузины, кабардинцы и т.д. Так почему же в одних случаях люди становились казаками, а в других нет?
Здесь стоит обратить внимание, что «искусственные» Войска становились полноценными, когда они создавались либо из добровольцев, как Сибирское, Бугское, либо из казаков других Войск — как было на Тереке, в Оренбуржье. Во всех случаях они имели больший или меньший процент природных казаков, перенимали исконные казачьи традиции. Да и приток извне имел совсем не случайный характер. Ведь далеко не каждый беглый устремлялся на казачьи окраины. В России можно было пристроиться куда спокойнее и безопаснее. И из тех, кто попадал к казакам, не каждый стремился стать таковым. И не каждый этого удостаивался, многие оставались просто крестьянами. Точно так же было и с «инородцами». Разве можно сопоставить фигуры Баязет-бея и, допустим, калмыка Даши Булатова, бросившего 200 кибиток и стада только из-за того, что ему захотелось стать яицким казаком? И далеко не любой грузин и армянин, бежавший из Закавказья, поступал на Тереке на службу — в тех же краях можно было заняться иными, более выгодными делами. То есть приток шел за счет людей, внутренне близких казачеству, чувствующих к этому душевное призвание. А попытки скопом превратить в казаков произвольно назначенную массу заведомо оказывались нежизнеспособными.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
КАЗАКИ В СРАЖЕНИЯХ |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха
В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
КАЗАКИ В СРАЖЕНИЯХ.
В 1738 г. последний раз упоминается об эскадре донских казаков — по условиям Белградского мира мореплавание на Черном и Азовском морях России было запрещено. И донцы стали исключительно кавалерией, чему способствовали традиции взаимопомощи: бедные казаки не оставались безлошадными. Еще одним новшеством у донцов стало вооружение пиками. Раньше казаки применяли короткие дротики (у запорожцев — «списы»), с ними ходили в рукопашную. А длинные пики использовались в русской и европейской пехоте — мушкетеры вели огонь, а пикинеры, выставив оружие, защищали их от конницы. Но в 1705 г. был изобретен штык-багинет, а пики Петр I отдал «иррегулярным» ополченцам. Казаки не преминули ими разжиться. Усовершенствовали, подогнав по руке. И соединили качества легкой конницы с возможностями тяжелой — таранного сметающего удара. Кроме пики и сабли, каждый имел ружье, 2—4 пистолета. Но в данный период на вооружение вернулся и лук. Потому что огнестрельное оружие было однозарядным. Одно дело — в лодке или в укреплении, когда часть стреляет, часть заряжает. А в конной схватке попробуй-ка заряди.
Словом, казаки, еще не регулируемые никакими наставлениями «сверху», сами вырабатывали эффективное сняряжение. И тактику тоже. Главными боевыми приемами были «лава» и «вентерь». Лава — это не вид строя, это способ ведения боя, доступный только прирожденным воинам и наездникам, постигающим это искусство с детства. Писали, что казаки воюют «кучами». Но каждый в «куче» мгновенно ориентировался, повинуясь команде, жестам, свисту командиров, лава могла из редкой, разомкнутой, в считаные минуты сомкнуться, изменить направление, разделиться на отряды. Ну а вентерь применялся издревле — заманивание врага в ловушку. Были и другие приемы, например, «помаячить» в разведке. Разъезд движется к предполагаемой засаде, вдруг останавливается, вглядывается и скачет назад. Противник считает, что его заметили, стреляет вслед — и выдает себя.
Запорожцы же по старинке разделялись на конницу и пехоту. В отличие от Дона, обычая помогать друг другу снаряжением здесь не было. Не имеет казак коня или потерял его — переходит в пехоту. Разжился конем — переходит в конницу. Причем табуны имелись, запорожские лошади славились, их покупали для ремонта русской кавалерии. Но они принадлежали Кошу или старшине. И деньги за продажу шли в общую казну или частные карманы. Терские казаки издревле были конными, а воевали по обычаям горцев — шашкой, винтовкой, кинжалом. Уральцы и оренбургцы перенимали обычаи донцов.
В 1756 г. грянула Семилетняя война против прусского короля Фридриха II Великого, считавшегося лучшим полководцем в Европе и имевшим лучшую армию. Главной его ударной силой была конница. Его тяжелые кирасиры, прославившиеся «черные гусары» вовсю громили австрийскую и французскую кавалерию, страшными атаками в сомкнутом строю сминали линии пехоты. Общее руководство казачьими частями было возложено на походного атамана Данилу Евремова. Немецкий пастор Теге описал их вступление в Пруссию: «Несколько тысяч казаков и калмыков с длинными бородами и суровым взглядом, с невиданным вооружением — луками, стрелами и пиками — проходили по улице. Вид их был страшен и вместе с тем величествен. Они тихо и в порядке прошли город и разместились по деревням, где были им отведены квартиры…»
И оказалось вдруг, что с «непобедимой» конницей Фридриха казаки вполне справляются. В первом крупном сражении, у Гросс-Егерсдорфа, донской полк Сидора Себрякова атаковал немецких драгун, изобразил отступление и вдруг рассеялся в стороны, подведя неприятелей под залпы пехоты и батареи. После чего казаки ударили с флангов и довершили разгром. Из черных прусских орлов, нашитых на чепраки, потом сделали покров на аналой Черкасского собора. В 1758 г., в кровопролитной битве у Цорндорфа, полк бригадира Федора Красношекова (сына героя и мученика Ивана Матвеевича) предпринял рейд во вражеский тыл, захватив обозы. А после сражения, в арьергардных боях, заманил в вентерь, под русские пушки, лучшую германскую конницу Зейдлица. В 1759 г. еще одна отборная часть Фридриха, «бессмертные» черные гусары Циттена, под Гранау и Гуре потерпели поражение от донского полка Амвросия Луковкина. А в победоносной битве при Кунерсдорфе храбро сражались полки Краснощекова, Луковкина, Андрея Дячкина, Афанасия Попова, 500 чугуевцев.
Немецкие всадники столкновений с казаками не выдерживали. Пики поражали их прежде, чем они могли достать донцов своими палашами, рушился строй — а потом уже в дело вступали казачьи сабли. (И по опыту этой войны в европейских армиях также стали создаваться легкоконные части, вооруженные пиками — уланы, пикинеры). В сентябре 1760 г. в составе отрядов Чернышева и Тотлебена казаки Краснощекова, Дячкина и Туроверова участвовали в первом взятии русской армией Берлина. Да, еще не было песни «едут-едут по Берлину наши казаки» — а они уже ехали. Захватили в качестве трофеев мундир и ордена самого Фридриха. И, кстати, отметились еще одним важным делом — выпороли берлинских газетчиков, которые в своей прессе поливали Россию беспардонной грязью и клеветой. (Может, как раз с этого момента казаков так не любят средства массовой информации?)
В 1761 г. полки П.А. Румянцева осадили Кольберг в Померании. Два корпуса, направленных Фридрихом на выручку крепости, были разбиты казаками и русской регулярной кавалерией, командир одного из корпусов, генерал Вернер, попал в плен к донцам Краснощекова. Кольберг пал. Однако война оборвалась внезапно. Умерла Елизавета, и корону получил Петр III (Карл-Петр-Ульрих Голштейн-Готторпский), ярый поклонник Фридриха. Немедленно вернул своему кумиру все завоевания и в мае 1762 г. заключил с ним не только мир, но и союз против прежних союзников австрийцев. Такое пренебрежение к пролитой русской крови и плодам одержанных побед стоило Петру III трона и жизни. 28 июня 1762 г. гвардия свергла его, возведя на престол нелюбимую супругу Петра Екатерину II (Софью-Фредерику-Августу Ангальт-Цербст-Бернбургскую). В Петербурге в этот момент находилась донская легкая станица во главе с войсковым атаманом Степаном Ефремовым и приняла активное участие в перевороте. За это Ефремову была пожалована именная сабля, а войсковой старшина Поздеев, войсковой дьяк Янов, есаулы Сулин и Ребриков были награждены медалями.
Что ж, после бироновщины, бестолкового правления Елизаветы и уж тем более Петра III, Россия получила действительно умную и деятельную императрицу. Даже будучи чистокровной немкой, она направила политику в национальное русло. Проявляла весьма широкую веротерпимость, но вместе с тем всячески подчеркивала ценности Православия. Стала первой правительницей, запретившей в России масонские организации. Обратила внимание и на казаков. В 1767 г., когда развернулась работа по выработке нового законодательного Уложения, Екатерина велела избрать депутатов и от Казачьих Войск, выработать казачьи наказы. Впрочем, кампания не дала практических результатов — наказы от разных сословий и групп населения слишком противоречили друг другу. А потом стало вообще не до того.
На границах снова сгущались тучи. И толчком к очередной полосе жестоких войн стали события в Польше. На ее престол усилиями Петербурга был возведен Станислав Понятовский. И Екатерина, добившись этого успеха, в 1768 г. потребовала от поляков прекратить преследования Православной Церкви, издевательства над православным населением и уравнять его в правах с католиками. Сейм отказал. Тогда русский посол в Варшаве Репнин, недолго думая, арестовал четверых главных оппозиционеров и выслал в Россию. Перепуганный сейм согласился на все требования. Но радикально настроенные паны собрались в г. Бар и создали конфедерацию, объявив короля и сейм низложенными. Екатерина двинула против них войска. Поляков активно поддержал папа римский, Франция слала им деньги, оружие, направила своих генералов и волонтеров. И подстрекала к войне Турцию.
Отношения между Петербургом и Стамбулом оставались не лучшими. Россия готовилась продолжить борьбу за выход к Черному морю. И для этого, поскольку Азов считался демилитаризованным, в 1761 г. была заложена крепость Св. Дмитрия Ростовского (ныне Ростов) — как опорный пункт и перевалочная базы для войск. Готовилась к схватке и Турция. Теперь она сочла момент подходящим, получила от Франции 3 млн. ливров субсидий. И когда русский отряд Вейсмана, преследуя разбитых поляков, укрывшихся в турецкой части г. Балты, ворвался туда, для султана это стало предлогом объявить войну. Но Россия оказалась достаточно сильной, чтобы сражаться с несколькими противниками.
Барская конфедерация была чисто панской, на ее стороне дрались отряды шляхты и французских наемников. Народной поддержки, а уж тем более со стороны белорусов и украинцев, она не получила. Мало того, на Правобережье началось восстание казаков и крестьян против помещиков, возглавили его Максим Железняк и Гонта. Но король Станислав был как бы русским союзником. Взмолился к императрице, и ее войска помогли полякам, разгромив повстанцев под Уманью. Однако судьбы разных частей мятежников оказались очень различными. Железняк и 167 его соратников остались в русском плену, они были сосланы в Сибирь и приняты на службу в Забайкальское Войско. А 400 человек, выданных полякам, были казнены, с Гонты заживо содрали кожу.
Война же против конфедератов носила «партизанский» характер. Небольшие отряды гонялись по лесам за скопищами шляхты и достаточно легко громили их. Но возникали другие скопища, и их тоже приходилось перехватывать. Казаки (а сюда было направлено 9 тыс. донцов) оказались для такой войны как нельзя кстати. Особенно отличился в этих схватках отряд бригадира Александра Васильевича Суворова. Он познакомился с казаками еще в прусскую войну в боях под Кольбергом, вполне оценил их боевые качества. Именно с казаками он впервые прославился как решительный и талантливый командир. И не кто иной, как Суворов стал первым военачальником, сумевшим грамотно использовать особенности казаков и их приемы. Родились-то эти приемы сами по себе, и казачьи командиры их применяли сами по себе. Но Суворов сделал казачью тактику частью общеармейской, включил во взаимодействие с другими войсками. Так, в битве у Ландскроны 4 тыс. поляков и французов генерала Дюмурье заняли очень выгодную позицию на гребне холма, прикрытые пушками крепости. Суворов, имея 3,5 тыс. пехоты и конницы, принял неожиданное решение атаковать казачьей лавой. Когда редкая цепочка из двух сотен казаков с пиками поскакала вперед, Дюмурье глазам своим не поверил. И боялся лишь одного, как бы Суворов не отменил атаку. Даже запретил стрелять и объявил панам, что победа у них в руках: едва казаки появятся на гребне, их сметут прежде, чем они перестроятся. Но они перестроились во мгновение ока, вынеслись на холм уже сомкнутым кулаком и врезались в правый фланг врага, сломав его строй. А тем временем подоспела русская тяжелая конница, ударив по левому… Разгром был полный.
Не менее доблестно дрались казаки на турецком фронте. В январе 1769 г. крымский хан с 70 тыс. конницы вторгся на Украину. Погромил окрестности Елисаветполя, Запорожья, Бахмута, но был отбит регулярными частями и казаками. И это было последнее из крымских нападений, допекавших Россию более 200 лет… Возникали и новые казачьи формирования. В составе турецких войск был полк, сформированный из некрасовцев, валахов, сербов, болгар. Когда его направили против русских, он не стал сражаться и перешел на нашу сторону. А в российской армии сущуствовал «Нововербованный» полк из правобережных (польских) украинских казаков. Эти два полка были объединены и составили Бугское Казачье Войско. С началом войны, отменившей условия прежних договоров, Екатерина велела укреплять Азов, заново строить Таганрог. В качестве гарнизонов были сформированы Азовский и Таганрогский казачьи полки. Они создавались на базе Войска Донского, но в Азов и Таганрог переселяли бежавших на Дон крестьян и провинившихся, штрафованных казаков. Они выбывали из Войска, полками командовали русские офицеры.
Прекрасно воевало Запорожское Войско, выставившее 7,5 тыс. конницы. Отряды, возглавляемые кошевым Петром Калнышевским, войсковым судьей Павлом Головатым, полковниками Чепигой, Ковпаком, Носом фактически выиграли борьбу за степь, совершали поиски под Гаджибей, Очаков, Кинбурн, Перекоп, разгромив татарские орды и заставив их прятаться по крепостям. Но особенно прославилась запорожская флотилия. Она состояла всего из 38 «дубов» (или «байдаков»), на каждом — 1 легкая пушечка-фальконет. А команды насчитывали 2 тыс. казаков. В первые годы войны другого флота на юге у России еще не было, его только начали строить. И запорожцы творили чудеса. В мае 1769 г. турецкая эскадра Хасана-Кызыл-Исарли из 20 больших кораблей с десантом из 12 тыс. воинов двинулась вверх по Днепру. Запорожские лодки под командой Филиппа Стягайло устроили засаду в плавнях. Подпустив врага в упор, первым же выстрелом отбили руль у флагманского корабля, и он сел на мель. В ходе сражения турки потеряли еще 3 судна и повернули назад.
В кампанию 1770 г. запорожская флотилия под руководством Данилы Третьяка выиграла морской бой у Кинбурна против эскадры из 11 кораблей. А донские казаки в составе армии Румянцева 7 июля 1770 г. громили крымского хана при Ларге. Вскоре подошла 150-тысячная турецкая армия Халил-паши. С русскими она встретилась на р. Кагул. В это время с Дона прибыл полк Дмитрия Иловайского, укомплектованный молодежью. И когда Халил с большой свитой выехал на рекогносцировку, полк Иловайского, стоявший на передовых постах, напал на него. Рассеяли конвой, один из казаков даже ухватил за бороду самого пашу, но он вырвался и ускакал. При возвращении полка в лагерь вся армия по приказу Румянцева встретила его музыкой, барабанным боем и криками «ура». В битве 18 июля турок разбили вдребезги. Иловайский геройски проявил себя и под Бендерами. Когда войска штурмовали крепость, турки скрытно вывели 2 тыс. воинов и предприняли опасную вылазку с целью ударить по обозу, внести панику и заставить атакующих отступить. Казаки в штурме не участвовали, их оставили на наблюдательных постах. И Иловайский, быстро собрав их, обогнал врагов, настиг возле самого обоза и отбросил.
После таких поражений в подданство России запросились перейти ногайские орды. В Бахчисарае тоже возникла партия, предлагавшая последовать их примеру. И чтобы подтолкнуть подобные настроения, в 1771 г. на Крым двинулась армия В.М. Долгорукова, в составе которой был отряд запорожцев и 7 тыс. донцов. Штурмом взяли Перекоп, разгромили выдвинувшуюся сюда ханскую армию и в одну кампанию овладели городами и крепостями полуострова. Тут отличился донской есаул Василий Андронов. В начале войны он попал в плен, перенес пытки, издевательства. Сумел бежать, вернулся в строй и при штурме крепости Еникале проявил чудеса храбрости, рассчитавшись с врагами сполна.
А запорожцам императрица приказала перебазировать половину флотилии на Дунай. Плаванию придавалась огромное значение. Екатерина назначила особые награды — 1 тыс. руб. тем, кто пойдет на первой лодке, 500 руб. экипажу второй, по 300 на остальные. На каждую лодку требовалось взять по одному писарю, чтобы составить описание берегов, глубин, селений. На 19 челнах отправились 988 казаков во главе с полковником Яковом Седловским. По дороге у о. Березань захватили вражеский корабль, а у устья Дуная победили и взяли на абордаж 8 галер с 26 пушками. Отряд стал ядром формирующейся Дунайской флотилии капитана I ранга И.И. Нагаткина. Турки чувствовали себя на Дунае хозяевами, плавали спокойно. Теперь этому пришел конец. Запорожцы захватывали и топили их суда. 11 июля 300 казаков на 6 лодках под командованием секунд-майора Белича, сделав засаду в камышах, разгромили у горы Буджак целую эскадру из 4 галер и многих мелких судов. Не потеряли ни одного человека, уничтожив свыше тысячи врагов. Такие операции перерезали речные коммуникации турок, их крепости были изолированы друг от друга. И отряд генерала Вейсмана одним рейдом взял Тульчу, Исакчу, Бабадаг, Мачин, запорожский десант овладел городом Гирсово. Отважный командир сечевиков Седловский в этих боях был ранен и вскоре скончался.
В 1772 г. завершилась война с поляками. Россия договорилась с Австрией и Пруссией, они тоже ввели войска в Речь Посполитую, сопротивление было окончательно подавлено и состоялся первый раздел Польши. К России отошли православная Белоруссия, Подолье, Волынь. Да и Турция была совершенно измочалена, согласилась на переговоры. Однако в Стамбуле породило новые надежды восстание Пугачева, османы стали упорствовать, отвергать русские требования. И пришлось их склонять к миру новыми ударами.
С войсками, переброшенными из Польши, прибыл и Суворов. Он и на Дунае умело использовал казаков. Например, посылал их выманить вентерем турок с укрепленных позиций. Но однажды донцы его подвели. Впрочем, и выручили. На день св. Георгия-Победоносца они крепко выпили, и утром 400 спагов ворвались вдруг в русский лагерь, 30 из них поскакали к палатке Суворова. Но рядом на копне сена спал есаул Захарий Сенюткин, бросился с несколькими казаками на помощь генералу и отбил турок. Суворов потом обнял Сенюткина перед строем: «Спасибо, чудо-богатырь! Ты спас меня от верной гибели!» А во время рейда на Туртукай выручать Суворова довелось запорожцам. Когда он переправился за Дунай, турки прислали флотилию, блокировавшую его с тыла. Но своевременно подоспели 20 лодок полковника Ивана Дуплича и заставили неприятельские суда убраться. Через две недели Дуплич погиб в бою под Силистрией.
В этой войне ярко взошла звезда Федора Петровича Денисова. Он был простым казаком, вырос на службе до есаула. Отличился в битве при Ларге, лично изрубив 7 татар, вскоре получил под команду полк. За одержанные победы был пожалован чином армейского подполковника, а турки его прозвали «Денис-паша». Одно его имя наводило ужас на неприятелей, в ходе войны его полк захватил 68 пушек, 108 знамен, 3 тыс. пленных, а уж скольких врагов положили в степях, вряд ли можно было сосчитать. Сражения завершились в 1774 г. подписанием Кучук-Кайнарджийского мира, по которому Россия получала земли между Днепром и Бугом, Кинбурн, ряд крепостей в Крыму, право черноморского плавания. Турция признала независимость Крыма и Грузии.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
О традициях |

В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
О традициях
Факты свидетельствуют: на историческую арену казачество вышло весомой силой, в значительной мере сложившейся общностью, с уже сформировавшимися традициями — братства, самоуправления, самоорганизации, казачьего обычного права. Такой комплекс традиций никак не мог возникнуть сразу, случайным образом. И можно показать, что он вырабатывался в течение долгого времени, веками. Например, обычаи воинского круга были присущи многим древним народам — германским, славянским, есть версия, что и у скифов цари выбирались на кругу. Но от древнерусского веча и земских сходов Средневековой Руси казачий круг значительно отличался как по ритуалу, так и по функциям. Он был не только избирательным, но и высшим законодательным, административным и судебным органом с огромными полномочиями.
Как уже отмечалось, слово «казак» сарматское. И атаманская булава тоже пришла к казакам от сарматских народов. У них она являлась символом власти князей и военачальников, «булавы вождей» считаются у археологов характерной особенностью сарматских погребений. А само слово «атаман» северное, оно встречается в новгородских документах. И пришло от варягов, т.е. балтийских русов. В их языке было много германизмов, и «ватт-ман», «атта-ман» называли предводителей варяжских дружин, что означало «отец-витязь», «отец-муж». Отсюда и казачье «батька-атаман». От этого же народа перешел обычай запорожцев брить голову, оставляя оселедец — у русов оселедец считался признаком знатного рода. Лев Диакон, описывая князя Святослава, упоминает и одну серьгу в ухе. У казаков она означала единственного сына у матери — каковым и являлся Святослав.
Слово «есаул» — тюркское, «хорунжий» — польское, «писарь», «сотник», «судья» — русские. А среди казачьих законов, как уже отмечалось, встречаются и такие, которые действовали еще в начале нашей эры. То есть обычаи, терминология формировались постепенно, заимствуясь от разных народов. Но они отнюдь не случайны. Казаки и их предки почти всегда жили в экстремальных условиях. Для которых такие традиции оказывались оптимальными. Без братства, взаимопомощи было нельзя. Оптимальным являлся и обычай самоорганизации. Ведь любой народ можно покорить или рассеять, если разбить его войско, убить или пленить князя, хана — и обезглавленная, беззащитная общность капитулирует или развалится. Но казаки сами по себе в своей совокупности были войском! И даже если в столкновении с врагом большинство погибнет, но уцелеет хотя бы трое, то они и будут войском. Могут составить круг, выбрать нового атамана и станут костяком для восстановления своей общности. Откуда и пословица «казачьему роду нет переводу».
В дореволюционной и советской историографии была внедрена теория, будто казачество составилось из беглых крепостных и староверов. Но почему-то никто из авторов таких утверждений не счел нужным задуматься, что до 1593 г. крепостного права на Руси не существовало, любой крестьянин имел право легально уйти от помещика на Юрьев день. Церковный же раскол случился в середине XVII в. Казачество сформировалось задолго до этих дат. Да и куда стал бы бежать крестьянин? В татарский плен? Дикое Поле потому и значилось «диким», что без умения владеть оружием, без организации и навыков выжить здесь было невозможно. И привычного хозяйства крестьянин тут никак не смог бы вести.
Существуют и гипотезы, что казаки составились из тех, кто удрал от царских репрессий, из беглых преступников, из шаек разбойников, выходивших в степь пограбить. Эти версии также не выдерживают критики. Разве правдоподобно, чтобы пострадавшие и обиженные в России проявляли такую верность ей, отдавали за нее жизни? Скорее, сомкнулись бы с ее врагами, как и поступали эмигранты в эпоху Ивана Грозного, некрасовцы и т.п. Наконец, попробуйте представить, возможно ли братство и общая спайка между разномастными разбойничьими бандами? А ведь у казаков это было объединяющим началом — братьями считали друг друга казаки Дона, Днепра, Яика, Терека.
Да, казачество интенсивно пополнялось извне. Но за счет кого? В основном — жителей приграничья, привычных к условиям военного быта. Примыкали и просто удальцы, «руку правую потешить», удачи поискать. Давали приток постоянные татарские набеги. Если степняки сожгли деревню, перебили и угнали близких, уцелевший мужик уходил в казаки. У него с татарами были теперь свои счеты. Как и у тех, кто бежал из плена. Впрочем, присутствовал и «разбойный элемент». Например, новгородские ушкуйники. Когда Иван III присоединил Новгород, переселив в другие земли часть его жителей, взял под контроль Верхнюю Волгу и Север, прежний промысел ушкуйников стал невозможен. И они подались в казачью среду. Видный исследователь истории Терека, Н.Н. Великая, приводит многочисленные доказательства присутствия в казачьей культуре новгородских элементов.
Но, повторюсь, разрозненные группы и одиночки сплотиться в единое явление под названием «казачество» никак не могли бы. А традиции казаков, хоть и имели местные отличия, но их главная основа является общей для всех рек и Войск! И как раз эти традиции становились индикатором принадлежности к казачеству, базой для его формирования. Значит, были и носители традиций. Ими являлись остатки «изначального», древнего казачества. Они и стали костяком, обраставшим новыми людьми, но обеспечивавшим общность и духовное единение. Как и адаптацию к специфическим условиям существования. В XVI—XVII вв. любой пришлый сперва становился «товарищем» старого казака. Который выступал его наставником, опекуном. И лишь прижившись, зарекомендовав себя, человек признавался полноправным казаком.
Еще раз коснемся и сказок о том, будто казаки в ту пору не женились. Разумеется, летописи и переписка царей их жен не упоминают, в документах подобного уровня такие вещи никогда не фиксировались. Но никаких законов о безбрачии у казаков не существовало, они не были ни аскетами, ни извращенцами. Запрет на связь с женщинами действовал только в походах, как и «сухой закон» — вполне здравые требования для поддержания дисциплины. На Дону в XVI в. неоднократно упоминаются сыновья казаков, потомственные казаки — а дети без жен, как известно, не получаются. В царской грамоте 1624 г. упоминается, что еще раньше, в XVI в., многие донцы имели семьи в российских окраинных городах. Польские источники сообщают о женах днепровских казаков, живших в Черкассах, Каневе, Киеве. Ян Сеннинский писал о казаках: «Женщины у них наравне с мужчинами участвуют в военных действиях». Предания гребенцов говорят, что они издревле жили семьями, часто умыкали на женитьбу девушек у горцев. О семьях сообщают и предания уральцев. А Назаров, сопоставивший прозвища яицких казаков, встречающиеся в документах XVI в., с данными переписей 1632, 1723 гг., метрическими книгами XIX в., выявил четкую преемственность — некоторые прозвища продолжали существовать, превращаясь в фамилии. Кстати, среди прозвищ XVI в. нередко встречается «болдыря» — а по казачьей терминологии так называли сына не-казака и казачки.
Другой вопрос, что многие казаки и впрямь оставались холостыми, не успевая обзавестись семьей из-за бурной и непоседливой жизни. Или становились вдовцами. Смертность была высокой, а опасность подстерегала каждый час. Один удачный налет на городок, когда казаки в походе — и они остались без жен и детей. Иностранцы посещали Дон уже позже, в начале XVII в. И в своих описаниях отмечали очень большую свободу казачек, их красоту, силу, выносливость, чистоту и опрятность жилищ. Рассказывали и о брачных обычаях. Церквей и священников тут еще не было, и жених приводил невесту на майдан. Атаман перед лицом всех казаков спрашивал молодых, любы ли они друг дружке, и объявлял мужем и женой. Легким был и развод — казак и его супруга снова приходили на майдан, муж свидетельствовал, что она была хорошей женой, но любви больше нет. И слегка отталкивал ее от себя. После чего другой холостяк был вправе накрыть ее полой зипуна, предлагая себя в мужья.
Обычаи, кстати, весьма архаичные и не славянские. На Руси развод был возможен только при уходе одного из супругов в монастырь. Впрочем, и в других вопросах отношение казаков к религии имело свою специфику. В России той эпохи чрезвычайное внимание уделялось внешним атрибутам: постам, регулярному посещению храмов, ритуалам праздников и т.п. Казаки были очень набожны, но выполнять эти требования попросту не могли. Как соблюдать посты, если хлеб покупной и не всегда есть, а основу питания составляют мясо и рыба? Священнослужители иногда имелись, но были и из расстриг, беглых монахов. Это считалось нормальным, где других взять? Иногда навещали священники, командированные Крутицкой епархией. Но часто их обязанности выполняли «уставщики», избранные из своей среды — те, кто лучше знает молитвы. Исповедовались им же или друг другу. А перед боем прикусывали кончик собственной бороды — полагали, что это в какой-то мере заменяет причастие.
Была распространенной и такая форма покаяния, как обеты. Искупаться на Крещение, сделать вклад в монастырь. По обетам казаки периодически отправлялись на богомолье в монастыри — то в близлежащие, а то и в далекие, например, на Поморский Север. «Отмаливали грехи», после чего возвращались к привычному образу жизни. Но если, скажем, купец Афанасий Никитин, будучи за границей, не имел возможности соблюдать посты и службы, сбился с календаря церковных праздников и был от этого в ужасе — писал, что теперь его душа наверняка погибла, то казаки так не считали. Они пребывали в уверенности, что служат Богу по-своему, защищая православных людей от басурман. И Господь это учтет. Таким образом, вырабатывалось осознание себя воинами Христовыми. Не в качестве гордыни или претензий на исключительность, а как констатация факта. Воины Христовы, а уж Он разберет, кто достойно послужил Ему, а кто оказался нерадивым.
Вера стала и одним из краеугольных камней традиций. А вторым была воля. Но здесь надо обратить внимание, что в XIX в. либералы произвели подмену понятий, внедрив вместо «воля» — «свобода». Идеализировалась «борьба за свободу», этот термин стал подразумеваться заведомым благом и противопоставлялся «рабству». А в таком контексте как же не согласиться? Однако в XVI—XVII вв. на Руси слово «свобода» применялось очень редко. В ходу был термин «воля». Который совпадает со «свободой» лишь в одном из значений, а в других расходится. Понятие «свобода» чисто механическое. Так, в физике говорят о «степенях свободы». Одна степень — способность частицы телепаться вдоль одной оси, две степени — по двум осям, три — по всем направлениям, четыре — тело вдобавок может вращаться вокруг одной оси, пять — вокруг двух осей, шесть — если способно перемещаться в пространстве и кувыркаться как угодно… Термин «воля», в отличие от «свободы», включает в себя целенаправленное, осмысленное начало. Говорят — «моя воля». (В том числе, если сочтено нужным, и воля на то, чтобы ограничить свою свободу). Данное понятие включает и усилие по достижению цели — «волевое усилие», «силу воли». Наконец, оно имеет много уровней. Есть воля одного человека, воля коллектива — которая выше воли индивидуума, есть и Божья Воля…
«Свобода», доведенная до абсолюта, дает анархию, хаос. То бишь, царство лукавого. Воля — нет. Для нее идеалом будет случай, когда воля отдельного человека совпадает по направлению с волей коллектива и с Божьей Волей. И слово «рабство», на самом-то деле, антоним не для «свободы», а для «воли». Невольник — человек, не способный действовать по своей воле. В наше время можно привести массу примеров, когда люди, юридически вполне свободные, утрачивают собственную волю и живут по манипуляциям пропаганды, бездумно следуют в русле навязанных им стандартов и ценностей. И вот эту разницу важно учитывать для правильного понимания психологии казачества и его истории.
Последующие исследователи внесли и искажение другого порядка — отождествление казаков с легкой конницей. То есть с родом войск. И в итоге ряд современных ученых договаривается до вывода: дескать, в современной войне легкая конница не нужна, поэтому и казачество не имеет будущего. Однако в действительности казаки были конницей далеко не всегда. Изначально они были пехотой и десантниками. Для табунов нужны пастбища, а степь еще принадлежала татарам. В кавалерийских боях с крупными отрядами степняков шансов на победу у казаков было мало. Как и на то, чтобы уйти на конях от татарской погони. Лошади имелись у служилых казаков — для разъездов, сторожевой службы. Вольные казаки тоже умели ездить верхом (как и все тогдашние русские), но использовали коней ограниченно — находясь на службе, для отдельных рейдов и дальних переездов (для чего их угоняли у татар). А главным транспортным средством являлась лодка. И операции чаще всего осуществлялись на лодках. Скрытно подплыть, внезапно высадиться, ударить, а потом отчалили — и попробуй достань на воде. И исчезли в сплетениях рек и проток.
Основной тактикой была стрелковая. Казаки учились владеть оружием с детства и славились исключительной меткостью. Что и не удивительно, ведь пропитание добывали охотой. Причем в середине XVI в. огнестрельное вооружение применялось еще не слишком широко, но казаки всеми силами стремились обзавестись им — захватить, купить, выменять. И выделялись именно как мастера «огненного боя», оснащенность им была в среднем выше, чем в российской или европейских армиях. В морских столкновениях или при десантировании один борт лодки стрелял, другой перезаряжал ружья. Сметали врага огнем, а потом бросались в сабли.
А на суше казаки проявляли себя отличными фортификаторами. Первым делом старались огородиться, очень быстро возводили «острожки» (иностранцы называют их «фортами»). Или «засекались» завалом срубленных деревьев, делали кольцо из телег. Провоцировали противника на атаку, из-за укрытий косили пулями и стрелами, а потом довершали дело решительной контратакой. Подобную роль играли и укрепления казачьих городков. Преодолеть их вражеская конница не могла. А спешившись, татары в значительной мере теряли боевые качества. Казаки отстреливались, наносили им урон. А вести планомерную осаду, глядишь, и не станут — добыча небольшая, а серьезные потери гарантированы. Своя «табель о рангах» — атаманы, есаулы, старшины, формировалась у казаков независимо от государственной службы. Она тоже диктовалась жизнью: чтобы при необходимости быстро сорганизоваться, определить, кто из наличных казаков возглавит отряд.
Ну и в заключение коснемся еще одного вопроса. Древние касоги были отдельным неславянским народом (точнее, группой племен). Но они смешались с бродниками, приняли Православие, пошла широкая подпитка за счет русских, украинцев. Что же получилось? Этнос? Субэтнос? Впрочем, тут встает еще одна проблема… Выясняется, что до сих пор не существует однозначной формулировки, а что же это такое? Все определения этноса и субэтноса, сделанные различными учеными авторами, опровергнуты другими авторами, не менее учеными! Как ни парадоксально, современная наука не установила даже четких признаков, по которым выделяется этнос. Государственность? Нет. Существует множество народов, никогда не имевших своей государственности. Происхождение от общих предков? Опять нет. Оно никогда не может быть полностью общим. И наоборот, общие предки могут оказаться у разных этносов. Потому что любой народ формируется из множества компонентов, да и продолжает вбирать в себя те или иные «добавки» все время своего существования. Это характерно и для русских, и для французов, немцев, турок, американцев…
Казалось бы, однозначный признак — язык… И снова нет! По данному признаку мы должны были бы признать одним народом португальцев и бразильцев. Или испанцев, мексиканцев, кубинцев, филиппинцев. По этому признаку нам пришлось бы признать народом воров, «ботающих» по-фени. Вместе с тем нам пришлось бы считать, что нет немецкого народа, поскольку наречия разных германских земель очень сильно отличаются. Что нет грузинского этноса — там тоже диалекты настолько разнятся, что жители соседних долин могут друг друга не понимать. И что нет еврейского народа — у него много языков: иврит, идиш, английский, русский и др. Так по каким же все-таки признакам выделять народ? Единственный непротиворечивый ответ пока что дал Л.Н. Гумилев — по стереотипам мышления и поведения, по своей традиционной психологии. И это действительно так. В одной и той же жизненной ситуации представители различных этносов поступят по-разному. На один и тот же внешний фактор отреагируют не одинаково. Допустим, похвала телесных прелестей жены, высказанная французу, будет воспринята как комплимент, а высказанная грузину — как оскорбление. Над шуткой, смешной для русских, не засмеется американец, он ее просто не поймет. А то, над чем будет ржать американец, покажется русскому пошлым и плоским.
При этом происхождение не всегда играет определяющую роль. Человек вполне может переходить из «системы координат» одного народа в систему другого. Так, о семье одного знакомого, переехавшего в США, мне довелось услышать любопытное высказывание: «У его старшей дочки наша, русская улыбка, а у младшей уже типично американская». Важную роль в таких случаях играет самоосознание человеком принадлежности к той или иной общности: кто для него «свои», а кто «чужие». Младшей девочке оказалось легче осознать себя «настоящей американкой», и она быстрее переняла иноземные стереотипы поведения. Точно так же «обрусевали» немцы, шотландцы, татары, когда порывали с прежней родиной и переходили на службу в Россию, навсегда связав себя с ее обычаями и системами ценностей.
И вот если руководствоваться критериями Л.Н. Гумилева, то казачество, выработавшее свою особую психологию, традиции, поведенческие стереотипы, действительно приобрело признаки народа. Однако и отдельным этносом не стало. С русскими казаков связывало Православие. А по понятиям той эпохи «православный» было тождественно слову «русский». Православные украинцы тогда называли себя «русскими». И человек любой нации, принимая православное крещение, становился «русским», с ним обращались как с полноправным русским. То есть казачество стало субэтносом, «народом внутри народа». Впрочем, ведь и сам по себе великорусский этнос, в XV—XVI вв. только еще формировался, объединяя в одно целое значительно отличавшиеся общности московитян, новгородцев, рязанцев, смолян, севрюков, финские племена мерян, муромы, чуди, служилых татар, «литву» и т.д.
Но при слиянии особенности всех этих компонентов стирались, а у казаков, наоборот, утверждались и укреплялись. Почему? Тут надо учитывать, что образование любого нового народа — процесс не только благотворный, но и отнюдь не безболезненный. Самые активные, энергичные люди могут противиться «унификации». Они становятся тормозом на пути объективного процесса и, как правило, погибают — это происходило в феодальных и религиозных междоусобицах Западной Европы, Арабского халифата, Индии, Балканских стран. Однако в условиях России нашлась готовая древняя структура — казачество, которая нуждалась именно в таких людях! Вбирала их в себя. И им она вполне подходила, они дали старой форме новое наполнение. Таким образом формирование великорусского этноса и казачества шло одновременно, было «двуединым» процессом. Случай в мировой истории уникальный, оттого и не удается втиснуть казаков в какую бы то ни было «стандартную» классификацию. Особенностью «двуединого» процесса стало и то, что казаки не отделяли себя от Российского государства (как следовало бы по версии о «беглых» — из самой психологии эмигрантов), а, напротив, крепили связи с ним. И еще одним краеугольным камнем казачьих традиций стал российский патриотизм.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
КАЗАКИ БЕРУТ ПЕКИН |

В. Е. Шамбаров, 2006.
«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»
КАЗАКИ БЕРУТ ПЕКИН.
Николай II, вступивший на престол в 1896 г., не обладал твердостью и решительностью отца. Старался действовать помягче, без конфликтов. И… пошел на поводу «общественности». Снова осмелела либеральная пресса, из всех щелей полезли наверх масоны. Нет, сам царь либералом не был, но под нажимом окружения шел им на уступки. Частные, вроде по мелочам. И характерно, что уже в 1896 г. был восстановлен милютинский закон, разрешавший иногородним селиться в Казачьих Войсках. И снова хлынули. Нанимались батраками к помещикам, богатым казакам, устраивались ремесленниками в городах и станицах, рабочими на шахтах, заводах. Арендовали войсковые и станичные земли. Да и среди казачьих офицеров большинство были бедны, получали значительные паи или наделы в частную собственность, а поднять эту землю не могли, поэтому сдавали в аренду.
И если, например, в Кубанском Войске с 1880 по 1890 г. в связи с «контрреформами» Дондукова-Корсакова доля иногородних снизилась с 43,8 до 38,7 %, то к 1900 г. она подскочила до 56,8 % [118]. Число иногородних превысило количество казаков. Результаты были негативными. С одной стороны, поток извне ухудшал положение казаков. Снижалось паевое довольствие. Уже не хватало земли для выпаса станичных табунов. А цены росли, и с 1900 г. для казаков, призываемых на службу, царь был вынужден ввести пособия в 100 руб. на покупку коня. Но, с другой стороны, и положение иногородних было тяжелым, они завидовали казакам, относились к ним неприязненно. Таким образом в Войсках возникли «мины замедленного действия».
А либеральная и масонская агитация, заражая умы, закладывала другие «мины» по всей стране. Но этому пока не придавалось должного значения. Россия выглядела несокрушимой. Она находилась на пике могущества. Покрывалась сетью заводов, фабрик, железных дорог. Занимала первое место в мире по производству хлеба, но вошла и в число ведущих промышленных держав. Строила мощный флот, перевооружала армию. В частности, казаки получили лучшие в мире на то время трехлинейные винтовки Мосина, револьверы Нагана, появились первые пулеметы Максима. Казачья артиллерия переходила на скорострельные орудия. И вооружаться было действительно не лишне. Заносчиво вела себя Англия. Все более откровенно бряцала оружием Германия — и удержать ее от войны временно удалось лишь заключением союза России и Франции. Николай II попытался решить проблему более основательно. Именно он был первым, кто предложил создать систему коллективной безопасности, механизмы мирного урегулирования конфликтов. По его инициативе в Гааге были созваны мирные конференции, учрежден международный арбитражный суд. Но… тогдашний Запад подобные шаги саботировал. Счел признаком слабости России. Над царем смеялись.
С Востока угроз, вроде бы, не предвиделось. У сибирского казачества после присоединения Средней Азии служба стала вообще спокойной. Отбивать наскоки кочевников уже не приходилось. А везти сибиряков служить в другие края считалось далеко и дорого. Да и не требовалась в армии дополнительная конница. И сибирских казаков использовали для гарнизонной, полицейской службы, в качестве сельской стражи, для этапирования ссыльных, охраны приисков, мест заключения. Но в Забайкалье и на Дальнем Востоке обстановка была иной. Внедрение западных держав и распространение наркотиков в Китайской империи привели ее в упадок. Государственная власть ослабела, в провинциях верховодили преступные группировки. Местная администрация сладить с ними не могла, а чаще контролировалась ими. Расплодились шайки хунхузов, которые стали совершать нападения и на русскую территорию. Да и контрабандисты теперь примыкали к мафиям, были отлично организованными, вооруженными. И у казаков-забайкальцев, амурцев, уссурийцев, солдат пограничной стражи (они вооружались и организовывались по образцу казаков) служба была действительно боевой. С постоянными стычками, перестрелками, погонями, выслеживаниями.
В 1895 г., пользуясь слабостью Китая, на него напала Япония. Разгромила армию, захватывала территории. Но вступились Россия и Франция. Под их давлением японцам пришлось вывести войска. А Россия за покровительство получила от китайцев в долгосрочную аренду Ляодунский полуостров, где начала строить Порт-Артур. Получила и разрешение на строительство через Маньчжурию экстерриториальной Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), значительно сокращавшей путь между Забайкальем и Приморьем. Однако эти приобретения вызвали и пагубные последствия. Япония затаила камень за пазухой. А для китайцев русские стали такими же «белыми» врагами, как англичане и французы.
В 1899 г. тайная организация «Большой кулак» подняла восстание ихэтуаней. Европейцы называли их «боксерами», поскольку ядро повстанцев составили школы боевых искусств. Выдвигался лозунг: «Уничтожим иностранцев!» Правительство императрицы Цы Си даже не пыталось бороться с мятежом, а неофициально поддержало его. Примкнули отряды хунхузов. Восстание быстро охватило страну, в июне 1900 г. ихэтуани вступили в Пекин и осадили международный квартал, где сосредоточились иностранные посольства. Вот тут-то западные державы предпочли «забыть» все противоречия и обратились за помощью к русским. А интересы России и без того были задеты. Китайцы напали на строящуюся КВЖД, зверски убивали служащих. Охрану дороги несли сотни стражников, сформированные из донских казаков. Они приняли бой, прикрывая русское население и позволяя ему уйти. И сами, неся потери, отступили в Харбин, который очутился в осаде. На Амуре хунхузы нападали на казачьи станицы. Большие силы китайцев собрались в Айгуне, бомбардировали из пушек Благовещенск. И царь дал согласие на участие в международной интервенции для наведения порядка.
Операцию предполагалось провести быстро, поэтому привлекались только войска, уже имеющиеся в Забайкалье и Приморье. В приказах частям писалось, что они направлены «для усмирения мятежников» в помощь «законному китайскому правительству». Но… императрица Цы Си в ответ на вмешательство иностранных держав объявила им войну. И против наших войск оказалась вся китайская регулярная армия, плохо обученная, но многочисленная и отлично вооруженная немецкими орудиями и винтовками. Тем не менее, с ней успешно справлялись. Отряд полковника Орлова из 5 тыс. забайкальских казаков вступил в Западную Маньчжурию, занял Хайлар. Харбин был деблокирован стрелками, прорвавшимися на пароходах по Сунгари. А начальник штаба Забайкальского Войска полковник Павел Карлович Ренненкампф двинулся на судах с казаками из Сретенска, по дороге усиливал отряд, собирая амурских станичников, прибыл в Благовещенск, соединился с его защитниками и 2 августа разгромил 9-тысячное китайское войско под Айгунем. И никакие боевые искусства не помогли. Ренненкампф с отрядом в 600 шашек пустился в преследование и велел так гнать противника, чтобы казаки «летели одновременно с вестью об Айгуньском побоище». И гнали до гор Хингана.
У англичан аналогичная попытка наступления кончилась плачевно. Командующий объединенной эскадрой Сеймур высадил 2 тыс. десантников, но они попали в окружение китайцев. Спас союзников присланный из Порт-Артура русский полк, прорвал кольцо и позволил отступить в Тяньцзинь, где русские и британцы были осаждены вместе. Но перебрасывались дополнительные силы, в том числе 1-й Верхнеудинский и 1-й Читинский казачьи полки. Заставили неприятеля снять осаду. Общее командование принял адмирал Алексеев. Когда у него собралось 8 тыс. бойцов, он перешел в наступление и наголову разбил 30-тысячную китайскую армию, она потеряла 3 тыс. человек и 46 орудий. Урон союзников составил 600 убитых и раненых, из них 168 русских.
На отвоеванный плацдарм стали высаживаться англичане, французы, американцы, японцы, итальянцы, немцы, австрийцы. Международная армия составила 35 тыс., главнокомандующим был определен германский фельдмаршал Вальдерзее. Но до его прибытия командование принял генерал-лейтенант Н.П. Линевич. И ждать немца не стал. 7 августа корпусом в 15 тыс. (из них 7 тыс. русских) выступил на Пекин. Еще раз разгромил китайскую армию на р. Пейхо. И 13 августа с ходу пошел на штурм китайской столицы. Одними из первых ворвались в Пекин казаки Верхнеудинского и Читинского полков. Город был взят, посольский квартал освобожден из осады. Потери при штурме составили 128 человек.
Но бои в Маньчжурии продолжались. Ренненкампф с 1-м Нерчинским, Амурским казачьими полками и пешими казачьими батальонами прорвал китайские укрепления на перевалах Хингана и устремился вглубь страны. С боями прошел 400 верст. Все решала быстрота. В одной из деревень китайская рота расположилась на обед, и вдруг во двор влетел разъезд казаков и отсек солдат от их винтовок, приставленных к стене. А в Цицикаре сотня забайкальцев захватила в плен 2 тыс. солдат. Русских служащих КВЖД и членов их семей, захваченных во время восстания, китайцы подвергали пыткам и умерщвляли. Но многим молниеносный рейд спас жизнь. Так, под Цицикаром китайский офицер привез 14 рабочих-строителей. «Один из них, Иванов, великан по росту, которому медленное движение арбы показалось недостаточным, выбежал при виде отряда вперед, бросил соломенную шляпу и начал передовых казаков целовать». Оказалось, что из этой партии несколько дней назад казнили троих, а накануне еще троих повели на казнь, но получили письмо Ренненкампфа с угрозой, что за все злодеяния последует расплата.
Другой казачий отряд, Орлова, шел с запада, форсировал Большой Хинган и в Цицикаре соединился с Ренненкампфом. КВЖД была очищена. Китайцы стягивали силы к Гирину. И адмирал Алексеев предписал всем русским отрядам в Маньчжурии (15 тыс. шашек и штыков с 64 орудиями) объединиться под началом генерала Каульбарса и наступать на Гирин. Но Ренненкампф выполнил это сам с 1 тыс. казаков и 6 пушками. 5 сентября выступил из Цицикара, а через 17 дней ворвался в Гирин, взяв 2 тыс. китайцев в плен и разогнав остальных. Навстречу ему из Южной Маньчжурии двигался с 9 тыс. солдат и уссурийских казаков генерал Субботич. Противостояли ему 22 тыс. китайцев. Наступая по страшной жаре, наши войска выбили врага с сильно укрепленных позиций у Айсянцзяна. Потом одним артиллерийским огнем заставили оставить Ляоян. А 29 сентября заняли Мукден, завершив усмирение Маньчжурии. По итогам войны Китай подтвердил права России и других стран на арендованные территории. Впервые были удостоены коллективных наград, георгиевских труб и знаков на шапки, дальневосточные казаки — 5 забайкальских и 1 амурский полки, 2 пеших забайкальских батальона и 1 забайкальская батарея.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
О КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЕ |
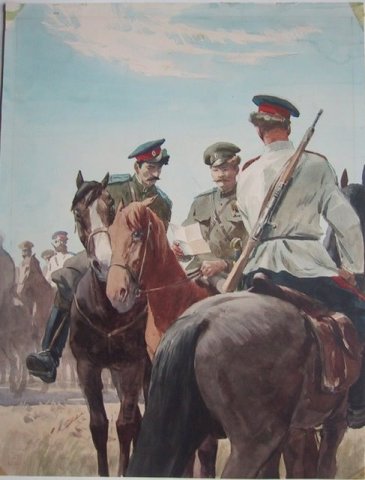
В. Е. Шамбаров, 2006.
КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых
О КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЕ.
Нередко утверждается, будто казаки были ретроградами, отсталой «темнотой». Это, разумеется, не так. Просто они сумели сохранить принцип, характерный для допетровской России — принимать лучшее чужое, но при этом не забывать и не перечеркивать лучшее свое. Причем свое должно оставаться основой. А просвещение и культурное развитие отнюдь не противоречили фундаменту казачьих традиций и шли на том же уровне, что в остальной России. Так, еще в 1722 г. донской атаман Максим Фролов послал в Москву сына и племянника «ради изучения в школе книг латинского и немецкого писания и других политических наук» — примерно в это же время и российские дворяне стяли посылать детей на учебу. И если в начале XVIII в. порой еще попадались неграмотные атаманы, то это явление наблюдалось и среди дворян, даже высшей знати (князь Меншиков). Но постепенно оно было изжито.
Украинская старшина еще в XVII в. старалась дать своим детям хорошее образование, эта традиция сохранилась и в XVIII в. Казаки определяли сыновей в Киевскую академию, старшина нередко посылала за границу. На Дону со строительством станичных церквей возникли частные школы, которые открывали приходские священники. Детей отдавали на обучение в Мигулинский, Кременской, Усть-Медведицкий монастыри. А казачьи дворяне (как и российские) получали домашнее образование. Известно, например, что Адриан Карпович Денисов во время походов в Польшу и Италию свободно объяснялся по-французски и по-немецки. Частные и монастырские школы были и в Оренбуржье, Сибири. Характеристика на сибирского сотника Иртышской линии Анцифирова в 1760 г. сообщает: «Грамоте читать и писать достаточно умеет». Существовали школы в запорожских паланках. От них традиция перешла к черноморцам. Черноморское Войско только-только возникло, базировалось еще в Приднестровье, но при нем уже действовала школа. И после переезда на Кубань там тоже стали создаваться учебные заведения.
Государственная программа просвещения в России была принята при Екатерине II. В 1786 г. она повелела создавать Малые и Главные народные училища. В Черкасске Малое училище открылось в 1791 г., Главное, дающее более полное образование по самым различным дисциплинам — в 1793 г. Главные училища были созданы и в центрах других Войск — Екатеринодаре, Оренбурге, Астрахани. А Малые стали организовываться в крупных станицах.
В 1803 г. Александр I издал указ «О заведении училищ», где учебные заведения подразделялись на 4 типа — приходские, уездные, губернские и университеты. Приходские были общедоступными, они существовали при всех церквях. Содержались они за счет казачьей общины, обучали детей 7—12 лет, были одноклассными (3 года учебы) и двухклассными (5 лет). Преподавали священники, дьяконы, причетники. Изучались Закон Божий, чтение, письмо, арифметика. Во второй половине XIX в. дополнительно к приходским училищам и церковно-приходским школам по ведомству Синода стали создаваться школы грамотности — в них вели уроки не только служители церкви, но и профессиональные учителя. К уездным училищам в Казачьих Войсках приравняли окружные. В них с 1805 г. были преобразованы Малые народные училища в окружных станицах. Они были трехклассными, и у казаков назывались также «начальственными» — поскольку давали образовательный ценз, необходимый для первого офицерского чина хорунжего. А в губернские училища, гимназии, были преобразованы Главные народные училища.
Огромный вклад в казачью культуру внес Алексей Григорьевич Попов. Уроженец Дона, он окончил Московский университет, в 1782 г. вернулся в Черкасск и был назначен войсковым землемером. Во время боевых действий на Кавказе выполнял и обязанности инженера, проектировал мосты, переправы, командовал артиллерией. В 1801 г. стал начальником учебных заведений в Войске Донском, а в 1805 г. директором Черкасской гимназии. Его называли «почтенным сеятелем просвещения на Дону». Первые исторические сочинения о казаках создавались в XVIII в. людьми посторонними. Историю Уральского Войска написал П.И. Рычков — секретарь Оренбургской экспедиции Кириллова, историю запорожцев — С.И. Мышецкий, военный инженер, посланный Минихом для укрепления Сечи. Историей казаков заинтересовался и Ригельман, строивший крепость Св. Дмитрия Ростовского. Они пользовались устными сведениями, преданиями, но собирали их случайным образом и, не будучи казаками, не могли в полной мере оценить и систематизировать своих данных. А.Г. Попов стал первым исследователем-казаком, в 1814—1816 гг. вышли в свет две части его «Истории о Войске Донском».
Для многих молодых казаков гимназического образования оказывалось недостаточно, ехали поступать в университеты — Московский, Петербургский, Харьковский, Воронежский. Казачьи Войска предоставляли студентам льготу от воинской службы. Обращалось внимание на талантливых юношей из бедняков, выплачивались войсковые стипендии. И таким образом Войско готовило для себя кадры чиновников, учителей, врачей. Яркий пример — 1836 г., вовсю идет тяжелейшая Кавказская война, а Черноморское Войско направляет в Петербург в Академию художеств выпускников уездного училища Елисея Черника и Павла Шамрая (Шамрай, казак из бедной семьи, состоял в уездном училище на общественный счет). Войсковая канцелярия и атаман не забывали о своих воспитанниках, регулярно интересовались, как они живут, чему обучаются. Опекать их и присматривать поручалось офицерам-черноморцам столичной лейб-гвардии, они помогали ученикам и отписывали в Екатеринодар об их успехах, бытовых условиях. Выплачивались очень солидные стипендии, сперва по 750 руб. в год, потом по 1270. По окончании Академии обоим был присвоен чин хорунжего. Черник стал замечательным архитектором, а Шамрай — прекрасным художником, и их искусство послужило на благо родной Кубани.
Казалось бы, распространение образования должно было обойти стороной консервативные старообрядческие общины… Ничуть нет! Выясняется, что среди казаков-старообрядцев была всеобщая грамотность! Учителями выступали родители, уставщики, дети обучались в скитах. Да и войсковых учебных заведений казаки-старообрядцы отнюдь не чурались. Если помните, в повести Л.Н. Толстого «Казаки» хорунжий из старообрядческой станицы служит преподавателем в гимназии.
Впрочем, еще раз подчеркнем, что казачью культуру совершенно не правомочно ограничивать внешней, привнесенной. По-прежнему жила ее внутренняя, народная основа. Если мы, допустим, восхищаемся стихотворением Лермонтова «Спи, младенец мой прекрасный…», то не мешает вспомнить, что записал он «Казачью колыбельную» в станице Червленной, услышав от местной красавицы Дуни Догадихи. И, по воспоминаниям очевидцев, еще долго гребенские казачки пели эту колыбельную. А разве мало других казачьих песен представляют собой настоящие поэтические шедевры? И ведь создавались эти шедевры не одним, а многими безымянными авторами на протяжении всей истории казачества. Это нетрудно проследить по самому содержанию: есть песни, отразившие реалии XVI, XVII, XVIII вв. А, например, «Скакал казак через долину, через Маньчжурские края» могла появиться только в начале ХХ в.
Но, сохраняя внутреннюю живую основу, казачья культура и от «внешней» не отставала. Первая типография на Дону была устроена в 1817 г. А с 1839 г. стала выходить газета «Донские войсковые ведомости». В период реформ Александра II по расширению «устности и гласности» казачья пресса вышла на новый уровень. На одном только Дону выходили «Донской вестник», «Донская газета», «Донские областные ведомости», «Донская речь», «Приазовский край», «Таганрогские ведомости», журнал «Дон», сборник «Часовой». Свои газеты были и в других Казачьих Войсках. Например, в Оренбуржье с 1839 г. издавались «Оренбургские губернские ведомости», потом добавились «Оренбургские епархиальные ведомости», «Оренбургские известия», «Оренбургский листок», «Тургайские областные ведомости», «Оренбургский край», «Тургайская газета», «Оренбургская газета», «Наш край», «Степь», «Голос Оренбурга», «Вечерняя почта», юмористические журналы «Кобылка», «Саранча», «Скворец».
В 1850-х гг. в Казачьих Войсках появились публичные библиотеки. Они организовывались по военному ведомству и считались «полковыми». Но в армии такие библиотеки создавались в основном для офицеров, которым в захолустных гарнизонах было нечем занять досуг. В казачьих областях они возникли в окружных и отдельских станицах и стали важными центрами просвещения. На комплектование библиотек вычитался 1% офицерского жалованья. Рядовые казаки могли пользоваться книгами бесплатно, жители невойскового звания за небольшую плату. Библиотеки формировались по разделам: богословие, учебники, языкознание, история, география и путешествия, правоведение и политические сочинения, технология и сельское хозяйство, математика и механика, медицина, естествознание, смесь, словесность. И дошедшие до нас списки показывают весьма широкий ассортимент литературы от военных наставлений и уставов до приключенческих романов и столичных литературных журналов. С 1866 г. при храмах были учреждены церковные библиотеки. А в 1872 г. возникла первая в Казачьих Войсках частная публичная библиотека — ее организовала в Екатеринодаре дочь полковника Мария Белая.
Совершенствовалась и система образования. Гимназии из четырехклассных стали восьмиклассными, уездные (окружные) училища — шестиклассными. С 1839 г. при учебных заведениях были открыты реальные классы, делавшие упор «на приобретение технических знаний», в 1864 г. появились реальные училища. Церковно-приходские школы либералы-реформаторы прижали, в царствование Александра II их число сократилось в 5 раз. Лишь Александр III выправил положение, увеличилось государственное финансирование, и к 1900 г. количестве церковных школ сравнялось со светскими. Часто казаки отдавали детей сперва в церковно-приходскую школу, чтобы они получили устои православного воспитания, а потом переводили в светскую. Внедрялось и ремесленное образование, организовавались сельскохозяйственные, лесные, военно-ремесленные школы, технические, железнодорожные училища.
Особое внимание обращалось на военное образование. В 1839 г. в Новочеркасске был создан учебный полк — фактически школа младшего командного состава. В Войсках организовывались кадетские корпуса: в 1825 г. Оренбургский, в 1826 г. Сибирский, в 1858 г. 2-й Оренбургский и 2-й Сибирский, в 1883 г. Донской, в 1900 г. Владикавказский, Екатеринодарский, Хабаровский, в 1913 г. Иркутский. В 1868 г. было учреждено Оренбургское казачье юнкерское училище, в 1869 г. — Новочеркасское, за ним Ставропольское, в 1877 г. — Новочеркасский класс казачьих артиллеристов, в 1890 г. в столичном Николаевском кавалерийском училище была создана казачья сотня юнкеров. Действовали и морские классы: на Дону в Аксайской, на Урале в Гурьеве, в Астрахани. Казаки поступали не только в специализированные казачьи, а в общеармейские училища, Академию Генштаба.
Что касается женских учебных заведений, то при Екатерине II Малые и Главные народные училища были общими, для мальчиков и девочек. При Александре I окружные училища и гимназии стали чисто мужскими. Но потом женские казачьи учреждения стали создаваться по… военному ведомству. Так, в Оренбурге в 1832 г. открылось Отделение Неплюевского военного училища (кадетского корпуса) для воспитания девиц. Только в 1855 г. оно было передано на попечение гражданских властей и преобразовано в Оренбургский Николаевский институт. В 1861 г. правительство приняло положение о женских училищах. Они создавались нескольких типов — гимназии и прогимназии, Мариинские институты, епархиальные училища и начальные училища трех разрядов. С 1862 г. в большинстве станиц стали возникать женские училища низшего, 3-го разряда. Обучались в них 1—2 года, преподавали русский язык, арифметику, рукоделие, женские ремесла. Казачки, желающие и имеющие возможность продолжать образование поступали в епархиальные училища, институты, гимназии.
Вторая половина XIX в. характеризовалась и взлетом казачьей архитектуры. Служить стали меньше, жить богаче. Храмы стали возводиться не только в станицах, но и в больших хуторах. Это поощрялось, на строительство каждой церкви из войсковых сумм отпускалось 10 тыс. руб. Лишь с 1869 г. усилиями либералов это было запрещено, строительство пошло только на средства прихожан и сбор пожертвований. На Кубани и Тереке возведение церквей развернулось с окончанием Кавказской войны — прежде они слишком часто разрушались, и их делали деревянными, на время. Теперь пошло строительство каменных. В Екатеринодаре в 1872 г. был закончен и освящен великолепный войсковой собор св. Александра Невского. В Оренбурге в 1895 г. — прекрасный Казанско-Богородский кафедральный собор. А вот Дону в данном отношении не везло. В Новочеркасске войсковой собор был заложен еще Платовым в 1805 г. Но в 1846 г., когда начали сводить главный купол, он рухнул. Постройку возобновили, однако в 1863 г. история повторилась. И лишь в 1905 г. огромный и красивый Новочеркасский собор был построен.
Во второй половине XIX — начале ХХ вв. очень возрос интерес к казачьей истории. Способствовали этому несколько факторов. И развитие просвещения, и ответная реакция на идеи «расказачивания», а позже, наоборот — возвращение России к народным традициям. Появляется целая плеяда замечательных казачьих историков, выходят работы «кубанского летописца» Ивана Диомидовича Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту», «Терские казаки со стародавних времен», «дида кубанской истории» профессора Федора Андреевича Щербины — «История Кубанского Казачьего Войска», Василия Дмитриевича Сухорукова — «Историческое описание Земли Войска Донского». Издаются книги М.Х. Сенюткина «Донцы», В.А. Потто «Два века терского казачества», И.И. Железнова «Уральцы», Н.В. Леденева «История Семиреченского Казачьего Войска», П.П. Короленко «Черноморцы», «Двухсотлетие Кубанского Казачьего Войска», «Предки черноморцев на Днепре и Днестре» и др.
Исследованиями истории Запорожской Сечи занялся И.Д. Яворницкий, написавший целый ряд работ на эту тему и создавший в Екатеринославе краеведческий музей. А устроителем музея донского казачества стал археолог и этнограф Х.И. Попов. Историко-археологический музей возник и в Оренбурге. Интерес казаков к своей истории, гордость ею поддерживались и государством. В 1901—1904 гг. ряду полков были присвоены имена «вечных шефов». В Донском Войске — Суворова, Платова, Бакланова и др., в Кубанском — Екатерины Великой, Потемкина, Чепиги, Головатого, Бескровного, Засса и др., в Терском — Ермолова и т.д.
Среди казаков появились не только историки, но и видные ученые других специальностей — геолог И.В. Мушкетов, географ А.Н. Краснов, металлург Н.П. Асеев, медик В.В. Пашутин, профессора Г.Н. Потапин, Н.А Бородин. Сибирский казак Лавр Георгиевич Корнилов сперва прославился не в качестве военачальника, а ученого-путешественника. Выходец из очень бедной семьи, он с отличием закончил Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, Академию Генштаба и был направлен в Туркестан. Совершил научные экспедиции в Синцзян, Персию, Индию, Монголию. Опубликовал ряд статей, книгу «Кашгария или Восточный Туркестан».
Казачество внесло огромный вклад в российскую культуру. Оно дало стране выдающихся богословов свт. Дмитрия Ростовского, свт. Иоасафа Белгородского, великого философа А.Ф. Лосева, паремиолога (исследователя пословиц и поговорок) с мировым именем С.Д. Мастепанова, писателей А.А. Карасева, Ф.Д. Крюкова, Р.П. Кумова, Н.И. и П.Н. Красновых, В.А. Гиляровского, И.А. Родионова, А.С. Серафимовича (Попова), И.С. Лукаша, Ф.И. Елисеева, поэтов А.А. Леонова, Н.Н. Туроверова, художников И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Н.Н. Дубовского, И.И. Крылова, В.Г. Лазарева, С.Г. Королькова, композитора и фольклориста Г.М. Концевича, композитора С. Таилина и многих, многих других.
Если же оценить в целом образовательный и культурный уровень, то в казачьих областях он был очень высоким. В одном лишь Кубанском Войске перед революцией действовали политехнический и учительский институты, духовная и учительская семинарии, 2 консерватории, около 200 гимназий, 200 реальных и городских средних училищ, 2200 низших народных школ. Или взять, скажем одну терскую станицу Наурскую — казалось бы, в казказском «захолустье». Но на начало ХХ в. в ней было 200 подписчиков газет и журналов, 300 детей посещали станичное училище, действовали библиотека, драматический кружок, были скрипичный ансамбль и духовой оркестр …
И все же процессы культурного развития при всей их благотворности и объективности имели и обратную сторону. Сформировавшаяся казачья интеллигенция перенимала в качестве «прогрессивных» либеральные и революционные идеи. Преподаватель гимназии или училища оказывался более знающим, более эрудированным, чем отец и дед. И расшатывался авторитет старших. А эти преподаватели тоже в большинстве своем ориентировались на «прогрессивные» теории. Правда патриотическое и православное начало в казачестве было покрепче, чем в других слоях населения, и последствия еще не сказывались. До поры до времени…
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
СЕМИРЕЧЕНСКОЕ ВОЙСКО |

В. Е. Шамбаров, 2006.
КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых
СЕМИРЕЧЕНСКОЕ ВОЙСКО.
В Средней Азии существовали три государства, Хива, Бухара и Коканд, под властью которых группировались кочевые племена. Большинство казахов считалось поддаными России. Но часть казахов и киргизы (в XIX в. их считали одним народом и именовали киргизами или киргиз-кайсаками) подчинялись Хивинскому и Кокандскому ханствам. Нападали на русские владения, похищали людей, угоняли скот. Хивинцы чувствовали себя неуязвимыми за безводными пустынями и терроризировали Урал и Оренбуржье, многие казаки и крестьяне попадали на азиатские рынки, женщины пополняли гаремы, мальчиков скопили, превращая в евнухов. Захватывали и подвластных царю казахов, но и разлагали их, инициировали бунты, и порой шайки российских казахов тоже подключались к набегам.
Чтобы эффективно противостоять им и взять кочевников под контроль, в 1820—1830-х гг. посты Оренбургской и Сибирской линий стали выноситься вперед, в степи. В 1834 г. оренбургский генерал-губернатор Василий Алексеевич Перовский основал на Каспийском море Ново-Александровский форт, затем Ново-Петровский на Мангышлаке. С 1835 г. начала строиться Новая линия между Орской и Троицкой — «старая» шла по правому, европейскому берегу Урала, Новая — по левому. Но «разбои» не прекращались. Документы того времени переполнены известиями о них: разгромлен казачий пост в 15 верстах от Оренбурга…ограблен купеческий караван… угнано 25 тыс. овец… пленена команда военного бота во главе с лейтенантом Гусевым… на Иргизе захвачен караван, похищены сопровождающие… На берегу Каспия похищено 200 рыбаков…
В 1837 г. Перовский выслал в степь 550 уральских казаков, в наказание за набеги они захватили скот, пленных, которых обменяли на русских. Было издано постановление о предании военному суду кочевников, уличенных в убийстве, измене, грабежах, неповиновении властям. К Хиве было предъявлено требование вернуть русских невольников. Но она его проигнорировала. И по приказу Николая I был организован поход на нее. Летом 1839 г. оренбуржцы построили промежуточные базы, укрепления Эмбинское и Ак-Булак на Аральском море. А в ноябре Перовский с 5 тыс. казаков и солдат, 2 тыс. казахов (250 вооруженных) выступил в степь. Но начались сильные метели, ударили 40-градусные морозы. С неимоверными трудностями и лишениями отряд добрался до Ак-Булака. Люди замерзали, обмораживались, их начал косить тиф. От холодов и бескормицы пали все верблюды. За неимением топлива жгли ящики, канаты, пожгли деревянные детали укрепления. И 1 февраля Перовский приказал повернуть назад. Отряд потерял 11 офицеров, 3 тыс. нижних чинов и 1 тыс. казахов. Но и хивинский хан оценил угрозу, вернул до тысячи пленных.
К середине XIX в. положение стало осложняться вмешательством англичан. Создав огромную колониальную империю, они считали себя хозяевами мира. Утвердились в Индии, Иране, и их агенты появились в Средней Азии. Соблазняли местных монархов покровительством, настраивали против русских, обещая помощь. Однако и Россия сделала должные выводы из катастрофического похода — и перешла к планомерному наступлению на степь. С 1845 г. далеко впереди Оренбургской линии стала строиться еще одна — по рекам Ирзиз и Тургай — крепости Оренбургская (Тургай), Уральская (Иргиз), Карабутак. В 1847 г. на берегу Аральского моря возникло Раимское укрепление (Аральск) Службу тут несли оренбургские, уральские казаки и солдаты Оренбургских линейных батальонов. В связи с этим продвижением места в Поволжье наконец-то стали безопасным тылом, Самарско-Уфимская линия утратила свое значение, и Ставропольское Казачье Войско, которое ее обслуживало, в 1842 г. было упразднено, казаков переселили на новые рубежи, и они вошли в Оренбургское Войско.
Преобразования происходили и в Сибирском Войске. В 1846 г. оно было реорганизовано по типу Донского, получило своего наказного атамана, было учреждено Войсковое правление, размещенное в Омске. В 1848 г. было принято новое положение о Сибирском Войске, оно выставляло 9 конных полков и 3 батареи. Была создана гвардейская сибирская команда. Для усиления Войска к нему причислили 10 тыс. государственных крестьян. Но большинство из них в казачество не вошло, осталось приписными крестьянами. Да и казаки здесь подразделялись на строевых и резервных. Сибирское Войско привыкло обеспечивать себя само, имело суконную фабрику, кирпичный, кожевенный заводы. И резервные казаки (9 команд) охраняли эти предприятия, заготовляли и сплавляли лес, содержали почту. Строевые же казаки обслуживали Сибирскую линию. И одновременно с Оренбургской линией она тоже двинулась вперед. На юг от Иртыша сибирскими казаками и солдатами Сибирских линейных батальонов была построена крепость Аягуз, а в 1847 г., еще южнее, Копал. Новые крепости позволяли замирять и контролировать окрестных киргиз-кайсаков. Впрочем, и сами они, принося присягу, получали защиту от набегов хивинцев и кокандцев.
В 1851 г. генерал-губернатором Оренбурга и наказным атаманом Уральского Войска вторично был назначен Перовский. Он теперь был более опытным, получил огромные полномочия и значительные средства. Укрепил оборону на линиях, создал флотилию на Аральским море. А в июне 1853 г., тщательно подготовившись, предпринял поход на кокандскую крепость Ак-Мечеть, запиравшую пути в Среднюю Азию и считавшуюся неприступной. Корпус из 5 тыс. человек с 36 орудиями за 24 дня преодолел по жаре 900 верст и пошел на штурм. Бой длился 5 суток, защитники сопротивлялись до последнего и пали почти все. Русские потеряли 175 человек и Ак-Мечеть взяли. Она была переименована в форт Перовский. Дважды кокандский хан посылал войска, чтобы вернуть крепость, но оба раза русский гарнизон крепко побил их, и хану пришлось смириться с потерей. И от форта Перовский стала строиться Сырдарьинская линия. На запад от Аральского моря протянулась цепь казачьих кордонов до нижнего течения Урала.
А на восточном фланге Средней Азии сибирские казаки, сделали еще шаг на юг, в 1853 г. основали крепость Верную (Алма-Ата). Чтобы закрепиться в Семиречье, весной 1854 г. сюда по жребию переселились казаки с Колывано-Кузнецкой и Бикатунской линий (9-й и 10-й полковые округа), к ним добавили 500 крестьянских семей, также включенных в казачье сословие. Появились станицы Алматинская, Надеждинская, Лепсинская и др. Кокандскому хану это очень не понравилось и в 1860 г. его армия и ополчение киргизов вторглись в Семиречье. Навстречу выступил комендант Верной подполковник Герасим Алексеевич Колпаковский. Собрав 2 тыс. казаков и солдат с 8 пушками, он совершил стремительный марш до р. Узун-Агач, и в трехдневных боях разгромил 20-тысячное вражеское войско. После этого силы Колпаковского соединились с отрядом полковника Циммермана и взяли штурмами кокандские крепости Токмак, Пишкек (Бишкек) и Мерке.
Но между крайними укреплениями Сырдарьинской линии и Семиречьем оставался разрыв в 900 верст. Враждебные племена, опираясь на крепости Азрек, Аулие-Ата, Чимкент, Туркестан, проникали в русские тылы. И было решено эти «ворота» закрыть. Войск в Средней Азии было очень мало — 11 оренбургских и 12 сибирских линейных батальонов, казаки трех Войск, весьма немногочисленных. И все эти силы были разбросаны на огромном пространстве в 3500 верст. Но народ был боевой. В мае 1864 г. навстречу друг другу выступили два отряда. От Перовска — полковник Николай Александрович Веревкин с 1200 солдат и уральских казаков при 10 пушках, от Верного — генерал Михаил Григорьевич Черняев с 1500 солдат и сибирских казаков при 4 пушках. Веревкин взял крепость Туркестан. Черняев — Аулие-Ата (Джамбул) и соединился с Веревкиным, приняв общее командование. После оставления гарнизонов в крепостях и потерь общие силы составляли 1 тыс. человек и 9 орудий, но они храбро атаковали Чимкент, где насчитывалось 10 тыс. защитников и 47 пушек. И победили, потеряв при штурме 47 бойцов. Была образована новая область, центром ее стал г. Туркестан.
Кокандский хан решил нанести удар, пока русские не усилились и не укрепились. Собрал 14 тыс. отборной конницы и поставил задачу скрытно, изгоном выйти к Туркестану, внезапно напасть и уничтожить пришельцев. Но неожиданности не получилось… Вероятно, читатели слышали казачью песню:
«В степи широкой под Иканом нас окружил коканец злой,
Три дня, три ночи с басурманом мы там вели неравный бой…»
Она посвящена как раз этому событию. Но в песне есть неточность — «мы шли, полки у нас редели, отважно умирал казак». Там не было полков. У селения Икан 4 декабря 1864 г. неприятельское войско встретила одна сотня 2-го Уральского полка, 110 казаков с 1 легкой пушкой, а командовал ими есаул Серов. Больше чем сто на одного… Подробностей боя потом не помнил никто. Вокруг неслась круговерть вражеских всадников, нападала то с одной стороны, то с другой. А сотня отбивалась — не за укреплениями, а в голой степи. Отстреливалась, отражая атаки. И сама кидалась в шашки, раскидывая неприятелей и упрямо продвигаясь к своим. Это длилось трое суток, без перерывов, днем и ночью. 6 декабря в крепости услышали выстрелы. И выслали несколько рот пехоты узнать, что творится. Но оказалось, что казаки так измотали и потрепали кокандцев, что те боя не приняли. И увидев, что подходят еще русские, повернули прочь. Из 110 героев погибли 52. Не раненными остались 11. Все казаки были награждены Георгиевскими крестами.
В следующем году Черняев с отрядом из 1800 человек выступил на Ташкент. Разбил кокандцев в полевом сражении у стен города, ночью отряд казаков вскарабкался на стены, снял часовых и открыл ворота. Уличный бой продолжался два дня. После чего горожане прислали делегацию объявить о сдаче. Черняев всего с 5 казаками проехал через весь Ташкент к базарной площади и принял капитуляцию — тронуть их уже никто не посмел. Но еще перед приходом русских город обратился к эмиру Бухарскому, отдаваясь под его защиту. Это обстоятельство и происки англичан привели к вступлению в войну Бухары. Но и ее 40-тысячная армия была разгромлена при Ирджаре, в 1866 г. русские взяли Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак.
В 1867 г. на завоеванных землях было образовано Туркестанское генерал-губернсторство из двух областей, Сырдарьинской и Семиреченской. И возникло новое, Семиреченское Казачье Войско — сибирские полки № 9 и № 10 были преобразованы в семиреченские полки № 1 и № 2. Наказным атаманом и начальником области царь назначил отстоявшего Семиречье от кокандцев Колпаковского, произведенного в генерал-майоры. Кстати, у казаков, обосновавшихся в Семиречье, возникла проблема с женщинами. Ведь перебиралась в новые места большей частью молодежь. А семейные, если на них падал жребий, старались откупиться, нанимая за себя холостяков. И указом Сената от 11.02.1865 г. здешним казакам было разрешено покупать и выменивать девочек у кочевников. Их крестили, размещали в русских семьях, до 15-летнего возраста на них выделялось хлебное и денежное жалованье. А женихов они выбирали по своей воле, но только из казаков.
Туркестанский корпус, как раньше Кавказский, представлял собой «особый мир», здесь была введена и особая форма одежды. Белые рубахи, которые в русской армии предназначались для занятий гимнастикой (отсюда и слово «гимнастерка») стали строевыми. Солдат переодели в казачьи штаны-«чембары», а к армейским кепи приделывались белые чехлы с назатыльниками, предохраняющие от солнца. Позже такая форма была распространена и на Оренбургский военный округ. А боевые качества противника были очень низкими. Бухарский эмир и кокандский хан стремились собрать массовые ополчения, но получались толпы, растворявшие в себе хороших наемников-профессионалов. Они были плохо вооружены, необучены, имели низкий боевой дух. В сражениях все решали стойкость и напор, а этого Туркестанскому корпусу было не занимать. Нормальным считалось соотношение рота на тысячу. В 1868 г. генерал-губернатор Кауфман выступил на Самарканд с отрядом в 4 тыс. Их ждало 60-тысячное бухарское войско. Казаки и солдаты вброд ринулись через р. Зеравшан. Перейдя ее, становились на руки, чтобы не тратить времени на переобувание и вылить воду из сапог. Ударили в штыки и опрокинули противника. Но бухарцы сочли, что раскусили магический секрет русских. Через месяц, при Зарабулаке, наши воины вдруг увидели, как враги становятся на голову, а соратники трясут их за ноги. И понеслись в атаку. Их даже не допустили до рукопашной, положили 10 тыс. человек из скорострельных винтовок Карле. Бухара запросила мира.
В 1869 г. англичане инспирировали и вооружили восстание в китайском Кашгаре, банды оттуда принялись нападать на Семиречье. И атаман Колпаковский ввел казаков и отряды солдат в Китай, занял г. Кульджу. Впрочем, вернул эти районы Пекину, когда китайское правительство справилось с мятежом. В 1860-х гг. русские продолжили и освоение восточного берега Каспия. Была построена крепость Красноводск, возникла Закаспийская область. Она поддерживали связь с Россией через море, поэтому была подчинена Кавказскому генерал-губернаторству, и служили здесь кубанские и терские казаки.
А в 1873 г. наши войска четырьмя отрядами двинулись на гнездо разбойников, Хиву. Отряд, шедший из Красноводска, не выдержал тяжелейшего пути через пустыни и повернул назад. Отряды, выступившие с Эмбы и Мангышлака, вместе 6,5 тыс. человек и 16 пушек, встретились у Мангыта и под общим командованием наказного атамана Уральского Войска генерала Н.А. Веревкина отбили нападения хивинцев. В этих боях отличился полковник Михаил Дмитриевич Скобелев. Он командовал авангардом из казаков 1-го Кизляро-Гребенского и 1-го Сунженско-Владикавказского полков, в схватках получил 7 ран. Четвертый отряд, Кауфмана, в 6 тыс. при 18 орудиях шел из Туркестана, едва не погиб в песках — спаслись чудом, случайно обнаружив колодцы. Соединились у Хивы с Веревкиным и 28 мая пошли на штурм. Противник встретил жестоким огнем батарей новеньких английских орудий, контратаками. Кауфман приказал: «Ракетами — по коннице, артиллерия — по воротам». Первым в пролом ворвался 29 мая Скобелев с терцами. Хива пала.
Хан сперва сбежал, но вернулся, при встрече с Кауфманом подполз к нему на животе, просил вернуть ему владения, обещая принести присягу. Было освобождено 10 тыс. русских и казахских невольников. Происходили душераздирающие сцены — многие русские, похищенные в детстве, успели состариться в рабстве. Кидались на шею нашим воинам, рыдали, пытались распрашивать о родных местах. Но еще больше хивинцы «щипали» Иран, не имевший таких систем обороны. В плену оказалось 40 тыс. персов. Когда их отправляли домой, они плакали от счастья, падали на колени перед казаками: «Дозвольте, и мы оближем пыль с ваших божественных сапог». В результате этих побед Хива, Бухара и Коканд сохранили свою государственность, но их монархи признали себя вассалами царя, запретили работорговлю, уступили часть территорий. Граница прошла по Амударье, где был построен форт Петропавловск, устроена линия казачьих кордонов. Службу тут несли уральцы, некоторые поселялись насовсем. Здесь возникли и поселения беглых сектантов-молокан, часть их тоже «оказачилась». Так возникло Амударьинское казачество. Генерал-губернатор Кауфман развивал торговлю, налаживал гражданскую жизнь, открыв в крае 60 школ и первую библиотеку.
Но многие местные феодалы не смирились с ограничениями своего произвола. В 1875 г. кокандского хана Худояра сверг и изгнал восставший бек Пулат. Был провозглашен ханом — с принесением человеческой жертвы, зарезали юношу, окропив кровью кошму, на которой подняли Путата, и он объявил «газават» русским. Англичане прислали деньги, оружие, отряды сипаев. Пошла резня тех, кого сочли сторонниками России. Кокандцы напали на Ходжент, но были отбиты. И Кауфман с 4 тыс. бойцов сам перешел в наступление. Конницей отряда (а она в Средней Азии состояла только из казаков) командовал Скобелев. Под Махрамом 24 августа встретили 60-тысячную армию Пулата. Пехота атаковала в лоб, Скобелев со 2-м Уральским полком и семиреченцами зашел в тыл. Перебили 3 тыс. врагов, остальных рассеяли. Наши потери составили 5 погибших и 8 раненых.
Но едва наши войска, посадив на престол законного хана, ушли, вернулся Пулат, и Коканд опять восстал. На усмирение отправился отряд генерала Троцкого. 1 октября взял Андижан, разгромив 70 тыс. повстанцев. Скобелев снова отличился, был произведен в генерал-майоры. И придумал для себя особую форму — белую. И коня всегда выбирал белого, отчего и получил прозвище «Ак-паша» — «белый генерал». Вскоре ему довелось возглавить первую самостоятельную операцию. В декабре, как только русские, замирив Коканд, покинули его, Пулат поднял третий за полгода мятеж. Скобелев выступил немедленно, однако вынужден был вернуться, в тылу у него восстан Наманган. «Белый генерал» миндальничать не стал, сжег город, пресекая бунт в зародыше. Потом продолжил экспедицию, 31 декабря разгромил 20 тыс. кокандцев на Балыкчанских завалах, 4 января вторично взял Андижан. Пулат был пойман и за свои зверства без долгих разговоров повешен. А поскольку стало ясно, что ханы Коканда не могут держать подданных под контролем, это государство было ликвидировано и преобразовано в Ферганскую область. Ее начальником стал Скобелев. В июле 1876 г. он совершил трудный поход по горной Киргизии, замирив местные племена и приведя в подданство России. Границы нашей страны продвинулись до Памира.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
НУЖДЫ СЕМИРЕЧЕНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА |

Гражданская война в Семиреченском казачьем войске до сих пор является одной из малоизученных страниц отечественной истории ХХ в. В этой связи, большое значение имеет введение в научный оборот новых документов и материалов. Публикуемая статья видного казачьего публициста и общественного деятеля И.Н. Шендрикова является, на наш взгляд, ценным источником в рамках данной темы. Автор ярко отобразил сложившуюся к концу 1918 г. политическую и экономическую ситуацию на территории войска, что дает исследователям представление о масштабах разорения, которое претерпело войско в период гражданского противостояния. Определенный интерес представляют и предложения автора по восстановлению войска — ведь это, в какой-то степени, политическая и экономическая программа самих казаков. По мнению автора статьи, первой задачей по возрождению войска должно было стать освобождение всей его территории от красных, а затем уже решение административных и социально-экономических вопросов.
Автор статьи, Илья Никифорович Шендриков (18.07.1878 — 09.07.1957), родился в станице Талгарской Семиреченского казачьего войска, в казачьей семье. В молодости принимал участие в политических демонстрациях, за что в 1901 г. был исключен из Санкт-Петербургского университета и выслан в Туркестан. Некоторое время состоял в партии меньшевиков, откуда вышел в 1907 г. Несмотря на исключение из университета, Шендрикову все же удалось закончить это учебное заведение спустя восемь лет после исключения.
По окончании университета Шендриков работал присяжным поверенным. В 1917 г. был назначен членом Туркестанского комитета Временного правительства князя Г.Е. Львова. После переворота в Петрограде выступил против большевиков. Активно публиковал статьи по казачьей тематике на страницах периодической печати востока России. В 1918 г. — член совещания представителей казачьих войск при помощнике Военного и Морского министра по делам казачьих войск, юрисконсульт при Главном Управлении по делам казачьих войск и представитель Семиреченского казачьего войска при адмирале А.В. Колчаке. Эмигрировал в Шанхай в 1920 г. Работал редактором шанхайской антибольшевицкой газеты «Русское эхо» (1920-1922). Являлся секретарем шанхайского комитета по оказанию помощи сиротам Великой войны. В 1925 г. являлся одним из организаторов создания и председателем правления Казачьего Союза в Шанхае. Позднее эмигрировал в Сан-Франциско, где и скончался.
Статья «Нужды Семиреченского казачьего войска» была опубликована на страницах официоза правительства адмирала А.В. Колчака — газеты «Русская армия», издававшейся в Омске. И.Н. Шендриков являлся постоянным автором газеты, а его статьи по злободневным казачьим вопросам появлялись тогда практически в каждом номере.
Текст статьи публикуется в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Явные опечатки исправлены без оговорок.
Вступительная статья, публикация и примечания А.В. Ганина
Многострадальное Семиречье в большей своей части все еще находится под властью большевистско-немецких банд.
Северная часть Семиреченской области освобождена — из цепких лап большевиков выхвачены Урджар, Сергиополь, Лепсинск, а южная часть с г. Верным1 до сих пор под пятой жестокого врага.
Невероятные зверства творят большевики над беззащитным, мирным населением.
Начав с зверского убийства члена Туркестанского Комитета Временного Правительства О. Ав. Шкапского2, большевики в дальнейшем вырезали всех сколько-нибудь видных общественных деятелей, всю и без того немногочисленную интеллигенцию в Верном, Копале и в других городах.
И еще совсем недавно по приказу советских властей был убит Епископ Пимен.3
По указке Германского Генерального Штаба, они уничтожили целый ряд казачьих станиц, служивших опорой российской государственности на окраине, сопредельной с Китаем.
Терроризованы киргизы, оставшиеся в целом верными русской ориентации. Аулы и стада киргиз подвергаются грабежам, а население — уничтожению. Киргизы боятся, что с уходом русских, с торжеством большевиков придут в Семиречье китайцы, которых они боятся хуже огня, ибо в китайских пределах все еще господствует средневековье с пытками, казнями и проч.
Цветущий край разорен, подорвана его сельскохозяйственная жизнь.
Первейшей задачей Семиречья является освобождение его южной части и далее Туркестана от большевиков.
Вокруг этой основной цели должны группироваться и все остальные вопросы административного и общественно-экономического характера.
Для более успешной борьбы с большевистско-немецкими бандами прежде всего необходимо построить железную дорогу Семипалатинск — Сергиополь для правильного и планомерного снабжения действующих в Семиречьи (так в тексте — А.Г.) отрядов снаряжением и продовольствием.
Далее, в освобождаемых частях Семиречья надлежит восстанавливать органы административно-хозяйственного управления. Ни от станичных волостных управлений, ни от городских и земских самоуправлений, большевики не оставили ничего, да и должностные лица и делопроизводства уничтожены.
По докладу войскового атамана генерала Ионова4 на возобновленные органы и механизм одного казачьего управления, разоренного большевиками, потребуется до 2 миллионов рублей.
«Механизм 37 станичных правлений уничтожен до основания, здания подожжены, и станичные суммы израсходованы на отряды, сражавшиеся против большевиков».
Испрашиваемая на восстановление станичных правлений ссуда в размере 1 миллиона и ста тысяч рублей, далеко не покрывает всех убытков, понесенных казачьими правлениями. По приблизительно- му подсчету, ныне действующего войскового правления, убытки, причиненные большевиками станичным правлениям, выражаются в сумме 2.601.600 руб.
Освобожденная часть Семиречья нуждается в оказании существенной поддержки в области сельского хозяйства.
Необходимо не только сохранить общую площадь запашки, но и расширить ее, а между тем у казачьего и старожильческого населения нет ни сельскохозяйственных машин, ни даже необходимого в сельскохозяйственном быту железа для элементарных поделок.
В Семиреченском войске до 13 тысяч хозяйств с населением до 50 тысяч и по смете войскового правления для приведения сельского хозяйства хотя бы сколько-нибудь в нормальное положение, после разгрома края большевиками, необходима на первых порах широкая помощь предметами сельскохозяйственного обихода.
По смете Войскового Правления только для одного казачества необходимо заготовить до 1000 плугов, сельскохозяйственные орудия, плуги-сеялки, косилки и проч. Необходимы также железо сортовое, полосовое, мануфактура, медикаменты и проч. всего на сумму до 6 миллионов рублей.
Войсковое Правительство гарантирует возврат этой ссуды полностью при условии доставления войску просимых товаров, машин и проч.
Общая сумма испрашиваемой ссуды для одного казачества измеряется в сумме до 10 миллионов рублей.
Таковы нужды Семиреченского казачества, но не одно только казачество нуждается в оказании ближайшей помощи. Основным населением Семиречья являются киргизы, которых насчитывается до 800 тысяч, из них киргиз-кайсаков 720 тысяч и 80 тысяч каракиргиз.
Таранчей до большеви[с]тского переворота было 42 тысячи, ныне осталось 38 тысяч. Четыре тысячи погибло от рук мадьяро-большевистских банд.
Крестьян всего 270 тысяч, из них около 120 тысяч старожилов области, а остальные 150 тысяч — переселенцы—новоселы, из которых ныне, главным образом, вербуются большевистские банды.
В сельскохозяйственной помощи, в товарах до чая, сахара и спичек включительно нуждается и все остальное население Семиречья. И мы, нисколько не преувеличивая, скажем, что для восстановления общественно-экономической жизни населения Семиречья нужна ссуда в 15-20 миллионов рублей. Эта сумма с лихвой может быть восстановлена казне через два, три года вставшим на ноги и освобожденным от большевиков населением.
В Семиречье в настоящее время имеются источники для покрытия казной данной ссуды. В Верном сосредоточено было до 300 пудов опия, который расценивается на аптекарском рынке на вес золота.
В Верном были плантации министерства земледелия, на них и выращивался и заготовлялся опий для медицинских целей.
Недра земли, ископаемые богатства Семиречья ждут своей эксплуатации и предприимчивости.
Богатое всевозможным сырьем, кожами и шерстью, фруктами, скотом и проч. — Семиречье является золотым дном для добросовестного предпринимательства.
В г. Верном выстроена первая в Туркестане шерстяная фабрика местными купцами Шахворостовыми. На этой фабрике, оборудованной немецкими машинами, изготовлялись высокосортные бобрик, солдатское сукно ежедневно до 1000—1500 аршин. Местное население и войска Туркестанского военного округа одевались в Шахворостовское сукно.
С февраля 1918 года фабрика эта стоит ввиду полной невозможности работать вследствие созданных большевиками препятствий.
По реке Или и около озера Балхаш, раскинуты на сотни верст, прорастающие диким льном (кендером) поля, а по произведенным исследованиям из этого кендера могут вырабатываться крепчайшего свойства канаты, мешки и проч.
Производительные силы Семиречья еще спят и с водворением правового строя в России, с проведением железной дороги Семипалатинск — Верный — Ташкент, наш богатейший край воспрянет к новой интересной жизни.
И. Шендриков.
Русская армия (Омск).
24. 12. 1918 г. №28. С. 2.
1 г. Верный — ныне г. Алма-Аты (Казахстан).
2 Шкапский Орест Авенирович (1865, Ташент — апрель 1918, Верный) — из дворян Уфимской губ. В 1887-1895 гг. — находился в заключении и ссылке за принадлежность к «Народной воле». Действительный член Туркестанского отдела Русского Географического общества (1899). Член партии народных социалистов (с 1906 г.). Служил в областных управлениях и переселенческих органах Верного, Ташкента, Петрограда. Член Туркестанского комитета Временного правительства (1917). Занимался ликвидацией последствий киргизского восстания 1916 года. Во время выступления ташкентских большевиков в сентябре 1917 г. призвал власти Семиречья к неподчинению и объявил себя единственным представителем Временного правительства в Туркестане, в октябре 1917 г. ввел военное положение в Верном и Пишпеке. В начале ноября 1917 г. заявил о решительной борьбе с большевиками, поддержал выступление А.М. Каледина. Тесно сотрудничал с Войсковым правительством Семиреченского казачьего войска. В связи с неудачей антибольшевицкого выступления в феврале 1918 г. сложил свои полномочия и попытался бежать в Китай, был задержан и помещен в тюрьму в г. Верном. В апреле 1918 г. - расстрелян.
3 Пимен (Белоликов) (1880, Новгородская епархия — 1918) — епископ Семиреченский и Верненский (1917-18). Окончил Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию (1904). Ректор Александровской духовной семинарии (с 1911). Начальник Урмийской миссии (1912). Ректор Пермской духовной семинарии (с 1914). В 1916-17 гг. — епископ Салмасский. Расстрелян. Похоронен возле г. Верный.
4 Ионов Александр Михайлович (02.02.1880 — 18.07.1950) — Генерального штаба генерал-майор (26.02.1918). Из семьи атамана Семиреченского казачьего войска. Окончил 2-й Оренбургский казачий корпус, Константиновское артиллерийское училище и Императорскую Николаевскую Военную Академию (1908). Участник Первой мировой войны. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Полковник (1916). Командир 2-го Семиреченского казачьего полка (1917). Войсковой атаман Семиреченского казачьего войска (с 26.02.1918). Командир отдельной Семиреченской казачьей бригады (с мая 1919). Начальник штаба при Инспекторе формирований стратегического резерва во Владивостоке (с октября 1919). В эмиграции — в Канаде, США. Начальник Северо-Американского отдела РОВС. Умер в Нью-Йорке.
И. Н. Шендриков
(Альманах «Белая гвардия», №8. Казачество России в Белом движении. М., «Посев», стр. 240-241)
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
ГЕНОЦИД СЕМИРЕЧЕНСКОГО КАЗАЧЕСТВА |

Вместе с начавшейся в 1917 г. новой Великой Смутой в Русской державе берет свое начало и геноцид казачества, который с разной интенсивностью продолжался все 74 года существования тоталитарного режима. В ходе осуществления его выделяются два периода, во время которых уничтожение казачества происходило наиболее активно. Первый и самый страшный период казачьего геноцида пришелся на время братоубийственной Гражданской войны, когда из 4 млн. казачьего населения России, свыше 2 млн. было уничтожено физически. Многие тысячи, спасаясь от верной гибели, были вынуждены покинуть Родину и навсегда уйти в эмиграцию. Второй период геноцида казачества пришелся на годы проведения всеобщей коллективизации 1929-1933 гг. от которой из всех сельских жителей страны, более всего пострадали казаки. Духовное же уничтожение казачества проводилось в течении всего времени существования антинародного режима, вплоть до начавшегося в 1989 г. возрождения казачества. Частью геноцида российского казачества явилось систематическое и планомерное уничтожение семиреченского казачества. Все те ужасы, что обрушились на казачество, в полной мере пришлось пережить и семиреченских казакам — физическое истребление, расказачивание, насильственные мобилизации, уничтожение самобытного казачьего уклада жизни, самоуправления, раскулачивание, насильственное переселение с земель предков.
Начало той страшной трагедии было положено событиями весны 1918 г. Но предпосылки ее сложились еще раньше, со времени уничтожения в феврале 1917 г. русской исторической государственности. Февральский переворот логически завершился переворотом октябрьским, в результате которого к власти в стране пришло большевицкое руководство. Если февральский переворот, спустя некоторое время большинство семиреченских казаков все же признало, то октябрьский переворот, за исключением небольшой кучки отщепенцев, признан не был. После октябрьского переворота, на территории Семиреченской области власть в свои руки взяло семиреченское казачество в лице созданного им 1 ноября 1917 г. Войскового правительства, встав на пути распространения в Семиреченском крае большевизма1. Однако в деле борьбы с врагами законной власти Войсковое правительство руководствовалось больше выжидательной политикой и половинчатыми мерами. Этим воспользовались большевицкие элементы развернувшие против власти Семиреченского казачьего войска усиливавшуюся с каждым днем деятельность. Печальным итогом всего этого явилась трагическая развязка, потянувшая за собой цепь кровавых событий. В конце января 1918 г. в город Верный, столицу Семиреченского казачьего войска (ныне г. Алма-Ата) из Ирана прибыл 2 Семиреченский казачий полк, распропагандированный еще на фронте. Будучи уже в областном городе казаки второго полка, окончательно подпали под влияние большевиков. Молодые казаки, не имевшие еще достаточного жизненного опыта, легко поверили щедрым посулам большевиков, обещавших неприкосновенность казачьих земель, сохранение казачьего уклада жизни, представительство в новых органах, власти и т.д. 2 марта 1918 г. казаки 2 полка под руководством большевиков подняв мятеж, совершили в городе Верном переворот, свергнув власть Войскового правительства2. В результате этого, в Семиреченской области, как и по всей России, установилась власть большевиков. Казаки, сами еще того не понимая, привели к власти своих будущих палачей. Основные бедствия разразившейся вскоре после переворота Гражданской войны в Семиречье, обрушились на расположенные в Северном Семиречье Лепсинский и Копальский уезды, где в течении двух лет происходили главные боевые действия. В станицах этих двух уездов и располагался 2 Семиреченский казачий полк, казаки которого большей частью погибли в огне, гражданской войны, заплатив своей кровью за совершенную в марте 1918 г. роковую ошибку. Захватив власть, большевики сразу же заявили, что за совершенное в прошлом в отношении них противостояние они никого не будут преследовать. Но это был всего лишь обычный для новой власти подлый обман, которым она повсеместно и постоянно пользовалась. Красные кому угодно давали любые обещания и шли на любые уступки, о которых они забывали сразу же как только в них отпадала необходимость. Это громкое заявление было сделано только с одной целью, выиграть время и укрепив свою власть в Семиречье, разгромить казачество. В свою очередь, большая часть казаков не имела никаких иллюзий в отношении ближайших намерений власти, и готовилась к отпору. Война в крае началась со вспыхнувшего 16 апреля в Верненском уезде восстания Семиреченского казачества. Толчком к той страшной трагедии послужили следующие события. В Верном в это время ощущалась нехватка хлеба, вызванная произошедшим в Семиречье в 1917 г. неурожаем. Большевицкая власть решила выйти из положения, отобрав хлеб у тех, кто его производил. После мартовского переворота власть в Семиреченской области в связи с отсутствием в ней рабочих перешла в руки крестьян. Грабить самих себя крестьяне естественно не собирались. Поэтому выход из продовольственного кризиса был найден простой (по их мнению) — отобрать хлеб у казаков. Для выполнения этого решения в Верном был сформирован продотряд и направлен в станицу Софийскую, от казаков которой грабители потребовали сдать 1000 пудов хлеба и всё имеющееся у них оружие. После этого, для устрашения они обстреляли станицу из двух пушек. Попытка реквизиций вызвала среди казаков станицы взрыв возмущения, переросшего затем в восстание. К повстанцам присоединились казаки ближайших пяти станиц. Совместными действиями они разгромили продотряд и осадили г. Верный, что послужило началом апрельского восстания3.
Против повстанцев из Ташкента, был послан хорошо вооружённый Ташкентский экспедиционный карательный отряд, под А. Мураева. Несмотря на героическое, упорное сопротивление, восставшие казаки не смогли противостоять более сильному противнику, и были вынуждены уйти в Китай и Северное Семиречье4. Взяв верх, карательный отряд стал чинить в станицах Верненского уезда неслыханные зверства. Казачье население было подвергнуто повальным грабежам, насилию и убийствам. Дома многих казаков-повстанцев бандиты отряда Мураева сожгли. Казакам запретили даже называть себя казаками. Отныне они должны были зваться только гражданами. Тех же, кто осмеливался назвать себя казаками, расстреливали на месте. Расстрелу подлежали также и все казаки, у которых каратели находили оружие. Захватив после упорного боя Мало-Алматинскую станицу, отряд Мураева взял в плен более сотни казаков, которые затем все были расстреляны. Затем каратели выгнали всё оставшееся после ухода казаков население на её окраину в район Развилки (ныне — район Алма-Аты), после чего их поставили на колени и навели пулемёты, продержав их, таким образом, несколько часов. Разъезжая на лошади вокруг них, Мураев, осыпая грязной бранью, угрожал всех их расстрелять, если казаки-повстанцы, избежавшие захвата в плен, не явятся к нему и не сдадутся. Однако осуществить это злодеяние ему помешал уполномоченный, посланный новой областной властью, после беседы с которым Мураев отменил планируемый кровавый акт.
В честь взятия» Мало-Алматинской станицы Мураев устроил для отряда грандиозное застолье, в ходе которого станица подверглась повальному грабежу, насилию и убийствам. Несколько казаков станицы, поддержавших большевицкую власть, Мураев, дабы избежать их гибели в ходе погрома, посадил на сутки на гауптвахту. Каратели убивали казаков, несмотря на их принадлежность к большевикам, только за то, что они по происхождению казаки5.
В станице Надеждинской мураевцы на глазах у жителей на центральной площади казнили несколько десятков захваченных в плен казаков. Их поставили на колени, после чего отрубили шашкой головы. Исполнять казнь поставили подростка, который из-за своей физической слабости отрубал головы только после нескольких ударов, подвергая обречённых казаков страшным мучениям. Просьбы приговоренных казаков назначить для казни взрослого палача были проигнорированы. Жён и детей казаков, участвовавших в восстании, мураевцы сажали в каменные подвалы домов, заколачивая выход гвоздями и обрекая людей на долгую и мучительную смерть от жажды и голода. В результате пострадали, в основном, женщины, старики и дети, ибо сами казаки ушли за пределы уезда. Многие казаки, предвидя, что ждёт их семьи, уходя в Китай, забирали их с собой. Количество казаков, погибших от рук мураевских изуверов, до сих пор остаётся неизвестным. Составить представление об этом можно по одному достоверно известному факту. Такие же насилия, как и в станицах, банда Мураева творила в уйгурских селениях, мстя их жителям за поддержку апрельского восстания казаков. По оценкам уйгурских историков, карателями было убито около семи тысяч уйгуров. Количество же погибшего казачьего населения никто не считал.
Апрельское восстание потерпело поражение, но в деле борьбы семиреченского казачества с большевизмом оно имело огромное значение. Главным его результатом явилось прекращение раскола семиреченских казаков на белых и красных. Казаки, которые после октябрьского переворота стали на путь поддержки большевицкого режима, или проявляли колебание после жестокого подавления апрельского восстания, увидев истинную сущность новой власти, встали в ряды белых. Апрельское восстание послужило началом второго этапа Белого движения в Семиречье. Если первый его этап в Семиреченском крае был пассивно-оборонительным, явившимся реакцией на насильственный захват большевиками власти в центре страны, желанием сохранить, что возможно от прежней России, то второй этап Белого движения стал активным, повстанческим, явившимся ответом на проводимую большевиками антинародную политику.
Устроив кровавый погром южных станиц, большевики перешла к планомерному проведению политики геноцида семиреченского казачества. Следующим актом геноцида явилось начало проведения расказачивания. В июне 1918 г. было принято два соответствующих этой политике решения. 3 июня командующим войсками красных Семиреченской области был издан приказ о ликвидации Семиреченского казачьего войска: «Войсковое правление и все станичные правления Семиреченского казачьего войска упраздняются. Приказываю всё имущество, дела и денежные суммы бывшего Войскового правления, немедленно сдать в распоряжение моё с военной коллегией. Для расформирования и ликвидации всего казачьего управления учреждаю при штабе войск особое отделение»6. 6 июня Семиреченским облисполкомом было вынесено постановление о конфискации у казачьих офицеров земли и сельхозинвентаря, а также о реквизиции у казаков хлеба и скота7. Вскоре после этого стали проводиться переименования станиц, выселков и превращения их в волости и села. Начавшись в Верненском уезде, Гражданская война вскоре перекинулась в расположенные в Северном Семиречье Копальский и Лепсинский уезды, где она затянулась на целых два года. Главной причиной войны явилось острое неприятие казаками установившейся на их земле власти, несшей людям одни только страдания и смерть. В этом кровавом противостоянии семиреченские казаки боролись за право устраивать свою жизнь по обычаям своих предков, за свою свободу, против жестокого насилия, за порядок, против произвола и анархии. Началом Гражданской войны на севере области стало резкое обострение весной 1918 г. земельных конфликтов казаков с недавно переселившимися туда крестьянами. Возмущение казаков вызывали претензии крестьян на их земли, в отношении которых они хотели совершить передел в свою пользу. Не добившись от казаков согласия на такой передел, крестьяне стали насильно захватывать их земельные наделы8. Крестьяне Лепсинского и Копальского уездов (ныне территория Талды-Курганской области Казахстана), пользуясь поддержкой уездных советов, где власть целиком и полностью принадлежала им, стали устраивать в отношении казаков массовые насилия, выражавшиеся кроме захвата их земель, в потравах их посевов, скашивании казачьих лугов, угоне коней, нападениях на казаков и т.д., что вынуждало казаков принимать ответные действия9. Результатом произвола явились начавшиеся кровавые столкновения между казаками и крестьянами, переросшие затем в гражданское противостояние. В июне 1918 г., сразу же после подавления апрельского восстания для разгрома восставших станиц теперь уже на севере Семиречья из Верного был выслан крупный карательный отряд И. Мамонтова. По прибытии на место к верненским карателям, присоединилось большое количество местных крестьян. Вскоре из города Верного в Северное Семиречье красными было выслано ещё два крупных карательных отряда. Плохо вооружённые казаки, чьи станицы находились на большом расстоянии друг от друга, не сумев противостоять более многочисленным и хорошо вооружённым отрядам красных, были вынуждены прекратить сопротивление. Активные участники восстания были вынуждены укрыться в горах Джунгарского Алатау или уйти на территорию Китая. Только крепкие духом и сильные единством казаки станицы Саркандской сумели дать достойный отпор многократно превосходящим их по численности красным. После подавления восстаний, по северным станицам Семиречья прокатилась волна репрессий. Из трёх действовавших на севере Семиречья красных отрядов особенно отличился в насилиях над мирным казачьим населением отряд И. Мамонтова. Кроме этого, мамонтовцы повсеместно проводили поголовное уничтожение станичных священников за то, что те благословляли казаков на подвиг и жертву во имя победы над сатанинской властью. Ими же 16 сентября 1918 г. за городом Верным в роще Баума за проповеди, направленные против новой власти, без суда и следствия был зверски убит священномученник епископ Верненский и Семиреченский Пимен, ныне причисленный к лику местночтимых святых.
29 июля 1918 г. большевиками было издано постановление о конфискации у семей казаков-повстанцев сельскохозяйственного инвентаря, что обрекало их на нищету и голод10. В ноябре 1919 г. новой властью была проведена первая насильственная мобилизация семиреченских казаков. Причиной этого явилось катастрофическое положение большевиков в Семиречье в связи с разгромом мятежа крестьянских деревень с центром в селении Черкасском, а также прибытием в Семиречье 33-тысячной Отдельной Оренбургской армии А.И. Дутова. Возникла реальная возможность освобождения белыми всего Семиречья от большевиков. В сложившейся ситуации красные, опасаясь восстания семиреченских казаков у себя в тылу, срочно провели на территории Верненского уезда массовую мобилизацию казачества. Мобилизованных сразу же отправили подальше от Семиречья в г. Черняев (ныне — Чимкент), где из них был сформирован 1 Семиреченский казачий полк, направленный ещё дальше от родных краев, в Ферганскую долину на борьбу с басмачами. В Семиречье из Ташкента срочно были переброшены подкрепления. Все красные части Семиречья были сведены в 3-ю Туркестанскую стрелковую дивизию. В этой ситуации Советская власть решила временно изменить проводимую ею по отношению к семиреченскому казачеству политику геноцида. В течение двух лет, пока шла развязанная большевиками Гражданская война в Северном Семиречье, основными занятиями находившихся там красных частей были не столько военные действия, сколько повальное пьянство, грабежи и убийства безоружных жителей станиц. Факты мародерства, пьянства и жестокого обращения с мирным казачьим населением были настолько вопиющими и массовыми, что их в своих воспоминаниях были вынуждены признать даже те, кто воевал в Семиречье в рядах красных. Ярким потверждением этого факта, является характеристика красных войск Семиречья данная весной 1920 г. уполномоченным фронта Туркестана Д. Фурмановым. В своём докладе РВС Туркфронта Фурманов сообщал следующее: «Войска Семиречья состоя из местных жителей середняков и отчасти из казаков, представляют собой весьма трусливую банду, зарекомендовавшую себя в боях чрезвычайно гнусно. Красная армия Семиречья представляет собой не защитницу Советской власти, а угрозу мусульманству и казачеству»11. Тут необходимо учесть, что эта характеристика была дана в 1920 году, когда отряды красных в Северном Семиречье уже были сведены в единое воинское формирование — 3-ю стрелковую дивизию, с некоторой дисциплиной. Теперь исходя из всего вышеприведенного нетрудно составить картину, что из себя представляли красные шайки в 1918-19 году, когда в их рядах отсутствовали даже слабые намеки на дисциплину. Отход от политики геноцида семиреченских казаков начался со времени принятия в декабре 1919 г. командования 3-й Туркестанской стрелковой дивизии прибывшим из Ташкента Беловым, бывшим до этого главкомом войск Туркестана. Он категорически запретил проводить расстрелы взятых в плен семиреченских казаков. Вслед за этим Беловым был издан еще один приказ, запрещавший насилия, грабежи и убийства в станицах: «...Все зависит от вас или поможете прикончить фронт или подтолкнете казаков на дальнейшую борьбу... Не насилуйте, не издевайтесь, не глумитесь...»12. Вскоре после этого, 4 марта 1920 г., командующим Туркфронтом Фрунзе было издано воззвание «К Семиреченскому казачеству и таранчинскому народу», в котором отмечалось, что всем участвовавшим в боевых действиях против Советской власти в Семиречье, если они добровольно сложат оружие, объявляется полная амнистия: «Уже два года длится ожесточённая гражданская война на территории Семиречья. Сожженные сёла, станицы и аулы, разорение и обнищание населения, превращённый в кладбище, прежде цветущий край — всё это явилось его результатом. Ныне настал момент положить конец этой бессмысленной войне. В интересах скорейшего безболезненного решения кровавого спора на полях Семиречья, в интересах полного примирения всех трудящихся края без различия веры, языка и национальности, Реввоенсовет постановил: всем казакам, таранчам, киргизам и прочим, сражающимся ныне против Красной Армии, гарантируется полная личная безопасность, забвение всех преступлений, совершённых против рабоче-крестьянской России, при условии немедленного изъявления покорности Советской власти, безоговорочного признания, сдачи всех запасов оружия и военного снаряжения»13. Кроме этого, большевицкая власть давала обещание, что бывшие ранее нормой, насилия проводимые в отношении семиреченских казаков, теперь уже больше никогда не повторятся. Поверив обещаниям Фрунзе, а также понимая, что одним им после поражения основной части армии адмирала А.В. Колчака не выстоять, части Отдельной Семиреченской армии Б.В. Анненкова в конце марта 1920 г. сложили оружие. Часть южной группировки этой армии, состоявшей, в основном, из семиреченских казаков под командованием войскового старшины Бойко оказалась окружённой в станице Копальской, превосходящей её по численности группировкой красных. Семиреченские казаки, имея продовольствия лишь на несколько дней, а боеприпасов только на один бой, в виду безвыходности ситуации 29 марта 1920 г. сложили оружие. После этого, сдавшиеся в плен казаки были заключены в расположенный в городе Верном лагерь. Уже в лагере часть казаков была подвергнута арестам ЧК, имели место случаи грабежа казаков лагерной охраной14.
Первая фаза Гражданской войны в Семиречье, отличавшаяся широким масштабом военных действий, закончилась. Печальным итогом ее явились опустевшие, разоренные и сожженные станицы. Тысячи семиреченских казаков полегли на полях братоубийственной войны или стали калеками. Многие, бросив имущество, были вынуждены эмигрировать в Китай, где им пришлось остаться на долгие десятилетия. Часть казаков так и не вернулась из эмиграции. Тысячи были подвергнуты массовым насильственным мобилизациям и отправлены проливать свою кровь за чуждое им дело ненавистного режима. С поражением Отдельной Семиреченской армии Анненкова, гражданское противостояние в крае не закончилось. С лета 1920 г. по конец 1922 г. в Семиречье прошел второй этап Гражданской войны. В отличие от первого он не сопровождался столь масштабными боевыми операциями, но был не менее кровопролитным и ожесточенным. По характеру военных действий, второй этап Гражданской войны в Семиреченском крае напоминал прошедший в первой половине 1918 г. ее начальный повстанческий период. Результатом трагических событий весны 1920 г. в Семиречье явился полный и окончательный захват края большевиками.
Несмотря на сложившуюся здесь для сопротивления крайне неблагоприятную ситуацию, далеко не все белые сложили оружие. Часть семиреченского казачества во главе с исполняющим обязанности Войскового атамана, генерал-майором Щербаковым, полная решимости продолжить борьбу с большевицким режимом, ушла в западно-китайскую провинцию Синьцзян и расположилась в находящемся неподалеку от границы городе Кульджа. В Синьцзян со своими отрядами ушли атаманы Анненков и Дутов. Всего в Западном Китае оказалось около 10 тысяч бывших белых, преимущественно казаков. Оказавшись в эмиграции, семиреченские казаки сразу же возобновили активную вооруженную борьбу с властью большевиков. Казаки совершали стремительные рейды на территорию Советской России, громя органы власти и уничтожая отряды красных. После чего также неожиданно исчезали, как и появлялись. В этой рейдовой войне особенно отличился отряд под командованием полковника Сидорова, активно использовавший эту тактику еще в 1918-1920 гг. Граница между Семиреченской областью и Западным Китаем в то время напоминала линию фронта. В свою очередь, красные, стремясь предотвратить нависшую со стороны ушедших за кордон казаков угрозу своему господству, использовали в борьбе с ними все доступные средства. ЧК широко развернула среди казаков агентурную сеть, значительно затруднившую их борьбу с большевицким режимом. Кроме того, среди эмигрировавших казаков активно проводилась пропагандистская кампания за возвращение. Казаков всячески уговаривали вернуться домой, обещая забыть их участие в белом сопротивлении и не допускать проведения произвола и насилия в отношении казачества15. Кампания эта имела лишь частный успех, да и то, только лишь весной-летом 1920 г. Часть ушедших казаков, не выдержав обрушившихся на чужбине на них многочисленных лишений, голода, тоскуя по родине и своим близким, а также, поверив обещаниям, вернулась в Семиречье. Но все заверения и в этот раз оказались обманом — большинство вернувшихся казаков, спустя некоторое время, было расстреляно. Из эмиграции тогда вернулась только небольшая часть семиреков. Когда до казаков в Синьцзяне дошли известия о репрессиях в отношении казаков-репатриантов, поток возвращающихся быстро иссяк. В противостоянии с укрывшимися в Синьцзяне казаками новый режим широко использовал власти этой китайской провинции. Большевики использовали подкуп продажных властей Синьцзяна, а в случае несговорчивости, предъявляли им ультимативные требования, подкрепленные угрозами военного вторжения на территорию этой провинции16. Используя подобные методы воздействия большевики неоднократно добивались разрешения на ввод в эту провинцию крупных карательных отрядов, совершивших в период с 1921 по 1924 гг. несколько рейдов по расположенным там казачьим поселениям17.
После того как весной 1920 г. на всей территории Семиреченской области был установлен тоталитарный режим, начались волнения крестьян-переселенцев, вызванные распространением продразверстки на переселенческие села Семиречья. Недовольство усилил изданный командующим Туркфронта приказ об отправке на войну с басмачами в Ферганскую долину не желавшей уходить из Семиречья 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, состоявшей преимущественно из этих же крестьян-переселенцев. Недовольство вылилось в произошедшее в июне 1920 г. восстание пятитысячного гарнизона Верного18. Незадолго до восстания большевицкие власти области, видя, что контроль за ситуацией в городе уходит из их рук и, опасаясь возможного участия пленных казаков в назревавшем вооружённом выступлении, в начале мая выпустили их из верненского лагеря.
Из освобожденных семиреченских казаков, возраст которых был не старше 30 лет, были сформированы и отправлены на борьбу с басмачеством в Ферганскую долину кавалерийские части. Казаки, возраст которых был старше 30 лет, распускались по станицам. Однако в формируемые кавалерийские части в качестве добровольцев записывались и многие казаки старших возрастов из опасения перед расправой со стороны большевицкого режима. Отправка семиреченских казаков на Ферганский фронт была сделана с целью ослабить их, отослав возможно большее количество казаков самых боеспособных возрастов подальше от родных мест. Насильственные мобилизации и посылка семиреченских казаков в Фергану проводились и впоследствии в течение всего периода активной войны с басмачами в Средней Азии, вплоть до ликвидации Ферганского фронта летом 1926 г. Стремясь забрать на фронт как можно больше семиреков, власть отправила воевать даже 16-летних казачат.
Весной 1920 г. многим семирекам казалось, что новая власть наконец-то оставит казаков в покое. Однако с окончанием братоубийственной войны на казаков обрушились новые беды. Проводимый в их отношении геноцид не только не прекратился, но даже усилился. Разоружив Семиреченских казаков и ослабив их массовыми мобилизациями, новая власть провела следующий этап расказачивания семиреков.
Из-за того, что в Северном Семиречье сломить казачье сопротивление красным удалось лишь в конце марта 1920 г., в апреле того же года было издано еще одно постановление о ликвидации Семиреченского казачьего войска, идентичное приказу об уничтожении войска от 2 июня 1918 г.19 Были продолжены переименования станиц и выселков, повсеместно уничтожались памятники, связанные с историей и культурой семиреченского казачества.
1 Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 5. Л. 78.
2 ЦГА РК. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 8-10.
3 ЦГА РК. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 11. Л. 50-52.
4 Казахстан в огне гражданской войны. Алма-Ата, 1960. С. 206.
5 ЦГА РК. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 41. Л.5.
6 ЦГА РК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
7 Государственный архив Алма-Атинской области. Ф. 489. Оп. 1. Д. 40. Л. 23-24.
8 ЦГА РК. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 20. Л. 8.
9 Харченко Г.Т. 399 дней и ночей в огненном кольце. Алма-Ата, 1984. С. 23.
10 Вестник Семиреченского трудового народа. 1918. 09.08.
11 Шамбаров В. Белогвардейщина. М., 1999. С. 136.
12 Фурманов Д.А. Мятеж. Алма-Ата, 1982. С. 250.
13 Правда (Верный). 1920. 09.03.
14 Фурманов Д.А. Указ. соч. С. 275. 15. Там же. С. 275-276.
15 И я ему не могу не верить. М., 1987. С. 200.
16 Мы из ЧК. Алма-Ата, 1974. С. 5.
17 Гражданская война в Казахстане. Алма-Ата, 1974. С. 323-326.
18 Алма-Ата. Энциклопедия. Алма-Ата, 1983. С. 477.
Ю. Шустов
(Альманах «Белая гвардия», №8. Казачество России в Белом движении. М., «Посев», стр. 236-240)
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
ГРЕБЕНСКОЕ ВОЙСКО И ТЕРСКОЕ |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве».
К-дуизляро-Гребенский, Горско-сский, Волгский и Сунженско-Владикавказский - вот имена полков, поселенных в Терской области и известных нынче под общим названием Терцев. Эти имена напоминают трехвековую историю Терцев, их первоначальное водворение, переселения с места на место, боевые труды, пережитую славу. Уже, судя по двойному названию полков, можно заключить, что прежде их было гараздо больше. Эти старые полки служили как бы звеньями той цепи, которая была растянута от моря Азовского до моря Каспийского. Черноморская Кордонная Линия оканчивалась урочичищем "Изрядный Источник", что на Кубани; весь остальной промежуок - по верхам Кубани, по Тереку, по Сунже примерно на700 верст, замкнула Кавказская Линия. Оплотом и грозой ее стали линейные казаки, подвиги которых прогремели по всему всему Свету. Кавказская Линия много лет служила приманкой для тех, кто жаждал славы или отличий.
На равнинах, в бурных волнах рек, в скалах Кабарды и в лесах "Чечни - везде воин встречал смерть: на каждом шагу она ждала свою жертву. На смену павших бойцов являлись другие; и так из годa в год, десятки лет, пока не замирился Кавказ.
Длинная Кавказская Линия замкнулась не сразу, а по частям. По мере того, как разгоралась борьба, выдвигалось то или другое звено этой цепи постов, кордонов и станиц. На защиту Линии шли казаки разных наименований: с Дона - донские, с Волги - волжские, С Яика - яицкие, с Хопра - хоперские, из Украины - украинские; шли сюда и мирные поселяне и селились под ружейным огнем горцев; наконец, среди защитников Линии встречались кабардинцы, черкесы, татары, частью крещеные, частью некрещеные.
Находили приют кабардинцы, чеченцы, черкесы, ногаи - народ такой же "отпетый", на все готовый. Когда воеводы прибыли из Астрахани, чтобы ставить тут городок, вольница явилась к ним с повинной и оказала на первых порах большую помощь. Таким поведением она выслужила свои вины, получила царское прощение. Узнавши про то, часть яицких казаков также явилась с повинной. Войско еще умножилось тем, что соседний кабардинский князь, родич Темрюка, по имени Джанклиш, бил от себя челом Царю Ивану Васильевичу, да с Сунжи, как уже сказано, прибыл с дружиной вольницы Мамсрюк. Из таких-то сходцев, русских и нерусских, по¬велось другое войско, Терское, которое отличалось от Гребенского своим разноязычием и наклонностью к морскому промыслу. Разноплеменность Терского войска еще более увеличилась, когда с ливонских и литовских городов стали посылать сюда в большом числе пленников, что, конечно, также умножило войско. Терцы жили и управляли по старым казацким обычаям, но наряд на службу зависел от царских воевод. Новокрещеные и вообще все казаки нерусского происхождение подчинялись роду князей Джанклиша: его сыну Сунчалею, внуку Муцалу и правнуку Каспулату.
Русский городок под охраной казаков разросся в большой многолюдный город, украсился садами и многими общественными зданиями, как, например: караван-сараи, бани, таможенные дворы, приходские церкви, монастырь, где крестились иноверцы, гостиные дворы. В Терках торговали шибко: сюда съезжались купцы из Кафы, что в Крыму, из персидских городов, из Астрахани. Один верблюжий караван сменялся другим; персидские "бусы-кораблики" сегодня разгружались, завтра снова нагружались. Кроме сторожи и разведок, казаки отбывали государеву службу в дальних походах. Соединенные дружины гребенцов и терцев чаще всего водили потомки князя Джанклиша. Они любили казачью удаль и прославили ее в горах Кавказа. Но хорошее для терцев старое время продолжалось недолго; вскоре начались беды.
Кахетинский царь Александр просил у государя помощи против их старого и общего недруга шамкала Тарковского, владения кото¬рого примыкали одним боком к Тереку. Вскоре после смерти Ивана Васильевича Грозного, воевода Хворостинин получил повеленье выступить из Астрахани с ратными людьми на Терек к старому городку, откуда вместе с гребенцами наступать на владения шамкала. По весне 1594 года воевода с пятитысячной ратью был уже на Те¬реке, где к нему присоединилось Еребенское войско. Хитрый шам-хал очистил перед русскими не только переправу на Сунже, но даже уступил без боя Тарки, свою столицу. Засели в нем русские, стали его укреплять. Работали в знойное лето, на самом солнцепеке, что с непривычки породило болезни: особенно изводила злая лихорадка; кроме того, оказался недочет в припасах.
Между тем полчища шамхала облегали город все теснее и теснее, а обещанная царем Кахетии помощь не являлась. Чаще и чаще улучались схватки, и как ни храбр был воевода Хворостинин, однако видел, что дело может кончиться худо. Составили совет, на котором долго не спорили. В темную ночь, побросав все лишние тяжести, русские тайком покинули город. Шли, шли и вдруг заметили, чтo сбились с дороги. Пока разыскали пастушка, пока с его по¬мощью выбрались на дорогу, наступил день. Тут налетела конница щамхала; вдали, в облаках пыли, настигали пешие. Отбиваясь от конницы, Хворостинин приказал бросить тяжелый наряд (артиллерию), повозки даже с ранеными и больными воинами, лишь бы поскорее отойти. Как голодные волки бросились татары на добычу; слышались вопли замученных. В полдень надвинулась уже вся сила басурманская. Впереди толпы шли муллы, держа над головами священные свитки, и пронзительно завывали стихами корана. Русская рать то останавливалась, строясь "в кольцо" и отбивалась всеми силами, то продолжала движение, теснимая спереди и сзади, сдавленная с боков. Только на закате солнца она добралась до Сулака, где битва сама собой стихла. Хворостинин привел на Терек едва четвертую часть; из тысячи гребенцев, вернулось 3 сотни.
Через 10 лет поход повторился. На этот раз подступила к Таркам десятитысячная рать, в которой находились оба казачьи войска - Гребенское и Терское. Воеводы напомнили русским воинам о ги¬бели братьев в этой предательской земле и так успели их воодушевить, что те поклялись перед распятием сложить свои головы. Бутурлин повел стрельцов с одной стороны, Плещеев - боярских детей и казаков с другой. Хотя город оказался уже укрепленным, но войска сразу им овладели; улицы и площади были завалены множеством убитых. Шамкал бежал в горы к аварскому хану, поручив оборону страны своему сыну Муту. Воеводы принялись вторично за городские стены; прежде всего они заложили на верхнем уступе, где стояли две высоких башни, каменную крепость. Работы шли успешно, пока не настала зима, и повторилась та же беда - припасы были на исходе. Воеводы были вынуждены отпустить половину стрелецких полков в Астрахань.
А тем временем Султан Мут не дремал. Он успел поднять на ноги весь Дагестан, собрал кумыков, пригласил ногайцев, так что в короткое время собралось под его начальством до 20-ти тысяч. С этим скопищем Мут подступил к Таркам. В ту пору защитники питались уже остатками толокна и вяленой говядины; даже казаки не В могли нигде ничего промыслить. Истощенные голодом, изнуренные трудами, русские люди все-таки оборонялись; особенно вредили не-приятелю высокие башни, с которых отборные пищальники стреляли без промаха. Вдруг одна из башен взлетела на воздух, даже горы вздрогнули, и в ту же минуту все скопище ринулось на штурм. Русские не испугались, отбили приступ. Однако лучшие стрелки и казаки погибли под развалинами башни, уничтоженной подкопом. Султан Мут также потерпел немалый урон. Зашла речь о мире. После недолгих переговоров, согласились на том, что русские отойдут беспрепятственно на Терек, больных же и раненых оставят до выздоровления в городе, на попечении шамхала; порукой в том, что их доставят в Терки, будет служить сын Мута, взятый в заложники. Шамхал утвердил договор шертью на коране, сам клялся и 10 сановников; сына отдал в аманаты.
С песнями, под грохот бубен выступила рать, направляя путь к тому же Сулаку. И в стане татарском шло ликованье: то был праздник Байрама. Муллы завыли молитвенные азамы и, войдя в азарт, объявили всенародно отпущение клятвы, данной "гяурам". На радостях Мут приказал отдать сотни тузлуков, припасенных по случаю его свадьбы с дочерью аварского хана, на угощение своих полчищ. Скрытно, как волки, стаями, двинулись татары по следам русских. Они настигли их на первом же ночлеге за рекой Озень, где ратники беспечно варили кашу. Неожиданно наездники врезались в. середину стана, так что русские не успели зарядить пищалей. За конными нахлынули пешие толпы, вооруженные длинные кинжалами. Ратные люди, стиснутые в кучи, отбивались стойко, мужественно, в плен не сдавались. Воевода Бутурлин, богатырь с длинной седой бородой, собственноручно изрубил в куски аманата, но тот был не сын Мута, а подставной татарин, приговоренный к виселице. Прошло несколько часов страшной рукопашной, обагрившей речку кровью. Пали оба воеводы; полегла вся русская рать. Но и татарам недешево обошлось их вероломство: сам султан был убит одним из первых. Раненые, покинутые в Тарках, погибли самою мучительною смертью: их таскали по улицам, над ними издевались женщины, ругались мальчишки.
Два таких похода сильно поубавили боевую силу казаков. Бы¬ли и другие беды, изводившие казаков, особенно терских. Они обитали, как уже сказано, около Нового Терка, в местах низменных, болотистых, а следовательно, лихорадочных, к тому же подверженных частым наводнениям. Терпя нужду в хлебе и питаясь одной "рыбешкой" терцы год от году хирели, вымирали целыми семьями.
Многие погибали на морском промысле. Не только голытьба, но люди семейные, жившие в пригородных слободах, даже гребенцы, более домовитые, соблазнялись приманкой богатой поживы. После удачного морского набега, казаки переряжались из своих сермяг и
лаптей в бархатные кафтаны, в сафьяновые сапожки; щеголяли в атласных рубахах, обшитых золотым галуном, и шапках, унизанных жемчугом. Только эти богатства приходили недаром. Сердитое мope много поглотило казачьих тел, да и схватки с караванами обходились недешево, тем более, что казаки набегали на "бусы-кораблики" на своих дощаниках или в утлых челнах.
Ко всем испытаниям терцев надо еще прибавить два нашествия
кубанского сераскира Казы-Гирея, погромившего их юрты; городок едва отбился. Одним словом, ко времени воцарения Петра Великого, осталось терских казаков едва ли третья часть, не больше тысячи. Чтобы прикрыть несчастный городок от татарских нападений, астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин уговорил гребенских казаков переселиться из-за Сунжи на левый берег Терека, чтo они охотно исполнили. Повыше Сунженского устья гребенцы поставили Червленый городок, а остальные четыре по Тереку вниз, на расстоянии 80-ти верст. Таким образом, 1712-й год нужно считать началом заселения Кавказской Линии, о которой было говорено раньше.
Спустя 10 лет, устья Терека навестил сам Царь. Осмотрев Терки, он увидел его малолюдство, бедность казачью и приказал перенести остатки Терского войска на Аграхань. К малолюдному Терскому войску была выселена тысяча семейных донцов. Тут, на болотистой Астрахани, зарывшись в землянки, те и другие промаялись еще 12 лет, пока все завоевания великого Царя не отошли опять же персиянам. Терское войско водворили тогда на Тереке, при вновь построенной крепости Кизляре. Оно осело здесь таким малолюдством, что едва могло выставить на службу 600 казаков: старых терцев 200, да переселенцев, или "семейных", как их долго называли, 400 чел. Последние поставили свои три городка особо, между гребенцами и крепостью Кизляром. При окончательном устройстве Кавказской Линии, что было в 1836 году, Терско-Кизлярское войско переименовано в Кизлярский полк. Таким образом, оно составило второе звено Кавказской Линии; первым же ее звеном были и остались гребенцы.
Несмотря на то, что гребенцы были искони русские люди по плоти и духу, они, войдя в соседство и дружбу с горскими народами, позаимствовали у них многие обычаи, особенно пригодные в воинском быту. Кабардинцы задавали тогда моду в горах: им подражали черкесы, старались подражать грубые и бедные чеченцы. Одежда кабардинца состояла из верхнего зипуна с открытой грудиной и бешмета, обшитого галунами; деревянные патронташи, или хазыри, обделанные в кость, иногда в серебро, смотря по достаткам, носились прежде на поясе, потом уж перешли на грудь. Праздничная шапка была круглая, с узким меховым околышком и суконным верхом, также обшитым галунами; будничная же шапка - высокая из черного бараньего меха. Защитой от дождя и снега служил башлык-бурка заменяла кабардинцам плащ, служила постелью, одеялом и шатром. Как плащ, она прикрывает все снаряжение всадника и в то же время предохраняет его от сабельных ударов; при горячем отступлении, когда нужно спрыгнуть с кручи, ее набрасывают на глаза коню. "Седелечко черкасское" тоже упоминается в казацких песнях, как самая желанная и ценная добыча. Богатые князья и уорки покрывали себя доспехами московского изделия; кольчуги, шишаки, стальные поручни - все это было не по карману казакам, но одежду и все прочее снаряжение, равно выправку, ухватки лихо¬го наездничества они скоро переняли от рыцарей Кабарды. В свою очередь, гребенцы стали примером подражания и зависти для других позднейших поселенцев Кавказской Линии. Как черноморцы прославились своим пластунством, в такую же славу вошла лихость и удаль линейцев. На них приезжали взглянуть лучшие наездники из англичан и венгерцев. Они переносились с быстротою молнии, летали со стремнин и переплывали бешеные потоки, крались как кошки в глубоких ущельях или дремучих лесах, исчезали в траве или под бугром, лежа неподвижно со своим верным конем.
Что касается жилья, гребенцы ставили свои дома по-русски, прочно, окружая их общей оградой или городком с вышками. Зато внутреннее убранство во многом было сходно с кабардинским: в одном углу висело на стене оружие, разные доспехи; в другом стояла постель, а на самом видном месте, на полочках, блестела нарядно расставленная посуда; в красном углу как водится, висел киот с образами. Если случались в гостях у казака кабардинцы иди кумыки, образная пелена поднималась вверх, скрывая таким образом святыню. Вместо телеги гребенцы стали употреблять двухколесную арбу и ездили на быках; конь же остался для седла. Легкий кабардинский плуг и самый способ обработки земли, где пашут мелко, также целиком перешел к казакам.
Трудолюбивые гребенцы издавна занимаются разведением винограда, шелковичных червей и марены, что идет на краску. "Где виноградная лоза, - говорят на Тереке, - там и женская краса, там и мужская храбрость и веселая беседушка за чапурой родительска вина". Гребенцы сбывали свое вино в Терки, а марену продавали наезжим персидским купцам. И рыбкой они пользовались: в Тереке водился лосось.
В домашнем быту терских и гребенских казаков все работы исполняла женщина, с придачей в помощь ей работника, ногайца или чеченца. Казак же знал только служебные наряды да походы, знал одни побежки, то на тревогу около своих городков, то на подмогу Какому-нибудь кабардинскому князю, затевавшему усобицу; еще Дао душе ему были ночные наезды под ногайские табуны, а в ину пору молодецкие поиски на Синее море. Тут уж терцы давали уряд.
Во времена затишья казаки ходили в "гульбу", т.е. травить зверя или стрелять птиц. Около гребенских городков, в лесах, водились дикие кабаны, козы, кошки; там перелетали с ветки на ветку терские фазаны, плодились журавли с двумя хохликами и разная другая мелкая птица. С особенной охотой казаки ходили по наряду кабардинские горы бить оленей и горных козлов, которых доставляли к царскому столу. Оставаясь дома, казак в досужее время ладил плетень, чистил ружье, вязал уздечку. Всем остальным делом, заключая и заботу о коне, заправляла казачка. Она седлала коня, подводила его мужу, по возвращении с похода она же первая с низким поклоном его встречала, водила коня по двору и снимала седло; горе казаку, если его саквы оказывались пусты.
Как повелось у других казаков, войсковой круг решал все дела, касающиеся войска. Он же судил виновных. В этом случае казаки следовали мудрому правилу черноморцев, которые говорили про виноватого: "Берите его, да бийте швидче (скорее), а то вiд-брешется (отоврется)!" Однажды посадили в воду московского воеводу Карамышева за то, что он не скинул шапку при чтении царской грамоты, а стоял "закуся бороду". Ежегодно войско избирало вольными голосами свою старшину, или начальство: войскового атамана, которому вручалась насека, или палица, оправленная в серебро; воискового есаула, наблюдавшего за порядком в войске, за исполнением постановлений войскового круга; войского хорунжего, который хранил знамя и выносил его в круг пред лицом атамана, или же брал на свое попечение во время походов. Войсковой писарь, или впоследствии дьяк, в ту давнюю пору, когда мало занимались отпиской, был невеликий человек. Гораздо больше значил, чем все упомянутые лица, совет почтенных казаков( В постановлении командира Гребенского войска читаем: "Почетные старики должны особо наблюдать за продажей жителями (станичниками. - Авт.) садов армянам. Всякая продажа такого рода должна быть записана в журнал, так как случалось нередко, что через неимение документов ни свидетелей казачество теряло напрасно свою собственность. При выкурке виноградной водки, не дозволять армянам вывозить ее из станицы, пока они не рассчитаются окончательно с хозяевами садов")., отличенных по своему уму, заслугам войску или сабельным рубцам. Совершенно такое же устройство имел каждый отдельный городок, и станичный круг судил своего казака тем же завещанным от отцов обычаем. "Так установили отцы", - говаривали старые казаки, против чего никто не мог прекословить.
Воинский уряд терцев или гребенцов ни в чем не отличался от порядков в остальных казачьих дружинах. Походные казаки, прежде чем сесть на-конь или в струги, рассчитывались на десятки, полусотни и сотни; тут же выбиралось вольными голосами походное начальство, начиная с десятника и кончая походным атаманом. Если последний приходился по душе казакам, они творили с ним чудеса храбрости. Власти такого атамана не было предела: жизнь и смерть ослушника зависели от единого его слова или единого знака. Службу казаки начинали в то время рано, по 15-му году; освобождались от нее лишь люди престарелые да калеки безногие, но бывало, что и старец древний карабкается на вышку, чтобы постеречь станицу, пока вернутся походные казаки. Малолетки, становясь в ряды, поступали как бы под опеку своих сродников. Их оберегали в походе, прикрывали своею грудью в кровавой свалке. Зато на привалах или ночлегах, когда старые казаки отдыхали, малолетки приучались к сторожевой службе; как это водилось у горцев, они оберегали коней, обходили дозором, окликали встречных.
По Руси прошла молва об испытанной верности и воинской доблести казаков, сидевших на Тереке. Про них говорили, что они не знают заячьего отступления: при встрече с врагом многочисленным скатываются с коней и бьются на месте. Так у них повелось исстари и так осталось навсегда. В совместных и дальних походах с ратными людьми, казаки, в малом числе, сумели отличить себя, подать пример неслыханной в ту пору отваги. В украинских походах времен Царя Алексея Михайловича, они были под Чигирином, в нынешней Киевской области, где с царскими ратными людьми "людей турских и крымских побили, с чигиринских гор окопы их, городки, обозы, наметы, пушки и знамена сбили, многие языки поймали, отчего визирь турского султана и крымский хан, видя над собой такие промыслы поиски, от обозов отступили и пошли в свои земли". Так было сказано в царской грамоте, данной Каспулату Черкасскому, водившему казаков.
В малолетство Петра Великого гребенцы и терцы ходили добывать Крым; когда же Царь двинул свою рать под Азов, казаки вышли навстречу передовому корпусу Гордона к царицынской переволоке; потом вместе с прочими войсками, разделяли труды и славу успеха.
Сильно закручинился Царь, когда пришлось снова вернуть Азов в руки неверных. Он добывал море, искал выгодных путей русской торговле, а море не давалось. Тут-то он надумался двинуть в Хиву воинский отряд, чтобы завязать с ней торговлю, а потом со временем пройти кратчайшим путем в Индию, которая сулила еще раньше выгод. В 1717 году у Гурьева городка собралось 6000 войска, том числе Гребенский полк и часть терцев. В памяти гребенцов остался рассказ казака Ивана Демушкина, участника несчастного похода. Иван Демушкин ушел в поход молодым, а вернулся седым, как лунь, старцем, глухим, подслеповатым. Не знал он даже, что городок Червленый перенесен на другое место. Ползает днями ветхий старик по городищу, ищет ворот, разыскивает плетни, свою улицу и домишко, где он возрос, где он игрывал еще малым ребенком - чего не находит, кроме заросших бурьяном покинутых ям; ни людей, ни следов людских - все сгинуло, пропало навеки! Удрученый горем старик повернулся к реке и надрывающимся от слез голосом воскликнул:
"Скажи мне, Терек Горыныч, батюшка ты наш родимый, что сталось с нашим городком Червленым?" - Тронулся Горыныч вопрем старца, поднес ему сулук чистой как слеза водицы и утешил его весточкой, что городок здравствует поныне; потом, полюбопытствовал, стал расспрашивать: "Откуда странник ты бредешь и сам ты pro таков?" - Тут Иван Демушкин присел на камешек и поведал скорбную повесть о хивинском походе.
"Ведомо тебе, Терек Горыныч, как мы взяли от отцов и матери родительское благословение, как распрощались с женами, с детьми, с братьями да сестрами и отправились к Гурьеву городку, где стоял князь Бекович-Черкасский. С того сборного места начался наш поход бесталанный, через неделю или две после Красной горки. Потянулась перед нами степь безлюдная, жары наступили нестерпимые. Идем мы песками сыпучими, воду пьем соленую и горькую, кормимся казенным сухариком, а домашние кокурки давно уже поистратили. Где трафится бурьян, колючка какая, сварим кашкy, а посчастливится, подстрелим сайгака, поедим печеного мяса. Недели через три кони у нас крепко исхудали, а еще через недельку стали падать, и казенные верблюды почали валиться. На седьмой или восьмой неделе мы дошли до больших озер: сказывали яицкие казаки, река там перепружена. До этого места киргизы и трухмены два раза нападали, - мы их оба раза как мякину во степи развеяли. Яицкие казаки дивовались, как мы супротив Длинных киргизских пик в шашки ходили, а мы как понажмем халатников да погоним по-кабардинскому, так они и пики свои по полю побросают; подберем мы эти шесты, да после на дрова порубим и каши наварим. Так-то.
У озер князь Бекович приказал делать окоп: прошел, виш, слух, что идет на наш отряд сам хан хивинский с силой великой, басурманской. И точно, подошла орда несметная. Билась она три дня, не смогла нас одолеть, на четвертый - и след ее простыл. Мы тронулись к Хиве. Тут было нам небесное видение. Солнышко пекло, пекло, да вдруг стало примеркать; дошло до того, что остался от не¬го один краешек. Сделались среди бела дня сумерки. В отряде все притихло, на всех нашел страх. Лошади и верблюды ежатся, как бы чуют зверя. Мы крестимся, говорим про себя: "Господи Иисусе!", а какие были в отряде татары, те раскинули по песку свои епанчи и стали делать поклонение явленному в денную пору молодому месяцу. Прошло полчаса, коли не больше, потом, солнце начало мало-по-малу открываться, прогонять бесовский мрак и опять засветило во всю силу. Пошел по отряду говор, только невеселый говор. Все старые люди, казаки, драгуны, астраханские купцы - в один голос сказали: "Сие знамение на радость магометан, а нам не к добру".
Так оно и вышло. За один переход до Хивы хан замирился, прислал князю Бековичу подарки, просил остановить войско, а самого князя звал в гости в свой хивинский дворец. Бекович взял с собою наших гребенских казаков, 300 человек, под коими еще держа¬лись кони; и я с дядей Новом попал в эту честь. Убрались мы в новые чекмени, надели бешметы с галуном; коней поседлали наборной сбруей, и в таком наряде въехали в Хиву. У ворот нас встретили знатные ханские вельможи, низко кланялись они князю, а нам с усмешкой говорили: "Черкес-казак якши, рака будет кушай!" - Уж и дали они нам рака, изменники треклятые! - Повели через город, а там были заранее положены две засады. Идем мы это уличкой, по 2, по 3 рядом больше никак нельзя, потому уличка узенькая, изгиба¬ется как змея, и задним не видать передних. Как только миновали мы первую засаду, она поднялась, запрудила уличку и бросилась на наших задних, а вторая загородила дорогу передним. Не знают наши, вперед ли действовать или назад. А в это время показалась орда с обоих боков и давай жарить с заборов, с крыш, с деревьев. Вот в какую западню мы втюрились! И не приведи Господи, какое началось там побоище: пули и камни сыпались на нас со всех сторон, даже пиками трехсаженными донимали нас сверху, знаешь, как рыбу багрят зимой на реке. Старшины с самого начала крикнули: "С конь долой, ружье в руки!"', а потом подают голос: "В кучу, молодцы, в кучу!" - Куда-ж там в кучу, коли двум человекам обернуться негде! - Бились в растяжку, бились не на живот, а на смерть, поколь ни одного человека не осталось на ногах. Раненые и те отбивались лежачие, не хотели отдаваться в полон. Под конец дела, наших раненых топтали в переполохе свои же лошади, а хивинцы их дорезали. Ни один человек не вышел из треклятой трущобы, все полегли. Не пощадили изверги и казачьих трупов: у них отрезывали головы, вздевали на пики и носили по базарам. Бековича схватили раненого, как видно, не тяжело, поволокли во дворец и там вымучили у него приказ, чтобы отрад расходился малыми частями по аулам, на фатеры; а когда разошлись таким глупым порядком, в те поры одних побили, других разобрали по рукам и повернули в ясыри. После того как Бекович подписал такой приказ, с него еще живого сдирали кожу, приговаривая: "Не ходи, Давлет, в нашу землю, не отнимай у нас Амударьи-реки, не ищи золотых песков".
Я безотлучно находился с боку дяди Иова. Когда спешились, он велел мне держать коней, а сам все отстреливался. "Держи, держи, говорил: даст Бог отмахаемся, да опять на-конь и погоним их поганцев!" Тут покойник неладно изругался, а меня вдруг трахнуло по голове, и я повалился без чувств лошадям под ноги. Очнулся не на радость себе во дворе одного знатного хивинца; двор большой, вокруг меня народ, а дядина голова, смотрю, торчит на пике. На меня надели цепь как на собаку, и с того страшного дня началась моя долгая, горькая неволя. Нет злее каторги на свете, как жить в ясырях у бусурман!" - Хивинский пленник кончил свой рассказ. Когда он поднял глаза, то увидел, что по лицу Горыныча катится дробные слезы. - "По ком ты плачешь, Терек Горыныч?" - "По гребенским моим, по казаченькам. Как-то я буду ответ держать перед грозным Царем Иваном Васильевичем?" - печально промолвил Горыныч.
Кроме Ивана Демушкина вернулся еще Шадринского городка казак Петр Стрелков. Последнего до самой смерти звали "хивином", и это прозвище унаследовали его дети.
Впрочем, казаки в свою очередь тоже не брезговали использо¬вать пленных или купленных у горцев иноплеменников на своих домашних работах. Полбненики обыкновенно крестились в православную веру и делались временно обязанными работниками. Был такой случай: крестьянин Илья Афанасьев был взят чеченцами в плен, там он женился на чеченке и прижил с ней двух сыновей, а потом бежал к своим. По избавлении из плена вступил он добровольцем в полк. Однажды в станице Новогладовской встречает он свою жену и узнает, что она продана была после его побега вместе с сыновьями гребенскому казаку Осипову, что тот их покрестил и держит как работников. Афанасьев кинулся к наместнику Ермолову, мол, прикажите вернуть мне жену и детей. Но генерал рассудил, что прежде следует уплатить отданные за них Осиповым деньги, при условии, что год работы в казачьем хозяйстве стоит 100 руб.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
ЛИНИЯ, ПОСТРОЕННАЯ НА КАЗАЧЬИХ КОСТЯХ |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»
Или о том, как возникла Черноморская кордонная линия;
как строились кордоны, батареи и "бикеты"; о коварстве и свирепости горцев;
как 10 казаков отбили несколько сотен шапсугов;
как началась, длившаяся более полувека, кровавая Кавказская война.
О том, как казачий атаман Бурсак отомстил за гибель товарищей.
Как дюк де Ришелье чуть не попал в плен к черкесам.
По излучинам Кубани от Воронежского редута вниз почти на 300 верст Чепега поставил ряд кардонов, которые все вместе составили Черноморскую кордонную линию. Кордоны строились основательно: они окапывались глубоким рвом, обсаживались колючим терновником, укреплялись бастионами. Между кордонами в самых опасных местах ставились батареи и пикеты (или как их казаки называли промеж собой - "бикеты").
Батареи были те же кордоны, только вооруженные пушками, пикеты же были кордонами в миниатюре. Если кордон обслуживало от 30 до 60 казаков - в зависимости от местоположения, то пикет имел всего лишь 8-10 защитников.
Над каждым из этих укреплений возвышалась "вышка". Посередине ее конусовидной камышевой крыши торчал шпиль с перекладиной. На перекладине качались плетеные шары. Когда сторожевой на вышке замечал противника, он кричал: "Черкесы! Бог с вами!" - "Маячь же, небоже!" - отвечали ему снизу. И тогда шары поднимались вверх, объявляя тревогу. Кроме маяка - вышки, черноморцы на Кубани для сигналов об опасности использовали стародавнюю запорожскую "фигуру". Правда, они существенно ее видоизменили: вместо пирамиды просмоленных бочек теперь они врывали в землю высокую жердь, обмотанную пенькой и сеном. Когда ночью враги прорывали где-либо линию, повсюду вспыхивали "фигуры", освещавшие пламенем берег Кубани. Нередко на зеленом холме возле "фигуры" стоял покачнувшийся деревянный крест, знак того, что здесь погиб в неравном бою постовой казак.
Немало черноморцев пало от малярии и лихорадки - плавни и болота, раскинувшиеся по обоим берегам Кубани с мириадами комаров и мошек, были рассадниками этих неизлечимых в то время болезней. Нередко погибали казаки и от острых клыков огромных кабанов, шнырявших в непроглядном камышевом лесу и от укусов ядовитых змей.
Но больше всего пало казацких голов от черкеской шашки и кинжала.
По левому берегу Кубани, поднимаясь все выше и выше в горы, жили народы, которые по разному назывались, но были однако одной крови - шапсуги, бжедухи, абазинцы, адыги и другие. Казаки их называли одним именем - черкесы. Все они, хотя и были довольно безразличны к религиозным обрядам, однако своим повелителем признавали турецкого султана. Анапскому паше было поручено наблюдать и управлять черкесскими племенами. Однако горцы были послушны ему только тогда, когда паша поощрял вражду к русским. До переселения черноморского войска закубанские черкесы пользовались лугами и пашнями правобережной Кубани. Хотя, если вы вспомните первую главу книги, земля эта испокон веков принадлежала славянам. Славное княжение в Тьмутаракани (современной Тамани) Мстислава Удалого лишний раз подтверждает это.
Вот почему с прибытием русских черкесы собрали свой хлеб, забрали скот и ушли с правобережья Кубани без всякой вражды, помятуя о том, что земля эта им никогда не принадлежала.(Замечательно, что даже английский писатель Морис Хиндус, которого трудно заподозрить в великодержавном шовинизме, в монографии "Казаки" (Лондон, 1946), вынужден был признать права русских на Кавказ. Вот, что он пишет; "В 1778 г. ген. А.Суворов прибыл на Кубань, которая вместе с Крымом была присоединена к России за 4 года до этого. Горцы в большинстве своем отказывались признавать право России на них, считая себя подданными Турции. Фанатичные и агрессивные эти поклонники Магомета не желали видеть христиан на земле, которая не принадлежала русским, начиная с XII в., в то время, когда Черное море было известно миру как Русское море".
М. Хиндус в своей книге приводит такой замечательный факт из жизни Суворова на Кавказе: "Суворов был не только великим воином, но и выдающимся дипломатом. Пока строились укреплениями Кубани он завел дружбу с горцами и покорил их своей искренностью и откровенностью. Однажды он устроив обед, для которого потребовалась тысяча быков, 8 тыс.овец, 500 ящиков водки. Обед имел большой успех у горцев. Они пели и плясали и растрогали Суворова своей ловкостью и грациозностью. Казалось, они примирились с присутствием русских на их родине. Но только казалось, вскоре после обеда с новой силой начались жестокие набеги горцев, вспыхнули кровавые схватки с казаками. Кубань надолго стала сценой, жестокой борьбы »)
Действительно, первое время соседи жили в ладу: черкесы частенько наезжали в Екатеринадар, ГДЕ их радушно встречали по славянскому обычаю хлебом-солью. Они толковали с казаками о том, как лучше сохранить мир, кунакались, пили, ели и довольные собой и приемом возвращались к себе в горы. Многие черкесские князья напрашивались в русское подданство, клялись соблюдать верность царю и даже переселялись в связи с этим поближе к русским вместе со всем племенем.
Подстрекательства турок в конце концов возобладали над Здравым смыслом. Начались кровавые набеги на поселения черноморцев. В темные ненастные ночи, пробираясь между казацкими секретами, черкесы воровали скот, уводили пленных, увечили, мучили несчастные жертвы. Были примеры, когда подрезав Пленным жилы, они бросали их в плавнях на съедение комарам, а кого уводили с собой - тех ожидало жестокое рабство. Кордонная служба с каждым годом становилась все труднее и труднее. Наиболее опасные кордоны пришлось усилить, доведя число их защитников до двух сотен. Увеличивалось число пикетов, насыщались новые батареи.
С выходом солнца сторожевой казак уже был на вышке, откуда до темноты следил за тем берегом Кубани. В сумерки же казаки по 2-3 человека залегали в засаде в особо опасных местах. Это называлось у черноморцев - "делать залогу". Остальные держали лошадей в седле, чтобы по первому выстрелу скакать туда, откуда призывает опасность. Кроме того вдоль линии по узким прибрежным стeжкaм - тропинкам то и дело сновали конные разъезды. Они то сменяли один другого из-за опасности нападения горцев. Те мели обыкновение перекидывать через стежку аркан и таким образом сбрасывать всадника на землю. В конце концов, чтобы пресечь такие неожиданные нападения на разъезды, казаки стали ездить гуськом на значительном расстоянии друг от друга. Последний разъезд уже при утреннем свете снимал залогу. В туманы же залоги не снимались вовсе, а разъезды ходили до полудня. Зимой, когда Кубань сковывало льдом и опасность нападения горцев усиливалась, залоги заменялись усиленными разъездами.
Ни темень, ни дождь, ни вьюга не могли помешать казакам нести кордонную службу. Конечно, тяжко было, особенно в пикетах. На кордоне хоть человеческое жилье - можно отогреться у печки и i» беседе отвести душу. Но не всем так везло. Бывало, вернется в пикет из ночного поиска казак, голодный, продрогший, мокрый от Дождя. Разведет костерок, чтоб приготовить что-нибудь поесть, в своем насквозь продуваемом шалашике и нахмурится под тяжестью 1 своей мрачной думки. Одна отрада у него осталась как воспоминание о тепле родной хаты - кот-мурлыка, который повсюду со своим , хозяином. Вот и сейчас трется он о колени своей шерсткой, ласкается к хозяину и казак невольно расправляет морщины на лбу, светло улыбается...
Впрочем, несмотря ни на какие невзгоды и тяжести, черноморцы никогда не падали духом, и, если приступал враг во много раз превосходящий их числом, стояли до конца. Так казак Сура с десятью своими товарищами из "бикета" отбил целое скопище шапсугов, пробиравшихся к родному их Полтавскому куреню. Казака, заняв круговую оборону в своей плетеной "корзине", меткими выстрелами сначала осадили не в меру "горячих" горцев, а затем и заставили их отступить с потерей около сотни убитых.
Надо сказать, что на первых порах черноморцы имели право только защищаться от набегов горцев, ходить же в аулы, наказывать хищников за разбой и возвращать свое добро им строго настрого воспрещалось. Екатерина II, а затем и ее преемники Павел I и Александр I полагали, что для поддержания тишины прежде всего необходимы кротость и уступчивость со стороны русских. Однако такая политика ни к чему не привела. Дерзость горцев стала еще больше. Еще при жизни Александра I в Петербурге сделали вывод, что эти люди повинуются лишь страху, уважают только силу и император снял запрещение наносить ответный удар. Так началась беспощадная Кавказская война, длившаяся более полувека ( Чтобы предотвратить кровопролитие было предложено черкесам на выбор или добровольно признать власть российского царя и стать равноправными гражданами России или вместе со всем имуществом в течение 2-х месяцев пересилиться в Турцию к своим единоверцам, в чем при желании им будет оказана помощь. Третьего было не дано. Горцам же понадобилось полвека, чтобы, наконец, уразуметь это).
Как только было снято известное запрещение казакам переходить Кубань и мстить за разбой врагу, черноморцы начали регулярно "посещать" горные аулы. На короткое время во всем крае водворялась тишина, однако вскоре закубанцы, собравшись с силами, снова делали кровавый рейд по казачьим кордонам и куреням. Однажды вышковый Новогригорьевского кордона заметил, будто в плавне что-то зашумело, о чем он Фут же дал знать сотнику Похитонову.
Черкесов переправилось около 2 тысяч, а казаков и солдат было всего сто. Однако несмотря на такое соотношение сил, казаки столь лихо начали поливать врагов картечью, что те отступили, потеряв около сотни раненых и несколько десятков убитых. Похитонов решил им не дать уйти и с горяча ринулся преследовать врага. Сначала горцы отступили, но, получив подкрепление из-за Кубани, пере¬шли в контратаку, дружно бросившись в шашки. После чего Похитонов был ранен, артиллерийская прислуга перебита. Лишь только артиллерия замолчала горцы смело врубились в ряды казаков. Око¬ло двух сотен их оказалось на казацких штыках и пиках, но наших-то уцелело всего 25 человек. Они едва успели добежать до кордона.
Казачий сотник Похитонов погиб, и команду принял штабс-капитан Фетисов. Все, кто уцелел после жестокой сечи, заняли опасные места на укреплениях кордона и приготовились к бою. Они еще надеялись отстоять свое последнее убежище с помощью прицельного огня. Черкесы, сообразив это, стали перебрасывать в кордрн куски зажженного навоза. От него загорелись деревянные постройки и пожар стал распространяться по всему кордону. Тогда Фетисов собрал всю оставшуюся команду и объявил: "Братцы! Теперь все равно погибать - от огня ли, от неприятеля. Спасайтесь, кого куда потрафит!". Растворили калитки, бросились в разные стороны, но лишь трем казакам, да двум солдатам удалось проскочить в дыму к обрыву и прыгнуть в Кубань. Остальные попали в неволю. Новогригорьевский пост был разграблен и сожжен дотла.
Черкесы разнесли по горам весть о взятии кордона, с пушкой и артиллерийскими запасами. И вознамерились уже разорить всю Черноморскую кордонную линию. Однако преемник Чепеги славный казачий атаман Бурсак вместе с 5-тысячным отрядом поспешил упредить их замыслы.
На пути к речке Шедохе атаман сжег несколько аулов изменника Баты, много раз клявшегося в верности России. Когда отряд уперся в дремучие леса, атаман приказал располагаться на ночлег. Горцы собрались вокруг в числе 2-х тысяч, но подойти боялись - б орудий черноморцев отбили у них охоту подходить ближе чем на растояние пушечного выстрела.
Утром Бурсак продолжил свое шествие по черкесским землям. 18 горных аулов, множество хуторов, пасек, запасы хлеба, сена - все было истреблено. Черкесы потеряли в схватках более 500 убитых и до 300 раненых. Такова была их "плата" за гибель Новогригорьевского поста.
Устроитель Одессы, новороссийский губернатор Дюк Эммануил де Ришелье, прибыв в том же году в Екатерииодар решил установить с горцами мир. Он пригласил в казачью столицу всех знатныx закубанских князей, угостил их на славу, задарил дорогими подарками и призвал жить в мире. Князья, сидя за столом, все обещали и клялись генералу в верности. - Вернувшись же домой они собрали 3 сотни самых отчаянных головорезов и сделали засаду в топких болотах возле Петровского поста. Стали ждать проезда Дюка в надежде получить богатый выкуп за столь важного вельможу. Только казаки во главе с есаулом Иваненко выследили их, приволокли к месту засады пушку и после залпа бросились на "ура!". В итоге прогнали хищников, рассеяв их совершенно. В память об этом событии в том самом месте была насыпана батарея, названная по имени Дюка Эммануиловской.
Но, несмотря на такие уроки, черкесы и не думали успокаиваться. Спустя некоторое время 4 тысячи горцев снова вторглись в пределы Черномории и начали грабить станицы. Полковник Тиховский находившийся в то время на линии, узнав об этом, тут же разослал во все концы гонцов, дабы предупредить об опасности. Однако они были перехвачены врагами, предусмотрительно перекрывшими заранее все пути.
В соседней станице майор Бахманов успел собрать жителей и свою небольшую команду. Горцы бросились поджигать дома; Бахманов дружным ударом в штыки заставил их ретироваться и даже преследовал огнем. Между тем, Тиховский поспешно выступил против хищников, дабы задержать до прихода атамана разграбление края. К нему присоединился есаул Гаджаиов с Ново-Екатерининского поста. Черкесы, заметившие этот небольшой отряд смельчаков всего из 200 всадников, ринулись на него с шашками наголо.
Тиховский же, не в первый раз смотревший смерти в глаза, приказал казакам спешиться, сделать кольцо и начал наносить по врагу удары картечью. Черкесы, встретив такой отпор, поостыли и уже стали подбирать убитых, чтобы отходить, как из-за Кубани на подмогу им подошли свежие силы горцев. Бой возобновился с новой силой. Черкесы то изводили огнем, то кидались в шашки, силясь раздавить кучку казаков. Но ничего не помогало: черноморцы меткими выстрелами, чередуясь, на глазах сокращали число врагов. Картечь рвала толпу на куски. Так прошел час, второй, третий, на исходе четвертого часа черкесы устали и начали терять надежду на успех. Они вторично приступили к уборке тел, как вдруг прискакала к ним на помощь конная партия, отбитая майором Бахмановым.
К этому часу у черноморцев артиллерийские снаряды все вышли, патроны были на исходе, половина казаков лежала неподвижно, другая, истекая кровью, напрягала последние силы. Тогда полковник Тиховский с трудам поднявшись на ноги, своим примером одушевил казаков, ударив с ними в "ратища" - запорожские пики. Черкесы приняли их в шашки. Разрубленный на части Тиховский пал на поле боя. Уцелел только есаул Гаджанов с 16 казаками, которые, пользуясь наступившей темнотою, сумели просочиться сквозь ряды горцев. Впрочем, большинство из них впоследствии скончалось от ран.
Россиян тогда погибло 140 человек, в горы было уведено 50 пленных, захвачено 2 тысячи рогатого скота, полторы тысячи овец, сотня лошадей. Черкесы заплатили за это 500 убитыми, которых они покинули на месте боя, примерно столько же трупов увезли собою.
Через час после окончания битвы на место побоища прискакал есаул Голубь, но все уже было кончено: лунный свет освещал изрубленные тела, по талому льду струилась кровь, смешиваясь с конским пометом и грязью, а на той стороне реки слышался рев упрямых быков, подгоняемых ударами шашек. До революции это ме¬сто вблизи Ольгина поста было украшено памятником.
Атаман Бурсак, узнав о злодеянии горцев, решил заплатить черкесам долг за павших товарищей с лихвой. Заняв оба берега реки Сун, что протекает по земле черченейцев и абадзехов, он отправил отсюда одну колонну вправо, другую сам повел влево. В 6 часов утра колонны одновременно вступили в дело. Казаки рубили врагов без разбора. Атаман с большим трудом сумел спасти в пылавших аулах 14 мужчин и 24 женщины.
16 лет атаманствовал Федор Яковлевич Бурсак. Много добра он сделал родному краю, благоустраивал и укреплял его, как мог. Своими решительными походами за Кубань он принудил горцев просить мира. И хотя мир этот был недолог и вскоре был вероломно нарушен, все-таки он позволил казакам хоть немного передохнуть, набраться сил, заняться устройством своих станиц. Богатырского роста, величавый, степенный Бурсак легко гнул подковы и свалил однажды разъяренного быка. Атаман всегда жил в простоте, соблюдая старинные обычаи казацкого быта, особенно по части гостеприимства.
Все свое время атаман отдавал войску. Однажды за обедом герцог де Ришелье спросил: "Атаман, сколько у вас детей?" . Бурсак в свою очередь невозмутимо спросил у стоявшего рядом черноморца: "Трофим, сколько у меня детей?"
- Одиннадцать деток, пане атамане.
Свое прозвище атаман получил еще в молодости, так как с детства обучался в Киевской бурсе. Во время атаманства Бурсака в помощь черноморцам на Кубань пришло 25 тысяч малороссийских казаков.
Они в большинстве своем пришли с пустыми руками, голодные и заморенные. Черноморцы приняли их по-братски, собрав в их пользу большой по-тогдашнему времени капитал (это при их собственной стесненности в средствах!), поделились хлебом, скотом, лошадьми, всем, что сами имели. Словом, поступили как истинные православные. Часть переселенцев осела на Кордонной
Линии, которая по приказу Ермолова стала заселяться казаками. Чтобы обезопаситься от набегов, поселенцам разрешили рубить на той стороне Кубани лес для станичных укреплений и построек.
Однако жизнь на Линии была, мягко говоря, беспокойной - горцы все время держали казаков в изматывающем напряжении. Дела заметно улучшились с назначением начальником Линии генерала Войска Донского Власова. Бдительный, неутомимый, отважный, он напоминал черноморцам времена Чепеги и Бурсака, когда враг чуял казацкую силу и с трепетом ждал расправы за каждую учиненную им пакость.
Дошло до сведения Власова, что турецкий султан прислал в Анапу судно с товарами и деньгами. Горские князья тут же разгласили, что в Анапу назначен новый паша и война гяурам уже объявлена. Огромное скопище черкесов тут же придвинулось к Куба¬ни. Передовые прискакали на Петровский пост и доложили, что неприятель близко.
Генерал Власов бывший в то время на Петровском посту, тут же собрал всех боеспособных казаков. Среди них было 600 конных и 65 пеших. Когда стемнело, выл ветер и поливал дождь, Власов выступил. Вскоре он выследил переправу и пропустил молча первую партию черкесов. Горцы пошли на хутора, стоявшие от переправы за 15-20 верст. Как только направление движения неприятеля обозначилось, он послал вслед ему сначала одну команду, потом другую. Завязалась перестрелка.
Тут подоспела еще одна сотня с орудием со Славянского поста. Власов послал и ее вслед черкесам. Только что грянула пушка, как в ту же минуту запылали на Линии маяки, раздались перекатом выстрелы, означавшие тревогу. Горцы, не понимая в чем дело, оторопели. Впереди них и за спиной пылали огни, палили пушки, трещали ружья.
Потоптавшись в нерешительности, они в конце концов струси¬ли и повернули назад к, Кубани. Но тут ждала их облава: прямо в лицо выпалила им картечью пушка, поставленная на самой дороге. Они отхлынули влево, но тут с двумя орудиями поджидал их сам Власов. Раздалась его команда: "Пли!" И заряд картечи уложил на месте многих из них. Потеряв надежду пробиться, горцы бросились врассыпную. Генерал с конницей несся им наперерез, так что черкесам ничего не оставалось делать, как лезть в болотистый Калауский лиман. Сколько было можно казаки рубили их шашками, кололи пиками, а те, кому удалось избегнуть этой участи большей частью погибли в болоте вместе с лошадьми. По собственному признанию шапсугов они потеряли более 1000 простых воинов и 20 знатных князей. Казакам же досталось 500 лошадей и множество прекрасного оружия.
Надо сказать, что черкесы ради доброго оружия не жалели ни золота, ни серебра, ни любимой дочери. Чтобы добыть булатный
... ВПРОЧЕМ, НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ НЕВЗГОДЫ И ТЯЖЕСТИ, ЧЕРНОМОРЦЫ НИКОГДА НЕ ПАДАЛИ ДУХОМ, И, ЕСЛИ ПРИСТУПАЛ ВРАГ ВО МНОГО РАЗ ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ИХ ЧИСЛОМ, СТОЯЛИ ДО КОНЦА...
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
*** |
 НАШЕМУ ИМЕНИННИКУ
НАШЕМУ ИМЕНИННИКУУряднику
Александру
Карачарову-Стрельникову
УРА! УРА! УРА!
|
|
«Кругом измена, и трусость, и обман» |

«Нужно мое отречение… Я согласился… Кругом измена, и трусость, и обман».
Государь предвидел катастрофу и отметил текст в своем экземпляре Святого Писания, чудесным образом обретенном в церкви Святого Благоверного князя Александра Невского, что во Пскове, вещие слова о грядущем наказании России:
( Лев. 26, 14-36 )
« 14 Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих,
15 и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, --
16 то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;
17 обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами.
18 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши,
19 и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь;
20 и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли [вашей] не дадут плодов своих.
21 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши:
22 пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши.
23 Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня,
24 то и Я [в ярости] пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши,
25 и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага;
26 хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты.
27 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня,
28 то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши,
29 и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть;
30 разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами;
31 города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания [жертв] ваших;
32 опустошу землю [вашу], так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней;
33 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены.
34 Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои;
35 во все дни запустения [своего] будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней.
36 Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует»
(Исход 34, 10 ) « …ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя»
Все предреченное исполнилось вскоре.
По докладу Татьяны Мироновой на Международной историко-богословской конференции «Проблемы прославления Царственных мучеников». Царское Село, 16-17 июля 1999 года
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
Решительность, самообладание и великодушие черноморцев |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве».
Вместе с защитой своей новой родины, черноморцы дрались и а рубежах Руси и за границей с ее общими врагами. Об участии их в штурме Очакова и Измаила уже рассказывалось. Затем под начальством великого Суворова они участвовали в общем штурме Праги. Кстати, за успех этого последнего дела Чепега получил генеральский чин и орден святого Владимира 2-й степени. Всем офицерам войска Екатерина II пожаловала золотые знаки, а казакам Серебряные медали с надписью "За труд и храбрость". В декабре 1795 года, убедившись, что мятежная Польша окончательно утихомирилась, они вернулись к себе домой, в Черноморию.
Тут вскорости была объявлена война персиянам. Граф Зубов писал кошевому, чтобы казаки были снаряжены в поход. Примем преимущество отдавалось тем, кто был способен не только нести пешую или конную службу, но и отлично чувствовал себя на мope. 26 февраля следующего года, Головатый, отслужив напутственный молебен, выступил в поход с отборной тысячей молодцов. Тогдашний таврический губернатор прислал своим любимым черноморцам икону Спаса нерукотворного и 200 рублей на горилку, чтоб они выпили за здоровье "милостивого батька кошевого и его". В Астрахани Головатый сел на суда и отплыл в Баку, а оттуда на остров Сару против Талышинского берега. Часть казаков начала ходить на лодках по Куре, доставляя в армию провиант. Остальные забирали во владение России персидские острова, рыбьи и тюленьи промыслы и в то же время оберегали Талышинское ханство от набегов татар.
Однажды казаки отбили на морском поиске несколько персидских киржим с товарами. Сильным порывом ветра одну киржиму под командой лейтенанта Епанчина, отбило от прочих и понесло к неприятельскому берегу. На судне находилось 10 черноморцев (из них двое больных) и армянские купцы. С берега их заметили; около 150 персиян выехало навстречу на верную добычу. Черноморцы не испугались при виде приближения врага и изготовились к бою. Лейтенант же Епанчин пересел с двумя матросами в лодку, посадив еще четырех купцов и отплыл с ними к стоявшему невдалеке русскому боту. Таким образом казаки были оставлены на произвол судьбы; в то время как оставшиеся в киржиме армяне залезали в страхе под палубу, казаки выбрали старшего. Им стал Игнат Сова. Коща персияне выкинули на своих лодках красный флаг в надежде, что казаки выбросят белый. Сова приказал распоясать одного армянина и поднять его пояс тоже красного цвета.
Персияне ответили градом пуль; казаки со своей стороны тоже начали стрельбу "с уговором: без промаху". При этом они уложили всех персидских старшин, потом стали выбивать "пiдстарших панкiв". Персияне сразу притихли, многие попрятались за борта. Так, не солоно похлебав, повернули они обратно к берегу.
Еще казацкая слава не сгинула, - писал Головатый, - если 8 человек могли дать почувствовать персиянам, що в черноморщв за сила!"
Вскоре однако казаки потеряли своего любимого вождя, печальника о их нуждах: Антон Андреевич Головатый умер в начале 1797 г. Могила его как и многих других черноморцев находится в нынешнем Ленкоранском районе Азербайджана. Причем местные жители не только не следят за тамошним казацким кладбищем, но и при всяком удобном и неудобном случае растаскивают мраморные и гранитные надгробные плиты для своих хозяйственных нужд. К примеру, они делают из них ступени и дорожки в садах, а на территории кладбища в ближайшем будущем собираются разместить виноградник. Нам кажется, что современное казачество должно воспрепятствовать этому оскорблению праха славных предков и остановить святотатство.
Вскоре после Головатого сошел в могилу и Захар Алексеевич Чепега. Несмотря на генеральский чин, он до конца дней своих оставался верен старинным запорожским обычаям. После Чепеги атаманы назначались не по выбору войска, а императором. Тогда же вместо прежнего войскового управления была учреждена Войсковая канцелярия, должностные лица которой также назначались государем.
В то время, когда пехота генерала де Во преодолевала реку Неман, бывшую в те времена границей империи, первыми, кто встретил его огнем, были кубанские и бугские казаки. И затем в течение боев казаки находились в самом жарком месте, в арьегарде, отступавшей к Москве, русской армии. Под Можайском кубанцы сдерживали движение Великой французской армии в течение 4-х часов, дав время главным силам выбрать позицию и подготовиться к грядущей битве. В Бородинском сражении они находились на правом фланге русской армии и снискали себе славу непобедимых; под Витебском лейб-казаки, черноморцы и часть Сумского Гусарского полка уничтожили 16 конно-егерский полк французов и взяли батарею, около которой находился сам Наполеон. Буквально на глазах у императора в один миг все артиллеристы были переколоты, а пушки сброшены в овраг. Атака казаков вы¬звала смятение среди французов. Бонапарт вынужден был остановить наступление.
Один из очевидцев похода пишет: "Казаки истребляли все по проходу наших войск, дабы неприятели всюду находили одно опустошение". Под Тарутином кубанцы под командованием гр. В.В. Орлова-Денисова "презрев свою опасность и ужас смерти окружили кирасир и обратили их в бегство - после чего "имя казака гремело ужасом" по всей Европе - особо отличился сотенный есаул И. К. Перекрест, хорунжий Н.С .Завадовскнй и А.А.Бурсак. Михаил Илларионович после битвы отмечал: "Казаки делают чудеса: истребляют не только пехотные колонны, но нападают быстро и на артиллерию".
В годы Отечественной войны 1812 года черноморцы не отстали от других областей государства. Войсковая казна отправила в Петербург 100 тысяч рублей серебром (это гораздо больше чем миллиард нынешних рублей) да более 14 тысяч было собрано добровольных даяний. Тогда же выступила в поход особая гвардейская сотня, состоявшая при особе императора Александра I в заграничном походе наших войск. Она участвовала в отражении знаменитой атаки французской конницы Латур-Мобура, причем справились с этим казаки блестяще.
4-й конный полк черноморцев участвовал в партизанских действиях под началом генерала Платова и князя Кудашева. Когда под городком Цейсом французы укрепили высоты своими батарейки, наши, открыв беглый пушечный огонь, заставили их сняться с позиции. Едва французы тронулись, конница помчалась в атаку, впереди ее неслись черноморцы. Они первые ворвались в городок, решились и пошли штурмовать фабричные постройки, откуда французы вели ружейный огонь. Казаки вместе с гусарами выбили неприятеля, при этом они взяли в плен 1400 солдат и 36 офицеров, забрали с собой пять пушек и несколько знамен. (Подробнее о действиях казаков в войне 1812 года см. книгу В. Левченко "Атаман Платов")
Император Николай I поставил во главе всех казачьих войск (в то время это было 200 тысяч всадников) своего старшего сыра, ставшего впоследствии царем-освободителем Александром II. Наказному атаману черноморцев Бескровному удалось отнять под Анапой в числе прочего оружия богатейшую турецкую саблю, которая была отдана Его Императорскому Высочеству Александру Николаевичу. Многие из участников взятия Анапы в 1828 году, уже с седыми усами через 26 лет явились вновь на защиту Севастополя в рядах пластунских батальонов. В том же 1828 году, с открытием военных действий на берегах Дуная откликнулись братья черноморцев, тоже выходцы из Запорожской Сечи - задунайцы.
Вспомним, что после разгрома Сечи часть запорожцев ушла под покровительство Порты и поселилась на турецком берету Дуная, основав так называемую Задунайскую Сечь. Хотя жили они безбедно, пользовались хорошими угодьями и большими рыбными ловлями, тоска по родине и измена христианскому знамени, грызла сердце казацкое, смущала душу христанскую. Однако число запорожцев не уменьшилась, т.к. их курени быстро пополнялись бежавшими с Руси, чаще всего "крепаками". Вся "запорожская регула", полузабытая на берегах Кубани, на Дунае соблюдалась по всей строгости: женатый никак не мог попасть в войско - разве обманом, как это сделал Осип Михайлов Гладкий. Покинув на родине в Золотоношском уезде жену и 4 детей он явился в Задунайскую сечь и сказался холостым. В числе прочих запорожцев он усмирял греков, восставших против турок, а за год до объявления войны русским турками был избран кошевым задунайцев. По обычаю, султан утвердил это избрание особым фирманом.
Как только стало ясно, что султан готовится к войне с Россией, кошевой распустил слух, что запорожцев не оставят на месте военных действий, а выселят в Египет. Потом, в тайне, стал склонять к переходу на сторону России сначала куренных атаманов, а с их помощью и все остальное товариство. Большинство было со¬гласно, но люди, на совести которых оставался какой-нибудь грех, а также беглые помещичьи крестьяне наотрез отказались. Тогда на сходке кошевой смело объявил, что все вины им будут отпущены. В этом он был обнадежен письмом измаильского градоначальника генерала Тучкова.
Прежде всего запорожцы разобрали свою походную церковь, уложили ее в лодки и, оставив за неимением места большую часть своего имущества, вышли Дунайцем в море. Затем через Килийское гирло поднялись к Измаилу. Государь Николай I бывший в то время в войсках, приняв от кошевого грамоты и регалии, жалованные турецкими султанами и сказал следующие слова: "Бог вас простит, отчизна прощает, и я прощаю. Я знаю, что вы за люди!". На вопрос императора о семье кошевой ответил, что он холост.
В это время главная штаб-квартира русской армии была сильно озабочена переправой. Неприятельский берег был так укреплен, что не знали, где сделать высадку. Государь обратился за советом к Гладкому. А так как запорожцы, кроме рыбной ловли, промышляли охотой, то они тотчас припомнили, что на том берегу есть место верст на 20, поросшее камышом, где турки никак не ждут высадки. Поперек этой плавни, по их словам, тянулся земляной вал, который в одном месте настолько расширялся, что на той площадке можно было высадить целую дивизию. Кошевой просил разрешения съездить на тот берег и разыскать этот вал. Ему было это позволено. Гладкий с одним из куренных атаманов побывал ночью на плавне, сделал заметки на камышах и доложил обо всем царю.
Тогда войска перенесли на руках 42 запорожских лодки, как раз против указанного места и в ту же ночь началась переправа дивизии Рудзевича. Часть запорожцев подвозила солдат, а остальные были расставлены вдоль вала для указания дороги. Дивизия Рудзевича двинулась с музыкой и барабанным боем в тыл турецкой крепости Исакчи, в то же время Дунайская флотилия под начальством Гамалея ударила противнику во фланг. Турки, пораженные ужасом, покинули крепость, которую Рудзевич ( Генерал Рудзевич был родом из крымских татар. Дед его, знатный мурза приехал как-то на прием к Екатерине с сыном-подростком. Мальчик понравился императрице и она уговорила отца отдать его учиться в кадетский корпус и стала ему крестной матерью. Впоследствии он дослужился до генерала.) сейчас же занял. Он объявил кошевому, что если он не будет сегодня полковником, то он, Рудзевич, не хочет быть генералом и отдаст свои эполеты Императору. Тут приезжает флигель-адъютант с прика¬занием, чтобы кошевой на своей лодке прибыл к Государю. Гладкий сел за рулевого, 12 куренных атаманов взялись за весла, и когда переехали в Измаил, Государь, оставив свою свиту, один вошел в запорожскую лодку и приказал снова грести в Исакчу. Здесь паша поднес ему ключи крепости и здесь же Государь, вынув из пакета полковничьи эполеты и Георгиевский крест собственноручно навесил их Гладкому, а куренным пожаловал военные ордена. 1 На той же лодке Государь проехал к своей флотилии поблагодарить моряков за молодецкое дело. Из запорожцев был составлен пятисотенный полк под названием "Пешего дунайского казачьего полка". Гладкий был назначен командиром его, куренные офицерами.
По окончании войны Гладкий, по приказанию Государя, отправился на Кавказ выбрать удобные места для поселения своего войска. Пока он ездил, в столицу пришло донесение, что кошевой имеет в Полтавской губернии жену и четырех детей. Государь, хотя и был обманут, не только не разгневался, но и приказал до¬ставить двух старших сынов Гладкого в Петербург для обучения за счет казны. Кошевого он встретил ласково и, выслушав доклад об осмотре землицы, в упор спросил, отчего он скрыл от него правду о жене и детях. Осип Михайлович прямо ответил, что в присутствии всех запорожцев ему иначе нельзя было поступить - товарищи перестали бы ему верить и во всем остальном. Государь его понял и позволил забрать жену и детей из помещичьего села.
Бывшие "неверные" запорожцы были поселены на берегу Азовского моря, между Мариуполем и Бердянском в районе Гуляй поле, под именем Азовского казачьего войска. Наказным атаманом азовцев стал Осип Михайлович Гладкий.
Много лет спустя, когда Николай I следовал на Кавказ через Керчь, Гладкий встречал его в числе прочих начальствующих лиц. Государь, минуя других, подошел прямо к нему и приветливо сказал: "Здравствуй мой вождь и витязь Осип Михайлович!" Так хорошо запомнил он услугу кошевого, снявшего грех со своих братьев запорожцев!
Вообще Николай I при всяком удобном случае выражал свою любовь к черноморцам. Так, когда исполнилось полвека со времени водворения казаков на Кубани, он послал им большое белое знамя святого Победоносца Георгия. Для торжественного приема знамени в Екатеринодар собрались атаманы всех черноморских куреней. Каждого из них сопровождали малолетки и старые казаки, помнившие еще "славное войско Низовое Запорожское". На войсковой праздник получили приглашение мирные черкесы и даже немирные шапсуги. Стечение народа по случаю троицкой ярмарки было необычайное. Среди воинского стана, у порога атаманской ставки, вкопали старый чугунный единорог, дулом вверх.
По обе стороны приготовили из зеленого дерна длинные столы. Охотники набили к этому дню множество фазанов, уток, зайцев, кабанов, оленей, коз; рыбаки наловили разной дорогой рыбы, которой в те времена было еще очень много. Посуду приготовили старую казацкую, деревянную. Лагерь стал наполняться народом, валили конные и пешие, скрипели черкесские арбы. Ровно в полдень зазвонили во все колокола что означало приезд в город владыки.
К вечеру войска выстроились перед лагерем. К атаманской ставке собрались все чины войскового укрепления, позади которого встали в ряд 59 станичных атаманов. Между ними вперемежку разместились старики с подростками. Снова зазвонили колокола, то выехал из города преосвященный Иеремия, проследовавший прямо в атаманскую ставку. Здесь, против дверей, помещался во весь рост портрет государя; у его подножья лежали серебряные литавры, трубы, атаманские булавы, перначи, старинное казацкое оружие, фальконеты. На большом столе распростерто новое знамя.
Преосвященный благословил знамя, после чего наказной атаман Завадовский вбил первый гвоздь. Потом по старшинству молоток переходил из рук в руки, начиная с владыки и кончая присутствующими казаками. В лагере царствовала тишина: пешие батальоны держали на караул, конные полки - сабли наголо, стояла устремив взоры в атаманскую ставку, откуда доносился мерный стук молотка. Прибивкой знамени закончилось торжество первого дня.
А утром в 8 часов из крепости раздались три выстрела. Это был призыв к литургии. Когда началось чтение Евангелия, пошла пальба из всех пушек - так праздновали в былые дни запорожцы в Сечи, каков был обычай и на Кубани. Словам любви и мира вторил гром
оружия: "Во всю землю изыде вещание их".
По прибытии в лагерь преосвященного и высшего казачьего начальства знамя вынесли к войскам. Гром барабанов приветствовал его появление. После "многая лета!" войсковой атаман прочел Высочайшую грамоту, по которой пожаловано знамя. Музыка заиграла "Боже царя храни", раздались пушечные выстрелы, загремело громовое "ура".
Даже горские дружины гикнули в честь русского царя. На том берегу Кубани, у аула Бжегокой, стояли немирные черкесы. Но и они не удержались к присоединились на своих борзых конях к ликующему войску. Утихли бурные выражения восторга, наступила тишина: архипастырь с крестом в руках передал после благословения знамя, как завет чести наказному атаману. Тот принял войсковую святыню, опустившись на колени. Затем началась присяга на верность новому знамени; после чего его обнесли по рядам и водрузили в жерло старого турецкого единорога.
После чего начался обед. За дерновыми столами черноморцы времен Очакова угощались родными запорожскими блюдами. Круговой "михалик" переходил из рук в руки между седыми сподвижниками Потемкина, Суворова, Белого, Чепеги, Головатого и Власо¬ва. Один столетний чубатый черноморец, украшенный очаковским крестом, рассказывал, как они во тьме карабкались на неприступную Березань, как сняли часовых, сами переоделись турками и у врасплох накрыли гарнизон. Другой вспомнил "батька" Чепегу, как тот подплывал в челнах к стенам Хаджибея (что теперь зовется Одессой) и поджигал под носом у янычар турецкие магазины; третий указывал на берегу Кубани место, где 50 лет тому назад, он у вбил первый кол кордонного оплота.
На правом фланге лагеря роскошествовали по своим обычаям до 500 горцев, ненадежных друзей и заклятых врагов. Они были приглашены, по широте казацкой натуры, разделить радость черноморцев, повеселиться, позабыв на время кровавые встречи с оружием в руках. Везде и в атаманской ставке, и за дерновыми столами, в лагере и среди горцев было обычное радушие, изобилие во всем - везде ели, пили, славили царя и матушку Русь.
Угостившись два седых запорожца с роскошными усами и чупринами, бойко и плавно отбивали "казака" под войсковую музыку; выпивши еще по ковшу горилки, они садились и пели старинные казачьи песни. Потом опять подкрепившись, лихо отбивали "гайдука". Земля дрожала, у людей дух захватывало. А знамя тихо развевалось. Молоденький казаченок смотрел на него и ему чудилось, что двуглавый орел расправляет свои крылья, силится подняться на Кавказские горы. Но до окончания кровопролитнейшей Кавказской войны было еще далеко, казачеству всей России еще предстояло испить горькую чашу Крымской кампании 1853-1855 годов.
Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |
ВОЙСКО ВЕРНЫХ КАЗАКОВ И ЕГО ИСХОД С БЕРЕГОВ ДНЕПРА |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве».
Отчего большую часть запорожцев прозвали верными.
Абордаж по-казачьи.
Остров Березань или как Антон Головатый получил Георгия.
Черноморцы - новое именование бывших запорожцев.
Потемкин - казачий гетман. Земля обетованная - между Бугоми Днестром. Визит Головатого в Петербург и расположение к нему Екатерины II.
Кубань. Закладка Екатеринодара и 20 куреней.
О том, как черноморцы, в прошлом славные сподвижники Потемкина и Суворова, выступили в персидский поход.
1812 год. Подвиги особой казачьей сотни и четвертого конного полка черноморцев. Возвращение "блудных" задунайцев в лоно России или за что Николай I присвоил их кошевому звание полковника.
Как Гладкий обманул Государя и что из этого вышло.
Как проходил праздник в честь полувековой службы казаков на Кубани.
Пели запорожцы, - "Зруйнували рожье. Буде колись треба"... - покидая Сечь. Казалось все конечно, ушли в прошлое и слава и громкое имя запорожцев, вывшее трепет у врагов христианского мира. Россия, однако, при ее военном могуществе не могла себе позволить безвозвратно потерять такое отборное войско, какими были рыцари с Днепровских порогов. Тем более, что надвигалась большая война с Турцией, Мудрый политик Потемкин прекрасно понимал, какую "пользу может принести предстоящей кампании братство запорожских казаков. Сплоченные, маневренные, не ведающие страха, к тому же отлично знающие край предполагаемых военных действий, запорожцы были крайне необходимы на службе русскому оружию. Вот почему князь Таврический, незабвенный Потемкин, окружил казаков особенным вниманием, обласкал их, как ласкают Обиженных детей. Он входил во все их нужды, устраивал, снабжал Одеждой и продовольствием, часто и подолгу беседовал наедине с их старшиной.
И это не прошло даром: когда спустя какое-то время он призвал запорожцев под знамена императрицы, те радостно откликнулись. И снова воскресло казачье братство, только теперь уже с новым именем - "Войско верных казаков". Начальство над ним было поручено первому кошевому атаману на императорской службе подполковнику - Сидору Белому. Князь Потемкин передал ему через Суворова бывшее в Запорожье большое белое знамя, а также малые знамена для куреней, булаву, несколько перстней и новую печать с надписью "Печать коша войска верных казаков".
Казаков разделили по полкам, как и в армии, конные полки поступили под начальство Захара Чепеги, помощника кошевого атамана, пешими же командовал войсковой писарь Антон Головатый. Узнав об этом, многие из тех запорожцев, что поселились в турецких владениях за Дунаем, присоединились к войску "верных казаков". Их первый кош был поставлен сразу за Днепровским лиманом с Кинбурнской стороны, но обустраивать его казахам было некогда - начиналась русско-турецкая война.
Армия Потемкина медленно подвигалась к Очакову. Здесь в виду мощной турецкой крепости и должны были встретиться наш флот с вражеским. От исхода битвы на море во многом зависела судьба черноморских владений. Утром 16 июля 1788 года командующий турецким флотом Госсан-паша поднял все свои корабли, чтобы истребить нашу гребную флотилию. Пробравшись через отмели, османы выстроились против русского левого фланга и всю ночь не прекращали пальбу. На рассвете следующего дня величественная армада турецких кораблей, фрегатов и мелких судов подняла паруса и двинулась навстречу лодкам, голерам. и плавучим батареям. Уверенные в своей победе турки сверху вниз посматривали на русские суденышки. Однако они забыли, что Бог не .в силе, а в правде. Истина эта вновь подтвердилась в этом сражении. Когда казаки бросились навстречу врагу и бой разгорелся во всю силу. Неожиданно садится на мель 70-пушечный турецкий корабль, за ним другой 80-пушечный под адмиральским вымпелом Гассана-паши. И тоща казакине долго думая, со всех сторон бросились на абордаж этих двух кораблей. Произошло это так быстро, что турки растерялись. Когда же они, очухавшись, схватились за оружие, натиск запорожцев остановить уже не было никакой возможности. И хотя османы защищались отчаянно, казацкая сабля взяла верх. После четырехчасового боя Гассан-паша не выдержал и приказал своим отступать к Очакову. Он потерял 2 тысячи убитыми, полторы тысячи остались в плену.
Победа казакам досталась недешево: в битве пал храбрый атаман Сидор Белый. Гребная флотилия "пустилась преследовать разбитого неприятеля. Когда спасавшийся бегством турецкий флот проходил мимо Кинбурна, Суворовская батарея осыпала его калеными ядрами; многие суда были взорваны. Тут казаки, мстя за смерть любимого кошевого, бросились на поклонников Магомета во второй раз, в результате чего флот их сократился еще наполовину. Остальные корабли турков были рассеяны погоней. Таким образом, почти весь турецкий флот, стоявший под Очаковым, был уничтожен. С потерей флота турки навсегда распростились с надеждой вернуть Крым под свое владычество.
За проявленную oтвагy в морском бою казаки получили благодарность Потемкина. Вместо погибшего атамана главнокомандующий по единодушному выбору самих казаков поставил Захария Алексеевича Чепегу, Головатый же был утвержден начальником конвоя светлейшего.
Однако и после поражения на море турки не торопились уходить из своих черноморских владений, надеясь отсидеться за мощными стенами крепостей. В частности, Очаков оставался серьезной преградой на пути продвижения русских. Особенно рсажцал Потемкину надежно укрепленный остров Березань. Подробно гигантскому волнорезу своим мощным огнем рассекал он атаки русских с моря.
"Головатый, как бы взять Березань?" - спросил как-то князь начальника своего конвоя. В ответ Головатый хитро прищурился:
- А крест будет за то?
- Будет, будет, только возьми, - отвечал Потемкин. - Чуемо, - сказал Головатый и вышел от князя. На заре 7 ноября казаки подплыли к острову, турки встретили их огнем своих береговых батарей. Мужественно выдержав сумашедшую канонаду, казаки произвели почти в упор ответный залп, после чего бросились в ледяную воду и полезли на вражеские батареи с быстротою кошек. Увидя такой неожиданный маневр, турки оторопели и в страхе побежали в укрепление. Они надивись, что, угостив оттуда казаков как следует картечью, они могут их сбросить в воду. Но не тут-то было. Казаки мигом развернули мощные береговые пушки и сами начали беспрерывно обстреливать укрепление. Турки растерялись совершенно: все было делано так лихо, что османы не успели глазом моргнуть. Когда же они увидели, что на подмогу казакам из Кинбурна спешит несколько фрегатов, то решили побыстрей выбросить белый флаг и сдаться. Таким образом, казаки, потеряв в бою 29 своих товарищей, взяли в плен 320 человек, 23 орудия, 150 бочек пороху и большой запас продовольствия. После чего Головатый явился к Потемкину и подходя запел на церковный манер: "Кресту твоему поклоняемся, владыко..." Князь с благодарностью надел на него Георгия.
Несмотря на то, что бывшие запорожцы по указу считались частью регулярного войска, обычаи и нравы у них еще долго оставались чисто сичевыми. Это доказывает следующий случай, бывший во время осады Очакова. Один чиновный казак в чем-то провинился, и когда Потемкин об этом узнал, то приказал Головатому, носившему к тому времени чин полковника, от себя пожурить виновного. На другой день Головатый, являясь с рапортом, доложил, что приказ его светлости исполнен в точности: "Пожурили виновного посвоему".- "Как же вы его по журили?" - спросил князь. - "Как пожурили?" - переспросил Головатый.
- А просто: положили, та киями откатали так, что едва встал...
- Как! Майора? - закричал светлейший. - Да как вы могли?
- И вправду насилу смогли, едва вчетвером повалили: не давался. Однако свалили, а що за бида, що вин майор? Майорство его не при чому, воно за ним и осталось!
Участвуя в общем штурме Очакова, как известно, верные казаки вместе с донцами овладели замком Гассаиа, что и послужило сигналом к окончанию битвы. За совершенные подвиги в 1788 году их войско удостоилось наименования "Черноморского", названия, которое оно носило со славою 70 лет. При содей¬ствии черноморцев русские овладели стратегически важным городом Килией (где, если вы помните, - см. с. 50, дед Б.Хмельницкого гетман Федор Богдан служил тризну по убиенному турками Свирговскому со товарищи), замком Тульча и крепостью Исакча. Благодаря проворству "верных" черноморцев почти весь турецкий флот, оборонявший осажденный Измаил со стороны Дуная, пошел ко дну. Другая часть черноморцев - так сказать сухопутная (около б тыс. человек), участвовала в штурме этой знаменитой твердыни и одной из первых ворвалась в город.
Екатерина II, видя, как Потемкин забоится о казаках, назначила его гетманом Черноморского войска. Новый гетман, желая по-царски отблагодарить казаков за службу, назначил им под поселение землю между Бугом и Днестром по берегу Черного моря. Черноморцы уже основали свой кош в Слободзее, как случилось непредвиденное: их покровитель и защитник перед троном, великий князь и казацкий гетман Григорий Потемкин, внезапно скончался, не успев испросить высочайшей грамоты на отведенную землю. Заплакали тоща черноморцы, напевая под бандуру:
Устань батьку, устань Грицьку!
Великий гетьмане!
В память почившего казаки изготовили большое белое атласное знамя ( Это знамя до 20-х годов нынешнего века хранилось в екатеринодарском белом войсковом соборе, построенном в честь благоверного князя Александра Невского, а сейчас находится в музее кубанских казаков, расположенном в НЬЮ-Джерси.). Не успели черноморцы опомниться, не только обжиться на новом месте, как получили повеление переселяться на Кубань. Поначалу известие это их опечалило. Все понимали, что добытое потом и кровью имущество придется оставить или отдать молдаванам за бесценок и на новом месте опять начинать все с нуля. Утешала только надежда на Провидение, ибо будет "что будет, а будет что Бог даст". Однако и "плошать" было ве в казацком обычае и потому они тот час же выслали есаула Гулика на Кубань для осмотра пожалованной земли. Одновременно они направили в Петербург депутатов во главе с Головатым, с тем, чтобы испросить грамоту на вечное владение и больше никуда не переселяться.
Пока Гулик странствовал по диким степям Тамани, Головатый с товарищами "бился" в столице за будущее своего войска. Долго они не могли получить доступ к императрице. Вельможи полагали, что таких полудиких людей невозможно и ввести во дворец. Однако, Головатый, благодаря старым знакомствам, добился, что Прием депутации был назначен в одно из воскресений. На приеме черноморцы сумели расположить к себе Екатерину II и подали ей записку о нуждах войска. В ней Головатый отразил жалкое положение бывших сичевиков, принужденных поспешно подниматься в далекую окраину, распродавать скот, убогие свои пожитки, а надолго ли - про то они не ведают. Пока записка ходила по инстанциям, черноморцы проживали в столице Российской империи. Там они были нарасхват. Все знаменитые вельможи зазывали казаков к себе на обеды и вечера и с жадностью слушали их рассказы про речь и прошлое Запорожья.
Наконец, 30 июля 1792 года был получен Высочайший указ, в котором говорилось, что войску казачьему Черноморскому, собранному покойным генерал-фельдмаршалом князем Потемкиным из верных казаков бывшей Запорожской Сечи дана жалованная грамота на земли между Кубанью и Азовским морем. И далее: "Войску Черноморскому предлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских; на производство жалованья кошевому атаману, войсковым старшинам и прочие по войску расходы повелевается отпускать по 20 тыс. рублей на год; предоставляется пользоваться свободной торговлею и вольною продажей вина на черноморских землях, - равно впадающих в погрешности судить и наказывать войсковому начальству..."
Головатый специально ездил в Царское село благодарить императрицу за оказанную милость к черноморцам, в ответ она пожало¬вала всему войску на золоченом блюде хлеб-соль. Перед отъездом им вручили Высочайшую грамоту в богатом ковчеге, знамя, литавры, войсковую печать, а для кошевого саблю, усыпанную драгоценными камнями.
Черноморцы встретили в Слободзее депутацию особо торжественно. Все благодарили Екатерину за оказанную милость. Отслужив литургию и благодарственный молебен, они по запорожскому обычаю долго палили из пушек и ружей. Потом вся братия пила царское здоровье и гуляла, как бывало гуляла она прежде в Сечи.
Еще до прибытия Головатого войско вырядило на Тамань 4 тыс. пеших казаков, которые под командою полковника Саввы Белого отплыли туда морем. Через две недели после войскового праздника выступил и кошевой с пятью полками, со всем штабом и обозом. Два полка под начальством Головатого были оставлены на месте до весны. Поздней осенью (в конце октября) пришли казаки на реку Ею. Здесь они перезимовали в землянках, а с наступлением тепла заняли всю кубанскую границу. Вскоре подошел и Головатый с оставшимися двумя полками и с семействами переселенцев (общее число переселенцев составило 17 тыс. человек).
Поначалу неуютно показалось казакам на Кубани - необитае¬мая земля с заросшими камышом речками и болотами. Чтобы оживить ее, надо было много потрудиться. Но казаки не привыкли отступать. Они черпали силы в неразрывном своем братстве, помогая Друг Другу. Они постепенно заселили дикий неприветливый край хуторами и куренями( Курени переименованы впоследствии в станицы.). В карасунском куте "на берегу реки Кубани черноморцы основали город Екатеринодар. По примеру запорожского коша здесь была построена крепость и по сечевому уставу курени, или казармы, для холостого товарищества. Посредине крепости поставили они Свято-Троицкую походную церковь на том са¬мом месте, где ныне возвышается каменная. 38 станиц, разбросанных по Кубанской земле, получили название запорожских куреней, а два прибавлены вновь: Екатериновский - в честь императрицы и Березанский - в память славного подвига черноморцев под Очаковым. Над Лебяжьим лиманом черноморцы основали обитель, для престарелых казаков. В этот монастырь перешла большая часть ризницы из Покровской церкви, что возвышалась в Сечи и из Киевского Межигорского монастыря, содержимого, как вы знаете из предыдущих глав, на средства Запорожского коша.
Лашковская, Кущевская, Кисляковская, Ивановская, Копеловская, Сергиевская, Донская, Крыловская, Каневская, Батуринская, Поповичевская, Васюринская, Незамайковская, Ирклеевская, Щербиновская, Титаровская, Шкуринская, Кореневская (или Кореновская), Роговская, Корсунская, Камнйбояотская, Уманская, Деревянковская, Стеблиевская, Джереновская, Переяславская, Полтавская, Мышастовская, Менская (утвердилась неправильная форма Минская), Тимашевская, Величков-ская, Левушковская (или Леушковская), Пластуновская, Дядьковская, Брюхокцкая, Ведмедовская и Платнирокжая

Метки: казачество русские традиции казаков |
ПОКОРИТЕЛИ СИБИРИ |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»
Сибирь русская и "немощная". Дорога к сибирским просторам лежала через Казань и Астрахань. Хан Едигер и коварство Кучума. Как начиналась сибириада Ермака Тимофеева, Ивана Кольцо и их товарищей. Битва на берегу Иртыша 23 октября 1581 года.
Поздравление с победой и подарок Ермаку от царя Иоанна Васильевича Грозного.
Обстоятельства гибели отважного атамана. Дальнейшее продвижение казаков на восток.
Битва за Албазин. Православные миссионеры.
"И тут у них стала баталия великая
Со всеми татарами катовскими.
Татары в них бьют со крутой горы,
Стрелы летят как часты дожди,
А казакам взять не можно их.
И была баталия целой день,
Прибили казаки тех татар не мало число.
И тому татары дивовалися,
Каковы русски люди крепкие,
Что не единого убить не могут их:
Каленых стрел в них, как в снопики, налеплено,
Только казаки все невредимы стоят;
и тому татары дивуются наипаче того..."
Из народного сказа о бое Ермака с Кучумом
С сибирью в прежние времена на Руси все, что лежало за Камой и к северу и к востоку.Предки наши знали только, что в стране этой есть "Югорский камень" (Югорский шар) и "Каменный пояс" (Урал). Слово "сибирь" по своей многозначности было сходно со словом "немец". Немцами у славян-русичей принято было называть всех, кто жил г, будь то шведы, французы или австрийцы - все равно, ибо в понятии русских все это была одна нехристь. Так и на северо-востоке и востоке Руси и остяк и вогул и киргиз и ногаец назывались одним словом "чудь" (или "чужь") заблудящая, бусурманы сибирские. То есть та же нехристь, только восточная.
В старину Сибирь подразделялась на русскую - по эту сторону Урала (До середины прошлого века жители Среднего и Западного Урала назывались Сибиряками. В кондаке св. праведному Симеону Верхотурскому читаем: "Избранному «и дивному новому Сибирской страны чудотворцу, всерадостно ныне приносим ти, Свите Симеоне, хвалебныя пения: ты же, яко имея дерзновение ко Христу Богу, от всяких нас бед свобода», да зовем ти: радуйся, Симеоне Чудотворче предивный". (Как известно, город Верхотурье находится в Екатеринбургской епархии (Свердловская область)) - в на "немшоную", которая простиралась за Каменным поясом. К границам Сибири казаки приблизились не сразу. Сначала им потребовалось помочь московским государям сокрушить Казань и Астрахань. Между прочим, даже солидные историки, описывая покорение Иваном Грозным Казани, о казаках упоминают лишь вскользь, тогда как в осаде, города и взятии его участвовало 7 тысяч казацких пик. Причем они составляли наиболее опытную и подготовленную в ратном деле часть русского войска, знакомую с искусством осады крепостей и употреблением пороха. Не случайно, что именно казаки производили подкопы и взрывы Казанских стен и первыми ворвались в проломы крепостной стены. Такую же роль казаки сыграли при покорении царства Астраханского. Впрочем, последним Ивану Грозному в немалой степени помогли овладеть ногайские князья. Делали они это, конечно, не бескорыстно, а в надежде наказать с помощью московского царя своих гордых и честолюбивых родственников, сидящих в Астрахани.
Примеру ногайцев последовал и владелец Сибирского юрта хан Едигер. В январе 1555 года он прислал к царю Иоанну своих послов с поздравлениями в связи с покорением Казанского и Астраханско¬го царств и с просьбой к самодержцу российскому утвердить спокойствие и безопасность его земли, т.е. Сибири "немшоной". При этом прислал он дань, вернее, дар царю в 700 соболей и великое множество белок. С этого момента Грозный стал именоваться пове-лителем Сибири.
По прошествии двух лет Едигер обязался быть у московского царя в вечном подданстве и платить дань ему каждый год и "беспереводно". Сделал это хан не бескорыстно - надеялся укрепить свое положение, так как из-за происков родни сидел он в потомственном юрте не совсем прочно. Однако он запоздал, вскоре родственник его Кучум вероломно умертвил Едигера и сел на его место. Кучум был хитер и коварен, как настоящий азиат. Сначала он было обязался платить дань московскому царю, но, когда Грозный направил к нему своего посла, убил его и после этого не отвечал ни на какие запросы из Москвы. Иоанн IV хорошо сознавал, что он еще не в силах удержать Сибири. Для этого нужны были значительные средства и войско, которое у него было занято войной со шведами за Ливонию и с Речью Посполитой за западно-русские земли.
Помочь царю на восточных рубежах взялся купец Григорий Строганов, владевший огромным имением в бассейне Камы вплоть до Чусовой. Человек предприимчивый и щедрый Строганов снарядил казаков, указав им путь в землю вогулов и вотяков. Атаманом казацкой дружины был избран донской казак Ермак Тимофеевич, пользовавшийся огромным авторитетом у товарищей благодаря своему решительному характеру и боевому опыту. В дру¬жине Ермака находились опальные атаманы Пан и Василий Мещеряков, а также осужденный на смерть Иваном Грозным за разорение города Самарчика Иван Кольцо.
Первого сентября 1581 года казаки, помолившись Богу( Отправляясь в поход Ермак Тимофеевич обязал свою рать "обетом целомудрия" и в дальнейшем карал провинившихся за всякое "дело студное", веря, что и с малым числом добродетельных воинов можно победить многочисленного врага, ибо в этом случае помощник - сам Господь Бог)., поплыли вверх по реке Чусовой (как это непросто знают те, кто по этой строптивой уральской речке на плотах). Затем они ПОВЕРНУЛИ на Серебрянную реку (ее еще называют Серебрянка уже волоком перетащили свои небольшие суда в речку Жеравлю, впадающую в Тагил. Проплывши Тагилом, они вниз по Туре и на месте нынешнего Туринска увидели город, в котором сидел данник Кучума князь Епанча.
Произведенный казаками залп рассеял людей Епанчи, и они разбежались в страхе кто куда. Беглецы принесли Кучуму весть, что русские воины вооружены такими луками, из которых пышет огонь; стрел не видно, а ранит и бьет насмерть: панцири и кольчуги добивает навылет. Кучум однако не дрогнул и, собрав войско, стал ожидать русских на берегу Иртыша недалеко от устья Тобола на горе, называемой Чувашево.
Когда разведчики Ермака сделали подсчет Кучумову войску, оказалось. что на каждого казака приходится 30 человек чуди. У октября 1581 года собрался казачий круг, надо было решить, что делать дальше. Кое-кто из казаков подал голос за то, чтобы отступиться и не ввязываться в неравный бой. И тогда Ермак напрямик обратился к малодушным: "О братия наша едииомысленная,. камо нам бежати, уже осени достигши, и в реках лед смерзается; не дадимся бегству и тоя худыя славы себе не получим, ни укоризцы на себя не положим, но возложим упование на Бога; не от многиx бо вой победа бывает, но свыше от Бога помощь дается, может бо и беспомощным Бог помощи... Воспомянем, братие, обещание свое, како мы честным людям перед Богом обеты и слово свое даша, и уверившися крестным целованием, елико всемогий Бог нам помощи подает, а отнюдь не побежати, хотя до единого всем умрети, а вспять возвратиться не можем срама ради и преступления ради слова своего, еже с клятвой обещахомся; аще нам всемогий, в Троице славимый Бог поможет, то и по смерти нашей память наша не оскудеет в тех странах и слава наша вечна будет".
После такого воззвания своего атамана казаки единогласно решили не "пременять" обета своего, пострадати за веру православную и послужить царю-батюшке. На следующий день произошла битва. Дело было жаркое - кучумовцы дрались насмерть, но все же резаки с Божьей помощью преодолели их сопротивление и победим. Кучум бежал и Ермак вступил в город Искер (ныне Тобольск) - столицу Сибирского ханства, последнего осколка некогда великой Золотой Орды ( В прежние времена в каждой сибирской избе висел портрет Ермака Тимофеевича, а в тобольских храмах ежедневно поминали казаков, павших в бою с Кучумом 23 октября 1581 года. Всего тогда погибло 107 человек).. Татары, остяки и вогулы приходили бить челом победителю. Ермак послал Ивана Кольцо в Москву с известием о покорении Сибири. Иван Грозный принял отважного казака ласково и простил ему все прежние вины. В подарок Ермаку государь послал шубу со своего плеча, два кованых панциря и ковш серебряный, утвердив сибирского атамана в княжеском достоинстве.
Однако вскоре Ермака не стало. И опять, как в древности, по¬губило русских их пагубное пристрастие к зелену вину. Будучи в очередном походе, атаман, расположившись на отдых ближе к вечеру, позволил своей дружине расслабиться. Моросил осенний дождь и они выпили "для сугрева" по чарке, потом добавили, а там разошлись и начали обильно поминать своих павших товарищей. Вскоре утомленные долгим переходом казаки все, как один, уснули. Пользуясь сгустившейся темнотой, татары напали на спящих и почти всех перерезали на месте. Очнувшись, Ермак бросился в реку в надежде добраться до струга и попытаться спастись по воде. Однако вода в Иртыше эту пору уже была ледяная, да и царский подарок - тяжелый кованый панцырь - неотвратимо тянул атамана ко дну. Так и не доплыл до струга отважный казак.
И все же подвиг Ермака не был напрасным, по его следам ка¬заки постепенно, шаг за шагом, прошли всю Сибирь вплоть до самого Великого океана. В 1586 году на реке Type ими был заложен город Тюмень, в следующем году близ Искера - Тобольск. В 1592 году построен Березов. В 1598 году Кучум был разбит окончательно и взят казаками в плен. В 1604 году возник город Томск.
Таким образом, продвигаясь все дальше на восток, русские строили остроги, то есть города-крепости, облагая туземное население посильной данью - "ясаком". Вместе с тем они несли с собой для диких народов сибири развитую культуру и чистейшую в мире религию. "Колонизаторы" в скором времени значительно подняли жизненный уровень туземцев, заботясь об их просвещении и здоровье, как о своем собственном. Западнобвропейцы и до сих пор не могут взять в толк, зачем это надо было русским.
Политика освоения Сибири проводилась мудро, с дальним прицелом на будущее. Чтобы' прочнее привязать Сибирь к Руси, города ее и веси заселялись насколько можно выходцами из европейской части государства. Кроме казаков, составлявших ядро русского населения Сибири, туда направлялись пашенные крестьяне, которые набирались из охотников и вольных людей.
В 1617 году казаками был основан Кузнецк, а через четыре года воевода Дубенский закладывает Красноярск, утвердившись там с 300-ми казаками. В 1631 году атаман Порфирьев строит Братский острог на Ангаре, в этом же году казак Бекетов отправляется вниз по Лене и вскоре закладывает Якутский острог.
В 1643 году Василий Поярков вместе со своими товарищами казаками проникает на Амур и основывает там Нерчинский острог, в ведение которого через 15 лет поступают обширные пространства Амурского края со всею Дауриею. Этот богатейший край по почину казака Хабарова, ставшего предприимчивым промышленником, начинает быстро осваиваться, однако после того как Албазин был захвачен китайцами ( Крепость долгое время успешно отстаивал от превосходящих сил противника атаман Бейтон со своими казаками и, если бы не приказ из Нерчинска, китайцы вряд ли бы овладели ею. Император Канси предложил казакам одно из двух: или возвращаться в Россию, или служить в "поднебесной империи". 300 казаков решили рискнуть и отправились в Пекин. Со смельчаками в чужие края отправился и казачий поп Максим Леонтьев. В подаренной правителем кумирне он устроил часовню, а спустя 10 лет - храм во имя Софии - Премудрости Божией. Главной святыней храма стал древний образ Николая Чудотворца, покровительству которого вверили себя Албазинцы), русским пришлось отойти на север. По Нерчинскому договору рубежом между двумя государствами была определена река Горбяца, впадающая в Шилку. Из этого ясно видно, что огромнейший Амурский край, завоеванный горстью казаков, одними их стараниями находился в руках России более трех десятилетий. Кстати, возвращен ей он был только в царствование Александра II Благославенного.
Амур на какое-то время был оставлен, однако казаки сумели закрепиться в Забайкалье. Огромные пространства, покрытые непроходимыми лесами, суровый климат и многочисленные лишения не смогли остановить их неудержимого движения на восток, пока они не достигли Великого океана. Но и на его берегу казаки не сидели сложа руки: в 1668 году казак Семен Дежнев добрался до края Земли на северо-востоке - до пролива, разделяющего Чукотку и Аляску. В 1898 году русские появились на Камчатке, сразу же поставив здесь городок Нижнекамчатск. Таким образом, первооткрывателями и основателями почти всех городов Сибири были казаки, которые с самого начала несли в них гарнизонную службу и потому со временем стали именоваться "городовыми". На другую часть казачества была возложена охрана всей южной границы Сибири и содержание там постов, их принято было называть "пограничными".
...ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПЕРВООТКРЫВА ТЕЛЯМИ И ОСНОВАТЕЛЯМИ
ПОЧТИ ВСЕХ ГОРОДОВ СИБИРИ БЫЛИ КАЗАКИ, КОТОРЫЕ С САМОГО НАЧАЛА
НЕСЛИ В НИХ ГАРНИЗОННУЮ СЛУЖБУ И ПОТОМУ СО ВРЕМЕНЕМ СТАЛИ ИМЕНОВАТЬСЯ "ГОРОДОВЫМИ". НА ДРУГУЮ ЧАСТЬ КАЗАЧЕСТВА БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА ВСЕЙ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ СИБИРИ И СОДЕРЖАНИЕ ТАМ ПОСТОВ, ИХ ПРИНЯТО БЫЛО НАЗЫВАТЬ "ПОГРАНИЧНЫМИ"... :mms_stesn:
Метки: казачество русские традиции казаков |
Трехдневный бой под Иканом |
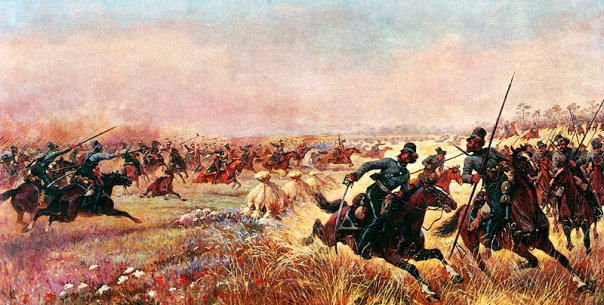
Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»
Заслуги уральцев, их труды и кровь, пролитая в степях Средней Азии, не были забыты. 6 мая 1884 года, в памятный для России день совершеннолетия атамана всех казачьих войск, уральцам было пожаловано "Общее войсковое георгиевское знамя". В Царской грамоте были подробно прописаны все их заслуги:
"Почти трехвековая отлично-усердная служба и непоколебимая преданность Престолу и Отечеству верно-любезного Нам уральского казачьего войска всегда вызывало особое монаршее нему благоволение. Начав первую боевую службу свою, как доказывают исторические документы, в 1591 году, участием в походе царских войск против шамхала Тарковского, Уральское войско с той поры служило живым оплотом государства, охраняя значительную часть границы его от набегов кочевых народов и, вместе с тем, принимало участие и во внешних войнах, являя всегда пример самоотвержения и воинской доблести при исполнении своего служебного долга; при завоевании же Туркестанского края и водворения в нем порядка, оно, с самых первых шагов туда наших войск, несло непрерывные труды и ознаменовало себя в многочисленных боях, в особенности же в 1864 году, в деле против коканцев под иканом, подвигами отваги и мужества". В заключение грамоты было сказано: "Да послужит священная сия хоругвь ДЕЯМВОЛОМ неизменной преданности вернолюбезного Нам Уральсково войска Престолу и Государству на грядущие времена, и да осенит она храбрых сынов Урала на высокие подвиги чести и славы при защите Отечества".
По завету Петра Первого, русские люди подвигались в глубь Средней Азии с двух сторон: от Урала и со стороны Сибири. Шли вперед не потому, чтобы жаждали новых земель, а в силу необходимости: того требовали выгоды торговли, сбережение границы от разбойничьих наездов тамошних народов. Наши караваны подвергались разграблению, русские промышленники и казахи - не десятками или сотнями, а тысячами - томились в неводе.
На пустынных берегах Сыр-Дарьи или Каспийского моря появились пароходные пристани, церкви, госпитали, казармы, сады - все это построено руками лииейцев; каждый камень, каждая щепотка земли - дело их рук. Каких-нибудь семь линейных батальонов не только покорили, а обстроили пограничную линию от Урала до китайской границы. Рядом с линейным солдатом шел казак, этот его вернейший друг, окрещенный именем "Гаврилыча" Сколько раз запасливый и сметливый Гаврилыч выручал линейна из беды? Сегодня он поделится с ним хлебушком, завтра даст испить водицы, послезавтра подвезет усталую "крупу" на своей лошадке. Он берег его сон, очищал ему путь, добывал баранту, рядом с ним ковырял землю, стоял на валу. Кроме того, что уральцы составляли гарнизоны дальних степных укреплений, они, как уже сказано, наряжались во все экспедиции для исследования края, они гонялись по степям за разбойничьими шайками; уральцы же составляли почетный конвой киргизских султанов, наших друзей. И первый подвиг в Туркестанском крае, подвиг, прогремевший на всю Среднюю Азию, совершен уральскими казаками.
Это было в 1864 году, когда наши взяли города Туркестан и Чимкент; от Ташкента же, по малочисленности сил, пришлось отступить. На усиление передового отряда была послана из форта Перовский уральская сотня под начальством есаула Серова, 1-го декабря Серов вступил в Туркестан, а через три дня его уже отправили на розыск. Прошел слух, что за городом появилась шайка в несколько сот человек; надо было ее разогнать, потому что как раз в это время выряжался транспорт в Чимкент.
На праздник Варвары, после полудня, Серов выступил из города со своей сотней. В ней находился сотник Абрамичев, 5 урядников, 98 казаков и 4 артиллериста при горном единороге. От встречных киргизов казаки узнали, что селение Икан, отстоящее в 20 верстах от города, уже занято неприятелем, но в каком именно числе, киргизам неизвестно. Стало уже темнеть, когда сотня подходила к Икану, правее которого горели огни. Серов остано¬вился и послал киргиза Ахмета узнать, что это за огни? Киргиз скоро вернулся с ответом: "Неприятеля так же много, как камыша в озере". Тогда Серов отвел свою сотню несколько назад, занял канавку, которую раньше наметил, и приказал спешиться. Казаки живо развьючили верблюдов, окружили себя завалами из мешков с провиантом и фуражем, лошадей уложили в середину, а сами залегли по краям. Между тем, кокандцы сверху их заметили. Не успели еще казаки приладиться, как конная толпа, приблизившись
"тихим молчанием", вдруг, с визгом и оглушительным криком кинулась в атаку. Уральцы дали залп, артиллеристы угостили картечью, что сразу поубавило азиатский пыл. Много убитых, раненых осталось на месте. Оправившись, кокандцы с криками: "Алла! Алла!" налетели вторично - опять их отбили с такой же потерей. Еще раза 2-3 они повторили атаку, наконец, оставили уральцев в покое. В виду небольшой кучки казаков кокандцы расположились станом, среди которого скоро запылали костры.
Опасность час от часу становилась очевидней: уйти ночью нельзя, бороться в открытую нет мочи, оставалось приподнять завалы да дождаться выручки. К счастью, среди уральцев находились люди бывалые, со знаками отличий, которые не раз встречавшись с кокандцами в поле; были между ними даже севастопольцы.. Такие люди не робеют, не падают духом, что бы там ни случилось, распорядительность офицеров довершила остальное. Неприятель всю ночь палил из своих трех орудий; казаки отстреливались из единорога, пока не сломалось в нем колесо. С рассветом огонь усиливался. Гранаты и ядра все чаще да чаще ложились в отряд, убивали лошадей, ранили людей. В то же время к неприятельскому стану то и дело подбегали из Икана сарбазы: это кокандская пехота, стрелявшая из ружей. Казаки больше метили в артиллеристов, снимали джигитов, подъезжавших ради удальства поближе; попадали в начальников, отличавшихся своим нарядом, лошадьми и конским убором. Многие вызывались броситься в штыки, однако Серов не позволил. Им и в голову не приходило, что перед ними не шайка бродячая, а целая кокандская армия, с пехотой, артилерией, обозом, боевыми припасами, силой от 10. до 12 тысяч!
Алимкул, правитель ханства кокандского, после удачной защиты Ташкента распустил слух, что идет к себе домой, а между тем обошел наш передовой отряд, выдвинутый к Чимкенту, и прямо двинулся на Туркестан, в надежде его отнять. В случае удачи он мог бы наделать нам больших хлопот. Время было зимнее, глухое, никто не ожидал от кокандцев такой прыти. Как же злились У»и теперь, что горсть "урусов", разрушила их тонкие рассчеты!
Атаковать отряд открыто они боялись, считали, что он гораздо больше, чем был на самом деле, и придумали плесть из хвороста щиты, чтобы прикрываясь ими, "итти подкатом", т.е. подъезжать на двухколесных арбах. Казаки видели, как арба за арбой подвозили хворост. Они продолжали отстреливаться так же спокойно, метко, как в первую минуту боя; все 4 артиллериста полегли у своего единорога; уральцы заступили их место, причем должны
были перетаскивать на руках подбитое орудие. Около 2 ч. пополудни, со стороны города, раздались орудийные выстрелы; казаки были уверены, что к ним поспешают на помощь: они участили пальбу, все чаще и чаще поглядывали назад - вот-вот покажется выручка. Здоровые встрепенулись, точно в них удвоились силы; раненые ожили: приподнимая головы, они глядели своими мутны¬ми очами туда же... Пальба то прекращалась, то снова усиливалась, и вдруг смолкла, еще один-другой выстрел - и кончилась. Казаки опять остались одни.
А дело было так. По выстрелам от Икана в городе догадались, что казаки отбиваются, и на утро комендант выслал небольшой отряд в полтораста человек, с двумя пушками, но с таким приказанием, что если неприятель окажется чересчур силен, то в бой с ним не вступать, а отойти назад. В таком большом городе как Туркестан всего-то находилось 2,5 роты, так что каждый защитник был на счету. Отрядец не дошел до казаков версты 3-4, как был окружен сильными толпами конных, угрожавших отрезать его от города. Тогда он повернул назад, с трудом уже пробился к Туркестану, а в б ч. вечера неприятель рассыпался в городских садах. В цитадели явственно слышались звуки неприятельских труб. Положение защитников многолюдного города, в виду окружавшей их измены, также становилось опасным.
Был удобный случай соблазнить казаков на уступку. Алимкул прислал записку: "Куда теперь уйдешь от меня? Отряд, высланный из Азрета, - так назывался у них Туркестан, - разбит и прогнан назад; из тысячи твоих, - Алимкул, видно, плохо считал, коли сот¬ню принял за тысячу, - не останется ни одного; сдайся и прими нашу веру; никого не обижу!" Доблестный командир сотни не отвечал; казаки ответили за него меткой пальбой. К ночи они на¬сыпали несколько новых завалов, подтащили убитых лошадей, верблюдов и приготовились дорого продать свою жизнь. Все дума¬ли как один, розни не было.
Наступила ночь. Серов написал записку коменданту. Бравые казаки Борисов и Аким Чернов с киргизом Ахметом, вызвались доставить ее в город. Они надели поверх полушубков ружья, взяли по револьверу и, приняв напутствие, исчезли в темноте. То пробираясь между огней, то между кокандских разъездов, избегая встречных партий, эти отважные люди появились в 9 ч., точно выходцы с того света, в городских воротах.
Пересидели в истоме уральцы другую ночь, - вот и праздник заступника русской земли святителя Николая! "Заступится ли он за нас грешных?" - думал каждый про себя. А между тем казаки на¬считали 16 щитов, готовых двинуться подкатом. Серов выступил из-за валов и подал знак рукой, что хочет говорить. С их стороны подошел кокандец с ружьем. Серов, поглядывая на дорогу, завязал переговоры. В этих переговорах прошло около двух часов, и, должно быть, кокандцы заметили, что наш есаул хочет только оттянуть (время: щиты придвинулись, трое пеших приближались незаметно, ползком. - "Ваше благородие!" - закричали казаки. - "Уходите, стрелять будем!" В 7 часов утра закипел отчаянный бой. Неприятель палил жарко, наступая разом с трех сторон. Все лошади были перебиты, 37 человек лежали уже мертвые; раненые, припав ничком к земле, молча ждали смерти; остальные выглядели не лучше мертвецов: глаза красные, воспаленные, голова как в огне, лица черные, измученные; во рту пересохло. Они уже забыли, когда ели, жажда мучила их ужасно. В каком-то чаду казаки отбили 4 атаки, одну за другой. Дальше держаться они были не в силах, но пробиться надеялись: упование на помощь свыше способно придать нечело¬веческую силу. Заклепав свой единорог, уральцы собрались в кучку, крикнули, что было мочи, "ура!" и ринулись наудалую.
Бывали случаи, что кучка бойцов геройски умирала под напором тысячной толпы, но тут случилось нечто необычайное: горсть пешиx казаков, голодных, изнуренных трехдневным боем, пробивается успешно через неприятельскую конницу. В руках у них были только ружья; была еще дерзкая отвага, готовность умереть. Это-то и устрашило кокандцев, встретивших впервые мужество, несвойственное азиатам. Они не посмели напасть сразу, сокрушить одним ударом, а подвозили на крупах своих лошадей пеших сарбазов, и те уже расстреливали проходивших мимо уральцев. Но если кто-либо из последних, истекая кровью, падал на землю, то конные налетали с диким восторгом на свою жертву и спешили отрезать у несчастного голову. Часто меткая пуля снимала такого хищника в минуту его торжества, когда он поднимал свою добычу. Жутко, обидно становилось на душе за такое издевательство! Всякий шел, пока только мог влачить свои ноги; раненых вели под руки до полного истощения сил. То там, то тут среди небольшой кучки шептал казак: "Прощай, товарищ!" Это значит, приходил ему конец. Сотнику Абрамичеву пуля попала в висок: он пошел под руку; другая ударила в бок: он продолжал переступать; наконец, разом две пули Прострелили ему ноги. "Рубите скорее голову, не могу итти!" -вскрикнул сотник отчаянным голосом, склоняясь к земле. После едва узнали его истерзанный труп.
Тяжел был пройденный путь! Он обозначался следами крови, изломанными ружьями, обезглавленными трупами. - Зимний день кончился, начинало темнеть. Напрягая последние силы, уральцы все шли да шли... Наконец, под самым городом, они услыхали ружейные залпы, все ближе, ближе, а вот, с пригорка, бегут им навстречу с радостными криками наши солдаты... Вздохнули казаки свободно, перекрестились: то была вторая выручка, высланная как раз вовремя, чтобы принять на руки уцелевших бойцов. Их уложили на подводы. Так на подводах и привезли страдальцев прямо в лазарет. "Иканская" сотня, как ее называют теперь, потеряла поло-вину своего состава; сверх того, 36 человек были ранены, артиллеристы и 4 урядника убиты. Государь Император пожаловал тогда всем иканским "героям" знаки отличия военного ордена, а есаулу Серову - Георгия 4-й степени и следующий чин.
На Урале издавна повелся обычай отправлять ежегодно в сто¬лицу, так называемый, "царский кус", состоящий из лучшей икры и больших осетров. В следующий после того наряд попали трое иканцев: урядники Борисов, Чернов и казак Агафонов. Их пожелал видеть Августейший атаман. Обласканные им и обнадеженные Царскою милостию, уральцы явились в Зимний дворец. Тут они увидели Александра Второго. - "Знаете ли вы, - спросил у них ласково Государь, после того как поздоровался, - что ваш единорог взят обратно в Ташкенте?" Казаки отвечали утвердительно. Его Величество, еще милостиво побеседовав, назначил их в гвардейский эскадрон и кроме того пожаловал уряднику Борисову серебряный темляк, Чернову - серебряную медаль на георгиевской ленте; Агафонова же произвел в урядники.
В 1889 году исполнилось 25 лет со времени Иканского дела. Ко дню Св. Николая были собраны в Уральске все участники боя, вместе с георгиевскими кавалерами. Накануне они помолились за упокой убиенных, а в день праздника, после литургии и торжественного молебствия, иканцы с генералом Серовым во главе и все кавалеры стали перед фронтом казачьих рядов. Тут присутствовал на¬казной атаман, все войсковое начальство, была во фронте и учебная сотня и третий казачий полк. Атаман.обошел ряды, поздравил с праздником, потом сказал следующее: "25 лет тому назад ураль¬ская сотня есаула Серова покрыла себя неувядаемой славой в трех¬дневной битве под Иканом. Подвиг тот составляет украшение и гордость всего Уральского войска казачьего. Не много осталось от этой сотни после боя в живы», сейчас же их еще меньше. Воздадим же этим немногим ратникам славной сотни подобающую им честь... Героям Икана, слушай, на ка-ра-ул!"
После чего грянул яалп, и музыканты заиграли войсковой марш. Наконец мимо наказного атамана войска прошли строевым шагом. Когда же официальная часть окончилась, все уселись за роскошный стол, за которым пили здоровье героев-иканцев и славили все уральское войско. По распоряжению пресвященного Неофита, бывшего епископа Туркестанского, в городе Туркестане, за спасение которого пролили свою кровь иканцы, ежегодно совершалась заупокойная служба по павшим. Священный обычай этот с некоторых пор предан забвению, однако тем, кому дорога кровь отцов, пора бы возобновить его и блюсти нерушимо.
:mms_stesn:
Метки: казачество русские традиции казаков |
Уральцы у себя дома |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»
Уралец ростом не велик, зато плотен, широк в плечах; вообще это народ был красивый, здоровый, кроме того, живой, деловитый и гостеприимный. От них пахло старинною Русью. На службе они кротки, послушны, в бою храбры, в походах выносливы на удив¬ленье. Морозов уралец не боится, потому что мороз "крепит"; жары тоже не боится: пар костей не ломит; а воды или сырости - еще того меньше, потому что сызмала привык по своему промыслу во¬зиться в воде. В своих привычках казаки наблюдали простоту. Они по целым годам не пробовали ни осетрины, ни севрюжины или бе¬лужины - товар этот дорог. Правда, хозяйки варили дома черную рыбу, и то по временам, когда разрешается лов. В постные дни хлебают пустые щи да кашицу; в скоромные - резали баранов, ели каймак, т.е. упаренное густое молоко; в поход брали пшеничные хлебцы с запеченными яйцами: "кокурками" называются. И в сво¬их обычаях казаки наблюдали святую старину. Старые казаки никогда у себя не божатся, помня заповедь - не поминай имя Божие всуе, а говорят "ей-ей", "ни-ни"; не скажут "спасибо", а "спаси тя Христос". Входя в избу, останавливаются на пороге и говорят: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!" как это принято в монастырях или скитах. Затем выжидают ответного "Аминь!" При встрече с незнакомым, уральцы спрашивали: "Чьи вы?" - Распространенные русские имена редко встречались на Урале: там давали имя того святого, которого празднуют за седьмицу до рождения. Этот обычай строго соблюдался.
Если казак походом или в какое другое время нарушал дедовский обычай, то утешал себя тем, что родительницы замолят его грех. Так называлось все женское население. Казачки строго хранили свято-отеческие предания. Они отлично знали церковную службу, хозяйничали, ткали шелковые поярки, шили сарафаны, вязали чулки; других работ не было: все ведь кроме рыбы и скота, было покупное. Девушки у них были стыдливы и скромны; любимое их развлечение "синчик", или первый лед, на котором можно скользить в нарядных башмачках, выставив вперед ножку; при этом они шумят, кричат, хохочут до упаду. Девушкам приданого не давали; напротив, жених должен был по уговору выдать родителям невесты "кладку", т.е. денежную помощь, в размере от 50 до 200 рублей, смотря по состоянию. Этот хороший обычай велся с той поры, когда казаков было больше, чем невест. И дети казаков росли так же, как росли их деды » отцы. С десяти годов они пасут табуны или ездят на рыбную ловлю. Следуя берегом, мальчуган выставит какой-нибудь отметный знак и перекликается с отцом, чтобы тот мог во всякое время найти свою повозку или сани. И голодать приучались мальчишки с детства. Летом жуют от жажды свинцовую кульку: это холодит; зимой закусывают снежком. Солодковый корень, водяные орехи ("челим"), лебеда, птичьи яйца, даже земляной хлеб - вот чем пропитывается казаченок по несколько дней сряду, попадая в беду. Но зато мальчуган всегда должен был быть опоясан ( На поясе обычно была написана молитва "Живый в помощи Вышнего"); который же распояшется или потеряет пояс, того мать больно прибьет.
Самый большой праздник на Урале, когда в город вступали полки, возвратившиеся с дальнего похода. Родительницы выехали навстречу из всех низовых станиц, усеяли всю дорогу от города верст на 10; вынесли узелки, мешочки, скляницы, штофчики, суцемы - все это, чтобы накормить, напоить голодных. Вот, в стороне от всех стоит древняя старушка, повязанная черным китайчатым платком, держит в руках узелок и бутылочку, кланяется низенько, спрашивает: "Подгорнов, родные мои, где Маркиан?" - сзади, матушка, сзади!" - Идет вторая сотня. - "Где же Маркиан Елисеевич Подгорнов, спаси вас Христос и помилуй, где Подгорнов?" - "Сзади!" - говорят. Идет 3-я сотня: тот же привет, тот же ответ. Идет и последняя сотня, прошел последний взвод, а ответ все тот же: "Сзади, бабушка!" Когда и обоз проходил, то казаки, хявая назад головою, говорили: "Там, сзади, родная!" Тут только Старуха догадалась, что осиротела навеки. Ударилась она оземь, завопила страшным голосом и билась, пока казаки не подняли ее бережно и не свели домой.
Службу уральцы отправляли не по очереди, а "подмогой", что считали для себя более выгодным, потому что так бедный казак NOT поправиться. Войсковое правление ежегодно делало денежную раскладку, сколько причитается на каждого казака "подножных";
Оно же их собирало и выдавало поступающим на службу по охоте, "охотникам". Те, которые шли в армейские полки, получали Меньше, примерно 200 руб., в гвардейский эскадрон больше, на¬пример, 250 рублей. Если казак по бедности не может внести подможных, он остается в "нетчиках", а ища через 2 или 3, когда за ним накопится этих "нетчиковых" денег, его зачисляют прямо на службу, при чем вычитают из его подмоги всю накопившуюся не¬доимку. Однако, ни один казак, будучи в служилом возрасте, т.е. между 21 и 35-ю годами, не мог постоянно откупаться от службы; он обязан был прослужить, по крайней мере, хотя бы один год. Богатые казаки поступали в уральскую учебную сотню, где они
отбывали службу в один год, на своих харчах и квартире, а все остальные шли на 3 года в полки. Это так называемые "обязательные", обязаны прослужить. В случае призыва всего войска поднимались все казаки, способные носить оружие.
Уральцы по преимуществу были народом промысловым и вели свое дело не порознь, а сообща, всем войском. Точно также и земля принадлежала всему войску, наделов не было; даже луга находились в общем, пользовании. Войсковое правление назначало день, когда начаться покосу, чаще всего на 1 июня. Каждый казак выбирал себе любое местечко, и в ночь они уже все были на своих местах. Как только покажется солнышко, подается знак, по которому казаки начинали обкашивать свои участки. Вся трудность заключается в том, чтобы не захватить больше своих сил. Работали шибко, отрывались только затем, чтобы испить воды, потому что к закату солнца дело кончается, каждый должен обкосить свой участок. Если бы кто вздумал косить раньше урочного дня того, вовсе лишают покоса. Такое же правило и насчет рыбной ловли, все равно, хоть бы нарушитель поймал одну рыбу. Было три поры улова: зимний, весенний и осенний.
Урал замерз; снежная пелена покрыла необозримую степь. В воздухе тихо, морозно. За 8 верст от Уральска, в назначенный день, собрались все казаки, каждый с длинным багром, подбагренником и пашней; у каждого лошадь, сани, под присмотром кого-либо из семейных. Казаки стоят у берега и ждут сигнала: они намечают в это время места. Морозный воздух вздрогнул: грянула сигнальная пушка. В тот же миг все бросаются стремглав на реку;
каждый пробивает прорубь, поддевает багром рыбу и, чтобы она не сорвалась, подхватывает ее малым багром, или подбагренником. Почти каждый удар дает добычу; особенно в хорошем месте. Поглядите, вон дюжий казак: даже упарился, несмотря на то, что в одной рубахе! В три маха он просек лед, забагрил рыбу и теперь кричит, точно его режут: "Ой, братцы, помогите! Не вытащу белуги, сила не берет... Скорей, скорей!" - По этому зову бросился к нему один из артельных, живо подбагрил, помог вытащить рыбу на лед. Казаки всегда действуют артелью, человека по 3-4, по 5-6, иногда и больше; где красная рыба зимует, замечается еще с осени, когда рыба ложится. Тысячи рыболовов толкутся на таком месте, в кусочки искрошат лед, иной раза три в воде по шею побывает - ничего! Другой изловчится да на комочке льда приспособится так и плывет к берегу; рыба у него привязана к ногам, в руках и зубах рыболовная снасть. Покончив на том месте, артели спускаются вниз по реке, продолжая ловлю таким же порядком.
Летняя и осенняя ловли продолжаются по шести недель и, самой собой разумеется, на лодках. Опять целое войско вышло, точно на войну. На тесной и быстрой реке толпятся тысячи бударок, негдe яблоку упасть, не то что вынуть сети. Казаки плавают попарно, вытаскивают рыбу, "чекушат" (оглушают) и сваливают в бударки. Тут, кажется, все друг друга передушат, передавят и до вечера не доживут: крик, шум, брань, суматоха на воде, как в самой жаркой рукопашной. Бударки трещат, казаки, стоя в них, чуть не клюют носом воды - вот все потонут! Ничуть не бывало. Все живы, здоровы, разойдутся, а с рассветом опять то же самое начнут на следующем рубеже, - и так вплоть до низовых станиц. Саратовские и московские купцы следили с берега да готовили денежки: по вечерам обыкновенно бывала разделка. Это осенний лов.
И на летний лов есть свои законы, свои правила, от которых прежде, бывало, никто не смел отступить под страхом строгой кары. Старые казаки, все равно как истые охотники, оживляются, когда речь зайдет о рыбе: у них глаза разгораются, брови двигаются, высокий лоб сияет. У такого не дрогнула бы рука приколоть всякого, вздумавшего напоить скот из Урала во время хода рыбы. Рыба тот же зверь, шума и людей боится: уйдет, а там ищи ее!"
И море не страшно казаку. Он хаживал по нему с детства, только из Гурьева в Астрахань, но и дальше, в глубь, куда казаки пускались часто на бударках за лебедями; от них - пух, перья. Как истые моряки, казаки умеют лавировать, бороться с бурями, приспособлять снасти. Особенно славятся гурьевцы. Этот ни за что не расстанется с морем, с которым он сроднился, без которого жить не может; от моря гурьевец богатеет. Как бы в отместку за все благодеяния, сердитое море нередко лишало казака последней копейки, делало нищим, пускало по миру; мало того, подчас оно втянет его в середину и там, на просторе, играет его жизнью. Морской зимний промысел носил название "аханнаго", от слова " ахан" - сеть.
На льду Урала, в виду своих домов, собралось все население Гурьева - казаки, семейные, работники-киргизы. Идет тихий говор, прощаются матери с сыновьями, жены с мужьями; разлука долгая, дальняя: кто знает, что может случиться? В животе и смерти Бог волен. Атаман подал знак. Промышленники перекрестились: "Прощайте, родные, молитесь Богу!" и расселись по саням. Взвились, полетели добрые кони; загудел под санями лед, раздались веселые, удалые песни. Примерно через час аханщики в устье Урала; это от Гурьева 14 верст. Тут, в виду пустынного моря они останавливаются, чтобы запастись топливом, поздороваться с батюшкой "Синим морем" да выпить про его бурную милость чарку водки. Отсюда казаки, погутарив, разъезжаются в разные стороны: одни едут вправо, другие влево, а третьи, самые зажиточные, - прямо в открытое море, искать добычи в глуби. У них и снасти лучше, у них лошадей и работников больше. Впереди едет вожак; он ведет за собой всех прочих, выверяя путь по компасу, который у него, как и у всех рыболовов, всегда за пазухой. Устье Урала, недавно шумное, сейчас опустело; осталось лишь трое саней: то старик Чиров, сидя на облучке пригорюнился. Он забыл взять с собой образ Николая Угодника, который сопровождал его и на аральском море, и в Киргизской степи, и на Мангышлаке - везде, где старик побывал на своем долгом веку. Этот образ спас жизнь его родителю, когда под Анапой турок выстрелил в него из пищали почти в упор; басурманская пуля, попав в образ, разлепешилась. Жутко стало старику, и он услал за образом киргиза-работника.
Далеко от берегов остановились казаки шумным табором; по средине табора разбили кибитку. Из нее скоро вышел атаман и, по старинному обычаю, предложил бросить жребий, кому каким участком владеть. Билеты положили в шапку, прикрыли платком, после чего каждый казак подходил поочереди и вынимал жребий: какой номер, такой, значит, ему достался и участок. В минуту сделали во льду прорубь и воткнули туда сноп камыша. От этой точки в глубь моря провели по компасу две линии, или два "бакена", обозначив их вехами, - один правее, другой левее; по ним уж располагаются казаки, как кому выпало по жребию. В середине же, между бакенами, никто ле может поставить свою сеть, потому что этим путем идет в Урал рыба. В бакенах тоже свой порядок: казаку положено ставить 50 сетей, офицеру 100, генералу 150. Здесь опасности нет, и снасть сохраняется в целости; на глуби же можно погибнуть в один час, в одну минуту. Чтобы собраться на глубь, казак должен обзавестись не менее как четырьмя лошадьми. В Гурьеве были семейства, которые выезжали на 20-30-ти лошадях. Казаки едут верст за 50 от берега. Там артели расстаются, каждая выбирает себе любое местечко, иные уезжают еще дальше. На избранном месте ставят войлочные кибитки, "кошары"; их окружают санями, к саням привязывают лошадей, укрытых попонами. И люди и лошади одинаково приучены переносить все невзгоды среди пустынного моря, где гуляют-бушуют суровые ветры, кружатся снежные вихри, где небо и земля скрываются из глаз на многие дни. Лошади, вместо воды, довольствуются снегом или мелко истолченным льдом. С утра до вечера промышленники ходят по рядам своих аханов, подтянувшиx под ледяной корой, и пересматривают, не запуталась ли где рыба. Если попадет, например. Белуга в 20 или 35 пудов, то уж вытаскивают ее лошадью. Попадались белуги и в 50 пудов( Т.е. по 800 кг. ). Казаку, выехавшему на десяти лошадях, надо поймать 500 пудов рыбы, чтобы хорошо заработать.
Прошло б недель, как аханщики покинули свои дома. На вольных водах они рыбачили на глубине четырех сажен; дальше, по совету атамана, не заходили, но рыба ловилась тут плохо, в бакенах лучше. Они уже помышляли, выбрав аханы, ехать домой, как вдруг в половине февраля сильным южным ветром взломало лед, почти вплоть до устьев Урала; не успели еще аханщики Опомниться, как ветер завернул от севера, и их разнесло, рассеяло по морю на льдинах. Более двухсот человек казаков и киргизов плыли от родных берегов'. Это было в 1843 году. Не было семьи, где бы не тосковали по своим родичам. О помощи и думать нечего: дожди лили каждый день, лед на Урале совсем пропал; правда, у морского берега еще держался, но такой рыхлый, что по нему не ступить. Аханщики бедовали ужасно. Вот плывет небольшая артель Затворникова, молодого казака 22-х лет; с ним 4 киргиза, 2 казачьих подростка да двое русских рабочих. Льдина им попалась одинокая и после двух недель до того искрошилась, так измельчала, стала погружаться; аханщики стояли на ней по щиколотку в такой крайности Затворников столкнул 5 лошадей. Бедные животные не сразу утонули. Плывя возле льдины, они вскидывали нее ноги и жалобно ржали. Затворников в сердцах схватил полено, стал бить своих лошадей по головам - и жалость и злоба paзом им овладели. Но это мало помогло: льдина час от часу исчезлa, вешнее солнце уже в ту пору жарко пригревало. Затворников бодрился сам и ободрял своих горемычных товарищей, которые вы-ли навзрыд или, припав ко льдине, лежали точно мертвые; киргизы, сидя по временам вздыхали, повторяя шепотом "Алла! Алла! ".
Наступила ночь, 20-я по счету; хлеба оставалось всего 2 мешка. Когда рассвело, у Затворникова защемило на сердце; он почуял, что это последний день в его жизни; солнце выходило румяное, горячее; стаи птиц вились около исчезающей льдины; по временам
ее окружали тюлени, глядевшие с завистью: им так хотелось по¬греться на солнышке. Кругом - чисто, как зеркало, ни льдинки, ни какой другой приметы; аханщиков несло в неведомую глубь. Затворников сдвинул все сани, связал их веревками, в надежде хоть сколько-нибудь продержаться на таком ненадежном плоту. Последний овес, какой еще оставался, он рассыпал и подпустил к нему лошадей, чтобы они насытились вдоволь перед концом жизни. Бедные твари понюхали овес, но есть не стали. Передернуло Затворникова. "Ну, думает, близко смерть... успеть бы покаяться?"... Вдруг у него в глазах что-то мелькнуло, точно черное пятнышко; всматривается - оно все ближе, ближе... Наконец, он ясно различает троих людей и лошадь - тоже плывут на льдине. - "Видно такие же горемыки!" - подумал Затворников, махнув в ту сторону рукой. Действительно, то был казак Курбетев с мальчиком и киргизом.
Судьба свела страдальцев и, к счастью Затворникова, потому что он сейчас же перешел на льдину Курбетева, которая была гораздо крепче. Мало этого, Курбетев сейчас же надоумил делать бурдюки. В несколько часов лошадей не стало: на место их явились бурдюки. Аханщики надули их воздухом, на подобие пузырей, потом подвязали их под сани, по 2 бурдюка на каждые. Едва успели сладить с этой работой, как льдина Курбетева изломалась на мелкие кусочки. Тогда аханщики расселись по саням, взялись за оглобли, лошадиные лопатки, служившие им вместо весел, и повернули лицом в родимую сторону. По временам они выходили на встречные льдины, гце отдыхали или пополняли бурдюки воздухом после чего снова садились на свои плоты. Однажды навстречу им попалась Льдина, на которой стояли сани с привязанной лошадью. Аханщики, придержавши льдину, хотели было снять их, но к удивлению своему увидели, что на дне саней сидит скрючившийся человек. Застигнутый в расплох и отбитый от людей, старик, верно, умер с голоду. "Царство тебе небесное, добрый старик!" - сказали аханщики перекрестивши труп. На их глазах льдина его столкнулась с другой, немного побольше: сначала пошли ко дну лошадь, потом сани с покойником. Морская пучина скрыла их навеки.
Судьба артелей была разная. Блуждая по морю изо дня в день, то под дождем, то под жгучими лучами солнца, аханщики подавали о себе знаки. Днем они поднимали вверх шесты, на которых развевалась рогожа или кошма, а ночью делали маяки с огнем, для чего на самый конец шеста втыкали тюленью шкуру с жиром, немного пониже - пук зажженной мочалы. Жир таял и каплями падал на мочалу, отчего последняя еще больше разгоралась, но горела плавно, медленно, все равно как светильня. От нечего делать, аханщики били на льдинах тюленей, заготовляли бурдюки, весла; остальное время лежали по своим кошарам или выглядывали астраханцев. Эти добрые люди уже не раз выручали из беды казаков, свозил» их на своих промысловых судах или в Астрахань, или в Гурьев, смотря куда ближе.
Еще пять дней плавала артель Затворникова и Курбетева. Вечер кружил по морю их утлые плоты, мало повинующиеся жалкому подобию весел. Наконец, на шестой день наши аханщики Повстречали судно тюленьих промышленников. Астраханцы немедленно доставили их в Гурьев. "Слава Богу", - говорили обрадованные гурьевцы, - "Уж коли Затворников выплелся, так другие и подавно должны выехать".

Метки: казачество русские традиции казаков |
УРАЛ - ЗОЛОТОЕ ДНО, СЕРЕБРЯНА ПОКРЫШКА |

Гнеденко А. М, Гнеденко В. М. «За други своя или все о казачестве»
УРАЛ - ЗОЛОТОЕ ДНО,
СЕРЕБРЯНА ПОКРЫШКА
Откуда родом яицкие (уральские) казаки.
Одно из двух: или "любо" или "не любо". Пророчество старца об уральском казачестве, "Экспедиции" удалых атаманов в Хиву и чем они закончились.
Кем ставился город Гурьев.
Подвиг легендарного Рыжечки и злосчастие Бековича.
Как казак Новинский избежал хивинского плена, или почему Петр I дал ему другую фамилию. Оренбургский край и Уральские линии.
Трагедия на Зеленовском форпосте, или как казак.
Скоробогатов отомстил за убийство дочери.
О том, как десяток казаков умел охладить сотню киргизов.
Вооружение, наряд и кони у уральцев.
Преследование, засада и счастливое избавление от неминуемой смерти казаков Ефремова. Хозяйство и образ жизни уральцев. Знаменитый бой под Иканом.
"...Прочь кидайте всякие юбки, берите одно толь¬ко оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае..." "Да порядку держитесь, панове, больше всего... Пьяница в походе недостоин христианского погре-бения."
Н.В.Гоголь
О начале яицкого войска сказывают так. Когда буйная вольница больно расшумелась, когда на Волге не стало от нее ни прохода ни проезда, царь Иван Васильевич Грозный выслал своего стольника Ивана Мурашкина истребить в корне разбойничьи ватаги, очистить водный путь на Астрахань. В те поры трое атаманов сошлись и стали думу думать, куда им скрыться от царского гнева? Одна ватага, с Ермаком Тимофеевичем, потянула на север, скрылась на Каму, откуда после была выряжена на завоевание Сибири; другая спустилась вниз, вышла морем в Терек, где осела навсегда, а третья укрылась подальше, на реку Яик, или нынешний Урал, который также приютил их навсегда. Надо думать, казаки не сразу осели. Прошло не мало времени, пока они огляделись, ознакомились с новыми местами. А край был богатый. Величаво текла до самого моря многоводная река, обильная рыбой: осетрами, белугой, севрюгой, стерлядью, шипами... Поемные луга и островки покрывались ежегодно густой сочной травой; в зарослях камыша, особенно вблизи морского прибрежья, скрывались выдры, бобры, кабаны; из пернатых налетали сюда дикие гуси, птица-баба, лебеди. По сказанию первые поселенцы построили себе городок там, где р. Рубежная впадает в Яик. Как только прошел по Руси слух, что открылось новое h убежище, войско быстро умножалось пришельцами с Дона, Волги, Кубани. Кроме казаков, людей вольных, сюда шли царские стрельцы, посадские люди, пушкари, набежали валахи, калмыки, татары, мордва, чуваши, киргизы; между пленными попадались шведы, финны, турки, поляки и немцы. Сюда шел народ ловкий, смелый, храбрый и гордый.
На Руси удальство никогда не переводилось; вольная казацкая жизнь чудилась многим во сне и на яву, а между тем, на всем лежал строгий запрет. Там же, за ее рубежом, каждый был сам себе господин. Войсковой атаман исполнял только волю народную; есаулы считались лишь его помощниками. Все дела решались в казачьем кругу, на площади - то по призыву колокола (в случае спешки) то по особому торжественному созыву. Вот в Яицком городке выехал на богато убранном коне войсковой есаул в карма¬зинном зипуне, в широких парчевых шароварах; на голове у него нахлобучена высокая баранья шапка с острым малиновым верхом, сбоку висит сабля кривая в турецкой оправе из чистого серебра;
в правой руке держит он жезл посеребренный. Подобно немецкому герольду, оповещающему торжество всенародное, есаул останавливается на каждом перекрестке и богатырски выкрикивает: "Послушайте, атаманы-молодцы, все яицкое войско! Не пейте, зелена вина - ни дарового, ни купленного; заутро круг будет!" - В назначенный день собрались казаки с трезвыми головами к войсковой избе. Вышел войсковой атаман, как подобает его сану, окруженный старшинами походными атаманами,* есаулами. Вступил он в середину круга, означенного перильцами, снял шапку, положил к ногам насеку, низко поклонился на все четыре стороны и стал речь держать: "Любо ли вам это, атаманы-молодцы, или нет? -спросил он под конец. - Любо, любо!" - крикнули казаки в один голос. Бывало и так, что одни кричат: "любо", другие "нелюбо!" Тут атаман подаст знак, и казаки разойдутся на два лагеря: где больше голов, так и порешат. Виноватого также судили в кругу, при чем наказывали только такие преступления, от которых был войску убыток или же падало на него бесчестье - воровство, измена, трусость в бою; преступления, совершенные на стороне, не считались за таковые. Казнили так же, как и на Дону: в мешок да в воду. Владение войсковыми угодьями всегда было общественное; каждый может селиться, заводить свое хозяйство, где ему угодно; но на рыбный промысел, как главную статью дохода, казаки выработали строгие правила. Скота у них тогда не было: хлеба не сеяли вовсе. Хлеб, вино, провизию казаки покупали в поволжских городах, преимущественно в Самаре, или же меняли на рыбу у приезжих купцов. Свинец, порох, оружие - получали из казны. Многие женились, обзаводились семьями: в этом никогда не было запрета. Как и везде в старинной Руси, казачки вели жизнь тихую, уединенную, тогда как мужья любили щеголять оружием, одеждой, проводили дни в забавах, по ночам предавались разгулу. "Подобно орлам поднебесным, прадеды" уральцев перепархивали с места на место; жили там, где присели, где казалось им вольготнее - сегодня на Яике, завтра - на взморье". Удаль и жажда наживы увлекали яицких казаков на "промыслы". Они "промышляли" на Синем море, "промышляли" над ближними и дальними соседями. Ногаи не знали, где и как укрыть от казаков свой скот, лошадей, своих жен и домашнюю рухлядь. Им не было покоя ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой. Мирные потомки некогда сильной, воинственной Золотой орды, наконец, не выдержали: собрались от мала до велика и осадили Яицкий городок. Казаков было мало, ордынцев много. Они каждый день ходили на приступ. Сохранилось сказание, что в последние дни осады казаки заряжали свои деревянные пушки костями. Взят ли был ногаями городок или нет, про то неизвестно, но только казаки его покинули. Перед тем, как строиться на новом месте, они повстречали на Яике древнего, благолепного старца в белом клобуке, с крестом на лбу; плыл он в лодочке, пригребая на одно весельце. - "Отче святой, спросили у него казаки, поздоровавшись: задумали мы перенести город на другое место. Начинать ли нам это дело? Дай совет". Старец спросил, куда они хотят - перенести город. Казаки указали на Чаган-реку. - "Не был я на том месте, ответил старец, а знаю, что оно к поселению удобно. Только ведайте, чады, на том месте будут у вас трусы, мятежи, кровопролитные брани и всякие сумятицы; одно время появится между вами такой набеглый царь( Емелька Пугачев.) ... Вот из-за него много крови прольется, много горечи вы примете. А там, со временем, все замолкнет, и вы узрите спокой".
- "Ничего, святой отче", - сказали казаки. Нам и прежде говаривали: "На крови-де Яик зачался, на крови-де и кончится. - Ты только благослови нас, отче!"
- "Бог вас благословит!" - сказал старец, осенил их крестом, да и поплыл путем-дорогой.
Спохватились казаки, что забыли спросить старца, кто он таков. Повернули назад, догнали уж в море и спрашивают: "Прости нас, отче, давя мы не спросили тебя, кто ты такой? Поведай нам". - "Алексей, митрополит!"( Святитель московский, соратник и современник Сергия Радонежского.) - говорит старец. В ту же секунду от воды поднялось густое облако, скрывшее и лодку и святителя. Казаки пришли в ужас неописанный; когда же они опомнились, то облако рассеялось, но ни старца, ни лодки больше не видели.
Казаки поставили новый город, который ныне известен под именем Уральска. Обратились они к царю, и царь Михаил Федорович, призрел на их нужды, выдал им грамоту "на владение рекою Яиком, с сущими при ней реки, и притоки, и со всеми угодьями от вершин той реки и до устья", с дозволением "набираться на житье вольными людьми". Однако казаки не уберегли царской грамоты, говорят, она сгорела. Вообще, старые казаки мало думали о своем будущем; не закрепили своей грамоты, как следовало, знаками, чем в последствии воспользовались кочевавшие с ними по соседству разные народы - калмыки, киргизы. Хватились уральцы за ум, да уж было поздно. К этой ранней поре относятся смелые набеги в Хиву, о сказочности которой ходила молва. Там, говорили, богатства не меряны, не считаны, много золота, камней драгоценных, девиц пригожих. Атаман Нечай составил ватагу в 500 человек и двинулся вверх по Яику. Это было около 1600 года. Переправившись через реку, атаман собрал круг. Все были согласны изведать дальний путь, лишь дьяк, приставленный к письменной части, уговаривал казаков вернуться домой. Казаки так осерчали, что тут же повесили несчастного дьяка, отчего и сами горы стали с тех пор прозываться Дьяковы.
Безводною и безлюдною степью казаки дошли до Хивы. Хана в ту пору не было дома, он где-то воевал. Казаки заняли город, поделили между собой добычу и стали пировать. Атаман взял себе в жены самую красивую из жен хана. Между тем пришла весть о приближении хивинцев. Казаки после долгих сборов покинули столицу, но двигались медленно, таща за собой огромную добычу. На переправе через Сыр-Дарью хивинцы их догнали. Завязался бой, кровавый, стремительный - обе стороны дрались ожесточились. Хивинцы, можно сказать, задавили небольшую горсть казаков. Пал атаман в битве, но прежде заколол свою жену; вслед за ним полегли все его подвижники; уцелело человека 3-4, не больше: они то и принесли печальную весть на берега Яика.
По следам Нечая пошел атаман Шамай туда же, в Хиву. Двигался он осторожно с опаской. Перезимовав на Илеке, атаман тронулся дальше с наступлением весны и хотя с большими трудностями, но добрался до Сыр-Дарьи. Дальше путь был незнаком, никто не знал дороги. Тогда казаки захватили силой несколько калмыков. Чтобы вернуть пленных проводников, кочевники пустились на хитрость выслали двух человек под видом охотников, а сами сели в засаду. Шамай и еще несколько казаков погнались за калмыками, те бросились на утек и навели их на засаду. Тут они все и попались. Пытались, было, калмыки разменяться пленными, но казаки не согласились: "Атаманов у нас много, а без вождей нам нельзя" - и отправились дальше. На берегах Аральского моря казакам опять довелось зимовать. Тут, в голодных песках, постигла их такая нужда, что они поели сначала своих лошадей, потом принялись один за другого. Наконец, пришли в такое отчаяние, что решились лучше сдаться хивинцам. Там, в цепях и вечной работе, сносили удальцы свою "горемычну" долю, а Шамая с товарищами калмыки привезли на размен.
Более верную добычу давало синее море Хвалынское (т.е. Каспийское.) . Около устья Яика, по "островам морским да по буграм черневым" проживали наездом "казаки-лыцари", самые удалые, заправилы всему войску. Они знали здесь каждый островок, каждый заливчик;
они же водили казачьи челны на синее море, и беда грозила встречному купцу, промышленнику, знатному гостю или посланнику. В укромных местах собирались ватаги с Дона, с Яика, с Волги; стояли здесь по нескольку месяцев, как ястребы, выжидая до6ычи. Такие же притоны находились у них по всему кружному побережью - у берегов персидских и туркменских. Что именно яицкие казаки тут верховодили, про то поется у них песня:
На острове-Камыне казаки живут,
Казаки живут, люди вольные.
Разбивали они на синем море
Бусы-корабли, все легкие лодочки.
Разбили одну лодочку с золотой казной,
Снимали с золотой казной красну девицу,
Красну-девицу, раскрасавицу, дочь купецкую.
И начали делить золоту казну пуховой шляпой
На кон клали раскрасавицу, красну девушку.
И начали между себя трясти жеребий.
Досталась атаманушке красна девушка.
Возговорит атаманушка таковы слова:
"На бою-то я, атаманушка, самый первый был;
На паю, на дуване, я последний стал:
Досталась мне, атаманушке, красна девушка"
Взговарит красна девушка таковые слова:
"Уж ты, гой еси, казачий атаманушка!
У меня на правой руке есть золото кольцо,
Золото кольцо, оно в пятьсот рублей;
Поднизочка есть на мне, атаманушка, во всю тысячу,
Самой-то мне, красной девушке, мне цены нету.
Сотку тебе, атаманушка, шелковый ковер".
Чтобы сдержать буйную вольницу, еще царь Михаил Федорович указал построить при устье Яика городок, на защиту которого были высланы стрельцы; здесь же поселились учужники, ловившие рыбу Государя. Не взлюбили казаки этот городок: он запирал им выход в море, задерживал рыбу, что шла снизу. Через несколько лет торговый человек Михаил Гурьев приступил к постройке каменного городка, с башнями, с воротами, за что казна уступала ему на 7 лет рыбные ловли. Казаки поняли, в чем дело, и всеми способами вредили постройке городка. Однажды донской атаман Иван Кондырев напал на казенные суда, разметал дрова; кирпич, известку, а самые суда задержал у себя. Наконец, коща городок, получивший название Гурьева, был выстроен, казаки напали на нижне-яицкий учуг, принадлежавший самому Гурьеву, разорили его, рабочих переманили на Яик. За такие провинности, которых накопилось немало, по жалобам купцов и шаха персидского, казаки были призваны к ответу. Атаман Иван Белоусов ездил в Москву бить царю челом. Ему читали все вины казачьи, после чего наиболее виновных отправили в Польшу, под начальство князя Хованского, где они пробыли 7 лет. В защиту казаков надо сказать и то, что они, как первые поселенцы в крае, много сами терпели от хищных соседей. В ту пору началось передвижение калмыцких орд. Они переходили Яик и тут делились на две орды:
одна шла грабить Уфу, Самару, Казань; другая - к улусам астраханских татар. Яицкие казаки принимали на себя первый удар: они же первые и платились своими головами. Множество русских пленников перебывало тоща в руках дикарей. Вскоре после того взбунтовались башкиры. Край терпел от безначалия: грабежи и убийства стали делом обычным. Беглые с Руси с каждым годом умножались; они собирались в шайки и разбойничали по всем путям, как морским, так и сухопутным. Смута в прикаспийском крае приняла размеры бунта, когда на челе буйной ватаги появился лихой атаман Стенька Разин. И яицкие пристали к бунту, но не все. Они сопровождали атамана во всех его походах, бились за него с ратными людьми под Симбирском, откуда бежали к Самаре и далее, на Яик. Их было тогда не больше трехсот.
Наступило царствование Петра Великого, и яицкие казаки явились верными сподвижниками его походов против турок, шведов и восточных народов. К этому времени относится любопытное сказание о богатыре Рыжечке. В гербе уральского войска изображен казак на коне, и если вы спросите, кто это? - вам ответит даже малый ребенок, что это Рыжечка, старых времен "лыцарь", который выслужил Яик у батюшки-царя. Сказывают старики, что, когда наступал шведский король, Петр просил яицкого атамана Прохора Митрича привести с Яика либо один, либо два полка казаков. В одну неделю снарядили два пятисотенных полка, отслужили молебен и пошли под Полтаву. В вестовых у атамана был в ту пору маленький человек, по прозванию Рыжечка. Пришли казаки под Полтаву, а швед уже застроил лучшие места шанцами да батареями, а тут на беду изменил гетман Мазепа. Царь было закручинился, как прибегает от шведа посыльщик: не угодно ли
кончить спор поединщиками? - "Давай Бог! Это нам на руку", - сказал Петр Первый.
,. У шведа же заранее был припасен поединщик, из-за моря вывезен: ростом чуть не с колокольню, в плечах - косая сажень. 0брядили его в кольчугу и в латы, посадили на коня - конь-то сущий слон - и того покрыли панцирной попоной. Наши думали, что это башня на колесах, а не человек. Петр Первый и сам видит, что такому чудовищу трудно подыскать супротивника, однако все-таки велел кликать клич: нет ли где охотника? - Разослал Царь всех своих адъютантов, всех генералов и сенаторов - и все воротились ни с чем: не находится охотника! Тогда Царь повернулся к своей свите: "Из вас, господа, нет ли кого?" - Ни гу-гу, все молчат, друг дружку прячутся. Не вытерпел Царь, сам поскакал по всем полкам, а в это самое время подошел с казаками Прохор Митрич и пристроился возле крайнего армейского полка. Царь лишь увидел подъехал и, рассказав в чем дело, сам окликнул: "Нет ли меж вами охотника?" - "Я охотник!" - крикнул тоненьким голоском Рыжечка, выскочив из фронта. Царь взглянул на него, покачал головой: "Мал!" - говорит. Три раза Царь объезжал полки, но никто не откликался, кроме Рыжечки. "Что буду делать?" - говорит Царь. - "Отказаться от поединка - вся Европа будет смеяться, пустить этого малыша - заранее все пропало!" Рыжечка стоя тут же, слышал царские слова и вверни от себя: "А Бог-то что? При помощи Божьей Давид побил же Голиафа!", - говорит это Рыжечка, сам дрожит: геройское сердце, значит, в нем кипело. - Нечего делать, Царь согласился и лошадь ему позволил выбрать, хотя бы из царских конюшен. - "Твои лошади, надежа-царь, - ответил Рыжечка, - только для парада хороши, а для ратного дела - не прогневайся - никуда не годятся!" Взял Рыжечка лошадь у калмычина, расспросил, какие у нее сноровки и махнул на ней в поле. Тут встрепенулись, заколыхались обе армеюшки - российская и шведская. Распустили все свои знамена, заиграли на трубах, литаврах, разных мусикийских органах. Рыжечка воткнул на пику ^Валку, замахал над головой и, подъехав к шведскому поединщику, выпрашивает у него: "На чем хочешь биться: на копейцах ли булатных или на сабельках вострых?" - "По мне на чем хош. Хоть на кулаках: я на все согласен", - говорит поединщик, и зубы свои оскалил. Тут Рыжечка потряс копьецом: "Коли живой будешь, приезжай на Яик попробовать наши кулаки, а здесь не угодно ли биться вот этим!"
Пока шли у них переговоры, Рыжечка успел высмотреть своего противника. На голове-то у него была стальная шлычка, шапка такая, по щекам и затылку от нее спускались железные дощечки; задняя же дощечка немного оттопырилась, а это Рыжечке на руку. Он съездил сменить свою пику, взял потоньше, потом, как подобает христианскому воину слез с коня, повесил на пику образ Михаила Архистратига, положил перед ним 7 земных поклонов и раскланялся на все стороны. Повернувшись же в сторону родного Яика, он проговорил: "И вы, братцы-товарищи, старики наши и все общество наше почтенное, помолитесь, чтобы Господь соблаговолил!" После того Рыжечка скинул с себя всю одежду, остался только в шароварах да безрукавной фуфаечке, голову перевязал он барсовым платком, рукава у рубахи засучил по локоть, перетянулся шелковым пояском и, заткнувши за пояс хивинский нож, взял в руки копьецо. Вспрыгнув на лошадку, Рыжечка перекрестился и полетел на супротивника, точно малый ястреб на орла заморского: "Дерзайте людие, яко с нами Бог!" И швед помчался, выставив копье в добрую жердь. Когда Рыжечке уже надо было столкнуться, он дал резко вправо, и швед, словно бык-дурак, пронесся мимо. Рыжечка обернулся да хватил его копьецом в затылок, где дощечка оттопырилась - так он и покатился кубарем с коня. Рыжечка мигом соскочил на землю, еще того скорей отсек ему голову. Тут наша армия возрадовалась, зашумела, словно волна морская заходила и "ура" закричала. А шведская армия, известное дело, приуныла, затихла, хорунки свои к земле приклонила, словно, голубушка, не солоно похлебала. Только один король их, такой беспокойный был, не' хочет покориться: "Подвох, подвох!" - кричит. Русак сзади ударил нашего. Подвох! Тут уж и Царя взяло за ретивое. Подал он знак к бою да и скомандовал: "Катай, без пар-дона, катай! На зачинщика Бог!" И пошла, чесать наша армия шведскую с изменником Мазепой - так что он еле удрал в Турецкую землю.
Когда совсем успокоились, Царь в слезах и спрашивает: "А где наш малыш, где бесценный Рыжечка?" - "Здесь", - пищит Рыжечка. - "А, голубчик мой, сокровище мое!" - и поцеловал его в го-лову. - "Чем же тебя, друже мой, дарить-жаловать? Говори: ничего не пожалею". - "Мне, надежа-царь, ничего не надо, а, пожалуй, коли твоя милость, наше обчество". - Царь и спрашивает: "Чем? Говори". - "От предков твоих, благоверных царей, мы жалованы рекою Яиком, с рыбными ловлями, сенными покосами, лесными порубами, а грамота на то у нас пропала. Пожалуй нам, надежа-царь, за своей высокой рукой, другую грамоту на Яик-реку". - "С великою радостью", - сказал Царь и тут же приказал секретарю написать при себе грамоту на Яик-реку, со всеми присущими ре¬чками и протоками, со всеми угодьями на века-вечные. - "Еще что? Проси!" - сказал Царь. Рыжечка и говорит: "Еще, надежа-царь, пожалуй нас, коли милость твоя, крестом да бородой". - Для кого нет, а для яицких казаков есть! - ответил Царь: "Пиши, секретарь, что я жалую яицких казаков крестом и бородой на веки-вечные".
- "Это все для общества, - говорит Царь - а тебя-то чем да¬рить-жаловать? Проси, ничего не пожалею". - "Позволь мне, коли милость твоя, погулять с товарищами в твоих царевых кабаках, безданно-безпошлинно, недельки две". - Царь улыбнулся и говорит: "Разве любишь?" - "Грешный человек: люблю!" - "Гуляй во здравие", - говорит Царь. - "А ты, секретарь, напиши уж заодно в грамоте, чтобы водка продавалась на Яике по всей воле казачей".
Круглый год прображничал Рыжечка с товарищами в царских кабаках, странствуя от города до города, от села до села, пока не Дышел срок открытому листу за царской скрепой. Вернулся он на Яик вдвоем с калмычином, тем самым, который обменял ему лошадь. Оба они были на счет выпивки молодцы, тягущи; прочие -всех-то было их 12 - не выдержали сложили свои головы: кто в кабаке, кто под кабаком - такой уж народ бесшабашный. А Рыжечка прожил на Яике еще лет 10, да пошел по царскому указу с Бековичем в Хиву; там, голубчик, за компанию с князем и всем честным воинством, сложил свою буйную головушку.
К походу Бековича-Черкасского относится не менее любопытное воспоминание, сохранившееся в памяти у старых казаков. По их словам, вернулось на Яик в разное время каких-нибудь 2-3 десятка, не больше; а ушло с Яика немалое войско, полторы тысячи казаков, - всех порешили хивинцы: которых перерезали, которых повернули в неволю, заковали в тяжелые цепи. Только одному молодому казаку в тот раз посчастливилось: не видал он ни резни, ни мук мучительных, ничего такого, от чего сердце крушится, на части разрывается. На квартире, где стоял казачок, пожалела его молодая хозяйка, - спасла душу христианскую. В ту самую ночь, когда хивинцы уговорились задать Бековичу и всем нашим карачун, хивинка завела своего постояльца в сад, в глухой, дальний уголок, где сохраняла его, пока не подошло время. Напоследок, когда со всех мест хивинцы съехались к хану праздновать богомерзкое торжество над русскими, хивинка обрядила казачка в ихнюю одежду, дала ему провизии, денег, потом вывела из конюшни самую резвую лошадь, трухменского аргамака и, передав его на руки казачку, велела ему ехать на родимую сторону. Казак простился с ней и за родительские молитвы выехал на Яик здоров и невредим. В дороге он не раз встречался с хивинцами. Однажды повстречалось ему несколько хивинцев и спрашивают: "Кто он, куда и зачем едет?" А казачок притворился немым, ничего ис говорит, а только мычит; потом снял с л. чей уздечку, показал ее хивинцам, ткнул пальцем в гриву и сделал знак руками - лошадь-де пропащую разыскиваю. Этого мало. Слез казак с лошади, провел у нее ладонью по лбу - лошадь-де лысая, хочет сказать; нагнулся, провел рукой по колену - лошадь, значит, белоножка. Хивинцы поглядели-поглядели на немого, улыбнулись и покачали головами: не видали, мол, твоего коня! Потом поехали, оболтусы, своей дорогой. Казачок и рад, двинулся дальше на родимую сторонушку. Если ему случалось встречаться с киргизами, от них уходил вскачь: лошадь-то под ним уж больно была резвая.
Другой казак, Трофим Новинский, иным манером спасся. Это был мужчина пожилых лет, бороду имел чуть не до пояса, окладистую, седую. Он обрядился татарским муллой, т.е. накрутил на шапку 2 куска бязи и в таком виде пошел странствовать: старый казак догадлив был! Куда ни придет Новинский, везде орда встречает его с почетом: напоит, накормит, на дорогу провизии даст. В ином месте спросит: кто он и куда странствует? А Новинский, чтобы не выдать себя, опустит глаза в землю поглаживает свою бородушку да шепчет: "Алла, Алла, бисмиля!" а про себя молитву Иисусову творит. Орда рот и разинет принимает его за молчальника, пуще прежнего отдает ему почтение. Случалось, лошадь под него давали, провожатых с ним посылали, одно слово с почетом и встречали и провожали, Новинский представлялся самому Петру Первому, на Волге, когда Царь плыл из верховых городов в Астрахань. Царь удивился и спросил, каким чудом он, один-одинехонек, прошел через орду бусурманскую? - "Бородушка помогла", ответил Новинский. - "Как так?" - спрашивает Царь и пуще прежнего дивуется. - "Так и так, говорит Новинский: по бородушке меня везде с почетом встречали, с честью провожали".
- Исполать же тебе, старинушка, сказал Петр Первый и ласково погладил Новинскою по седой его бородушке. Значит, не всуе и я пожаловал вашу братию, яицких казаков, бородой. Умеете ею пользоваться. Что хорошо, то хорошо! А как твое имя, отчество и прозвище?" - Новинский ответил. Царь с минуту подумал и ска¬зал: "Так как провела тебя через орду басурманскую твоя почтенная борода, то будь же ты отныне навеки не Новинский, а Бородин".
Царское слово свято: и стал после того Новинский прозываться Бородиным; от него уж весь нынешний род Бородиных; они твердо памятуют прадеда, которому сам Царь воздал по его заслугам.
В каких-нибудь 40-50 лет край обрусел и мало чем отличался от прочих, искони русских земель. Для защиты от набегов кочевых орд, а равно и для управления краем, было преступлено к устройству пограничных крепостей от Самары до Татищевой и далее по рекам Сакмаре и Яику до Орской; наконец, был основан Оренбург, куда перешла вся меновая торговля с киргизами и со всеми народами Средней Азии.
Оренбургская губерния была открыта в 1744 году, и первым ее губернатором назначен Неплюев, памятный тем добром, кото¬рое он сделал для яицких казаков. По его просьбе Сенат предоставил в пользу казаков все течение реки от Яицкого городка вплоть до Гурьева и этот последний с его рыбными ловлями. Тоща же были построены крепости Кулагинская и Калмыковская, а между Яицким городком и Гурьевым протянулась на 500 верст целая укрепленная Линия, состоявшая из форпостов, реданок и третей, расположенных вперемежку. Форпосты - это маленькие крепостцы, а реданки и трети не что иное, как малые редутцы, или укрепленные караульные домики: небольшой двор, огороженный плетнем и окопанный рвом, в середине которого стояла плетеная, вымазанная глиной изба с вышкой для помещения часового. Вот такие-то укрепления стояли непрерывной цепью: по правому берегу Яика от Бударинского форпоста до Гурьева, а по левому бе¬регу от Бударинского форпоста вверх до Илецких дач, впереди Линии, откуда и ее название Передовая Линия. Дальше начинались форпосты илецких казаков, выходцев из яицких. На реданках про¬живало обыкновенно от 5-8 казаков, на обязанности которых лежали разъезды и наблюдение вдоль Линии. Главным врагом яицких казаков в ту нору были киргизы, враг сильный, неутомимый1.
( Вспомним, что киргизы - это омусульманенные и ассимилированные монголы (см. главу 1).)
Многочисленные орды киргизов вытеснили калмыков и разбили свои войлочные кибитки на всем пространстве степей от пределов Сибири до Сыр-Дарьи, моря Каспийского и Яика. Толпы этих не знавших устали наездников на своих некрасивых поджарых лошадках, в высоких малахаях, вооруженные длиннейшими пиками, осторожно прокрадывались к берегам Яика, быстро переправлялись на другую сторону, еще быстрее кидались на русские селения, угоняли скот, лошадей, арканили людей.
Их ватажки, или "батыри", жадные, как степные волки, от¬лично знали все ходы и выходы, умели подстеречь добычу, исчезнуть с нею бесследно; погоня за ними по необозримой сте¬пи, ще нет ни бугра, ни кустика, редко бывала удачной. Еще на памяти старожилов наездничал киргизский батыр по прозванию Сырым. Богатырского роста, широкий в плечах, силы необычайной, Сырым прославился своей удалью, лихими наездами. Равного ему не было в степи. Таку же он подобрал шайку. Ставшую грозой целой дистанции от Гурьева до Камыковской. В несколько часов исчезали русские поселки, стада перегонялись в степь, население попадало в Хиву , на невольничий рынок. Сам Сырым не был вором: он никогда не брал себе добычи, а все награбленное делил между джигитами. Он только мстил русским, которых ненавидел не известно за что. Казаки тоже не оставались в долгу:не один уже его джигит попал на пику, но сам он был неуловим как молния. Однажды шайка Сырыма переправилась у Зеленовского форпоста в том самом месте, которое называется "Разбойной
Лукой». Казаки в ту пору были в отлучке, чем киргизы, как нельзя лучше, воспользовались: они ограбили форпост дочиста не пощадили ни жен, ни детей, а затем поспешно переправились на левую сторону. Сырым, отправив добычу вперед, прилег отдохнуть; лошадей приказал стреножить.
В зеленовском форпосте Илья Скоробогатов, человек степенный, всеми уважаемый. Он поплатился более других: у него убили родную дочь, ранили сына угнали любимого коня. Подобрав себе 8 казаков, самых надежных друзей, Скоробогатов пустился с ними в погоню; другими путями поскокало еще несколько таких партий. Казаки вообще имели обыкновение преследовать мелкими партиями, с тем расчетом, что не та, так другая могла потрафить на след. На этот раз посчастливилось Cкopoбoгaтову: его казаки наскочили на спящего Сырыма. Они прежде всего растреножили киргизских лошадей, потом набросились на джигитов: 10 человек убили; пять, в том числе и сам Сырым, очутились в плену. Теперь Скоробогатов стоял лицом к лицу со своим заклятым врагом. Другой на его месте не задумался бы с ним расправиться по казачьему обычаю: взвел бы разбойника на «мар» (холм), всадил пулю в его жирный лоб, и делу конец – пусть пропадает собака. Скоробокатов поступил не так.
финика не так. Видит «батыр», что дело его дрянь, - или надо помирать, или идти в полон, - и говорит: «Я только потому сдаюсь, что не могу себя умертвить; твое счастье!» - «И правда, ответил ему Скоробогатов: такому батыру, как ты, стыдно сдаваться живому. Не хочешь ли прикончить себя? Вот тебе мой пистолет: не даст осечки, не бойсь!» - Промолчал Сырым, ни слова не ответил. Видно, плен позорный показался ему краше смерти. Он слышал кругом насмешки, укоры, но ничто его не смущало. – «Я сдаюсь», - сказал он, наконец.
Скоробогатов вскипел от гнева. Хвастлив и малодушен показался ему киргизский наездник: «Ты не батыр, а негодяй и трус!»
C этими словами он схватил нож, отрезал ему ухо, толкнул в шею и крикнул: "Пошел прочь чтоб глаза мои не видали тебя! я никогда не убивал трусов и безоружных: скройся, подлая тварь!" Таким образом Сырым за все свои злодейства поплатился одним ухом, но был уничтожен навсегда как воин.
Смертельная вражда с киргизами не ослабевала, пока они не ослабели сами, перестали быть опасны. С ними нельзя было ни вести дружбу, ни заключить мирный уговор. Дружба с одним родом навлекала вражду прочих. Яицкие казаки почти целое столетие вели постоянную, ожесточенную борьбу с этим народом. За каждый набег, они вымещали набегом же, грабеж - грабежом, и таким образом обезопасили свою землю и оградили от истребления мирные поселения по ту сторону Урала. В постоянной и тревожной борьбе казаки закалялись из поколения в поколение; деды и отцы передавали в наследие своим сыновьям и внукам, вместе с прочим имуществом, испытанное оружие, свои сноровки в бою, свои приметы - весь свой боевой опыт, добытый в частых встречах и схватках с врагом. Так вырос целый народ, сильный, крепкий духом, воинственный, способный к самозащите.
Яицкие казаки кроме того, что оберегали свою границу, ходили в степь против кочевников, содержали разъезды по Сибирской Линии и, наконец, должны были участвовать с прочими войсками против общих врагов отечества. Являлись они на службу обыкновенно, как кому было удобнее или выгоднее: одни выезжа¬ли с пиками и пистолетами, другие с ятаганами и винтовками, третьи - с ружьем и саблей, словом, брали то, что сохранялось от отцов. На Линии казаки одевались совсем по домашнему: оружие надевали сверх коротких стеганых халатов, самых пестрых и ярких; шапки носили высокие, с малиновым верхом, в роде киргизского малахая.
Старые казаки славились стрельбой. В 1809 году отряд Кульнева переходил по льду в Швецию через Ботнический залив. Глубокий снег покрывал ледяную равнину. Шведские егеря засели на берегу, за камнями, за деревьями и безнаказанно палили по нашим, увязавшим в снегу. Чтобы их оттуда выбить, нужна была пехота, а отряд-то весь состоял из конницы: гусары, донцы, уральская сотня. Кульнев выдвинул бородачей-уральцев, которые шли сзади со своими длинными винтовками. Уральцы спешились, сбросили с себя верхнюю одежду, шапки, перевязали головы платками и, благословясь, без шума, без крика, рассыпались по лесу и также засели за камни и деревья. Шведы слышат только выстрелы да видят, как падают товарищи, но сами не знают, в кого целить. Каждый выстрел меткой уральской винтовки находил виновного. Дрогнул неприятель и очистил лес. Наши вступили в Швецию.
Саблю уральские казаки прежде не жаловали, больше надеясь на ружье да на пику. Смолоду они стреляли гусей, лебедей, уток, сайгаков, кабанов - все пулькой; так же они подстерегали и неприятеля, лежа на земле. Как истые сыны степей, казаки всеща славились ездой. Самую дикую лошадь уралец выезжает в 2-3 недели. Подойдет к ней впервые, погладит, ухватит за уши, даст подержать кому-нибудь, накинет седло, сядет, а там дело пойдет своим чередом. Сколько бы лошадь ни носила, сколько бы ни била - задом ли, передом, все равно, когда-нибудь да уходится. Лошади у них киргизские, некрасивые, нестатейные, а на езду нет лучше: с малой передышкой такая лошадь пробегает до ста верст. И преследовать казаки были мастера. "Коли бежит неприятель, поучали старики, так разве в землю уйдет; покидать его нельзя, гони его со свету долой: да не оглянется и не увидит, что за ним бежишь один. И бить тоже надо, покуда бежит: опамятуется, да остановится, того гляди, упрется, и вся твоя работа пропала".
Киргизы, еще в пору своей силы и славы, никогда не решались штурмовать те ничтожные укрепления, которые составляли Яицкую Линию. Бывали случаи, что киргизы нападали шайками, человек по сто, и какой-нибудь десяток казаков успевал отсидеться в своей реданке, лишь благодаря меткой стрельбе из винтовок. Лет 60 тому назад пикетные Красноярского форпоста, в надежде, что киргизы не сунутся в половодье, вернулись втихомолку домой. Красноярцы в это время были "на севрюгах", между своим и Харкинским форпостами; но так как день случился праздничный, станичники отдыхали, расположившись артелями вдоль берега; телеги стояли поодаль, на косогоре; на шестах колыхались сети; лошади гуляли в лугах без надзора. Во многих местах дымились или уже пылали костры. Кто варил из налимов уху, кто стряпал осетриные пельмени, кто жарил севрюжину иди пек в горячей золе осетров; иные, наевшись досыта, лежали, грелись на солнышке. Вдруг раздался крик: "Ли, ай! Киргизы, киргизы!.. Лошадей наших гонят киргизы!" - Рыболовы засуетились: каждый хватал, что было под рукой - ружье ли, весло, топор; поднялась суматоха, или, как говорят казаки, "ватарба". Человек около 20 киргизов подкрались перелесками к берегу, переплыли реку повыше стана и пустились ловить лошадей. Как ни ловко и проворно они все это проделали, однако штука все-таки не удалась. Лошади паслись не табуном, а "по гривам", да еще спутанные; пока киргизы колесили за ними, чтобы сбить в один табун, казаки успели принять свои меры: одни бросились с винтовками в луга; другие сели в бударки и пустились, что было мочи, вверх по Уралу к тому месту, где киргизам надо было переправляться; те же, которые остались - преимущественно старики, огородились телегами. Между тем, хищники, завидя наших с винтовками, кинулись как угорелые в реку, но тут со страху наткнулись на плывших в бударках. "Индо Яикушка застонал, как щипли наши глушить нехристей шестами да чекушами": около десятка их пошло ко дну, остальные выкарабкались на бухарскую сторону, под защиту конных, прискакавших к месту драки. Осыпанные, в свою очередь, стрелами, казаки отчалили обратно. » Почти в то же время в Красноярском форпосте затрещали на Пипке у часового трещотка, вслед за которой раздались тревожные крики: "Киргизы! Киргизы!" Казаки, сколько было их в наличности, седлали лошадей, надевали оружие и собирались вокруг своего приказного Ефремова. Когда набралось "храброй братии" человек 30, Ефремов махнул с ними на Яик; второпях он забыл даже оповестить соседние станицы - Калмыковскую и Харкинскую. Выбравшись в степь, Ефремов сделал смотр команде, при чем ока-залось, что только один казак, по имени Нефед, выехал неисправным: лошадь под ним была тяжела на бегу, - маштак, годный лишь для воза. Нефеду велели вернуться, как он ни напрашивался. - "Ну, ребята, молись!" - сказал Ефремов. Сняв шапку, он перекрестился сам, казаки сделали то же. - "С Богом!" Припав к луке, с пиками на перевес, понеслись казаки на облачко пыли. Они скакали молча, кругом расстилалась безбрежная степь; лишь конский топот глухо отдавался в ушах. По временам Ефремов давал приказ: "Сдержи!" или же: "Припусти!" - смотря по надобности. Скачут казаки 10, 15, скачут 20 верст. Вот облачко стало редеть; сначала обозначилась точка, из точки выросло пятнышко, все больше, больше, и вот, наконец, стали приметны отдельные всадники, киргизские наездники. Когда беглецы очутились в полуверсте, Ефремов скомандовал: "Ну, пущай, чья возмет!" По этой команде ка¬заки закричали, "загайкали", и вытянулись в ленту; самые резвые уже настигали киргизов; они уже несутся на хвостах их лошадей. Два киргизских "батыря", отделяясь по временам от партии, один вправо, другой влево, описывали дуги и быстро, с пронзительным воплем, наскакивали на казаков, угрожая им своими длинными пиками. Пока казак придержит лошадь, чтобы дать отпор, батыр ; кпуто повернет назад, исчезнет и снова за свое. "Вправо забирай, ребятушки!" - покрикивает Ефремов, скакавший сзади. - Дело-то в том, что справа налево ловчее бить пикой, почему выгоднее I иметь противника с левой стороны.
Чтобы облегчить лошадей, киргизы сбрасывали с себя верхнюю одежду, выкидывали из-под себя седельные подушки, наметы, а иные даже скидывали седла. Ефремов с удовольствием заметил, что киргизские аргамаки видимо притомлялись, тогда как его конь чем больше скакал, тем больше прибавлял бегу. Он продвинулся вперед и сказал Семену Азовскому: "Ты, Сема, бери себе голубого, а я возьму красного". Азовсков, рослый и сильный казак, припал почти к гриве своего игренего, набрал воздуха в могучую грудь и, не говоря ни слова, ринулся на "голубого" - то был киргизский батыр, одетый в голубой чапан. Сметал батыр, что ему не уйти, повернул круто аргамака и со всем усердием ткнул Семена пикой. Обливаясь кровью, казак опрокинулся назад: пика угодила ему в лоб, под левую бровь. Ловок и бесстрашен был Сема Азовсков, а не успел отбить удара, опоздал! Сцепились они теперь с киргизом врукопашную: крутились-крутились, и оба разом свалились наземь. Тут как орлы наскакали казаки, вмиг прикололи голубого. Тот богатырь, что был в красном чапане, бросился было на помощь товарищу, но за ним уже следил Ефремов и на ходу пронизал его пикой. Остановились казаки, перевязали Азовскому рану - бедняге было очень плохо - и, давши ему оправиться, поскакали дальше. Между тем, киргизы разделились на две-партии: одна партия взяла вправо, другая - влево; всей командой казаки повернули за последней. Начинают нагонять опять. "Вот, думают, скоро будет работа!" Только они это подумали, киргизы скрылись в лощину. Подъехали казаки к лощине - что за чудо? - вся лощина занята неприятелем, сотни четыре, если не больше и множество значков. - "Слезай, ребята!" -прогремел голос Ефремова. В одно мгновение казаки попадали с лошадей, сомкнули их в кучку, переплели поводьями, а сами взялись за винтовки. Как коршуны вылетели ордынцы, издавая пронзительные крики; знаменосцы держали высоко свои значки, прочие изготовились разить пиками, торчавшими из-под мышек. Казаки, прижавшись к лошадям, выпалили с колена через ружье, и тотчас 10, не то 15 всадников опрокинулись навзничь. Азиатская прыть сразу пропала. Завидя кровь, киргизы растерялись, удалились, после чего только самые храбрые джигиты решались подъезжать поближе, а остальные лишь кричали да понукивали. Меткие пули между тем свое дело делали. Вот свалился самый главный, до сих пор неуязвимый "батыр", надоедавший казакам хуже, чем оса. Много пуль в него попало, а он все гарцевал да гарцевал в своем панцыре, прикрытом халатом, пока казак Трифон Михалин не изловчился да не попал ему в лоб: не вздохнул батыр. Тут киргизы окончательно присмирели, отъехали еще Дальше и стали пускать стрелы, а у кого были ружья - пощелкивать пулями. Ни пули их, ни стрелы не делали вреда казакам, но лошади, пугались, могли расстроить их защиту. Кроме того, истомленные дальней ездой, казаки видели в осаде часов 5 или 6. Сначала они посматривали назад, в свою сторону, не покажется ли выручка, но ничего не видя, кроме голубого неба и серой земли, бросили и смотреть. Солнце скоро скрылось, наступала ночь, надо было спасаться, пока еще не стемнело. Поднялись казаки и тесной кучкой, шаг за шагом, стали подвигаться к Яику, по временам отстреливаясь и ведя за собой связанных "по шеям" лошадей. Киргизы расступились, было, в надежде чтo казаки пойдут на утек; но они слишком опытны, чтобы подняться на такую грубую уловку, и продолжали тихо отступать, прибавляя шагу. Прошли, таким образом с версту. - "Наши, наши! " - закричали несколько голосов сразу, завидя перед собой всадника. Красноярцы запрыгали от радости и разом грянули "ура!" да так громко, что киргизы остановились в ожидании атаки. - Постойте, братцы, радоваться, сказал сурово Ефремов: всмотритесь-ка вы хорошенько, кто это?" - казаки вгляделись и ахнули от удивления: в одиноком всаднике они скоро признали Нефеда, того самого, которого покинули на берегу Яика. Ему, как забракованному, стало стыдно; казаки засмеяли бы его самого и весь его род до седьмого колена, и вот он по следам товарищей поплелся на своем маштаке.
Навстречу Нефеду отделилась кучка киргизов; он повернул свою в сторону, но маштак еле переступал с ноги на ногу. Тогда Нефед пал на колени, выстрелил и в то же мгновение был окружен. Ему связали назад руки, посадили опять на лошадь и повели в толпу. По пути Нефед что-то кричал. "Прощай, прощай, товарищ", - отвечали казаки. Больше они его не видели. Однако бедняга сослужил добрую службу. Он объяснил киргизам, что вслед за ним скачут соседние станицы, а что сам он ехал от них только передовым. Киргизы съехались вместе, верно, на совещание, потом, разделившись по кучкам, скрылись в разные стороны.
С честью, со славой возвращались красноярцы домой, и paдость их омрачалась лишь потерей двух добрых товарищей: Сема Азовсков на третий день отдал Богу душу. А месяца через два пришел к жене Нефеда мирный киргиз с известием, что тело ее мужа лежит в степи, в таком-то месте. Послали команду, которая действительно нашла полусгнивший труп. После уже узнали, что ордынцы отдали пленника брату того самого киргиза, которого Нефед смертельно ранил. Пока раненый был жив, Нефеда не трогали, а когда тот от потери крови умер, его брат зарезал Нефеда, как овцу, и выкинул на съедение волкам. Горько зарыдала вдова, когда внесли в осиротелую светлицу лишенный человеческого образа труп ее верного друга и кормильца, бедного Нефеда.

Метки: казачество русские традиции казаков |






